Витте
Энциклопедия «Отечественная история». М.:
Большая российская энциклопедия,
1994. Т. 1.
ИТТЕ Сергей Юльевич (17.6.1849, Тифлис — 28.2.1915, Петроград) — государственный деятель, мемуарист, действительный тайный советник (1899), статс–секретарь (1896), граф (1905), почетный член Петербургской АН (1893). Из семьи голландского происхождения, получившей российское дворянство в 1856 г. В 1870 г. окончил физико–математический факультет Новороссийского университета (Одесса). Служил в Управлении казенной Одесской железной дороги, занимал различные посты до начальника эксплуатации включительно. После образования Общества Юго–Западных железных дорог (1878) — начальник эксплуатационного отдела при правлении (Петербург). С 1880 г. — начальник эксплуатации, с 1886 г. — управляющий Юго–Западных железных дорог (Киев). Ввел в практику выдачу ссуд под хлебные грузы (1880), инициатор комиссионно–ссудных операций на железных дорогах. Тарифная политика Витте была основана на принципах конкуренции: для каждого груза устанавливался максимальный тариф, резко снижавшийся в случае отправления груза по Юго–Западной железной дороге; внедрил технические усовершенствования, которые повысили скорость движения поездов, заметно возрос чистый доход. В работе Витте широко использовались научные и статистические данные. Уделял большое внимание развитию и техническому оснащению Одесского порта. Свои взгляды на тарифную политику изложил в работе «Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов» (Киев, 1883), которая принесла ему известность среди специалистов. В 1880–е гг. — один из инициаторов создания «Священной дружины», ее главный правитель в Киевском районе. Привлечен императором Александром III в Министерство финансов директором департамента железнодорожных дел (1889-1892). В 1891 г. ввел новый тариф. Активно содействовал организации постройки Великой Сибирской магистрали.
В феврале–августе 1892 г. — министр путей сообщения; сумел временно ликвидировать ставшие обычным явлением крупные скопления неперевезенных грузов на железных дорогах. Продолжал политику И. А. Вышнеградского, направленную на сосредоточение железных дорог в руках государства путем выкупа частных железных дорог и казенного строительства.
С августа 1892 г. — министр финансов. При Витте значительно расширилось вмешательство государства в экономику: помимо таможенно–тарифной деятельности в области внешней торговли и юридического обеспечения предпринимательской деятельности государство поддерживало отдельные группировки предпринимателей (прежде всего связанные с высшими государственными кругами), смягчало конфликты между ними; поддерживало некоторые области промышленности (горнодобывающую и металлургическую промышленность, винокурение, железнодорожное строительство и др.), а также активно развивало казенное хозяйство. Особое внимание Витте уделял кадровой политике: издал циркуляр о привлечении на службу лиц с высшим образованием, добивался права комплектовать личный состав по опыту практической работы. Ведение делами промышленности и торговли было поручено В. И. Ковалевскому.
Главными мероприятиями Витте в экономической сфере стали винная монополия (1894), денежная реформа (1897), активное железнодорожное строительство (в 1890–е гг. протяженность вновь построенных железных дорог составила свыше 23 тыс. км). Добился заключения концессионного русско–китайского договора о сооружении и эксплуатации Китайской Восточной железной дороги (1896). Провел реформу торгово–промышленного налогообложения (промысловый налог 1898 г.), которая, не изменив его щадящий характер, несколько увеличила оклады обложения. Предпринял попытку реформы торгово–промышленного законодательства. Закон от 7.6.1899 г. (учреждавший Главное присутствие по фабричным и горнозаводским делам) и общая тактика Министерства финансов соответствовали интересам промышленного развития, но входили в противоречие с политикой Министерства внутренних дел, настаивавшего на прерогативе своего ведомства в решении рабочего вопроса. В 1890–е гг. Витте вел полемику с И. Л. Горемыкиным, представившим проект реформы земского самоуправления. Подготовил по этому вопросу две записки; возражения Витте сводились к тому, что принцип самоуправления не соответствует самодержавному строю; предлагал заменить земскую систему хорошо организованным бюрократическим аппаратом, пытаясь распространить общие принципы своей экономической политики на управление местным хозяйством. Витте не удалось осуществить свой проект из‑за противодействия В. К. Плеве.
По ходатайству Витте заведование коммерческими учебными заведениями в 1893 г. возложено на Министерство финансов (в 1896-1902 гг. открыто 147 новых учебных заведений). Витте — инициатор создания Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902-1905) и его председатель. В представленной записке выступил сторонником ликвидации крестьянской сословной обособленности в области права, управления и землепользования. Высказывался за свободный выход из общины, за ограничения на распоряжение надельными землями. Положения программы Витте были впоследствии использованы П. А. Столыпиным.
В начале XX в. отстаивал широкое привлечение земств к практической деятельности. Однако из‑за противодействия руководства Министерства внутренних дел в лице В. К. Плеве, А. С. Стишинского, князя А. Г. Щербатова и других (поддержанных императором Николаем II) добился лишь отмены круговой поруки в общине (1903) и облегчения паспортного режима крестьян. Во внешней политике придерживался осторожной тактики, выступая противником активной политики на Дальнем Востоке, поддержал В. Н. Ламздорфа в борьбе против «безобразовской клики», но потерпел неудачу, завершившуюся его отставкой в августе 1903 г.; назначен председателем Комитета Министров. Осенью 1904 г. демонстративно поддержал действия П. Д. Святополк–Мирского. При обсуждении (февраль 1905) проектов введения народного представительства первоначально выступал его решительным противником, затем предлагал назначение представителей вместо их избрания. В неблагоприятной международной обстановке в период русско–японской войны 1904-1905 гг. добился заключения Портсмутского мирного договора с Японией (1905). За уступку Японии южной части острова Сахалин получил в правой печати прозвище «граф Полусахалинский».
Во время революции 1905-1907 гг. в начале октября 1905 г. выступил за создание сильного правительства. Под руководством Витте составлен Манифест 17 октября 1905 г., одновременно с изданием Манифеста добился публикации своего всеподданнейшего доклада с программой реформ.
С 19.10.1905 г. по 22.4.1906 г. — председатель реформированного Совета Министров. Санкционировал отправку карательных экспедиций для подавления революционных выступлений и одновременно вел переговоры о сотрудничестве с либералами (Д. Н. Шипов, А. И. Гучков). Добился получения во Франции займа (1906), часть средств из которого пошла на финансовое обеспечение подавления революции.
При обсуждении основных законов (1906) настаивал на ограничении прав Государственной думы и Государственного совета. С середины февраля 1906 г. выступал сторонником неограниченного самодержавия. После 1906 г. перестал активно влиять на политику, перешел к публицистической деятельности. В течение зимы 1906/07 гг. под руководством Витте подготовлена рукопись «Возникновение русско–японской войны» (опубликована в «Историческом вестнике», 1914, № 1 — 12, за подписью Б. Б. Глинского). Считая необходимым введение в правительство общественных деятелей, критиковал действия Столыпина. В конце 1913 г. принял участие в организованной правыми кругами критике В. Н. Коковцова, обвиняя его в злоупотреблении винной монополией. Автор мемуаров, содержащих большой фактический материал и являющихся одним из ярчайших памятников отечественной мемуаристики. Почетный член Русского географического общества (1895), почетный член Вольного экономического общества (1894).
…Мне будет отдано должное. Моих врагов забудут, а меня Россия не забудет…
С. Ю. Витте
Полезнее не вникать в то, как делаются эти две вещи — политика и сосиски.
Мудрость последовавших времен
Ах, огурчики да помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике…
Фольклор последовавших времен
Часть первая ДЕЛО № 1 О НАЙДЕННЫХ СНАРЯДАХ В ДОМЕ ГРАФА ВИТТЕ
1. Справка для камарильи
е успел Сергей Юльевич распрощаться с доктором и, с отвращением покосившись на прописанные им рецепты, вздохнуть все ж таки с облегчением, как сверху чуть ли не скатился Гурьев, бледный, взъерошенный, каким, пожалуй, его еще не приходилось видеть за полтора десятка лет их знакомства.
— Там. В печке. Машина! — проговорил отрывисто. — Полицию нужно.
— Какая еще машина? — недовольно пробурчал Сергей Юльевич, в мгновение ока сообразив, какую машину могут в печку упрятать.
Тот январский вечер, по–петербургски промозглый, он коротал в одиночестве. Матильда Ивановна отправилась, невзирая на понедельник, в концерт — самостоятельно, поскольку муж отказался сопровождать ее, сославшись на недомогание и, главное, по обыкновению, на неотложность дел. Когда бы не это последнее обстоятельство, он, скорее всего, превозмог бы себя, ибо не меньше Матильды Ивановны получил бы удовольствие от великолепного Николая Фигнера[1]. Как правило, по понедельникам театры и прочие увеселения бывали в Петербурге закрыты, но на сей раз в Большом зале консерватории объявлен был вечер романсов и русских песен при участии состоящего под высочайшим покровительством полного Великорусского оркестра под управлением Андреева. Обыкновенно Сергей Юльевич, когда вечерами бывал дома, любил, чтобы и его Матильда Ивановна была с ним, но тут удерживать ее не стал. Как‑никак давали ее собственный репертуар, с которым она, на его вкус, справлялась на домашней сцене вовсе не дурно, так что послушать большого певца ей конечно же польза. Да и занят последние дни Сергей Юльевич был предельно, почти как в былые, в сущности совсем еще недавние, времена.
Вообще‑то, если быть точным, в своем белом доме на Каменноостровском Сергей Юльевич находился отнюдь не один. С помощником в кабинете он доканчивал Записку о Манифесте, наводил на нее глянец; к завтрашнему дню обещался для просмотра представить барону Владимиру Борисовичу Фредериксу с целью указания на возможные неточности, имея в виду последующую передачу государю. А наверху, в комнате дочери, корпел над дальневосточными материалами верный Гурьев. Да еще и доктор Шапиров заехал осмотреть проклятое горло. Сколько уж лет Сергей Юльевич в Петербурге, а к здешней зиме организму его южному привыкнуть так и не удалось.
В их семье Борис Михайлович Шапиров значил куда более, чем домашний доктор. Состояли с ним в дальнем родстве, восходившем к петровскому вице–канцлеру барону Шафирову, а стало быть, к князьям Долгоруким: одна из княжон была замужем за всемогущим банкиром. Кстати, не от него ли достался Сергею Юльевичу финансовый гений?! Своими предками по материнской линии граф Сергей Юльевич заметно гордился, их портреты, большие и маленькие, в рамках овальных и прямоугольных и подобные медальонам, занимали целую стену в его кабинете, он охотно с ними знакомил, будто в музее, всякого нового своего посетителя — разумеется, если того достоин… Начинал обязательно с князя Григория Федоровича, сенатора при Петре, и его брата, знаменитого правдолюбца князя Якова Федоровича, а потом читал подпись к портрету князя Сергея Григорьевича: при Петре Великом тайный советник, камергер и полномочный посол, казнен, колесован в Новгороде по злобе императрицы Анны Иоанновны и Бирона… Так постепенно доходил до портрета дорогой своей бабушки Елены Павловны, урожденной княжны Долгорукой, изображенной, какою он ее помнил, в ее любимом чепце… Впрочем, доктору Борису Михайловичу все это было хорошо известно, и, усадив пациента на диван под князьями, он привычно попросил его придвинуться ближе к лампе, открыть рот и сказать «а–а».
К тому времени, когда доктор явился, слава Богу, с Запиской завтрашней было покончено, заработавшийся помощник отправился восвояси. Да и поздний визит доктора не затянулся. Прописав очередные полоскания и порошки, он не стал дожидаться Матильды Ивановны из концерта и откланялся тоже. Сергей Юльевич его не задерживал, устал изрядно, объемистая Записка потребовала немалых трудов. Началось все с того, что по возвращении из‑за границы Сергею Юльевичу из верных уст передали слова, сказанные императрицей за завтраком, что Манифеста 17 октября вовсе не было бы, когда бы его не подсунул царю Витте. Государь промолчал, что было на него так похоже…
Узнавши об этом, Сергей Юльевич, дабы раз навсегда пресечь подобные толки (еще и ранее до него доходившие из дворцовых сфер), решил не мешкая подготовить Записку с подробным изложением истинных событий, приведших к появлению Манифеста. Взялся за дело с обычной энергией, ныне, увы, искавшей себе применения. Вдобавок к документам из собственного своего архива (не любил с ними расставаться, все сохранял — для истории ли, для борьбы ли политической, это, как говорится, уж как Бог дает) он обратился за свидетельствами к прежним своим сотрудникам по тому беспримерному времени. Прежде всего к Оболенскому[2], князю Николаю Дмитриевичу[3], к Вуичу[4] — непосредственным участникам событий, попросил описать, как запомнили, что происходило тогда. Откликнулись оба, с тщательностью и старанием воспроизведя, как все было.
За месяц приблизительно до апогея Витте переехал из Портсмута. Конечно, начало исторического события вещь в значительной мере условная, всякое вытекает из предыдущего, и, как правило, плавно. Но существуют и грани, вполне ощутимые. Для высочайшего Манифеста 17 октября, он смел думать, подобною гранью стало триумфальное его возвращение после подписания мирного договора с Японией — на условиях, о каких проигравшая войну сторона, по правде, не могла и мечтать[5]. Это потом уж, спустя время, горлопаны и негодяи подняли крик, будто японские силы к тому моменту якобы себя исчерпали, тогда как русская пружина, напротив, сжатая до предела, вот–вот готова была распрямиться и нанести последний удар, а стало быть, подписание мира было как нож в спину… На самом‑то деле все обстояло как раз наоборот! Иначе разве его встретили бы как спасителя России и трона, иначе разве пожаловал бы его графским титулом сам государь!..
Один из счастливейших дней в его жизни, когда назавтра после приезда он получил высочайшее приглашение на царскую яхту. В финляндские шхеры отправились утром на военном судне и после полудня добрались до места. В глубокой бухте чуть покачивалась на спокойной воде белоснежная яхта под императорским флагом. Вдали виднелись военные корабли.
Государь принял его у себя в каюте.
— Вы успешно выполнили крайне тяжелое поручение, спасибо вам, Сергей Юльевич!
И с нарастающей торжественностью произнес:
— За услугу, оказанную России и нам, я решил пожаловать вам графское достоинство!
Растроганный Сергей Юльевич со свойственной ему порывистостью вдруг пал в ответ на колено, с высоты своего роста рухнул, неуклюже поймав царскую руку, и попытался прильнуть к ней губами.
Возникла неловкость. Царь более привык к резкостям с его стороны, чем к душевным порывам, многолетние отношения едва ли когда выходили за рамки служебных. И внезапное проявление чувств заметно смутило обоих.
Витте не любил вспоминать этой сцены.
Впрочем, быстро найдясь, он тогда сказал, что особенно счастлив, что государь не поддался наветам, ведь многие хотели выставить его, Витте, чуть ли не революционером!..
Не отрицая подобных наветов, царь с обычной учтивостью возразил, что никогда им не верил!..
…Между тем, возвратясь в Петербург, новоявленный граф на каждом шагу убеждался, что столица все глубже погружается в смуту. Сверху донизу все требовали перемен. Опозоренное военными неудачами войско обвиняло командование и правительство. Высший класс не скрывал недовольства. Молодежь не признавала авторитетов, кроме крайних революционеров. Земцы и профессора требовали конституции. Их поддерживали торгово–промышленные деятели, богатые люди. Всё активнее заявляли о своих нуждах рабочие. Повсюду поднимали голову инородцы, поляки требовали автономии, евреи — равноправия. Даже чиновный люд возмущался существующими порядками. Общий лозунг выражался в крике души: так нельзя дальше жить!
К началу октября, точно прорвав плотину, смута выплеснулась на улицы. Фабрики и учебные заведения закрылись, рабочие и студенты проводили время на митингах. Забастовали городские железные дороги, не ходила конка, вообще экипажи исчезли с улиц, которые и освещаться‑то перестали… как и многие магазины. Петербуржцы вечерами боялись выходить из дому. То и дело отключался водопровод, молчал телефон, железнодорожное движение прерывалось. Газеты печатали кто во что горазд, всяческие союзы ежедневно изрекали призывы к подрыву власти, революционная пропаганда проникла в войска. Начались беспорядки в частях. Взбунтовался морской экипаж. Неспокойно было в Кронштадте…
В эти дни Сергей Юльевич повидал многих людей. Кто‑то приезжал к нему на Каменноостровский поздравить с графством, с другими встречался на совещаниях. Генералы, журналисты, сановники в поисках выхода из тупика задавались мыслями, еще недавно почти что крамольными. Конституция, казалось, необходима!..
Старому графу Сольскому[6], давнишнему своему доброхоту и председателю Государственного совета, Сергей Юльевич без утайки признался, что собирается опять за границу. Объяснил такое свое желание не только лишь тем, что устал дьявольски после портсмутских переговоров, но еще и опаскою, как бы его, подобно тому, как произошло с Портсмутом, не бросили в новое пекло, — ведь сами, разжегши огонь, опять не найдут охотников лезть этот огонь гасить… Кого он при этом имел в виду, не требовало пояснений… Он высказывался в таком духе и кое–кому еще из ждавших от него вмешательства в события, но реакция старого Сольского его потрясла.
Старик буквально заплакал:
— Ну что ж, уезжайте, оставляйте нас всех здесь… на погибель!
А несколько успокоившись, пояснил:
— Мы в самом деле погибнем… без вас я не вижу выхода…
Говоря, что думает уезжать, Сергей Юльевич не лукавил. Но он не бежал от событий, это тоже была правда. Однако не вся: решения его и поступки нередко заключали в себе далеко не единственный смысл. Ведь правдой было и то, что, объявляя о своем отъезде, Витте хотел посмотреть на реакцию собеседника, пустить пробный шар.
После разговора с Сольским Сергей Юльевич набросал записку для государя. Попросил его принять.
Невзирая на позднюю осень, августейшее семейство — а стало быть, двор — не спешило переезжать в Зимний дворец, оставалось за городом, в Петергофе. Железная дорога остановилась совсем (началась всероссийская стачка), добраться до Петергофа можно стало только на пароходе, по Неве и заливу. Граф Сергей Юльевич был принят с докладом 9 октября. Он предложил на выбор два выхода из положения, ставшего просто критическим.
Либо диктатура — немедля подавить всякое противодействие, хотя бы ценой массового пролития крови.
Либо уступки — переход на конституционный путь согласно программе, предлагаемой графом Витте.
Одно из двух.
На первом пути успех зависит от кандидатуры диктатора, для этой деятельности Сергей Юльевич не считал себя пригодным.
На втором — он готов, если ему доверят, испытать свои силы.
Прежде принятия окончательного решения порекомендовал государю посоветоваться еще с противниками второго пути.
На другой день граф Сергей Юльевич снова был в Петергофе — с составленной за ночь программой. Отдавая ее государю, позволил себе, на сей раз в присутствии государыни, дать совет едва ли не по–военному грубый: постараться посеять в рядах противника распри, раздоры. В первую очередь…
— Бросьте кость, чтобы нацеленные на вас пасти отвлекла на себя!
И возможно, из‑за того что каждый день приходилось передвигаться на пароходе, ему в голову пришло и другое, куда более возвышенное сравнение:
— Вы вынуждены переплывать разбушевавшийся океан. Вам советуют разное. Один предлагает один курс и один пароход, другой — другой, третий — третий… Но какой бы совет вы ни приняли, переплыть океан без риска, к сожалению, невозможно. Я уверен, что мой пароход и мой курс наименее опасны… А для будущего России наиболее целесообразны!.. Однако отойдем от берега, начнется качка, и аварии наверное будут… то в машине, то на палубе, то снесет кого‑то из спутников… — Увлеченный морскими картинами, старый железнодорожник граф Витте никак не мог добраться до «суши». — И сейчас вам начнут говорить, что лучше бы выбрать другой пароход, при другом курсе такого бы не случилось. Поскольку подобные утверждения не поддаются проверке, то всему можно поверить, начнутся сомнения, дергания, интриги… Для меня, а главное для дела, кончится плохо… Прошу вас, ваше величество, еще раз все взвесьте!..
Николай Александрович по привычке крутил усы и не отвечал ничего определенного.
Все же после трехдневных обсуждений в ближайшем к царю окружении граф Сергей Юльевич Витте получил из Петергофа депешу:
«…Поручаю Вам объединить деятельность министров, которым ставлю целью восстановить порядок повсеместно…»
О программе же вовсе не упоминалось.
Ему оставалось снова кинуться в Петергоф, доложить государю, что не считает для себя возможным исполнить высочайшее повеление ранее, чем будет утверждена его программа. И еще и еще раз советовал ее обсудить в угодном государю составе.
— Одним механическим объединением министров смуты не успокоить… Но решение, — твердо сказал он, — то или иное, необходимо принять неотложно. С каждым днем положение ухудшается.
Это было 14 октября, в пятницу.
Не только в Петербурге, уже и по всей России стояли фабрики, заводы, железные дороги. Призывая рабочих к выставлению крайних политических требований, в Технологическом институте заседал Совет рабочих депутатов. Деловая жизнь в столице, можно сказать, прекратилась. Запаниковала приличная публика. Побежали в Финляндию. Там многие жили на вокзалах, в вагонах… А на питерских улицах было полно народу, демонстрирующего, митингующего.
В сонном же Петергофе по–прежнему колебались…
В субботу 15–го царь собрал совещание в узком кругу, человек шесть. Еще накануне было предрешено, что программа графа Сергея Юльевича должна исходить лично от государя, в виде высочайшего Манифеста. Сергей Юльевич, однако, еще пытался переубедить присутствующих: лучше было бы просто утвердить его программу, это менее свяжет государя, оставит простор для маневра. Он давно пришел к убеждению, что политические решения абсолютно жесткими и окончательными не бывают, всегда надо иметь в виду, что под спудом таятся пока еще не проявленные возможности… Один пишем, а два — два держим в уме.
Но государь настаивал на своем.
Воскресный вечер Сергей Юльевич провел в сильном волнении.
Шагая, по обыкновению, из угла в угол просторного кабинета, от стены Долгоруких к противоположной, с портретами августейших особ, выговаривался перед старым своим сотрудником:
— Есть два выхода — конституция и диктатура. Я сделал все ради первого, но не уверен в успехе. Если завтра будет опубликован указ о диктатуре, я нисколько не удивлюсь. Для России это будет новое испытание, для меня же — избавление от тяжкой ноши… Если вы расположены ко мне, молитесь о диктатуре!..
Но указа все не было, а во втором часу ночи припозднившемуся гостю встретилась по дороге домой мчавшаяся во весь опор через Троицкий мост карета. Петербургский чиновник не мог ее не узнать.
Министр императорского двора барон Фредерикс вез графу Витте приглашение в Петергоф.
На завтра.
Сергей Юльевич был достаточно предусмотрителен, чтобы это приглашение не застало его врасплох. Еще по пути из Петергофа в субботу заехал вечером на Дворцовую набережную к князю Алексею Дмитриевичу Оболенскому, спросил его мнение, как поступить. Они нередко советовались друг с другом. С присущей ему экзальтацией князь воскликнул:
— Нет сомнений, разумеется, надо составлять Манифест!
Тогда Сергей Юльевич попросил князя набросать черновик:
— Перечислите все свободы… и чтобы был ответственный кабинет!
Текст, который получится, Оболенский обещал подвезти в понедельник утром прямо к пароходу на пристань… разумеется, если события не примут иной оборот…
События иного оборота не приняли, и утром 17–го тут же на пристани он прочел написанное Сергею Юльевичу, а засим и откланялся было.
Но Сергей Юльевич его удержал:
— Поедемте, князь, вместе.
В глубине души опасался, должно быть, отказа, в таком случае при отступлении лучше выставить впереди себя автора… Ну а в случае одобрения он готов будет исполнить высочайшую волю.
По пути, в каюте, карандашом вдвоем с князем правили текст, добиваясь ясности, дабы исключить кривотолки. В Петергофе Сергей Юльевич попросил переписать его начисто. Однако писарям–каллиграфам, рондистам[7], потребовалось бы на это чересчур много времени. Машинки же не оказалось… Не менее получаса прошло, пока разыскали какого‑то господина с принадлежащим ему ремингтоном, и Сергей Юльевич продиктовал документ, чтобы представить на усмотрение царю.
Так что высшие блюстители канцелярских порядков не без трепета отметили в этот день, что впервые бумага такой государственной важности исполнена подобным образом, на машинке…
Оставалось лишь догадываться о причинах настойчивости царя — до тех пор, пока Сергей Юльевич с достоверностью не узнал, что камарилья подговаривала ни в коем случае не уступать в этом пункте. Витте, дескать, хочет, чтобы меры, которые должны успокоить Россию, исходили не от его величества, а именно от него самого. И причина проста: граф мечтает стать президентом всероссийской республики!
Ни больше ни меньше.
А потом те же самые лица, прекрасно помнившие перипетии сумасшедших октябрьских дней, не стеснялись упрекать его в том, что он якобы подсунул, якобы вырвал у царя Манифест!..
2. Находка в печи
Александр Николаевич Гурьев был человек основательный. Он давно уже из вечера в вечер являлся в особняк на Каменноостровском и, поднявшись на третий этаж, зарывался в дальневосточные бумаги, зарывался буквально, из‑за слабого зрения едва не водя по ним носом, на котором крепко держались очки с толстенными стеклами, отражавшими блики ото всех, какие только возможно, ламп, перед тем непременно зажженных.
Александр Николаевич Гурьев был человек ученый, автор множества трудов по статистике, по финансам и бесчисленного количества всяческих служебных записок, составленных для Сергея Юльевича в его бытность министром. Секретаря министерского ученого комитета в то время почти в открытую именовали пером министра. Сергей Юльевич никогда усидчивостью не отличался, писанину переносил с натугой и не мог недели обойтись без такого «пера». Они научились понимать один другого с полуслова, что Сергей Юльевич тоже весьма ценил, ибо пускаться в долгие объяснения был еще менее склонен. Сам чужие мысли схватывал на лету: собеседник только начал высказываться, только распелся, а его уже подгоняют, мол, ясно–понятно, дальше‑то что? С верным Гурьевым не случалось такого.
Грех старое вспоминать, а ведь начиналось между ними не очень‑то гладко. Гурьев уже служил в министерстве, когда Сергей Юльевич занял кресло министра, распростившись с Министерством путей сообщения, которое возглавлял до того. И довольно‑таки скоро Министерство финансов заполонила такая публика, что стало легко заподозрить, а уж не обратились ли финансы России в одну концессию, которую охаживают толпами гешефтмахеры и состоящие к их услугам доморощенные мудрецы, до всего доходящие своим умом… Куда подевалась чинность, размеренность, неторопливые обороты бюрократического колеса? Заодно с вицмундирами все было вышвырнуто прочь. По прежде безмолвным министерским коридорам бегали, галдя и не умолкая, какие‑то прожектеры и неучи в сюртуках, увлеченные своими доктринами. Взамен входящих и исходящих ударяли по рукам, как на бирже. И сам министр, вместо того чтобы величественно восседать в своем кресле, определяя судьбы России, увлекшись какой‑нибудь темой, сновал мимо посетителя по кабинету, едва не задевая мебель. Чиновник Гурьев неодобрения отнюдь не скрывал. Открыто выступил в печати против фокусных, как он называл их, реформ и, естественно, ожидал быстрой отставки. Но оказалось, что обруганный им министр ни резкостей не терпит, ни оппонентов, а шоколадного языка подчиненных, в борьбе же с противниками держится принципа: «не оттолкнуть, а заинтересовать». И ученый, образованный Гурьев, столь шокированный дурным обществом новых министерских «гешефтмахеров», вскорости на собственном опыте убедился, как широко толкуется этот принцип. Его ругательное стило обратилось в «перо министра»… Что же до знаний, и теоретических и практических, недостаточность коих так коробила Гурьева в новом патроне, то он с необыкновенною быстротою приобретал их из бессчетных разговоров с сотрудниками. С Александром Николаевичем Гурьевым в том числе.
И тут же перемерял науку на собственный свой аршин, иной раз расцвечивая деловую беседу рискованными сближениями.
— Значит, так. Согласитесь, министр финансов есть законный супруг церемонной дамы — государственной росписи. У нее все расписано по параграфам и статьям бюджетного этикета… Расходы, доходы. Надлежит с ней являться на рауты в Государственный совет к старичкам почтенным и на прочие выходы, предусмотренные церемониалом. А затем… затем, оставивши госпожу властвовать в министерских апартаментах — Бог ей в помощь, — с гиком, с посвистом уносись к разлюбезной прелестнице!.. Все сокрытое по доходной части, все недоданное по расходной — все ее! Все — свободной наличности! Та, законная барыня, из‑за копейки торгуется, а ты, душенька, миллионами сыпь, мы с тобой в свободном сожительстве!.. Или я что‑то неправильно понимаю?!
Новоиспеченный финансист положительно на лету овладевал финансовыми премудростями…
Увы, настоящее не давало углубляться в давно уж прошедшее… действительность удручала и отнюдь не способствовала воспоминаниям.
В последние недели в повседневной работе Гурьева над дальневосточными документами получился длительный перерыв, объясняемый тем, что Сергей Юльевич с головой погрузился в составление Записки для камарильи. Выпускать же бумаги за порог дома — это было не в его правилах. Так что в отсутствие Гурьева верхний третий этаж особняка вообще пустовал. В сущности, он пустовал с той поры, как дочь Сергея Юльевича вышла замуж за дипломата и с мужем уехала за границу. Гурьеву выделили ее комнаты для занятий, потому что в Петербург она наведывалась нечасто.
В этот вечер, поднявшись наверх и разложив для работы бумаги (предварительно, по обыкновению, включив яркий свет), очень скоро Гурьев всеми членами ощутил, что в помещении совершенно не топлено, в таком холоде долго не усидеть. Пришлось спускаться за истопником. Тот поднялся с дровами, завозился у печки, и Гурьев, разбирая свои материалы, услышал, что старик о чем‑то себе под нос бормочет. Прислушался, однако, не сразу.
Как бы сам с собой истопник отрывисто говорил:
— Да тут понакладено что‑то… И веревки откудова… Да как же трубу‑то открыть?..
На последнюю фразу Александр Николаевич отозвался:
— Так ты вынь, что там лежит.
— Дак откудова же веревки? — в недоумении вопрошал истопник.
— Наверное, трубочист потерял инструмент…
Через вьюшечное отверстие старик потянул веревку и, почувствовав, что к ней привязано что‑то тяжелое, сказал об этом.
Гурьев ответил, все еще не отходя от стола:
— Груз, понятное дело. Вынь его.
Старик послушался и сказал:
— Нет, это не трубочист.
Оторвавшись наконец от бумаг, Александр Николаевич подошел к старику и увидел предмет, обшитый холстом. Он и в саже‑то почти не был испачкан. Не поднимая с пола подозрительного предмета, а нагнувшись над ним, стали резать холст ножом для бумаг. Мало–помалу из‑под холста показался деревянный ящик. В его верхней доске разглядели отверстие. Из отверстия величиной с монету торчало горлышко какого‑то пузырька.
— Это бомба, — уверенно сказал Гурьев.
— Откудова же ей тут взяться? — Старик не поверил.
— А очень просто, — объяснил Гурьев, точно имел дело с бомбами каждый день, — спустили с крыши в трубу на веревке.
…После сообщения Гурьева о «приятной» находке Сергей Юльевич вместе с ним поднялся наверх.
Возле ящика уже толпилась прислуга.
Не притрагиваясь, еще раз осмотрели его.
— Думаю, — сказал Гурьев Сергею Юльевичу, — горлышко — это приемник, а предмет — разрывной снаряд.
— И все‑то вы знаете, — проворчал Сергей Юльевич. — Уж вы не анархист ли, мон шер?
Он распорядился вызвать по телефону полицию, а криво усмехнувшемуся его шуточке Гурьеву предложил перебраться в другую комнату.
Александр Николаевич посмотрел на часы:
— Одиннадцать. Пожалуй, нет смысла начинать сегодня.
3. Угрозы…
Вот уже, должно быть, лет семь, как в высоких российских сферах получила распространение болезнь, называемая бомбобоязнью. Временами она принимала характер эпидемии. Двадцатый век положил ей начало убийствами министра просвещения Боголепова и Дмитрия Степановича Сипягина, министра внутренних дел, одного из немногих, кого Сергей Юльевич числил в друзьях. И думается, взаимно… Сколько было съедено–выпито вместе, сколько переговорено! Гурман, жизнелюб, это так не вязалось: Сипягин и — смерть.
Всего лишь за несколько дней до того, рокового, говорил Сергей Юльевич Дмитрию Степановичу при Александре Павловне, его жене, что некоторые его меры чересчур резки и не столько пользу приносят, сколько возбуждение в обществе, к добру это не приведет.
— Допускаю, ты прав, — отвечал на это Дмитрий Степанович, — но если б ты знал, что требуют от меня наверху… Государь считает, что я весьма слаб…
Беседу, оказавшуюся последней, Сергей Юльевич вспомнил, склоняясь над распластанным телом, — и не выдержал, разрыдался и пал на колени, как был, в вицмундире и при звездах…
Немудрено было бы после всего этого самому заразиться липкой хворью бомбобоязни. Он смел думать, что если такое произошло, то в весьма малой степени. Он по этой причине не изменил ни одного своего решения, а ведь, что говорить, были деятели, отказавшиеся, например, от министерских портфелей именно потому, какими бы благовидными предлогами ни прикрывались. И особенно когда он составлял свое министерство в разгар беспорядков… Он тогда отказывался от охраны, даже в том октябре, в девятьсот пятом, когда переехал на квартиру председателя Совета Министров в запасной флигель Зимнего… Как‑то утром, помнится, увидел, что весь двор полон солдат, и тотчас потребовал их оттуда убрать. Это вовсе не означало, что ему незнаком был страх. На память приходил старший брат. Брат ему говорил:
— Если кто‑нибудь когда‑нибудь будет тебе хвалиться, что на войне не боялся, — не верь. До боя — боятся все. Когда уж заварится каша, тогда человек действительно забывается и перестает трусить…
Кавалер множества орденов и золотой георгиевской шашки, драгунский полковник на турецкой войне, брат знал это не понаслышке.
Сергей Юльевич испытывал нечто подобное. В разгар революции его на каждом шагу остерегали не ехать туда‑то, скрываться оттуда‑то, настаивали на охране, а он прекрасно обходился без этого, ездил всюду в автомобиле, известном своей шумливостью всем. Ему звонили по телефону, чтобы берегся, переждал бы несколько дней дома, — он ни разу не послушался никого. Но, оставаясь один, собираясь куда‑то, — боялся. И, спускаясь по лестнице каждый день и отправляясь пешком или садясь в экипаж, чтобы ехать на публику, на народ, всякий раз страшился и дрейфил… до момента, как оказывался на людях, потому что знал: на него все смотрят. Вот тогда и понял то чувство, о каком рассказывал старший брат… Кстати, и Скобелев, генерал, говорил про то же: пока не выйдешь под пули, трусишь, а там забываешь все страхи, и стрельба ничуть не отвлекает от дела…
Все же с известных пор Сергей Юльевич стал совать в карман револьвер, когда шел на прогулку. Ну а что до охраны… Вон сменивший Сипягина Плеве по городу ездил в сопровождении эскадрона велосипедистов. Спасло его это?! Да и последнее происшествие, с самим Сергеем Юльевичем. С тех пор как он вернулся из‑за границы, в прихожей сидел охранник, даже иногда не один. А злоумышленников проморгали… И кстати, охрана тут же исчезла после обнаружения бомб. Так что вовсе не ясно, то ли охраняли Сергея Юльевича, то ли наблюдали за ним… что, впрочем, тоже уже случалось — после первой его отставки, еще при Плеве, якобы заботившемся о его безопасности, а на самом деле желавшем знать, как Витте будет вести себя за границей. Вообще, он со временем пришел к твердому выводу: без попустительства полиции в России мало кого убивают.
Да, его неоднократно предупреждали, что ему следует остерегаться. Да, он мало обращал на это внимания. Чем выше человек поднялся по правящей лестнице, тем больше он нажил врагов. Что ж тут нового? Угрозы уничтожить его раздавались открыто в безумную пору его премьерства. На черносотенных митингах кричали: «Смерть Витте!» — а за границей революционные эмигранты угрожали его жене, что убьют дочь и внука. Когда он отправился за границу после отставки, ему, под дружескою личиной, советовали не возвращаться. А еще до отъезда он узнал от кавказских друзей, что революционеры–кавказцы подготовили было покушение на него; не уйди он в отставку, то был бы убит тем из них, кто вытянет жребий… А позднее один крайнего направления журналист, совершивший за свою карьеру медленный дрейф от Желябова к «черной сотне», признавался ему в разговоре, что и он в то же самое время был настроен к его убийству… Точно дикого зверя, его обкладывали с разных сторон.
Летом во Франции он получил от барона Фредерикса, когда‑то командира конногвардейского полка, за множество лет служения камарилье превзошедшего тонкую, как паутина, науку лукавой придворной обходительности и околичности, по–солдатски прямое письмо, смысл которого сводился к тому, что сам государь полагает его возвращение в настоящее время весьма нежелательным. На что Сергей Юльевич без промедления на многих листах отписал, что, если его величеству угодно, он готов навсегда расстаться с государственной службой, однако ни за что не согласится покинуть свою родину по собственной воле. Переписка не ограничилась этим, но постепенно как бы утонула в словах и их разъяснениях. Государь якобы имел в виду задержать недавнего первого своего министра в Европе исключительно вследствие обстоятельств минуты, по миновании коих приезд Сергея Юльевича уже не грозит «серьезными осложнениями»…
А тем временем на курорте, уже в Германии, Сергей Юльевич в один прекрасный день обнаружил то ли слежку за собой, то ли охрану, без агентов немецкой полиции не мог шагу ступить. Попытался справиться, чем обязан, но узнал лишь одно: таков приказ из Берлина.
Спустя месяц в Париже в отель «Бристоль» с визитом к нему явился только что отправленный тогда на покой Петр Иванович Рачковский[8], человек в полицейских делах многоопытный, располагавший обширными европейскими связями. Сергей Юльевич воспользовался случаем, спросил, не известно ли, отчего такое внимание к его скромной персоне, в чем тут дело. Рачковский обещал навести справки и на другой же день по своей линии разузнал захватывающую дух историю.
Началась она с нераспечатанного письма. Оказалось, его обнаружили у скончавшегося в берлинской больнице главного будто бы русского анархиста в Европе[9]. Когда полиция вскрыла конверт, выяснилось, что это запрос, не следует ли убить графа Витте: один русский студент, умирающий в Германии от чахотки, вызвался совершить покушение, если это принесет пользу партии…
— Ваше счастье, Сергей Юльевич, что главарь анархистов не успел вынести приговор, — заключил Рачковский и нехорошо усмехнулся. — Видно, Бог решил иначе вашу судьбу…
И еще не забылся сей казус, как там же, в Париже, ему доставили паническую телеграмму от князя Мики Андроникова[10] из Петербурга. Знакомство давнее, хотя и не близкое, однако поддерживаемое годами. Принимал с визитами, обменивался поздравительными открытками. Однако, положа руку на сердце, не мог понять эту пронырливую и малонадежную личность. Постоянно о чем‑то хлопочет, интригует, вхож к министрам, к великим князьям, тем, кто в силе, оказывает мелкие услуги… Сыщик не сыщик, плут не плут, а к порядочным людям никоим образом не отнесешь…
Что‑то все же подвигло светского шептуна прислать в Париж телеграмму, уж не кровь ли кавказская, как‑никак Фадеевы–Витте в Тифлисе были не из последних семей… Разумеется, если не водила княжеской куда более влиятельная рука…
Телеграмму Сергей Юльевич, само собой, сохранил для архива. В переводе с французского текст читался приблизительно так:
«Узнав о Вашем скором возвращении, умоляю Вас продолжить Ваше пребывание за границей. Опасность для Вашей жизни здесь более серьезна, нежели Вы думаете. Приезжайте, если хотите умереть».
…Он не внял истошному выкрику, хотя только за время всей этой переписки убили в благословенной России депутата распущенной Думы кадета Герценштейна, семеновца генерала Мина, усмирявшего Москву; взорвали дачу Столыпина на Аптекарском острове, искалечив его дочь (самого премьера не оказалось дома). К далеко не полному этому списку жертв террора — красного? черного? — следовало добавить погибших уже после возвращения Сергея Юльевича петербургского градоначальника и главного военного прокурора. И это‑то официально именовалось столыпинской эпохой успокоения в противовес прежней (понимай — виттевской) эпохе смуты!..
Он вернулся в конце октября и получил новые предостережения. И письменные угрозы с какими‑то знаками, крестами, скелетами, анонимные большей частью. Но не только. Некий Шмидт, назвавшись председателем отдела «Союза русского народа», писал из города Николаева, что готов приехать в Петербург (за счет Сергея Юльевича) рассказать ему подробности готовящегося покушения. Заподозрив шантаж, Сергей Юльевич не ответил… Но почти о том же сообщил черниговский предводитель дворянства, приложив к письму даже фото вероятных убийц.
4….и копии
…Он вернулся в конце октября и вскоре засадил Гурьева за историю тех событий, что в конце концов шаг за шагом привели к японской войне. Чуждый всяческой отвлеченности, в том числе и научной, Витте видел в этой работе прямой политический или, если угодно, практический смысл. В представлении сфер(и не только лишь сфер) виновники войны являлись и виновниками революции. Витте задался целью доказать на фактах, на документах: он делал все, что в силах, чтобы предотвратить войну. И следовательно, революцию. Оправдаться — вот что казалось ему главным. Не любил Сергей Юльевич расставаться с бумагами, попадавшими в его руки. Предпочитал оставлять их у себя. В тех случаях, когда придержать оригинал оказывалось невозможно, тщательно снимал копию. При этом отвлеченная историческая истина заботила его в последнюю очередь. Нет, как опытный бюрократ, он был убежден, что всякая бумага когда‑нибудь да пригодится — в жизни, в политике… Потому что политика сделалась для него равной жизни. Правдами и неправдами он собрал у себя обширный архив, в чем‑то даже богаче архивов казенных. Некорректность подобного собирательства нимало не смущала его. Ибо представлялась целесообразной.
Война еще катилась к бесславному концу, только что оглушил разгром под Мукденом, а цусимского позора еще не случилось[11], но газеты уже искали ответ на извечный российский вопрос: кто виноват?..Опираясь на бумаги из архива Витте, Гурьев тогда же пытался найти сей ответ. И не один Гурьев. У Сергея Юльевича, точнее, вокруг него, не вчера и не вдруг создался, а вернее, был создан целый штат доверенных журналистов или, может быть, литературных агентов, его рупоров или клевретов, для которых время от времени находились поручения деликатного свойства. Но, вернувшись из‑за границы, Сергей Юльевич предпочел именно верного Гурьева привлечь к полупотаенной работе. Потому скрываемой, что был опыт…
Не терпела дворцовая камарилья самостоятельных, не одобренных свыше суждений, от кого бы ни исходили. И отнюдь не стеснялась в средствах, лишь бы вынюхать, перлюстрировать их.
…У Дмитрия Степановича Сипягина после гибели остались бумаги. Полагалось, разобрав их, официальные передать в министерство, частные же — вдове. Она знала: муж вел дневники, где высказывался откровенно. Как раз их‑то Александре Павловне и не вернули. Она спросила про них. Оказалось, взял дворцовый комендант, поскольку государь пожелал ознакомиться с содержанием. Потом он с благодарностью их возвратил, отметив, что содержание весьма интересно… Однако в полученном ею пакете не хватало одной из двух дневниковых тетрадей. Она стала выяснять недоразумение. И дозналась. Доверительно, разумеется под рукой, ей сказали, что вторую тетрадку уничтожил сам государь. Что‑то, видно, нелестное прочитал о себе… Сергей‑то Юльевич помнил суждение Дмитрия Степановича в момент откровенности о своем друге–царе: неправдив и коварен…
Да впрочем, зачем за примерами ходить далеко. Два–три года тому назад первую часть потаенной работы Гурьева без особого шума пытался раздобыть департамент полиции. Была она отпечатана отдельной брошюрой в типографии Министерства финансов еще в бытность Сергея Юльевича министром, речь там шла о политике на Дальнем Востоке в предшествовавшую несчастной войне пору. Каким‑то образом о существовании такого труда довели до сведения государя — воспоследовало высочайшее повеление: разыскать. А не удавалось никак. Вся добыча — несколько корректурных листков, случайно сохранившихся в типографии. О розысках Сергей Юльевич узнал случайно. И получил полное удовлетворение от собственной предусмотрительности. Крамолы там не было никакой, видит Бог. А он все ж таки в начале сумасшествий, приведших к войне, приказал все экземпляры сжечь!.. Лишь несколько оставил себе. Один из них тотчас вынул из шкафа и без отлагательств попросил министра внутренних дел передать от его имени государю.
— Не сочтите за труд доложить, что, дескать, Витте весьма сожалеет, что ваше величество не обратились прямо к нему…
Потом он спросил у министра, как отреагировал государь.
— Только одним и поинтересовался, уверен ли я, что брошюра не распространена.
— А вы?
— А я привел в доказательство факт, что за несколько месяцев полиция не сумела ее раздобыть…
Так стоило ли удивляться тому, что, собирая важные документы, Сергей Юльевич непременно снимал с них копии. И непременно в нескольких экземплярах. Такая у него сложилась привычка.
И хранить их предпочитал, по возможности, не в одном–единственном месте.
5. Прокламации от полиции
На телефонный звонок полиция отозвалась быстро. В особняк на Каменноостровский съехалось полицейских чинов тьма. А всех опередил ротмистр Комиссаров.
Его появление неприятно поразило Сергея Юльевича. Имел сомнительную честь быть знакомым с красавцем жандармом, и, хотя разговаривал с ним лишь однажды и тому не менее года, дело было настолько из ряда вон, что запало в память, не затерялось в потоке бессчетных встреч председателя Совета Министров.
Одной из главных тогдашних забот была необходимость заграничного займа. На то, чтобы окончательно подавить революцию, добиться успокоения умов в России, требовалось тратить миллионы и миллионы. Из житейского опыта каждый знает: не заплатишь — и не поедешь… но никто яснее Сергея Юльевича не отдавал, казалось, себе отчета, что простая обывательская мудрость действует в государственном масштабе. На этом держится великая сила финансов, или, если хотите, как когда‑то говаривали у них в Одессе, кто платит, тот и танчик заказывает… Так вот, получению займа очень сильно препятствовал еврейский вопрос.
Волна погромов прокатилась сразу же после объявления Манифеста 17 октября. Первые плоды долгожданной российской свободы оказались отвратительны и кровавы. По сему печальному поводу новоявленный председатель Совета Министров пригласил тогда к себе для беседы Лопухина. Недавний директор полицейского департамента слыл первейшим знатоком по этим самым делам еще с тех пор, как расследовал в девятьсот третьем обстоятельства страшного погрома в Кишиневе.
Витте прямо его спросил, в чем он видит причины погромов и что следует предпринять.
Лопухин объяснил не колеблясь, что причины тут две: черносотенные организации и (он запнулся) правительственный антисемитизм.
— Частичное решение невозможно, — убежденно заявил он.
— Так посоветуйте, что же делать? — попросил его Витте.
— Целиком исполнить обещанное Манифестом 17 октября!..
Это было слишком общо, ради этого не стоило затевать разговора.
— Вы можете указать конкретных сеятелей погромов? — спросил Витте.
Лопухин и не у дел продолжал быть человеком осведомленным. Он сказал:
— Недавно государю представлялся новый градоначальник в Ростове, на Дону, разумеется. «Там у вас жидов много», — заметил царь. И, услышав в ответ, что их много при погромах погибло, заявил с досадой, что могло бы и больше… — И добавил к этому, поскольку премьер промолчал: — Да знаете ли вы, что в департаменте полиции недавно учредили особый отдел для погромной агитации?! Со своею собственной типографией!
— У вас есть доказательства?! — вскричал Витте.
— Постараюсь, чтоб были.
Он исполнил обещание через день. Пришел с пачкой воззваний. Часть была уже отпечатана, часть готова к печати в корректурах, просмотренных директором департамента.
— По распоряжению Рачковского занимается этим ротмистр Комиссаров, — сообщил он.
В полицейских кругах личность очень известная, возвращенный недавно на службу Петр Иванович Рачковский был старинным знакомцем Сергея Юльевича, подчас партнером, чаще противником. А известен был тем, что стоял за кулисами многих важных событий.
— Как же следует, по–вашему, поступить? — спросил Витте Лопухина.
— Вы хотите иметь гарантию для успеха заграничного займа? — в свой черед спросил Лопухин. — Поезжайте сами сейчас в департамент, а накрыв типографию за работой, созовите экстренно Совет Министров и оповестите прессу! Вот гарантия, Сергей Юльевич!
Разговор этот поразил его точно громом. Не успел Лопухин от него выйти, грудь сдавило удушье, от волнения разыгрался приступ астмы… Но он не был бы дальновидным политиком, если бы в точности последовал совету Лопухина.
Когда он от кого‑нибудь слышал, что нельзя сидеть на двух стульях сразу, он чисто по–одесски парировал:
— А на семи не хотите?
Сергей Юльевич любил называть себя старым железнодорожником. В самом деле, именно с железной дороги началась крутая колея его к власти. Ну так вот, дальновидный политик, он же старый железнодорожник, предпочел спустить дело о типографии на тормозах, даром что замешаны были люди, по долгу службы обязанные подобных подпольщиков вылавливать. Из каких‑то своих хитроумных расчетов он даже выгораживал перед царем самодовольного офицера, поскольку тот всю вину принимал на себя одного.
Нет, граф Сергей Юльевич Витте не нагрянул в подпольную печатню, как советовал ему Лопухин, на Фонтанку, 16, в помещение Министерства внутренних дел, а лишь вызвал проштрафившегося ротмистра к себе в кабинет.
Между ними состоялся обстоятельный разговор.
Председатель Совета Министров( протягивая прокламации). Это ваша работа?
Жандармский офицер. Так точно.
Председатель. Кто распорядился?
Офицер. Оборудовать распорядился полковник Рачковский.
Председатель. Оборудовать?
Офицер. Приобрести машину–бостонку, подобрать типографщика, обить комнату пробкой.
Председатель. Для беззвучности?
Офицер. Для сохранения в тайне.
Председатель. Сколько было отпечатано штук?
Офицер. Одна тысяча экземпляров.
Председатель. Кто распространял их?
Офицер. Не могу сказать точно. В Петербурге, знаю, через «Союз русского народа», дубровинский[12], а в Москву отвозил в декабре сам Рачковский.
Председатель. Вот что, ротмистр. Вы должны немедленно уничтожить печатный станок и вообще все следы. Имейте в виду, вас будут допрашивать. Прокурор Камышанский и… полковник Рачковский!..
Положительно, дальновидный политик не желал наживать себе лишних врагов. И тем более в могущественном департаменте. Можно было бы счесть, что его тонкий замысел спустить дело на тормозах увенчался успехом, когда бы месяцем позже некий скользкий благожелатель, связанный с этим же департаментом, не прислал ему отпечатанную, на сей раз с законного разрешения цензуры, дубровинским «Русским знаменем» новую погромную прокламацию, что продавалась вполне открыто на улицах. А в ней содержался прямой выпад против председателя Совета Министров как главного врага русского народа и главного помощника жидовского с его жидовской женой.
6. «Юго–западный железнодорожник»
Концерт затянулся допоздна. Фигнер бисировал и бисировал, а публика не желала отпускать певца. Переполненная впечатлениями, с несмолкающей музыкою в душе подъехала Матильда Ивановна к дому, и тут ее как ударило.
Толпа полицейских чинов у входа… И в вестибюле…
Не скинув мантильи, подбежала к мужу, такая крохотная с ним рядом.
— Ты жив? Ты здоров? Что случилось?!
Он, как мог, пытался успокоить ее, не скрывая, однако, подробностей происшедшего.
Да и старик истопник, и прислуга, еще не вполне придя в себя, в который раз принялись излагать, как все было.
— Слава Богу, все живы–здоровы, это главное, — причитала Матильда Ивановна.
А оставшись с Сергеем Юльевичем вдвоем, воскликнула потрясенно:
— А если бы Вера была дома?!
— Но Верочка давно уж не приезжала, — утешал ее Сергей Юльевич, — и смею тебя уверить, что тот, кто затеял свое грязное дело, прекрасно учитывал это.
Всему Петербургу, разумеется, было известно, что дочь Сергею Юльевичу неродная, что женился он на разводке, с ребенком, и это в свое время едва не сделалось поводом для большого скандала. Сей факт из жизни Сергея Юльевича был так же окутан сплетнями, слухами и пересудами, как многие другие. Само имя графа Витте купалось в некой ауре, совершенно притом не ангельской…
Когда молодой министр предложил своей избраннице руку и сердце, подобного рода браки в свете отнюдь не одобрялись. И Витте вынужден был поступить согласно неписаному этикету. Сообщив государю императору, отцу нынешнего, о своих намерениях, выказал готовность немедля подать в отставку. Император Александр III благоволил своему протеже. Сделал вид, что ничего особенного не услышал.
— Я имею дело с министрами, а не с их женами. Женитьба — ваше личное дело.
Зато его окружение заклокотало. Как! Этот выскочка, парвеню, этот делец, неизвестно как взлетевший из грязи… ну не в князи, а, впрочем, может быть, даже выше того — в министры, да ради такого умнейшие и опытнейшие сановники тратят едва ли не целую безупречную жизнь, а этот делец железнодорожный в довершение всего имеет наглость тащить за собой еще и свою даму с весьма… — извещали под рукой всезнающие шептуны, ужасно округляя глаза… — с весьма, знаете ли, сомнительным прошлым!.. Вполне довольно того, что из этих… Крещеная! Ну и что, эка невидаль, известное дело, что вор прощеный, так еще и… — тут нашептывалось такое, от чего дамы закатывали глаза, якобы готовые вот–вот упасть в обморок. Дошло до верхов. Молодая царица отказывалась принять у себя сомнительную министершу. «Твои дуры наговорили Бог знает что, — будто бы сказал ей на это молодой царь, — а она порядочная женщина, хотя и «разводка»… Тогда дуры принялись собирать подробности, ровно пыльцу пчелки… И про самого молодого министра зашушукались, уж и он не из этих ли… про то давно уж судачат.
Как‑то раз после очередного доклада государь Александр Александрович поинтересовался с присущей ему прямотой:
— А правда, говорят, Сергей Юльевич, что вы за евреев?..
В столичные высокие сферы он ворвался, подобно нежданной комете, действительно принят был старожилами этих сфер как чужак, как пришелец из неизвестных миров. «Счастливчик, — кривились завистники за спиной. — Просто случай его вынес!» Верно, случай ему сильно помог, но ведь одного такой случай в самом деле вознесет высоко, а другого вполне погубить может…
В 1888–м, 17 октября, — заметьте, 17 октября, судьбоносная для него дата, — под Харьковом, на станции Берки, потерпел крушение царский поезд. Царь с семьей только чудом спаслись. Когда стали на следствии разбираться в причинах, император вдруг вспомнил, что катастрофу уверенно предсказал до того, должно быть, за месяц тот верзила железнодорожник: напрямик заявил, что не хочет ломать голову государю.
…Начальник эксплуатации Юго–Западных железных дорог в их пределах был обязан сопровождать царский поезд. Ничто не вызывало столько хлопот и волнений, чем эти поездки. А в то лето и осень государь собирался проехать у них трижды. По расписанию, составленному в Петербурге безо всякого учета тяжести громадного поезда, надлежало мчаться со скоростью легкого пассажирского, а тяжесть была, с какой и двум пассажирским паровозам не справиться. Приходилось цеплять два товарных… А они на больших скоростях могли так расшатать путь, что того и гляди будет крушение. Витте подал рапорт министру с требованием изменить расписание. Изменили. Но на первой же станции император выразил неудовольствие черепашьей ездой по жидовской дороге. На других дорогах ездят же быстро!..
В те годы крушения случались нередко. Как всякое последнее слово прогресса, движение по железным дорогам было еще не вполне освоенным и привычным.
Узнав от собственного начальства о высказанном царем недовольстве, вот тут‑то верзила железнодорожник громогласно, на весь перрон объявил:
— Знаете, ваше превосходительство, пусть другие делают, как желают, а я государю голову ломать не хочу!
Император Александр III человек был простой и грубый. Ростом тоже Бог его не обидел. Он запомнил того верзилу. Дерзкое заявление прекрасно расслышал, но виду тогда не подал. А когда предсказанное сбылось, то велел кому следует навести о нем справки. Оказалось, что это тот самый провинциал, который сразу после гибели императора Александра II предложил создать «Священную дружину»!..
От царской же службы был позднее отставлен… по дерзости.
…О злодейском убийстве царя–освободителя Сергей Юльевич (он жил тогда в Киеве) узнал в тот же вечер 1 марта в театре. Спектакль долго задерживался, в зале начали волноваться. Наконец на сцену вышел управляющий театром и прочел телеграмму из Петербурга с ужасным известием. Поднялся страшный переполох… В ту же ночь Сергей Юльевич написал письмо своему дяде Фадееву[13], человеку, близкому к наследнику, которого случившаяся трагедия возвела на престол.
«…У меня в паровозной мастерской, — писал дяде–генералу племянник–железнодорожник, — есть громадный паровой молот, от удара которого большущий кусок железа обращается в тонкий лист. А вот если подложишь крупинку, то, сколько ни бей, ничего ей не сделается. И с анархистами так же: вся мощь государства не может справиться с ними, бороться же надо их собственным оружием, отвечать на подлые покушения и убийства такими же гнусными действиями. А для этого составить сообщество людей безусловно порядочных, готовых пожертвовать собою ради своего государя…»
Ответ последовал без задержки — сначала от дяди о том, что письмо уже находится у нового государя, затем министр императорского двора телеграммой вызвал Сергея Юльевича Витте в Петербург.
К его приезду секретное сообщество уже было создано. В роскошном дворце на Фонтанке, в огромном кабинете средь стен, увешанных серебром и оружием, в присутствии сразу двух великих князей граф Боби Шувалов принял от молодого провинциала присягу перед иконой: «…Во имя Отца и Сына и Святого Духа вступаю отныне в «Священную дружину» и посвящаю себя всецело охране государя, а вместе с тем разоблачению крамолы, позорящей русское имя… В чем клянусь на пресвятом кресте и Евангелии памятью родителей, жизнью жены и детей и собственною моею честью. Аминь…»
Имея задачу уловления крамольников на юге России, к себе в Киев он возвратился главным для Киевского района, снабженный шифрами, наставлениями и тайными знаками, по коим члены дружины должны были узнавать друг друга.
К несчастью, а возможно и к счастью, пора охранителей–добровольцев оказалась весьма недолгой. «Священная дружина» не протянула двух лет, не снискав каких‑либо лавров. Пересилили традиционные охранительно–бюрократические учреждения. Но время, однако же, показало, что преданность государю незамеченной не остается. Отстраненный, по причине дерзости, титулярный советник получил назначение директором департамента в Петербург в чине действительного статского. Это — как из поручиков в генералы…
Ну а что до дерзости этой самой, так перед тем предварительно ее историю прояснили.
По службе на Юго–Западных дорогах Витте постоянно соприкасался с дорогой на Пруссию, на Кенигсберг. И однажды получил из министерства, из Петербурга, неожиданное извещение, что германский император пожаловал ему орден Прусской Короны. При этом министр путей сообщения просил его превосходительство доложить, за что именно император Вильгельм его наградил.
На это «юго–западный железнодорожник» не без одесского юмора отписал в Петербург, что удивлен министерским вопросом, так как орден ведь не он дал Вильгельму, а, напротив, Вильгельм дал ему, и поэтому логичнее было бы обратиться к кайзеру, почему его величество так поступил. Сам же он, С. Ю. Витте, объяснить это не в состоянии, поскольку никаких заслуг ни перед императором Вильгельмом, ни перед Пруссией за собою не знает.
Императору Александру Александровичу, прежде чем утверждать «юго–западного железнодорожника» в новой должности, демонстрировали нахальный ответ… Тем не менее император заметил, что ему норовистые по душе, — и назначение состоялось.
7. «Священная дружина»
Когда графиня Матильда Ивановна вернулась из концерта домой, жандармский ротмистр Комиссаров еще возился с извлеченным из печки ящиком. Во избежание больших неприятностей действовать следовало с превеликой осторожностью и осмотрительностью, так что ротмистр не спускал с ящика глаз.
Постепенно, по мере того как раздвигали в стороны доски, глазам представал часовой механизм. Он походил на домашний будильник, был установлен на девять часов и соединен с детонатором, тем самым, «горлышко» которого разглядел подслеповатый Гурьев. На деле горлышко оказалось стеклянною трубкою с кислотой… Подозрение подтверждалось: в печь спустили взрывное устройство, почему‑то вовремя не сработавшее. Ведь было уже около одиннадцати ночи. И страшно даже себе представить, какую побудку мог бы устроить этот адский «будильник».
К этому часу в полицейской команде, заполонившей виттевский особняк, ротмистр уже не был старшим. Прибыл его начальник полковник Герасимов с целою свитой полицейских и судебных властей. Закрутилась обычная их канцелярия — допросы, составление протоколов.
Сергей Юльевич невольно подумал, что, случись происшествие на несколько месяцев раньше, наверняка не обошлось бы без непременного в подобной обстановке Рачковского. При Столыпине, однако, тот снова вышел в тираж, ненадолго отстав, таким образом, от самого Сергея Юльевича… Между тем по Петербургу ходили упорные слухи, что Рачковский в отстранении Витте сыграл не последнюю и, как всегда, закулисную роль.
Его профессией было держаться в тени, на свет Божий он показывался редко, ненадолго и, по возможности, наверняка… точно «бог из машины». В 1905–м его пригрел всемогущий Трепов, даже поселил у себя на квартире. В 1906–м примеру Трепова последовал Горемыкин, сменивший Сергея Юльевича на месте председателя Совета Министров. Вообще в деяниях таинственного полковника не всегда легко было отделить интерес личный от государственного. Нечто схожее нередко происходило и у Сергея Юльевича. И уж если их карьеры в конце оказались словно бы как‑то сопряжены меж собою, то тем более это просматривалось в начале. Ну что, казалось бы, общего у бесшумного, неприметного офицера тайной полиции с тем солистом на политической авансцене, каким на протяжении полутора десятилетий выступал Сергей Юльевич Витте?! Даже так пошучивали в Петербурге, что при нем правительство стало писаться через два «т»! (Не одни документы коллекционировал Сергей Юльевич, анекдоты о себе тоже, и статьи, и даже бесчисленные карикатуры — складывались тома…) И все же некий общий знаменатель столь несхожих на первый взгляд судеб можно было при большом желании отыскать.
Эти два человека — будущий государственный муж и будущий сыщик — вполне могли повстречаться, ну хоть в той же «Священной дружине»… да и раньше, в Одессе… впрочем, там не случилось. Конспиративный же характер тайного общества не поощрял к знакомствам. В лучших традициях каких‑нибудь карбонариев или масонов братья дружинники, на кресте поклявшись охранять священную особу государя императора и бороться с крамолой, взамен имени получали номер. Каждый брат мог знать еще только одного человека — своего «старшего брата».
Энергичный Сергей Витте, под номером 113 став старшим братом пятерки, занялся в Киеве вербовкой политической агентуры для уловления крамольников на юге России (не слишком, впрочем, успешно), а также сообщал о настроениях среди южан в донесениях Набольшему в Петербург. Плюс к тому, под кличкой Антихрист, он участвовал в деле, что, по сути, являлось литературною провокацией. Издавали своими силами газеты разной степени резкости, как бы яро спорящие между собой. Цель была опорочить в революционных кругах народовольческие взгляды, а заодно эти самые круги между собой перессорить… Так что данный царю совет бросить кость, чтобы недруги из‑за нее перегрызлись, родился не на пустом месте — даже если сам советчик и не сознал, что использует давний «дружинный» опыт.
Тот же опыт прокладывал Петру Рачковскому его будущую стезю… А 113–й номер чуть было не предвосхитил его карьеру, очутившись в Париже для убийства известного террориста.
Он, собственно, не догадывался о цели поездки. В Киеве ему сообщили, что указания получит на месте. И действительно, в Париже узнал о некоем человеке, который потерпел неудачу при попытке взорвать царский поезд Александра II[14], а теперь готовит новое покушение, уже на молодого царя. Оказалось также, что задание предстоит выполнять вдвоем. Однако дело затягивалось. В Петербурге, как выяснилось, колебались… А к тому же охота на Человека (113–му его показали) на практике выглядела довольно‑таки мерзко… Проведя в Париже дня три и не дождавшись распоряжений, 113–й отправился восвояси. Операция с его участием не состоялась. Оградил Сергея Витте Господь от осуществления собственной его идеи…
А вот Петр Иванович Рачковский два–три года спустя с подобными поручениями справлялся успешно…
Так могли ли они судьбами поменяться? Жесткие рамки полицейского тайного общества для деятельной, властной натуры Сергея Витте оказались невыносимо тесны, она выламывалась из них, тогда как Рачковский обрел себя в этом. И то, наверно, сыграло роль немаловажное практически обстоятельство, что он находился у своих наставников на привязи. Когда «дружина» через год или два, к немалому облегчению Витте, благополучно скончалась, а на смену охранителям–добровольцам понадобились профессионалы, тут Рачковский раскрыл свой талант. Наступило его время на почтенном поприще провокаций и сыска.
А привязь была исключительно, до банальности, обыкновенной для успехов на избранном поприще. После покушения на генерала Дрентельна, шефа Третьего отделения собственной его величества канцелярии (предшественника департамента полиции), туда поступили сведения о связях с этим террористическим актом некоего подвизающегося в разных газетах писаки. Имевший репутацию революционера в студенческих кружках, потомственный дворянин Рачковский (о нем и шла речь) был взят и — согласился сотрудничать. А уже позднее — не исключено, что по наущению тех же хозяев, — поучаствовал в «Священной дружине».
…Революционные увлечения, арест, вербовка. Кто только в сыскном ведомстве не повторил этот путь! Сергея Юльевича Бог миловал и от таких поворотов. В университетские годы он, правда, чуть не угодил за решетку… впрочем, по совершенно иной статье. За негласную студенческую кассу, которой его выбрали руководить. Обошлось. Но начало его финансовой карьеры, таким образом, сложилось не слишком удачно.
Между тем Рачковский развернул свою деятельность именно из Парижа, и дела, какие ему удавались с успехом, не чета были любительским спектаклям «дружины»… Разгромил — заодно и разграбил — типографию «Народной воли» в Женеве. Чтобы скомпрометировать русских эмигрантов, подослал агента пошвырять бомбы в Бельгии. Затеял громкий процесс против эмигрантов в Париже, сам подбив их — опять же через агента — заняться изготовлением бомб. Это были проявления, так сказать, полицейского духа. Имелись и литературные успехи, до них далеко было дружинному «Вольному слову» или псевдолиберальной брошюре против «Народной воли».
Смолоду завзятый шутник и выдумщик, Петр Иванович даром что служил все больше по почтовому да по канцелярскому ведомству, где, казалось бы, выдумкам какое может быть место. Однако же озорник и выдумщик до поры до времени талантливо притворялся канцелярским служащим, так же, как, к примеру, яростным пропагандистом в студенческих кружках, возможно и сам еще не сознавая, что все это для него не более чем игры. Жестокий и беспощадный игрок скрывался под личиной улыбчивого, добродушного увальня, компанейского, свойского, любителя девочек и застолий. Лишь тот, кто узнавал его ближе, что мало кому удавалось, за мягкостью его и вкрадчивостью мог разглядеть ум и волю сильного зверя, этакого прячущего когти тигра. К тому же вдобавок был мстителен и с девочками, до коих охоч был, расправлялся жадно и быстро, быть может, в отместку за неудачную попытку жениться по неземной любви. Богиня втоптала любовь его в грязь, в нечистоты, из своей солнечной, жаркой, бесстыжей Одессы сбежав от него — с кем! — с евреем–выкрестом, с вором прощеным… Не потому ли, заагентуренный жандармским светилом Судейкиным, пристроился выпущенный на волю Петр Иванович в редакции затеваемого соответствующей публикой еженедельника «Русский еврей», чтобы между прочим познакомиться с этим племенем изнутри?.. Заодно не откладывая воспользовался возможностью напечатать в типографии у тех же издателей Бермана и Рабиновича собственное сочинение о… Китае. Отродясь там не был и близко не подходил и сочинял‑то чуть ли не на пари, а читатель «Небесной империи и ее обитателей» вполне мог подумать, будто автор исколесил те далекие земли и поперек и вдоль, тогда как на самом деле, пока еще безобидно резвясь в Петербурге, он всего лишь перетасовал заметки подлинных путешественников.
На новом поприще, увы, первый же блин вышел комом. Шпион «Народной воли» известный Клеточников[15] раскрыл новоиспеченного агента перед своими дружками, и пришлось Рачковскому второпях, дабы скрыться, пропутешествовать‑таки из Петербурга не в Небесную, понятно, империю, но в Галицию все же. А коллеги по сыску заподозрили, что он и вообще Дурачковский. С этим поспешили, однако. Минул всего лишь год с небольшим, как он всплыл в «Священной дружине». А затем и вовсе вступил в полицейскую службу. Правда, снова попался, как бы подтвердив подозрения коллег… Жандармское расследование в Киеве — о революционных воззваниях, распространяемых среди рабочих, — вывело на некоего интеллигента, который проживал, как выяснилось, по подложному паспорту. Зацапали человек тридцать, и все в один голос показывали на него. Но когда разобрались, «интеллигент» оказался агентом Рачковским. Знакомую роль пропагандиста он исполнил настолько искусно, что Судейкин его отметил. Вскоре неудачливый агент возглавил заграничную агентуру в Париже.
Произошло это после убийства народовольцами его крестного (сам считал так) отца. И уж тут его дурачества не раз прогремели, в том числе и в прямом смысле, как, к примеру, при взрывах в Брюсселе. Впрочем, даже самые оглушительные из них не доставляли и доли того удовольствия, какое испытывал Петр Иванович от дурачеств литературных. Например, от письма раскаявшегося революционера П. Иванова, широко распушенного по рукам, с чистосердечным признанием, будто бы чуть не все террористы — евреи. Возмущенные эмигранты ломали головы над загадкой, кто ж такой этот П. Иванов, и агенту из их среды доносили про то исправно, а довольный проделкою Петр Иванович потирал руки. Не могли, дурачье, докумекать: П. Иванов — это П. Иванович… фокус прост.
Потом случалось выдумывать и посложнее.
«Г. Плеханов» — кому не известный! — обличил в публикации подобных признаний руководство «Народной воли», И в ответ «другие революционеры» ополчились на Г. Плеханова… Но на самом‑то деле это все один лицедей озорничал–развлекался… А позднее затеял интригу еще хитроумней. Объяснил о создании некой «Лиги спасения России» от грозящей ей революции — по образчику «Священной дружины» — и призвал французов своими франками ее поддержать. Затем же ничтоже сумняшеся обвинил… шефа охранки Рачковского в искажении целей «Лиги» и ее действий. На сем его фантазия не иссякла, и он выразил вдобавок надежду, что месье женераль еще признает свои заблуждения и «Лигу» по заслугам оценит… не двойная уже комбинация, а по меньшей мере тройная изобретательного месье!
«Женералем»именовали Петра Ивановича многие русские парижане, он и сам успел парижанином стать, француженка–католичка принесла ему законного сына. Вполне приличное общество собиралось на его вилле в Сен–Клу, и месье женераль задавал там лукулловы пиршества[16]. Ведь не только упражнялся в изощренных интригах да с бомбистами тайно в кошки–мышки играл. Не без прибытка и поигрывал на бирже, и посредничал в финансовых сделках…
Сергея же Юльевича Витте эпопея «Священной дружины» не выбила из железнодорожной его колеи. Отвлекла, но не более, и то ненадолго, так что службы он даже не прерывал. Однако — это выяснилось позднее — в карьере его сыграла не последнюю роль. Крушение царского поезда в Берках, которое Витте пытался предотвратить, надоумило кого следует вспомнить об участии его в «Священной дружине». Что и было ему без промедления зачтено.
Покамест Петр Рачковский свою предприимчивую натуру проявлял столь разносторонне на берегах Сены, собрат его по «дружине» из защитника патриархальных исконных устоев успел превратиться в яростного их реформатора, из славянофила — в западника, из железнодорожного служащего средней руки — в могущественного министра на берегах Невы.
Но еще немало воды утекло — и в Неве и в Сене, — прежде чем державный министр обратился к мало кому известному офицеру. Не сам, понятное дело, через одного человечка, что от его лица попросил сыщика об услуге. А услуга догадаться нетрудно какая. Разумеется, выследить… Выследить некоего профессора–эмигранта, нападавшего с яростью на министра, на его политику… и не только… Ну и некоторые существенные документики раздобыть бы при этом (сиречь — выкрасть) неплохо.
Как на грех, однако, перед тем незадолго не захотел министр поддержать один проект весьма прибыльный, в коем кровный интерес имел сыщик. Так совпало… Но хоть было это в нарушение неписаных деловых правил, тот не стал считаться по мелочам, согласился‑таки оказать со своими людишками требуемую услугу.
8. Дружеская услуга
Все проделано было без сучка без задоринки. Как положено, установили за виллой на Женевском озере наружное наблюдение, терпеливо дождались, когда профессор убудет, и в его отсутствие преспокойно обчистили дом, озадачив местную полицию неразрешимой загадкой, что за воры такие: ни на что не польстились, кроме никому не нужных бумажек.
А вот Петр Иванович к сим бумажкам отнесся с большим любопытством. До того как отправить по назначению в Петербург, погрузился надолго в их изучение. И не напрасно. Беспокойный профессор, известный в России как Илья Фаддеевич Цион, а в Париже как Эли де Сийон, плодовитый писатель и памфлетист, составил себе имя совсем на другом. Сделал крупное научное открытие в физиологии, занял кафедру Сеченова в Медико–хирургической академии. Что Циона заставило променять науку на публицистику, даже Петр Иванович толком не знал, зато знал, что повсюду это имя сопровождали скандалы. Академию он оставил после поднятого против него студентами бунта, в Министерстве финансов (куда по протекции отставного профессора взяли) он впутался в какую‑то историю и, покинув следом Россию, печатно набросился на прогнавшего его министра (Вышнеградского, предместника Витте), а потом, с нараставшим ожесточением, и на Сергея Юльевича самого… Уже здесь, в Париже, ославился громким бракоразводным процессом, бросив жену (еврейку, кстати, и из Одессы) ради красотки–актрисы. И конечно, для Петра Ивановича имело значение, что этот ревнитель православия, славянофил, был и сам вор прощеный, еврей–выкрест.
Поговаривали, что Витте отказался возвратить изгнанника я министерство, отчего на него тот и взъелся. Статью за статьей, за брошюрой брошюру, по–русски и по–французски, когда с намеками, а по большей части впрямую, в выражениях не стесняясь, принялся строчить филиппики против него. Возможно, не мог ему также, подобно многим, простить измены — прежнему с ними единомыслию. Вошедший в силу Витте нападки недолго терпел, по его настоянию пасквилянта лишили российского подданства. Тот в ответ лишь сильней разъярился, его новые памфлеты стали жалить прямо с обложки: «Куда временщик Витте ведет Россию?», «Витте и его проекты злостного банкротства…». Заткнуть брызжущий ядом фонтан не удавалось. Вот Сергей Юльевич и решил обратиться к полицейскому гению Петра Ивановича…
Ну а Петр Иванович со свойственной ему любознательностью почерпнул кое‑что примечательное из раздобытых на швейцарской вилле трофеев. По Циону (Сийону) выходило, что «главный самодержец России в данную минуту», он же «кровный нигилист» Витте, подготавливает катастрофу с целью подвергнуть Россию… социалистическим опытам. И делает все, чтобы ускорить отплыв русского золота за границу. Каковы же наступают последствия от расстройства финансов и экономического разорения, показала‑де история французской революции!..
Еще более того занимательными показались Петру Ивановичу ционские изобличения цинических способов завладения властью, излюбленных, по его разумению, Витте. Чем‑то повеяло от этих рассуждений бесконечно знакомым, все эти мысли о величайшей силе золота на земле, о хозяевах капитала и биржи, прививающих вольнодумство, скептицизм, дух коммерции и спекуляции… путем подкупа управляющих прессой… Ах да, разумеется, Петр Иванович вспомнил, еще бы ему не вспомнить: речь раввина на еврейском кладбище в Праге из того немецкого романа, что не так давно сам использовал для Записки о тайнах еврейства. Составляли для питерских сфер в скором времени после суда в Париже над Дрейфусом[17]. Вор прощеный, видать, из того же источника черпал… впрочем, нет, или, вернее, не только лишь из того. Перебирая свои трофеи, Петр Иванович наткнулся и на другой. На аккуратные, по–профессорски, выписки из (надписано было) сатиры Мориса Жоли на императора Франции Наполеона III под названием «Диалог в аду». Разглагольствовали духи двоих мудрецов. О деспотизме и либерализме, о государстве, формах правления и природе власти. И опять: сила золота, капитал, возбуждение к ниспровержениям…
«…Государственный переворот, который я совершу, я ратифицирую народным голосованием… С помощью голосования я установлю абсолютизм одним росчерком пера… Я учредил бы громадные финансовые монополии, от которых все частные состояния зависели бы настолько, что были бы поглощены на другой день после политической катастрофы… В этом обществе нет другого культа, кроме культа золота… Власть должна привлечь к себе, все силы и таланты, окружить себя публицистами, юристами, администраторами… Как бог Вишну, моя пресса будет иметь тысячу рук, и эти руки будут дотягиваться до самых разных оттенков мысли… Имеет ли политика что‑либо общее с моралью?!»
Что какой‑то француз Жоли, целясь во французского императора с его «макиавеллизмом XIX века», вложил в уста Макиавелли и Монтескье (один из которых оставил этот свет задолго до появления другого), тем ционские мудрецы слово в слово поражали ненавистного Витте! А поскольку в профессорских выписках мудрецы изъяснялись понятно что по–французски, то невольно и Петр Иванович по–французски же стал размышлять над заемною проницательностью сийонских мудрецов… покуда в голове у него не мелькнуло: здесь, поблизости, в Швейцарии, в Базеле, о сю пору заседает конгресс сионистов… вот уж где диалоги в аду! — и с проказливого языка сам собою слетел каламбур: не сийонские — сионские мудрецы!
Перед тем как добытые бумаги отсылать в Петербург, Петр Иванович заказал себе копию этих выписок из Жоли, углядев в них желанное объяснение мировых неурядиц. Заправилам зловещего заговора против христианского мира слова об изощренной тактике овладения властью прямо так и просились в уста!
Лукавое воображение разыгралось вовсю. Будто бы не с дачи борзописца–профессора удалось выудить измышления озлобившегося ума, но секретнейший документ из сверхтайного хранилища! Главной канцелярии сионской!! Протокольную запись тайных заседаний с речами, в которых ораторы благодаря профессору с умом рассуждают о могуществе денег, установлении монополий, о подкупе прессы и экономических войнах… Ай да ловко придумал Рачковский!
Оставалось подобрать изготовителей с бойким пером, ну, этакой публики среди парижских агентов не приходилось искать, было б чем расплатиться. Обреталась между ними и достойная дама, якобы раздобывшая секретнейший документ в Ницце, этой столице иудейской… а на самом‑то деле для переброски в Россию ей врученный — самолично Рачковским!..
А там уж пошло–поехало.
Петр Иванович радовался, потираючи руки, значит, так, ха–ха, получилось. Первым делом какой‑то Жоли потревожил великие тени, дабы куснуть императора побольней. Затем профессор–подлец перелицевал Наполеона III а Витте. А уж Петр Иванович в свой черед, ха–ха, в мудрецов сионских… Ай да каверзник, ай да Рачковский! И поди‑ка следы отыщи. Быть замеченным по служебному положению не полагалось, тут уж, как говорится, увольте! Ни в каком случае, а тем паче в подобном!
Так что даже когда к Витте сие произведение в конце концов и попало, откуда ему было знать, что имеет к тому касательство сыщик Рачковский, и не только он; косвенно, через Рачковского, через его дружескую услугу, и сам, не ведая того, Сергей Юльевич… Здравый смысл, однако, вынудил его, по прочтении сразу же, усомниться, обратиться к присяжному поверенному, известному ходатаю по еврейским делам, с просьбой высказать мнение, впрямь ли подлинны эти злокозненные, мистические «Протоколы…».
9. Среди воротил
Министр свой заказ получил, но, похоже, благородства сыщика не оценил в должной мере.
Парижская позиция главы заграничной агентуры открывала исключительные возможности для налаживания необходимых связей… и их использования. Цели этого могли быть весьма далеки от служебных, но от этого вовсе не менее, а частенько даже куда более важны… В те годы небывалого промышленного подъема в России строительство железных дорог, и в первую очередь Великой Сибирской, равно как питающих его заводов железоделательных, паровозных, машиностроительных да Бог весть каких еще, Жаждало капиталов и капиталов. Выручка от хлебного вывоза оказывалась для этого совершенно недостаточной… А европейские дельцы в то же время, промышленные и банковские, рыскали в поисках приложения своим франкам, маркам и фунтам. Российский предприниматель ринулся им навстречу в рассуждении, у кого бы занять повыгоднее и побольше. Правительство стало всячески поощрять иностранные займы. «Сибирская магистраль возводится на деньги европейских кухарок», — острил Витте. В фокусе, в эпицентре взаимно пересекающихся интересов оказался Париж. И надо было быть действительно Дурачковским, чтобы не поживиться на этом.
Одно дело сорвется — наклевывается другое.
Гудящим роем вились возле российских министров привлекатели толстых карманов. Рачковский, один из таких, посредничал в «Княжеском деле» — проекте князя Белосельского–Белозерского (знакомого еще по «Священной дружине») построить паровозный завод в имении близ Сибирской дороги. Комиссионные при успехе сделки не шли ни в какое сравнение с сыщицкими доходами. Главное, что требовалось от него, — обеспечить правительственный заказ… Даже страсть Матильды Ивановны Витте к аристократическим знакомствам была пущена в оборот. Ее ловко свели с княжной Белосельской… Ловко‑то ловко, однако же тщетно… Дамы вдосталь пощебетали об общих знакомых, о модах и театральных премьерах и об отдыхе на водах… Для продвижения к цели княжна не проявила достаточно изощренности, а Матильду Ивановну никто не мог упрекнуть в нехватке ума. Она без труда раскусила, в какую комбинацию ее попытались вовлечь… Без сомнения, ее Сергей Юльевич был, должно быть, наиболее деятельным сторонником притока капталов из‑за границы, высмеивая доводы тех, кто опасался порабощения иноземцами матушки–России. По его разумению, за патриотической маской скрывалась, как правило, простая боязнь конкуренции… При всем том министр финансов вовсе не допускал, что процесс может происходить сам собою, стихийно. Но — и тут была зарыта собака — контролировать иностранный капитал желал сам, минуя лишних посредников…
Он показывал это наглядно и недвусмысленно. Показал, к примеру, в деле Кругопетербургской железной дороги, где также не обошлось без Петра Ивановича Рачковского.
Проект такой дороги вокруг Петербурга представил некий молодой инженер. Среди прочих выгод постройки особо заманчивым выглядело избавление города от наводнений — дорога потребовала бы засыпки низменных мест в гавани, на Смоленском поле, — фактически сооружения дамбы, которая защитила бы от вечной угрозы. Помимо технической продумана была и не менее важная финансовая сторона. Предприимчивый инженер не просто подкрепил свой проект идеей акционерного общества с иностранным участием, но о том договорился с самим Базилем Захаровым, «людишки» Рачковского свели их между собой в казино в Монте–Карло… За предприятием, поначалу увлекшим самого государя, все явственнее проступала фигура патрона Рачковского, министра внутренних дел Горемыкина (министром, кстати, в свое время назначенного вопреки совету Сергея Юльевича).
Сын русского и гречанки, торговец оружием, компаньон фирмы «Виккерс», поставщик военного и морского ведомств, миллионщик, авантюрист, сэр Базиль Захаров вскоре явился в Петербург собственною персоной. Принимали тороватого гостя и Горемыкин и Витте, от которого, как от министра финансов, зависели правительственные гарантии создаваемому синдикату. Без гарантий вкладывать капиталы было бы, по деловому канону, неоправданным риском. Однако Сергей Юльевич с гарантиями‑то как раз и не захотел торопиться. Довольно‑таки бесцеремонно вторгаясь в виттевскую епархию, на сей раз, по мнению Сергея Юльевича, «его высокобезразличие» Иван Логгинович Горемыкин проявлял излишнюю прыть.
У министра финансов имелись в Европе собственные глаза и уши. В то время как Горемыкин приказал Рачковскому наладить слежку за агентами Министерства финансов, имея в виду подпортить марку чересчур много взявшему на себя Витте, Сергей Юльевич в свой черед дал своим агентам встречное поручение… Сэр Базиль же, оценив ситуацию, выделил ни много ни мало тринадцать миллионов из собственного кармана на… одоление бюрократических рифов. Не забыт был при этом ни Горемыкин, ни петербургский градоначальник, ни даже Витте… Чтобы к нему подступиться, стратеги придумали замечательный ход. Предложили всего лишь три миллиона… лейб–акушеру, близкому к царскому дому и одновременно к семейству Витте, дабы расположил Сергея Юльевича в их пользу. Для профессора задача оказалась посложнее вспоможения при родах или пользования женских недомоганий. Тем более что лондонский агент Министерства финансов проявил себя куда более расторопным, нежели парижские агенты Министерства внутренних дел. К моменту, когда их министр в сопровождении пышной свиты прибыл на переговоры с сэром Базилем и на борту роскошной его яхты наслаждался обществом сэра в компании самого греческого короля, Сергей Юльевич уже располагал уличающими Ивана Логгиновича документами… В итоге тот из своего турне воротился без министерского кресла.
Обскакал Рачковского лондонский агент Витте…
Этот Татищев был весьма колоритной фигурой, дипломат, публицист, историк, личность своенравная и авантюрная. Служа в российском посольстве в Вене, фактически им управлял, однако не слишком стеснял себя дипломатическим этикетом. Открыто сожительствовал с опереточной дивой, на коей, впрочем, впоследствии и женился. Когда началась война с турками, не счел нужным скрывать неприязнь к Германии и под давлением Бисмарка[18] вынужден был с веселою Веной расстаться. Отправился на войну. «Георгия» на грудь заслужил. Вернувшись, сотрудничал в «Новом времени» у Суворина[19] и написал объемистую историю царствования Николая I. И все, что ни делал, получалось будто играючи… Тянулась за ним и неясная тень от продажи каких‑то бумаг иностранцам, и этому, впрочем недоказанному, обвинению поверил царь Александр III… А Витте столь двусмысленному человеку предложил стать своим агентом. И он Сергею Юльевичу исправно рапортовал, как путешествует по Европе Горемыкин со свитой, к которой в Париже пристал и Рачковский. Как входит в соглашения с промышленными фирмами, за что свита получает существенные промессы[20], и Горемыкину, по меньшей мере, про то известно… Словом, лихо использовал старый свой, еще до дипломатии — и до Горемыкина, — опыт службы по Министерству внутренних дел и раздобыл выразительные документы. Среди них, кстати, письмецо Рачковскому от его доверенного агента с любопытными характеристиками и Горемыкина, и самого Сергея Юльевича… Так что Петр Иванович свою партию проиграл вчистую, одно утешение было, что достался ему достойный соперник.
Из добычи Татищева, в частности, следовало, что за сотрудничество синдикат сэра Базиля вознамерился добиться концессии куда более важной — на сооружение железной дороги Петербург — Вятка. Эта линия была предназначена в конечном счете для соединения Петербурга с Великим Сибирским путем… В скором времени на Мойке, в Министерстве финансов, не без ведома, само собой, Сергея Юльевича повел на эту тему переговоры инженер из Англии, доверенное лицо сэра Базиля. С российской стороны занимался с ним сею тонкой материей Александр Николаевич Гурьев. В самом факте переговоров, как и в намерениях иностранных дельцов, ничего необычного, в сущности, не было. И в совместно составленном в их итоге соглашении тоже… Если бы не одно особое обстоятельство. Дело в том, что прежний концессионер в ожидании суда пребывал за решеткой. Не какой‑то очередной проходимец, не рыбешка — акула, первогильдийный купец и покровитель искусств Савва Мамонтов.
В деловых кругах поговаривали в открытую, что к разорению Саввы Ивановича определенно приложил тяжелую руку Сергей Юльевич.
10. Вкус денег
Вкус денег он распробовал смолоду. Впрочем, правильнее бы сказать, если только такое возможно, не самих денег вкус, а отсутствия их.
Ему едва исполнилось восемнадцать, когда умер отец. Печальная весть настигла их с братом Борисом по дороге на вакации после первого года в университете. Отец, изучавший когда‑то горное дело, управлял казенными Четахскими заводами и рудниками поблизости от Тифлиса. Он принял их под нажимом наместника в плачевном, и весьма, положении. В надежде такое положение выправить истратил массу денег, своих и жены, наделал долгов и неожиданно умер. Беда одна не приходит. На членов осиротевшей семьи был сделан за долги огромный начет. Спустя много лет, уже управляя Юго–Западными дорогами, Сергей Юльевич все продолжал выплачивать эти деньги…
Тогда же, до окончания университетского курса, кавказское наместничество назначило бедным братьям по пятьдесят рублей стипендии в месяц. К столь скудному существованию дворянские отпрыски хоть беспоместные, хоть захудалые, а все же не привыкли. А тут еще веселящаяся Одесса искушает своими соблазнами, да и в поджаренном бифштексе с картошечкой в кухмистерской у Ящука отказывать себе не хотелось. Пришлось, одним словом, искать приработка, как каким‑нибудь разночинцам… Что ж, студент–математик стал неплохо пробавляться уроками в обеспеченных семьях. В числе учеников оказались и сыновья Рафаловича. Известного всей Одессе банкира поминали нередко, когда кто‑нибудь умничал через меру. «Ты что, умней Рафаловича?!» — мог сразить одессит одессита: или муж жену, или учитель ученика, или компаньон компаньона…
Почтенный глава дома, из выкрестов, посещал церковь возле скромной гостиницы «Неаполь», где обитал репетитор его сыновей. Даже церковным старостой состоял. Ну а фирма его была из лучших в Одессе. У старика неожиданно обнаружилась слабость к обстоятельным беседам с мосье студентом. Мосье обучал молодых Рафаловичей премудростям обращения с числами, а сам, таким образом, потихоньку набирался житейской хватки обращения с деньгами.
— Или хотите скопить себе капиталец, молодой человек, — наставлял его старик Рафалович, — так не ложите бумажки в комод, а идите купите что‑то там золотое… или часики, например, или ложечку даже!..
Старик таки усвоил на долгом опыте, в чем разница между золотом и ассигнациями. Как ни странно, впоследствии Сергею Юльевичу неоднократно пришлось убеждаться, что эта разница далеко не для всех очевидна.
Мосье студенту до этого, впрочем, пардон, было минимум интересу, но, надо отдать ему должное, он обладал завидным качеством вбирать в себя новое, точно губка.
Так было потом, на железной дороге, где он честно, хотя и стремительно, пересчитал на служебной лестнице чуть не все ступени. Разумеется, вверх! Отсиживал в кассах, грузовых и билетных, в помощниках и в начальниках станции бегал, катался контролером и ревизором, и так далее, не перечтешь должностей, пока не стал управлять всей Одесской дорогой… а после и всеми Юго–Западными дорогами. В те годы в работе построенных наспех железных дорог отмечалась масса всяческих неправильностей,все держалось, прямо сказать, на живой нитке. Но деньги там бешеные крутились, одесскому Рафаловичу, наверно, не снились такие. Конечно, в первую очередь на строительстве. Однако и при эксплуатации тоже. Особенность частных железных дорог (а тогда едва ли не все были частными) заключалась в том, что они гарантировались казной, казна, иными словами, покрывала убытки. На десятки миллионов за год! Щелей, куда проваливались миллионы, имелось немало, но, похоже, наиболее широкую представляла собой неразбериха в тарифах. Провозную плату каждая дорога назначала сама. Чем будет дешевле, тем больше желающих прибегнуть к ее услугам. Лишь слепой не увидел бы здесь возможности нагреть руки. Вы желаете отправить свой груз? А конкурент, признайтесь, хотел взять с вас по два рубля? Я готов это сделать за рубль… Ну а разницу пополам!.. Вот за этакую игру на понижение железнодорожных тарифов и расплачивалась казна. «Юго–западный железнодорожник» слеп не был. И вчерашний математик к тому же, на досуге задумавшись над теорией этой крупной игры, в свободные дни на отдыхе в Мариенбаде сочинил про принципы железнодорожных тарифов целую книжку (писал ее, как нетрудно догадаться, не сам, роль пера с успехом исполнил знаток Шекспира, критик и журналист, по дружбе пристроенный им на Одесской дороге). И нежданно–негаданно это самое сочинение открыло перед ним семафор к дальнейшей карьере!..
Он пытался на первых порах отказаться от предложенной ему чести стать директором департамента в Петербурге по финансовой части всех российских железных дорог. Из тех же финансовых соображений, прежде всего. Когда имеешь годовое содержание в пятьдесят тысяч — и это в Киеве, где жизнь несравненно дешевле столичной! — а на должности в Петербурге полагается жалованья тысяч восемь каких‑то… больно дорого обходится сия честь. Но, увы, назначить его пожелал, как ему передали, сам государь и пообещал доплачивать еще столько же из собственного его величества кошелька…
Этой должности суждено было стать на пути к министерскому креслу решающим перегоном. Так что жертва с его стороны не оказалась напрасной… Кто же, впрочем, мог такое предположить?! «Юго–западный железнодорожник» исходил совсем из другого. Из масштаба он исходил. Ведь, в конце‑то концов, что его юго–запад? Только угол огромной России. А железным дорогам, в том был Витте уверен, предстояло стянуть ее всю, точно обручами[21], воедино скрепить гигантское тело… чтобы, скажем, Дальний Восток не достался японцам или китайцам, подобно тому как досталась Русская Америка Северо–Американским Штатам… В три десятка лет тридцать тысяч верст железных линий исполосовало пространства России. Но настолько они велики были, эти пространства, необъятны, безбрежны, что предстояло еще строить и строить. А на это требовались капиталы и капиталы. И вдобавок — еще капиталы.
Между тем он попал в министры после страшного голодного года[22], и в казне было пусто, хоть шаром покати. Сгоряча он придумал строить Сибирский путь на особые рубли, сибирские, с этой целью отпечатанные специально. Его прежние единомышленники, партизаны патриотизма, встретили проект на «ура», еще бы, обстроить Россию на свои, на кровные, безо всякого там заемничанья за окоёмом! Он их скоро разочаровал. И потом никогда не любил вспоминать завиральной своей затеи и конфузился страшно, когда кто‑то случайно о ней упомянет, потому как она говорила, сколь он мало тогда разбирался в науке финансов, куда менее, чем старик Рафалович в Одессе, и не более землевладельцев–помещиков, продававших хлеб за границу и принявших золотую валюту в штыки. Им казалось, чем рубль дешевле, тем выгоднее для кошелька, ведь на то же количество франков, вырученных за свой хлеб, они больше положат в карман рублей. (А того, что самим соответственно дороже обойдутся покупки, этого сообразить не могли.) Черт возьми, бумажные деньги в самом деле обладали привлекательным для них свойством: дешевели с годами. Хоть не плавно теряли в цене, а зигзагами и скачками, но обесценивались год от года. Что ассигнация, что кредитный билет… Подноготная открылась Сергею Юльевичу только на министерском посту. Как казна ни крепилась, а от выпуска необеспеченных денег не всегда могла удержаться.
Едва успел он усесться в высокое свое кресло, как является директор казначейства с известием, что очередное жалованье платить нечем. Что же делать, говорит ему новый министр, придется выпустить кредитных билетов этак миллионов на двадцать… Сказано — сделано. И тогда приходит к министру почтеннейший Бунге[23], прежде тоже в его кресле сидевший.
— Вы, — говорит, — уважаемый Сергей Юльевич, становитесь на ужасный путь. Печатание по мере надобности новых денег приведет к полнейшему расстройству финансов!
Сергей Юльевич принялся было его уверять, что это вынужденная, чрезвычайная мера, что в дальнейшем он прибегать к ней не станет!..
И вот что мудрый Николай Христианович отвечал:
— В пашей искренности у меня нет причин сомневаться. Но, к сожалению, при этом на ум приходит та француженка, которая согрешила, а в ответ на упреки клянется, что такое с ней первый раз в жизни и более не повторится… Я, простите, не могу ей поверить. Так же в точности, как министру финансов, отпечатавшему на двадцать миллионов ничем не гарантированных билетов!..
Сколько раз он потом помянул эту ветреницу–француженку недобрым словом… до тех самых пор, пока не удалось ему восстановить в России золотое денежное обращение.
Не он первый задумался над реформой российских денег. Чтобы ее подготовить, прежде всего требовалось наполнить казну. Создать, таким образом, для реформы запас и основу. Ах как прав был одесский старик Рафалович: если хочешь скопить капиталец, покупай золотишко! У предшественников министра это не очень‑то получалось. Когда же все‑таки удавалось заключить иностранные займы, часть их шла на расплату по старым долгам, остальные — на неотложные нужды… Да и условия займов не слишком‑то выгодны были, ведь с пустою казной приходят просить, как с протянутою рукой… Русским золотом служила пшеница. Часть доходов от хлебного вывоза в виде пошлин перепадала казне. «Недоедим, а вывезем!» — кинул клич предшественник Сергея Юльевича Вышнеградский. И вывозили и недоедали, покуда хозяйство российское не давало иных источников. Даже в голодный год вывозили… А наличности все равно не хватало!
И питейная монополия внесла свою долю. Что ни говорилось бы об этом впоследствии (Сергеем Юльевичем в том числе), дескать, мера была введена ради уменьшения народного пьянства, — перво–наперво она приносила доход. Спору нет, открыли сколько‑то чайных взамен кабаков, и комитеты народной трезвости шевелились, и улучшилась пригодность пития, только в море водки, заливавшей Россию, было все это каплей. Не больше. А главное, если не лицемерить, заключалось в выручке для казны, в пьяном бюджете… Трудно было не сознавать порочности такого пути, да другого способа свести концы с концами покамест не находилось.
Даже так государственные доходы едва покрывали расходы. Статьи государственной росписи сводились со скрипом, накоплений недоставало. Получался заколдованный круг. Чтобы добиться устойчивости валюты, надо было переходить на золотую основу. Чтобы на золото перейти, необходимо было наполнить казну. Даже финансовые фокусы пошли в ход, лишь бы вырваться из этого круга. Одолеть эту стену. Фокусничали в государственной росписи: заранее уменьшали статьи доходов, чтобы в действительности выручить сумму поболе и в остатке чтобы оказалась наличность… Она, вожделенная дама сердца!..
…Когда все это было уже позади, когда он уже проломил стену и мог чувствовать себя на коне — от свободной наличности едва не в четыреста миллионов лопался государственный кошелек, — ему сделали лестное предложение прочитать курс лекций для наследника–цесаревича великого князя Михаила Александровича (это было еще до рождения цесаревича Алексея) о народном и государственном хозяйстве — политическую экономию и финансы. Нешутейное дело, в особенности для него, с его давним и притом математическим факультетом. Без палочки–выручалочки Гурьева ему бы худо пришлось. Одна наука финансов потребовала полутора десятков занятий…
Но всякий раз он приносил императорскому высочеству заранее составленный «пером министра» конспект. С такой подготовкою можно было позволить себе развернуться!.. И, оглядываясь далеко–далеко назад, для начала поведать о Медном бунте в царствование Алексея Михайловича, когда чеканка медной монеты с ценою серебряной или золотой довела до денежного расстройства, вздорожания всех товаров и — мятежа. И о том, что после таких событий стали осмотрительнее относиться к выпуску медных денег. Не разменные на серебро, они дешевели, и если на медяке было выбито «5 копеек», нельзя было верить глазам своим, поскольку медному пятаку цена была серебряная копейка.
После этого сама логика (с типографской техникой вкупе) привела к бумажным деньгам. Ассигнации, при Екатерине Великой обеспеченные на первых порах равной суммой вложенных в банк металлических денег, с каждым новым выпуском также начали дешеветь, даром что печатались лишь по крайней нужде; таким образом, к концу Отечественной войны за рубль ассигнациями едва давали двугривенный серебром… Тогда попытались их частью выкупить — на деньги, занятые за границей, — в расчете, убавив количество, тем самым как бы удорожить, поднять курс. Успех этой хитрости оказался ничтожен… И уже потом, при Николае I, предпочли избавиться от них вовсе, заменив на кредитные билеты; эти новые, опять же бумажные деньги опять же должны были размениваться на звонкую монету (для чего в очередной раз создали разменный фонд). Однако новая война, теперь Крымская, подкосила и новую денежную систему. И… сказка про белого бычка продолжалась. Который раз то же самое повторилось во время войны турецкой… Поистине бесконечную эту, разорительную, по рукам и ногам сковывающую долгами цепь могла разорвать только решительная реформа!
Так что далее Сергей Юльевич был готов приступить к рассказу на больную тему о том, каких неимоверных трудов ему, Витте, стоило озолотить Россию…
11. Золотая матильда
Закупки золота за границей вдобавок к отчислениям из скудных Казенных средств позволили наконец добиться твердого соотношения между бумажным рублем и золотым, да к тому же так, чтобы билеты можно стало обменивать на золото безо всяких препятствий.
Между тем петербургские головы, вся умничающая Россия восставали против этой реформы. Кто по невежеству, кто по привычке, а кто и по личному интересу. С бумажными деньгами свыклись, как свыкаются с хроническою болезнью, и, не веря уже ни в какие лекарства, считают за лучшее обойтись без врача. По крайней мере, без отчаянного вмешательства хирурга. А тем более костоправа, как Витте!..
Неожиданно доморощенные благоразумники получили поддержку со стороны самого Парижа. Неожиданно ли? — вот вопрос. Не первый день тамошние биржевики плели интриги вокруг российских ценных бумаг… и, стало быть, против министра Витте.
В то время молодой государь возвратился из длительного путешествия по Европе. Царствующая чета объехала дружественные столицы с визитами вежливости после коронации, омраченной ходынским несчастьем.
В свой день министр финансов явился в Царское Село со всеподданнейшим докладом.
Государь Николай Александрович извлек из стола конверт и протянул милостивому государю Сергею Юльевичу.
— Вот я вам отдаю записки, поданные мне в Париже… Точнее — присланные из Парижа как бы вдогонку. Они касаются предполагаемого вами введения золотой валюты. Я их не читал и читать не намерен. А вы, пожалуйста, рассмотрите.
Министр финансов мельком глянул на подпись: Мелин, председатель Совета Министров Французской Республики.
Интересно, какое было дело французам и, более того, их правительству до возможной реформы российских денег, так что они даже посчитали уместным вмешаться в чисто внутренние, казалось бы, заботы России?!
Записка Мелина давала на этот вопрос ответ недвусмысленный. Она сама и приложенные к ней соображения известного экономиста.
Французы решительным образом остерегали российского императора против валюты, основанной на золоте, и, пренебрегши приличиями, взамен советовали перейти на серебряную, либо, в крайнем случае, взяв пример в этом с Франции, на валюту, основанную как на золоте, так и на серебре одновременно. Смысл совета не составляло труда разгадать. Сергею Юльевичу уже приходилось обсуждать эту тему с французскими финансистами. С почтенного барона Альфонса Ротшильда, главы парижской ветви банкирской династии, начиная…
У французов был свой эгоистический интерес в подобном обороте событий. Огромное количество серебра находилось у них в обращении, не один миллиард франков, тогда как добыча этого, пока еще драгоценного, металла возрастала в мире, а это значило, что он дешевеет и дешевеет и в скором будущем потеряет цену. В таких обстоятельствах выбор русскими серебра для своей валюты, без сомнения, его укрепил бы, в особенности если принять во внимание размеры российского рынка. А помимо того, такой выбор привязал бы российский рынок к французскому накрепко. Словом, тут присутствовал для Франции интерес собственного кармана, и к тому же нешуточный…
Что ж, положим, с французами было ясно… А для России? Что все это ей обещало?
Старый барон Ротшильд уверял Сергея Юльевича, что серебряная валюта намного бы упростила расчеты друг с другом, распахнула бы перед русскими французские сейфы, облегчила бы доступ к кредиту.
— Ведь вы же нуждаетесь в займах?! — не то вопрошал, не то утверждал барон.
Еще как! Это было одной из главных целей реформы — укрепить доверие к нашей валюте, дабы Европа раскошеливалась щедрее. Под проценты, как водится, под проценты! Чтобы иностранные капиталы оплодотворили российское лоно!..
Но только не ценою самостоятельности. Нет! (В этом смысле золото понадежнее серебра!) Подобную цену — заодно с французскими кознями — реформатор решительно отвергал, на сто процентов!.. Хотя его не однажды упрекали в обратном… Даже лица с претензиями на познания. «Пускай русские богатства разрабатываются русскими людьми и на русские деньги! — требовали они, пренебрегая, как говорят математики, несущественной величиной, а именно отсутствием этих денег. — Этот министр, временщик этот, он на что покушается?!» Под воздействием таких мнений и сочувствуя им, государь не раз собирал заседания в Зимнем дворце с целью выяснить, а не повредят ли нам иностранные капиталы.
— Нет, не этого надо бояться, — отвечал там Сергей Юльевич многочисленным оппонентам, — а, напротив, того, что порядки у нас специфически своеобычны, столь оригинальны для цивилизованных стран, что не много иностранцев пожелают иметь с нами дело!..
…Не хотели заграничных конкурентов русские промышленники из крупных, им поддакивали разорившиеся дельцы из дворян, а иные содействовали чужим фирмам лишь в случаях, когда видели личный расчет… скажем, место в правлении… Ну а те, кто открыто противником не выступал, те желали сами распоряжаться чужими деньгами… И распоряжались (говорил Сергей Юльевич) со свойственным дельцам новейшей формации денежным распутством. И примеров тому… В сущности, все это было вовсе не ново. Со времен Петра Великого иностранцы вызывали всяческие опасения. Между тем (говорил Сергей Юльевич) утверждать, будто могут они полонить Россию, растащить богатства ее, — это значит не верить в себя, в свои силы, не понимать своей великой страны.
«Юго–западный железнодорожник» твердо знал, назубок: никакая машина без топлива не пойдет. Ставши волей судьбы механиком сложнейшей машины, именуемой финансами Российской империи, он обязан был заботиться о его запасах… А топливо для машины финансов — он усвоил и это — есть не что иное, как экономическое богатство!
Мы, конечно, могли бы привозить железнодорожные рельсы из Бельгии, покупать на золото паровозы у англичан, вагоны у немцев наряду с молотилками, плугами, жнейками, веялками… Но стоило повздорить с кем‑то из этих друзей–поставщиков, как мы немедленно очутились бы в незавидном положении. Вот где действительно таилась угроза самостоятельности России. Допуская же капитал из Европы, чтобы строить свои паровозы, катать свои рельсы, копать у себя руду и уголь, мы расплачиваемся за это всего лишь звонкой монетой. Должаем, естественно, но питаем надежду с долгами разделаться по мере возрастания своего производства… В случае же чего ни один Юз, Гужон или Нобель ни завода, ни шахты, ни промысла увезти с собой не сумеет, даже если вздумал бы, не дай Бог, уносить ноги…
Спору нет, на первых порах наши шахты, рудники и заводы нуждались в поощрении, в покровительстве, ибо уголь, руда, паровозы и все остальное, не секрет, получались и дороже и хуже. Но еще предшественник Сергея Юльевича министр Вышнеградский при активной поддержке директора своего железнодорожного департамента Витте круто повернул таможенную систему, дабы заграничные продукты и фабрикаты не задушили доморощенных на корню.
Национализм национализму рознь (говорил Сергей Юльевич)… Один — здравый, сильный и потому не пугливый (в пример подобного националиста любил приводить Бисмарка). Другой же — болезненный, эгоистический, одержимый местью, страстями, порой в формах диких (и в этаком случае не только у нас находились примеры). Увы, не все понимали, что Россия не могла быть великой, не став промышленною страною. И уж тем более мало кто сознавал, что для этого, как пуповина, необходима денежная реформа. Во всяком случае, в Государственном совете представленный Витте проект наткнулся на явное противодействие убеленных сединами (а также блистающих лысинами) бюрократов, не столь, однако, решительное, чтобы отвергнуть проект наотрез, но в достаточной мере упрямое, чтобы замедлить, застопорить, утопить в словопрениях. Его натиск внушал им почти суеверный страх, как бы чего не вышло из модных молодых увлечений. Как только Сергей Юльевич в том окончательно убедился, дожидаться не стал, пока сановные старцы подадут государю свои возражения против нетерпеливого, на их осмотрительность, молодого министра, и сумел‑таки отыскать дорожку в обход медлительных старцев… Против течения так уж против течения!
Государь наконец подписать соизволил указ о введении в Российской империи металлического денежного обращения, основанного на золоте.
Позднее Витте скажет: в России проводить реформы надо быстро и спешно, а иначе они затормаживаются и не удаются.
А своей Матильде Ивановне откровенно признается — вырвалось! — без ложной скромности и ничуть не шутя, что, ей–ей, ее муженьку когда‑нибудь воздадут по заслугам за то, что он, Сергей Юльевич Витте, таки озолотил Россию!..
В тот памятный день он достал из кармана новенькую, сверкающую желтым блеском монету и положил на ладошку Матильде Ивановне.
— Вот, Матильдочка, полюбуйся, отчеканили пятирублевик.
Она поиграла солнечным блестящим кружочком с двуглавым орлом на одной стороне и с профилем молодого императора и самодержца всероссийского (так гласила надпись вокруг барельефа) — на другой.
— Это и твое сияние, Матильдочка… Не слышала, как называют сию монету?
Она улыбнулась, передернув недоуменно покрытыми тонкой шалью плечами.
— Говорят» Матильдочка, в публике, — не торопясь, досказал с расстановочкой Сергей Юльевич, — говорят, будто в публике ее уже величают золотою матильдой!..
12. Общество взаимного обирания
Чиновник финансового ведомства Гурьев вел отчаянный торг о концессии с посланием сэра Базиля Захарова. Совершенно всерьез принял к исполнению Гурьев преподанный патроном с усмешкой урок. Бюджетные росписи похожи на опостылевшую законную супругу, тогда как наличность — любовница, горячая, молодая. И, распростившись с былой своей щепетильностью, боролся за даму сердца как только мог, находя оправдание (а в этом, интеллигент, нуждался) в том расхожем понятии, что дел не делают одни дураки.
По сути, смолоду он был подготовлен к обращению в модную веру. Гимназистом еще, в старших классах, Гурьев наблюдал вакханалию железнодорожных концессионеров. Люди, строившие Закавказскую дорогу, пришли в те края, если прямо сказать, без штанов… А ушли оттуда миллионерами. Сын такого, его школьный товарищ, у гимназиста Гурьева на глазах клал в карман простому столоначальнику, из путейских, пакет с пятнадцатью тысячами… Сколько ж высшим отстегивалось?!
Дух неугомонного аферизма подмывал жизненные опоры людей старого закала, как поток в половодье — опоры моста. Да и то сказать, предприимчивым людям негде было развернуться в деревенской среде, да еще при крепостных порядках. В ту эпоху министр финансов преспокойно забирал сбережения из кредитных учреждений на казенные надобности. После освобождения крестьян пришлось освобождать и вклады… да к тому же у помещиков распухли карманы от выкупных платежей. Вот тут‑то вопреки ретрограду–министру Канкрину и началась эпидемия всевозможных учредительств…
Старомодный чинуша, засушенная мумия, только гробил деловые идеи. Нет, чиновник нынешнего формата — а себя Гурьев зачислял в таковые — отличался широтою суждений.
Александр Николаевич Гурьев был человек образованный, держал в голове сведения отнюдь не из одной финансовой области (хотя, на взгляд Сергея Юльевича, важнее на свете и не было ничего). Поговорить с ним на отвлеченные темы доставляло одно удовольствие, и немало удавалось из этих бесед почерпнуть. А черпать и даже вычерпывать собеседников, до донышка, Сергей Юльевич был большой мастер. Банковское дело, к примеру, когда понадобилось, изучал в разговорах с банкиром Ротштейном, так же как государственное право–с присяжным поверенным Гессеном, а парламентскую систему — с профессором Максимом Максимовичем Ковалевским[24]. Это было, на взгляд Сергея Юльевича, куда продуктивнее, нежели за книжками штаны протирать… Вот уж тут приятный его собеседник составлял ему полную противоположность. По натуре человек склада книжного, Александр Николаевич не жалел потратить вечер–другой на поучительное чтение. Сделать выписки.
Из барона Брамбеуса — устарелое:
«…Дух акционного товарищества еще гость на Руси. Мудрость спекуляций, чудные тайны разработки акционерного кармана, искусство сочинять пленительные уставы — деньготворное чернокнижие нейдет к прямому русскому уму и нежному сердцу…»
Из Некрасова уже совершенно другое:
…Да, постигла и Россия
Тайну жизни наконец:
Тайна жизни — гарантия,
А субсидия — венец!..
Из озлобленного Незлобина (Дьякова):
«…Пошел воровской человек высшего полета, сочинивший множество уставов и правил для поведения ограбляемой публики, давший волю и ширь своим грабительским инстинктам на основании им же сочиненных правил. Этот воровской человек сразу показал, как надо жить… Его пиршества, его дворцы, его оргии в кабаках и на биржах — все отмечено пышностью свинства, никогда не бывалого…»
А уж как сатирики изощрялись, любо–дорого прочитать, записать:
«Общество прикосновения к чужой собственности» (учредил Горбунов). «Общество накопления в будущем посредством расточения в настоящем, Общество взаимного обирания. Общество взаимного надувания» (Буренин).
Говоря же серьезно, весь каркас этих обществ и учредительств опирался на банки и на банкиров. Банкир — вот кто новых времен вседержитель. Замечательная вещь. Во всемирной истории не отыскивалось примеров, чтобы государственный деятель мог осилить банковскую премудрость. Кто при Бисмарке вел счет деньгам? Блейхредер. Как при Тьере — Жубер, как при Биконсфилде — Ротшильд… То же было и у министров финансов, если не были банкирами до министерских кресел. А у нас в России тем паче, ибо к должности подготовлялись в лицеях да в корпусах. Когда назначенный Александром III министр Грейг вызвал в Петербург для переговоров о кредите лондонского Ротшильда, тот, вернувшись, удивлялся: что за богатейшая страна Россия, если может позволить себе такого министра финансов!.. Впрочем, и доморощенные наши банкиры…
… Где‑то вычитал Гурьев, что однажды Вольтера будто бы попросили написать разбойничий рассказ. Вольтер написал: «Жил–был на свете банкир…»
Сергей Юльевич эти нелепые гурьевские истории обожал и охотно хохотал, например над тем, что его собственный расторопный Ротштейн начинал карьеру банкира в Вене опереточным рецензентом… Или, скажем, над ведомственным преданием, как умнейший Николай Христианович Бунге, министр Александра III, утешал директоров своих департаментов, плакавшихся ему в жилетку. Является с жалобой на акцизного директора податной: тот совсем, дескать, споил народ! А в итоге у меня недоимки, что возьмешь с мужика, коли он душу свою пропил!.. В ответ Бунге сочувственно кивал головой: это очень печально, вы напишите коллеге, чтобы не так уж усердствовал! А потом является акцизный директор, уже с жалобой на податного. Дескать, что тот творит! Совсем разорил податями народ. А в результате у меня недобор. Да и что мужик пропить может, коли на нем и рубахи‑то нету!.. И опять же министр кивал головой: это очень печально, напишите коллеге, чтобы не так уж старался!..
Сергей Юльевич завздыхал, отсмеявшись:
— Хорошо было Бунге! Тогда крестьянин не мог увильнуть от казны. Чего не выудят водкой, то податями возьмут!.. Эдакий финансовый закон Лавуазье!..
Но Александр Николаевич, извинившись, что перебил, сообщил еще отцу питейной монополии старинную клятву кабацких голов в кабаке царском:
— Не слыхали, Сергей Юльевич? «Питухов от кабаков не отгонять, дабы казне убытка от того не чинилось».
А про Бунге Сергей Юльевич мог и сам кое‑что рассказать…
На досуге Александр Николаевич как летописец записывал впрок и эти истории.
Свои заметки он порою отваживался печатать, быть может, в качестве передышки не столько от чиновных, сколько от ученых трудов о кредитных учреждениях и государственном долге, о налогах, косвенных и прямых, о банках и промышленных синдикатах, о денежном обращении… Кстати, денежному обращению в личном плане это тоже отнюдь не вредило. Находились, разумеется, доброжелатели–острословы, сквозь губу оценивавшие что ни напишешь — гурьевской кашей. Он на это не обижался, скорее чувствовал себя польщенным. В отличие от него, эрудита, его критики, похоже, не подозревали, что такое настоящая гурьевская каша, приготовленная по рецепту графа Гурьева, министра финансов при Александре I. Александр Николаевич, пусть ее и не пробовал, мог судить о ней хотя бы по «Молоховцу»[25]. Эта каша варится чуть ли не на шампанском и с отборными французскими фруктами!
В скором времени после знакомства министр Сергей Юльевич как бы между прочим поинтересовался, в каком отношении стоит этот Гурьев к тому.
— Мне уже случалось прояснять сей вопрос, — отвечал этот, — околоточному надзирателю. Однажды явился ко мне околоточный и спрашивает, мол, вы — граф Александр Николаевич Гурьев? Я, говорю, действительно Александр Николаевич Гурьев, но, увы, не граф, а также не маркиз и не барон. Не шутите, говорит он, тут не до шуток. И протянул бумагу с печатью о взыскании, стало быть, с графа Александра Николаевича Гурьева, уклоняющегося от платежа судебных издержек в указанной сумме… Пришлось мне отписать заявление, что я не граф, а студент Санкт–Петербургского университета… Таково, Сергей Юльевич, мое единственное отношение к потомкам того Гурьева.
По сему поводу министру вспомнился анекдот, популярный в Одессе:
— «Скажите, Рабинович, тот Рабинович, который проворовался, он что, ваш родственник?» — «Нет, что вы, даже не однофамилец!..»
— У нас с графом Гурьевым, пожалуй, как раз в точности наоборот, — возразил на это Александр Николаевич.
Спустя много лет после того разговора, совсем, можно считать, недавно, Сергей Юльевич при очередной их встрече протянул Александру Николаевичу газетную полосу:
— Вот, оказывается, какая у вас родословная! Это ж многое объясняет… А все скрывали!
Отчеркнутая его рукой для помещения в альбом заметка гласила: «Русское знамя» утверждает, что Гурьев по паспорту Гуревич».
Гурьев ненадолго пересидел в министерстве патрона. Главным образом по причине невоздержанности языка. И неодолимой тяги к печатному слову. Высказываясь, разумеется печатно, на насущные темы финансов после назначения Коковцова на место Витте, пошутил между прочим, что приход в министерское кресло недостаточно к тому подготовленного лица напоминает ему газетные объявления, где кухарки предлагают свои услуги за повара. Не каждый мог простить дерзость, как Витте. Новый шеф оказался обидчив и остроты не оценил, или, вернее, как раз оценил, но настолько сурово, что обратил Гурьева из чиновников министерских в вольные щелкоперы… Только лишь когда граф Сергей Юльевич сделался председателем Совета Министров и задумал официальную газету, правительственный орган, Александра Николаевича вновь призвали на службу.
Желательно, даже необходимо было давать обществу разъяснения совершавшихся событий. Прочие газеты буквально кишели нелепыми выдумками. Нельзя было оставлять их без внимания, без ответов, без опровержений. Идэя, как произносил Сергей Юльевич, такого издания принадлежала Сергею Спиридоновичу Татищеву. Сергей Юльевич за нее ухватился и предполагал Татищева редактором. Но тот, к несчастью, неожиданно умер. Пригодился палочка–выручалочка Гурьев.
На его назначение, однако, не согласился царь, по–видимому получив о нем неблагоприятные сведения (уж не от Коковцова ли?), и соизволил решить, пускай Гурьев будет в действительности редактор, но чтобы подписывал газету кто‑либо еще…
Другой бы на его месте хлопнул дверью, Гурьев же только пожимал плечами: чем скромная его персона могла не угодить государю?.. Неужели вce–таки этой давней его «кухаркой за повара»… или, может быть, статьями о японской войне?.. Ответа на свой вопрос он, разумеется, не получил, зато газета таким образом издавалась все время, пока Витте возглавлял правительство, проводя его линию, его мысли.
Называлась газета «Русское государство».
13. Среди министров
Хоть и остроумничали в Петербурге, что при министре финансов Витте правительство стало писаться через два «т», сам Сергей Юльевич еще до Горемыкина понял: ключевой в правительстве пост — министр внутренних дел. Конечно, и от министра финансов зависело многое — и многие. В приемные дни в министерстве на Мойке каких только важных особ не встретить! Князей и генералов, банкиров и министров. Когда удалось сковырнуть Ивана Логгиновича… впрочем, так утверждать было бы преувеличением… когда удалось поспособствовать падению Горемыки, государь оказался перед проблемой, кого выбрать в преемники. На сей раз не стал, как при его назначении, интересоваться мнением Сергея Юльевича, быть может, и потому, что решил воспользоваться прежним советом. Тогда, в глубине души ожидая, что последует предложение ему самому (несомненно, желая этого), Сергей Юльевич назвал, разумеется, не свое имя… У него тогда с государем состоялся памятный разговор.
— Я, — сказал государь, — спросил еще мнение Победоносцева[26]. Он, конечно, высказал мне его. Но я ничего не решил, ожидая вашего приезда из‑за границы…
На вопрос же, каково это мнение, если можно узнать, государь ответил, что предложенных кандидатов Победоносцев определил просто: один подлец, а другой дурак. На что Сергей Юльевич полюбопытствовал, не рекомендовал ли Победоносцев в таком случае кого‑либо еще.
— Да, — с усмешкой сказал государь, — между прочим, он и о вас говорил…
— Представляю себе, что он мог обо мне говорить…
— Как думаете, что же?
— Да приблизительно так, — отвечал Сергей Юльевич как бы наугад. — Когда вы спросили его, он ответил, что единственный подходящий человек — это Витте, да и тот… и здесь выбранился, должно быть, в духе Собакевича из «Мертвых душ» — один, мол, там и есть порядочный человек, да и тот, сказать правду, свинья.
Государь, на это рассмеявшись, сказал, что ответил Победоносцеву, что такое решение; не облегчило бы ему задачи, поскольку пришлось бы искать заместителя Витте.
Больше между ними эта тема не поднималась. А четыре года спустя место Горемыкина занял Сипягин.
Не успело это произойти, как Матильда Ивановна откуда‑то принесла на хвосте стишки про всех предшествующих министров, чуть не с Лориса начиная[27]:
И во всех министрах этих -
Хороша ль, нехороша,
Пребывала непременно
Горемычная душа.
Друг, не верь пустой надежде,
Говорю тебе, не верь! —
Горе мыкали мы прежде.
Горе мыкаем теперь…
В молодости Сергей Юльевич имел массу друзей. И в студенческие годы в Одессе, и позже. У него в Одессе осталась матушка, брат, сестры. Стоило ему появиться где‑нибудь на Дерибасовской, друзья–приятели не давали проходу. И если кто‑то из «одессистов»[28]навещал его в Петербурге, он всегда бывал рад. Но в этом мире, к какому ныне в столице он имел честь принадлежать, коли и существовало понятие дружбы, то в каком‑то совсем ином виде.
Дмитрия Степановича Сипягина он числил в друзьях, и, смел думать, взаимно. Даже на «ты» перешли. Порой встречались почти ежедневно, если в мужском кругу, то чаще всего за обедом у князя Вово Мещерского[29] в Гродненском переулке. Каких только не задевали тем — политических, государственных, почти не таясь друг от друга. Можно сказать, втроем вершили судьбы России… Женщины, однако, по некоторым веским причинам порога дома в Гродненском не переступали. Зато и Матильда Ивановна, и дочь Вера любили гостеприимный дом Сипягиных у Кокушкина моста.
Большой русский барин, гурман, хлебосол, Дмитрий Степанович обожая потчевать гостей блюдами собственного приготовления. Его жена Александра Павловна, массивная, крупная, под стать мужу, в этом смысле Дмитрию Степановичу не уступала. В салоне Александры Павловны, открытом для цвета аристократии, Матильду Ивановну принимали без предубеждений, даром что когда‑то холостяком Дмитрий Степанович немного ухаживал за нею. Матильда Ивановна весьма дорожила расположением Александры Павловны…
Все же центром просторного дома, со вкусом отделанного в русском духе, служила столовая со сводчатыми потолками, расписанная под Палех и обставленная грубыми столами и лавками. Дочь Вера, отдав должное кулинарному искусству хозяина и забавным историям, какие он рассказывал за столом под хохот гостей, нетерпеливо ждала окончания обстоятельной трапезы. После киселя или чая с пирожными начиналось самое интересное. Дмитрий Степанович приступал к роли гипнотизера. Грузный, едва не с папа ростом, с громадной лысиной и добрыми глазами, он приказывал девочке сесть в кресло, а потом, делая движения руками и пристально на нее глядя, повторял что‑то вроде «ты принцесса, принцесса, принцесса…».
Кстати, именно Дмитрию Степановичу Вера была обязана тем, что ее усыновление Сергеем Юльевичем прошло, можно сказать, без сучка без задоринки, несмотря на не очень‑то благородное поведение в этом деле ее родного отца, первого мужа Матильды Ивановны. Впрочем, девочку в эти сложности не посвящали… В свою очередь и Дмитрий Степанович был, к примеру, обязан дружескому участию Сергея Юльевича чудесным превращением его нового, министерского дома просто в сказочный терем со столовой чуть не в виде Грановитой палаты. Вообще стиль ля рюс стал последней модой в верхах, государь на придворном балу появился в платье царя Алексея Михайловича, окруженный своими боярами, Александра Павловна рассказывала об этом с восторгом… какой Матильда Ивановна, увы, лишена была возможности разделить.
Что, казалось бы, связывало Сипягина с Витте? Происхождение, взгляды, даже манера жизни — все разнилось у них, и, однако же, считались друзьями. Дополняли друг друга и друг в друге нуждались. Один всегда помнил о близости другого к престолу, а тот, со своей стороны, ценил в друге советчика, умного, искушенного в бюрократических тонкостях и сплетениях… Человек убеждений, пусть узких, чисто дворянских, пусть «псовый охотник», но уж совершенно не флюгер, Сипягин держался взглядов консервативных и, раз утвердившись в них, уже не менял, был сторонником неограниченного самодержавия, жестких мер к бунтовщикам. Студенческие волнения подавлял без пощады, студентов сажали, сдавали в солдаты… Один из них за своих товарищей отомстил.
Трагедия разыгралась у всех на виду.
В то утро собирались на заседание Комитета Министров в Мариинский дворец. Поднявшись в зал, как обычно перед началом, разговаривали, обменивались новостями. Нестройный шум голосов неожиданно был оборван щелчками… как выстрелы! Все бросились к дверям, к лестнице. Внизу, в вестибюле, лежал распластанный человек, возле него уже хлопотали. Сверху Сергей Юльевич не сразу узнал Дмитрия Степановича. Он был в сознании. Очевидцы передавали, что к Сипягину подошел офицер в адъютантском мундире с аксельбантами и протянул пакет. На вопрос, от кого, ответил, что от великого князя Сергея Александровича из Москвы. Сипягин протянул за пакетом руку, и в этот момент, выхватив браунинг, офицер стал стрелять.
Его раздевали в комнате рядом. Высокого роста, блондин… Военный министр заявил сразу, что это ряженый, а не офицер. Он не стал запираться и тут же сознался, что в самом деле не военный, а анархист[30].
Раненого отвезли в ближнюю Максимилиановскую больницу. Сергей Юльевич поехал туда следом. Ничего утешительного ему не могли сообщить. Рана оказалась смертельной. Несмотря на старания врачей, через несколько часов Дмитрия Степановича не стало, и все это происходило на глазах потрясенного Сергея Юльевича.
Двух лет, таким образом, не минуло, как вновь надо было подбирать кандидата на должность министра внутренних дел…
Шансы Сергея Юльевича представлялись предпочтительнее, чем у других, когда бы не набрала силу клика его противников при дворе.
Назначен был Плеве.
Ежели следовать давней характеристике едкого Победоносцева — дурака, прости Господи, заменил подлец.
Уж с этим‑то Сергею Юльевичу было непросто смириться. Сколько помнилось, с Вячеславом Константиновичем Плеве они всегда на ножах. Государь однажды попросил Сергея Юльевича откровенно высказаться о вечном его оппоненте. Он ответил на это, что никто, пожалуй, не скажет, каковы убеждения Плеве. Да и сам он, скорее всего, тоже не знает этого про себя. Ибо держится мнений, для него лично выгодных в данный момент, а значит, выгодных также для тех, кто в данный момент в силе. При Лорис–Меликове он был либерал, благодаря чему возглавил департамент полиции. При министре графе Игнатьеве сделался славянофилом, при министре графе Толстом стал молиться на его формулу, при Дурново поддакивал Дурново… Вот уж флюгер так флюгер! Мог служить и Богу и дьяволу, как выгоднее для карьеры. И притом человек умный и, надо отдать ему должное, очень работоспособный, умелый…
За кулисами всякого противодействия его собственным начинаниям неизменно виделся Плеве. Впрочем, тот платил тем же. Умный Плеве при этом весьма глупо, по словам Витте, считал, будто он стремится занять его место. Потому, дескать, всегда возражает против любой его меры. А лишь стоило Витте покинуть Министерство финансов, не постеснялся заявить об этом публично.
После этого Сергей Юльевич заехал к нему объясниться.
Разговор состоялся за несколько месяцев до того, как Плеве убили.
— Не мне вам говорить, Вячеслав Константинович, что петербургский режим создал массу людей, которые травят друг друга ложью и клеветой, — так начал Сергей Юльевич, — и все это ради мимолетной выгоды… Что многие, и на самом верху тоже, поддаются на эти наветы, вы лучше моего знаете.
Вячеславу Константиновичу не требовалось объяснять, на что намекал Сергей Юльевич. Понятно, на то, что чтение чужих писем, перлюстрация то есть, обязанность министра внутренних дел. Не отводя глаз, он молча рассматривал Сергея Юльевича в ожидании, что последует за вступлением. Ведь слухи, что и в отставке Витте, внезапной и унизительной, угадывалась тяжелая рука Плеве, доходили, естественно, До обоих. Только один знал об этом наверняка, другой же не более чем имел подозрения. И жаждал в их достоверности убедиться. В этой встрече вечных недругов один участвовал как победитель, другой, увы, в роли проигравшего. И этим другим был Сергей Юльевич, а он проигрывать не любил, да и не умел.
-…Что я домогаюсь поста министра внутренних дел — беспочвенные опасения, — с вызывающей прямотой продолжал он, — ибо это значило бы с моей стороны быть глупым. Такого, — он усмехнулся, — по крайней мере до настоящего времени, мне никто не приписывал…
Сухой долговязый Плеве молча покачивал головой, по–прежнему вперив в Витте изучающий взгляд, словно видел перед собой диковинное насекомое.
- …Я не раз заявлял публично и не стану вам повторять, что принятый вами политический кур: дурно кончится и для вас и для государства, — занервничал под неживым взглядом Сергей Юльевич. — Скажу лишь, что мои постоянные возражения имеют причиной именно несогласие с вами, сожалею, по большинству государственных вопросов…
И еще досказал:
-…При той политике, которую вы ведете, боюсь, в настоящих условиях вам не избежать… — тут он явно замялся, — не избежать встречи с каким‑нибудь вооруженным фанатиком.
Помрачнев от этакого предсказания, Плеве, однако, и тут не возразил ничего.
И охотно, хотя и достаточно вежливо, пожал протянутую ему руку.
Разговор этот на Плеве, конечно, мало подействовал. Да и Сергею Юльевичу не многое прояснил. Впрочем, нет, явный холод, что буквально сквозил от Плеве, подтвердил подозрения о причине отставки. А вернее, о поводе, подтолкнувшем ее. Потому что причина не вызывала сомнений. Кто же мог допустить, что министр внутренних дел ведет политику вопреки царю?! Несогласие с Плеве означало несогласие с государем.
В самом деле, проявлялось оно во всем, чего ни коснись.
Хоть политики на Кавказе;
Или вопроса крестьянского.
Или еврейского.
И действий дальневосточных тем более.
Потому что именно Плеве стал невидимым стержнем того течения, что стремительно сносило Россию к войне и — стало быть — к революции, укрепляя в царе уверенность, что с легкостью расколотим этих макак…
А когда, уже во время кампании, генерал Куропаткин[31], за военные неудачи смещенный, упрекнул в этом Плеве, тот ему с невозмутимостью возразил, что генерал плохо знает внутреннее положение. И закончил фразою, которой суждено было стать крылатой: чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война.
14. Интрига
Как‑то раз князь Мещерский попросил Сергея Юльевича принять полицейского полковника Зубатова[32]. Эта просьба не вызывала восторга, но и отказывать старому знакомому не хотелось.
Князь Вово был влиятелен во дворце и неповторим в своем роде. Внук историка Карамзина, в свое время он был товарищем детских игр рано умершего цесаревича. В память брата император Александр III выказывал особую благосклонность Мещерскому. Да и знал его с детства. Но при всем том князь Вово при дворе не был принят, равно как и в свете. Когда Сергей Юльевич, человек в Петербурге в ту пору новый, случайно познакомился с князем, то был незамедлительно остережен — то ли добрыми людьми, то ли злыми языками, как разберешь, — что князь этот грязная личность и в порядочные дома не вхож. В чем грязь его заключается, люди добрые объяснили не сразу… С императором князь виделся крайне редко, но исправно писал ему письма, обращаясь на «ты», что мало кому дозволялось, и Александр III иногда отвечал князю. Его влиятельность, собственно, этой перепиской и объяснялась. При Николае II она совсем было прервалась, пока при посредстве Сипягина, князю родственника, не возобновилась. А с нею и влиятельность тоже.
Содержание писем напоминало как бы дневник политических новостей. Помимо прочего, известный как публицист, Мещерский издавал и редактировал газету, не менее того известную своим направлением. Субсидировал издание сам государь. Став министром финансов я по долгу службы выплачивая из казны Мещерскому суммы на его «Гражданина», Витте волей–неволей узнал его ближе. Тем более князь Вово, в ряду многих других, искал дружбы с министром финансов…
Ну а что до полковника из полиции… К любимой затее Зубатова — рабочим организациям под опекой— Сергей Юльевич не питал симпатий. Хотя бы по той причине, что своими претензиями к фабрикантам они затормаживали накатанный ход производства. Впрочем, нельзя было не признать, как важен противовес влиянию на рабочих всяких социалистических и анархистских течений. Так или иначе, карьеру полковник Зубатов сделал на этом, под покровительством весьма высоких особ. Министр Сипягин, правда, не принадлежал к их числу, Зубатов вошел в силу уже после него. Однажды Плеве даже сказал Сергею Юльевичу, что в руках Зубатова спокойствие государства…
Естественно, министр финансов ожидал от полицейского чина каких‑то обычных денежных ходатайств. Однако в своих предположениях на сей раз ошибся. Разговор получил оборот на удивление непривычный. Посетитель, которого Сергей Юльевич разглядывал с любопытством, завел речь о том, в каком состоянии находится нынче Россия.
— Все бурлит, — со знанием предмета говорил круглолицый плотный господин в сюртуке, сильно смахивающий на семинариста своей бородкой, очечками, зализанными волосами, — все бурлит, и одними полицейскими мерами революции не удержать. А своей политикой Плеве загоняет болезнь внутрь, что ничем хорошим не кончится!..
— Зачем вы все это рассказываете мне?! — словно бы в изумлении всплеснул руками Сергей Юльевич, не без оснований опасаясь полицейской ловушки. — Вы должны говорить это Плеве!
— Поверьте, говорил, и говорил не единожды! Предупреждал даже, что он головой рискует, ведь я его уже в нескольких случаях спас.
— И что же Вячеслав Константинович?
— А ничего. Взявши полицейский курс, отойти от него он не хочет. Или не может…
Для Сергея Юльевича все это было и без Зубатова ясно. Если быть откровенным, он и сам мог все это сказать… Да, собственно, и говорил в глаза Плеве. Мог и этому господину… но перед ним сидел профессионал–провокатор, прекрасно осведомленный обо всем. Иначе бы не пришел искать в нем союзника против собственного министра — подстрекать? вербовать?.. А возможно вполне, и явился‑то по его поручению.
— По–хорошему, мне бы следовало отправиться на Фонтанку. Передать Плеве наш разговор, — так сказал Сергей Юльевич неудобному своему посетителю. — Но не стану вредить вам. Давайте считать, что никакого разговора не было между нами…
А немного спустя они встретились снова и как бы случайно. На сей раз в Гродненском переулке, у князя Вово Мещерского дома.
Даже зная непостоянство князя Вово, трудно было понять, каким образом он принял сторону Зубатова против Плеве. Сергей Юльевич знал. У него на глазах отношение князя к Плеве однажды уже совершило, так сказать, полный поворот «кругом». Незадолго до гибели Дмитрия Степановича, помнится, втроем обедали у Мещерского, они в каком‑то родстве состояли. Сипягин сетовал на трудности своего положения, признавался, что порой даже готов просить императора об отставке. Заговорили о возможном преемнике. Когда выплыло имя Плеве, то Сипягин сказал, что этот человек, став министром, будет действовать только в личных видах и принесет большие несчастья России. С чем Мещерский вполне согласился. Однако после смерти Сипягина, повидавшись с Плеве, написал государю письмо, что, по его мнению, именно Плеве единственный достойный кандидат в министры внутренних дел, способный задушить революционную гидру, поразившую светлой памяти министра Сипягина.
Назначение состоялось. И естественно, началась дружба у князя Мещерского с новым министром.
Отчего же Зубатов, по сыскной службе сведущий обо всех и про вся, от Сергея Юльевича подался к князю Вово со своими рискованными разговорами? Не оттого ли, что вынюхал, что их дружба с Плеве дала явную трещину из‑за событий, связанных с японской войной? Надо князю отдать справедливость, он был против авантюры на Дальнем Востоке, за которую так ратовал Плеве. Это, в сущности, отдалило его и от Плеве и от государя. И, само собой, примирило с ним Витте. Только это обстоятельство и позволило со вниманием вникнуть в хитрый замысел против могущественного министра. С простой целью — свернуть ему шею. Политику можно уподобить игрушке, калейдоскопу, такой был в детстве у дочери Матильды Ивановны… и Сергея Юльевича. Фигуры сбегаются, разбегаются… Вчерашние противники становятся союзниками, и напротив… Простая цель объединила Мещерского, Зубатова, Витте, всех троих вместе, хотя у каждого из троих на то имелись собственные резоны. План интриги придумал Зубатов.
— Ничего сложного, Сергей Юльевич, — объяснял, посмеиваясь и указывая на Зубатова, князь Вово, — вот Сергей Васильевич сочинит письмецо и случайно, будто бы при перлюстрации, его обнаружит. Письмецо как бы от одного верноподданного к другому с осуждением Плеве, который‑де обманывает царя и подрывает веру в него в народе. И что одному только Витте, по уму и преданности царю, под силу оградить государя от бед и придать блеск всему царствованию… Со своей стороны я берусь, Сергей Юльевич, поставить в известность о таковом письмеце его величество и подать при этом совет прислушаться к гласу народа!..
Услышанное не возмутило Сергея Юльевича. В этот вечер, вопреки обыкновению, он больше молчал. Впрочем, участие в подобной интриге, весьма попахивающей провокатурой, разве с его обыкновениями сочеталось… Что поделаешь, когда дух провокаций витает в государстве Российском? Ах, политика и мораль — между ними не много общего. Все равно что корень квадратный и поросенок с хреном! Да и цель была благородной — перевести российскую стрелку с гибельного пути. Искушение подействовало чересчур сильно… И молчание — знак согласия, кто тут спорит. Совсем немного времени понадобилось, чтобы он засожалел о содеянном. Не раскаялся. Пожалел. Нет, тут дало не в угрызениях совести… Просчет! Недопустимый, непростительный при его‑то опыте, по–мальчишески грубый. Вспоминать о своих просчетах Сергей Юльевич не любил, изобрел свою версию происшествия. Но так или иначе, а государю донесли‑таки про их сговор!
15. Расплата
У каждого министра был назначенный день недели для всеподданнейшего доклада. У министра финансов — пятница.
В четверг вечером Сергей Юльевич получил от царя записку, чтобы завтра привез с собой в Петергоф управляющего Государственным банком.
Как обычно, докладывал Сергей Юльевич около часа, делая некоторые предположения на будущее, и государь их милостиво одобрил.
Сергей Юльевич уже стал прощаться, когда услышал вопрос, привез ли он государственного банкира.
— Он в приемной комнате.
— Каково ваше мнение о нем?
— Наилучшее, — при всей своей быстроте еще не вполне понимая, к чему клонится разговор, сказал Сергей Юльевич. — Это один из моих ближайших сотрудников…
Тогда государь поднялся и с внезапной торжественностью произнес:
— Сергей Юльевич! Я прошу вас принять пост председателя Комитета Министров! А на должность министра финансов я хочу назначить управляющего Государственным банком.
Государь имел склонность к сюрпризам в этаком роде и; растерянностью Витте явно обрадованный, покрутив ус, прибавил:
— Разве вы не довольны этим? Ведь место, вам предлагаемое, есть самое высшее место в империи!
— Это высшее место вернее было назвать самым бездеятельным в империи. Почетная ссылка; Проглотите, Сергей Юльевич, позолоченную пилюлю. В комитет, как на административную свалку, сплавляли третьестепенные и спорные, рискованные, рогатые, как их называли, дела — для обсуждения время от времени собиравшимися господами министрами.
Он вернулся в тот день к себе на дачу на Елагин остро» обессиленным и разбитым. Распустивши ворот рубахи, рухнул в кресло.
Еще по дороге, на Балтийском вокзале, отвечая ожидавшему его из Петергофа Колышке, приближенному лейб–журналисту, что такое случилось, обошелся единственным словом:
— Выгнали.
И выразительным телодвижением пояснил: пинком в зад!..
Заслужил после десяти с лишним лет беспорочной верноподданной службы! Озолотил Россию и получил за это спасибо, благодарность за укрепление бюджета, не только избавленного от дефицита, а, напротив, с избытком доходов над расходами, достаточным для накопления свободной наличности; и награду за громадные финансовые операции с займами на строительство железных дорог и проведение денежной реформы; воздаяние также за развитие железнодорожной — кровеносной! — сети и промышленности под защитой протекционной системы и с поощрением в то же время иностранных капиталов; знак признательности, наконец, за расширение коммерческого и технического образования…
В голове между тем неотвязно вертелось: что же все‑таки такое произошло, почему для пинка улучен был именно этот момент?..
Несомненно, тут едва ли могло обойтись без Плеве. Накануне он являлся к государю с докладом. Министр внутренних дел докладывал по четвергам. Но какой же ход он придумал, чтобы окончательно склонить государя на свою сторону?..
Догадка на сей счет у Сергея Юльевича мелькнула не сразу, а лишь только когда услышал, что отправлен в отставку и — того более — под арест и в ссылку один из столпов департамента полиции Зубатов.
О случайном совпадении наивно было бы думать.
Вот, значит, на чем Сергея Юльевича переиграл Плеве. Всеподданнейше доложил об интриге министра финансов… От кого же узнал Плеве? Сговаривались втроем, так что, по логике, предательство третьего несомненно. Поехал к недавнему приятелю и все рассказал, не умолчав, само собой, и про то, что начал Зубатов с посещения Витте… И сколько впоследствии весьма осведомленные лица ни уверяли, что проболтался Зубатов, Сергей Юльевич стоял на своем. Иного логика не допускала.
В четверг Плеве сделал доклад государю.
В пятницу государь отправил Витте в отставку.
Ему потом не раз попеняли на то, что не должен был перед войной оставлять свой пост, дескать, так патриоты не поступают.
— Да я не ушел, а меня прогнали, — оправдывался он в таких случаях, не вдаваясь в рассуждения по поводу патриотизма (а было что сказать).
— Потому и прогнали, что вы всегда спорили и возражали. Подчинились бы, не прекословя, так не прогнали бы!..
Старая песня ревнителей непогрешимой власти.
… — Одно из двух: или наш государь самодержец, или не самодержец, — сказал ему однажды один из опальных министров в доверительном разговоре. — Коли я считаю, что да, значит, моя обязанность, сообщив свое мнение, как бы государь ни решил, затем в меру сил постараться выполнить его волю!
А Сергей Юльевич спорил, не мог себя побороть, петушился, отстаивал собственные подходы, и, по мере скатывания к войне, его несговорчивость все сильнее раздражала царя. К тому же и доброхоты подливали масла в огонь, Плеве первый. Желание хлопнуть дверью возникало, признаться, у Сергея Юльевича не однажды. Он его в себе всякий раз подавлял. Уйти самому казалось уступкою Плеве…
Но после отставки кто‑то спросил у лица, весьма приближенного к государю, что сказал он, когда все это разрешилось.
Приближенное лицо ответило кратко:
— Государь сказал «уф–ф»…
Без малого через год под карету министра Плеве анархист швырнул бомбу. Вячеслава Константиновича разорвало на куски. Портфель же с бумагами остался цел–невредим. При полицейском осмотре рядом с докладом, с которым министр торопился тем утром к царю, нашли донесение от тайного агента. О замышляемом покушении на царя, в подготовке к коему принимает участие бывший министр Витте. Должно быть, погибший намеревался прочитать это государю. Идея Зубатова, таким образом, как будто бы не пропала втуне: Сергей Юльевич выяснил верно, под чью диктовку писался донос.
Ну а плюс к тому в кабинете у Плеве, в столе, обнаружили пачку перлюстрированных писем. Там к скопированному письму Витте, ругавшего политику Плеве, приложены были письма неких никому не известных людей друг к другу, судивших–рядивших о близости Витте к жидомасонами, стало быть, по их разумению, к крайним революционерам (ну просто‑таки Зубатов наоборот!). Тут же в сопроводительной Записке к царю сам Плеве наводил адресата на мысль — хоть прямо не утверждал, — что, поскольку его политика есть политика государя, правы те, кто в Витте видит революционера… Бумаги успели побывать во дворце, поскольку собственною царской рукой на Записке начертано было: «Как тяжело разочаровываться в своих министрах».
Пусть это не по–христиански, Господь милостив… Сергей Юльевич не очень‑то горевал по убиенному Плеве.
В освободившееся же столь трагическим образом кресло ему усесться, разумеется, так и не довелось.
16. Савва Мамонтов. Судьба банкрота
Министров Сергей Юльевич подразделял на больших и на малых. К большим относил: военного, иностранных дел, финансов. А первым из них в этой табели признавал министра внутренних дел. В его кресло как магнитом тянуло многих важных особ. И как там присяжные остроумцы ни насмехались над тем, что «горе мыкали мы прежде, торе мыкаем теперь», на самом деле горе было тому, кто окажется поперек дороги, пусть случайно, хоть ненароком. Бюрократические жернова грозили перемолоть недотепу в труху. Савву Мамонтова затащило туда нежданно–негаданно, в страшном сне такое привидеться не могло.
А ведь был толстосум, без сомнения, фигурой приметной, хотя, само собой, и не в этих кругах. Миллионщик, предприниматель, железнодорожный деятель не из последних. Не с пустого места, не с нуля, как некоторые, начинал, но сумел унаследованное от родителя приумножить. С ним когда‑то вдвоем дотемна просиживали возле Ярославского тракта, все подводы считали, сколько их там протащится туда и сюда. Примерялся Мамонтов–старший, оправдает ли себя железная ветка, коли к Сергиеву Посаду от Москвы протянуть… На полсотни верст протянули — и дальше продлили, загребли на этом довольно… Только Мамонтову–младшему, Савве, показалось мало семейного дела для того, чтоб себя занять целиком. Компаньоны знали: не о деле Савва Иванович горазд рассуждать, не о трезвой наживе, а, к примеру, об оживлении русского Севера, — разумеется, во благо России. Идеальничал через меру. Обихаживал живописцев, дружбу с ними водил. А к тому еще пьески театральные пописывать успевал, даже оперы режиссировать!.. И что, главное, интересно — не один он такой купец был в Москве: Морозовы, Бахрушины, Третьяковы, меценаты, покровители изящных искусств, Сергею Юльевичу не вполне понятная публика, не щадили ни времени, ни капиталов, опекая богему. Он не мог понять такого разброса, самому вечно некогда было; драму, оперу, и азартные игры, и страсти — все вмещало в себя его дело!..Уж на что граф Толстой всем известный писатель, а ведь времени не хватало, чтобы толком его сочинения почитать… Нет, свои, питерские воротилы, все больше из банковских да из чинов министерских, приходились ему куда ближе, даром что с Саввой Мамонтовым — при подготовке выставки в Нижнем, — сказать прямо, изрядно сошлись, и в его Частной опере вместе с Матильдой Ивановной наслаждались Шаляпиным в «Князе Игоре», в «Годунове», в «Юдифи»…
Так что удивляться особенно было нечему, что прогорел со своей широтой сумасбродной. Не такие тузы в трубу вылетали… Савва даже угодил за решетку. И тут без участия Сергея Юльевича не обошлось… Мамонтов вернулся из‑за границы по вызову министра финансов — и хлоп, пожалуйте на казенный кошт!..[33]
Со стороны поведение Витте в этой истории могло показаться двусмысленным, необъяснимым. Сперва крепко выручил, просто‑таки спас запутавшегося в делах Савву Ивановича. Помог выбраться из финансовой ямы, в которую тот, по нерасчетливости, угодил. А спустя недолгое время сам же его в эту яму спровадил.
К числу тех, чье любопытство разбередила загадка подобного поведения «большого» министра — финансов, с известных пор примкнул министр «малый» — юстиции — Муравьев[34].
Случилось так, что вскоре после ареста обанкротившегося московского богача Сергей Юльевич отправился в Крым, на ялтинское побережье. По обыкновению, туда на бархатный сезон съезжался весь Петербург.
Муравьев уже находился в Ялте, когда Витте приехал, и Сергей Юльевич, согласно приличиям, счел нужным его гам навестить.
Всегда было интересно и поучительно побеседовать с Николаем Валерьяновичем. Блестящего ума человек.
Обменялись столичными и государственными новостями, и Муравьев, к слову, неожиданно проговорил:
— Вы, Сергей Юльевич, без сомнения, знаете, что Горемыке вот–вот придется оставить свой пост, так у меня к вам нижайшая просьба. Не проводите на его место Сипягина!..
— Откуда вы взяли, что это случится? — выказал Сергей Юльевич искреннее удивление, — И почему думаете, Николай Валерьянович, что меня спросят об этом?
— Ну как же! — Муравьев рассмеялся. — Прошлый‑то раз вы высказались за Сипягина! Это многие знают…
— Но почему же вы уверены, что такое случится?! Горемыка ведь за границей…
(Они как раз с Рачковским раскатывали по Европе.)
— Сергей Александрович мне верно сказал[35], — не стал Муравьев таиться. — И перед государем уже замолвил… чтобы меня назначить!.. Посодействуйте и вы, Сергей Юльевич!
— Не сомневаюсь, что великому князю виднее… Только я про это, поверьте, первый раз слышу!.. Прошлый раз действительно посоветовались со мной… Но поступили же наоборот, — в свой черед усмехнулся Сергей Юльевич, и разговор об этом как‑то сам собою увял.
Но осталась между ними неловкость, чувствовалось: Муравьев ему не поверил. Предсказание же его исполнилось в точности. Не успел Сергей Юльевич вернуться из Крыма, как прочел указ о смешении Горемыки и о назначении Сипягина на его место.
В результате министр юстиции затаил на него обиду и от сплетен, связавших Витте с плутнями Саввы Мамонтова, министерских ушей не замкнул. Того более, проявил объяснимое любопытство. Не сам, разумеется, никоим образом не сам. Только от Сергея Юльевича не укрылось, что судебный следователь стал упорно выспрашивать у арестованных по мамонтовской панаме про подробности их с Саввой Ивановичем отношений.
Спору нет, отношения между ними сложились… ну не то чтобы дружеские или приятельские… вернее было бы назвать их благожелательными. Не однажды начинания Саввы Ивановича находили сочувственный отклик у Сергея Юльевича, и в свою очередь пожелания Сергея Юльевича неизменно встречали понимание со стороны Саввы Ивановича… Взять, к примеру, покупку казной у Мамонтова построенной им Донецкой железной дороги в обмен, как бы это сказать, на встречную покупку Мамонтовым пришедших в расстройство казенных Невских заводов в Питере… Сергей Юльевич, со своей стороны, старался в долгу не остаться. Когда, выполняя просьбу его, Савва Иванович весьма поспособствовал представлению на Нижегородской выставке работ лучших художников, не только своей коллекции, других собирателей тоже, — то был за свои усилия высочайше пожалован орденом… И когда так и не поднявшиеся Невские заводы потянули за собою на дно главное мамонтовское предприятие — Московско–Ярославскую железную дорогу, а заправилы обоих обществ, пытаясь спастись, пустились, ради видимости благополучия, на всяческие извороты (перекладывали, скажем, деньги ничего не подозревавших акционеров из железнодорожного кармана в заводской, из Москвы — в Петербург, как если бы владели собственным частным банком), то Сергей Юльевич, будучи об этом осведомлен, не только закрыл на проделки глаза, но и бросил было тонущим спасательный круг. Не один даже. Сначала известный своей к нему близостью питерский банкир, Ротштейн, ссудил попавшего в затруднительное положение Мамонтова под залог его акций солидною суммой, а вскоре, опять же не без ведома, разумеется, Сергея Юльевича, москвичи получили выгоднейшую концессию. Сооружение железной дороги Петербург — Вятка сулило им солидные барыши… и, стало быть, покрытие прежних ущербов!..
Вот тут‑то и произошло непонятное на первый взгляд превращение. Метаморфоза. Не успели дельцы перевести дух, казалось выбравшись из трясины, как то же самое министерство, попечению коего они обязаны были концессией, вдруг потребовало ее у них отобрать!.. Для отмены высочайше одобренного решения пришлось министру Витте проявить незаурядную ловкость. А куда ему было деваться, если яма, в которую Мамонтов угодил, оказалась намного глубже, чем представлялось? При приемке вновь построенного участка дороги на Север такие вскрылись непорядки и перетраты, что запахло прокурорским расследованием. А тут подоспел и срок возврата ссуды Ротштейну.
Не в яму Савва Мамонтов угодил, а в петлю.
Потом, на следствии, он говорил, что Ротштейн, предложив эту ссуду, нарочно подстроил ловушку, чтобы завладеть его акциями. Заранее знал, — мол, денег ему будет неоткуда взять. На самом же деле тот, наверно, не думал, что дела столь плохи, Сергей Юльевич тогда в глаза заявил Савве Ивановичу, что он обманул их с Ротштейном… Заявил — и тут же попытался второй раз его вытащить, казалось бы, логике вопреки. В действительности логика, как всегда, ему ни на йоту не изменила. Крах Мамонтова грозил утянуть за собой кредиторов!.. Концессия и должна была стать вторым спасательным кругом, с условием, что в Обществе железной дороги заменят правление, сместив Савву Ивановича с первых ролей. Но, увы, и концессия не вынесла тонущих на поверхность… впору было выручать Ротштейна. Только тут Сергей Юльевич отступился. Того более, с его ведома было начато уголовное следствие обо всех их плутнях. Привело же это к тому, что катастрофически упавшие в цене акции мамонтовских предприятий скупила задешево казна, а на выгодную концессию хищно нацелился сэр Базиль, тогда как Мамонтова ждала скамья подсудимых.
В его действиях, правда, не столь корыстный умысел проступал, сколь грубые деловые просчеты… Доверился проходимцам. Вот что значило вместо дел отдаваться опере и прочим художествам, поделом ему, просвистал! Что дойдет до суда, в своих собственных (закулисных, само собой) комбинациях Сергей Юльевич допускал, однако, едва ли. Он Саввиной крови не жаждал… И наверное, по его бы и вышло… когда бы любопытства не проявил Николай Валерьянович Муравьев.
На все, что случилось в дальнейшем, легла мстительная его тень.
Известие, что следователи на допросах безнаказанно треплют его, Витте, имя, послужило для Сергея Юльевича сигналом опасности, и немалой. Кто‑то верно заметил, что ум наш алгебраическая величина, перед которой нравственная сила ставит знак свой — плюс или минус. Всеми признанный ум Муравьева был отмечен явственным отрицательным знаком, репутация его не оставляла в этом сомнений. Даже дядя его, знаменитый граф Муравьев–Амурский[36], умирая бездетным, при такой репутации графский титул племяннику, как бы следовало, не передал… Впрочем, Бог с нею, с частною жизнью. Важнее, что в прокурорской своей карьере Муравьев бывал и безжалостен и беззастенчив. Не один Сергей Юльевич знал примеры! Совсем молодым человеком он прославился, когда выступил обвинителем первомартовцев–народовольцев, окаянных убийц Александра II, и всех до единого подсудимых отправил на эшафот. Ему поручали самые запутанные и самые сомнительные дела, и он с ними неизменно справлялся. С такими, как громкий уголовный процесс «червонных валетов», в свое время взбудораживший всю Москву и умело сколоченный прокурором из разрозненных, мало связанных между собой происшествий. Московский генерал–губернатор, дядя царя Сергей Александрович, в самом деле с давних пор Муравьеву благоволил, в особенности же после того, как, расследуя ходынскую катастрофу (тогда, в день коронации Николая II, погибли в давке едва ли не две тысячи человек), он не обнаружил виноватых среди московских властей…
Одним словом, под пристальным взором «малого» министра юстиции «большой» министр финансов вступаться далее за разоренного Савву Мамонтова не решился.
И дело Мамонтова продвигалось заведенным чередом. А он при том и помыслить, наверно, не мог, что расплачивается не только за собственные прегрешения, но и за бюрократические интриги между сильными мира сего.
…Когда вызванного министром финансов с карлсбадских вод вчерашнего толстосума, не успел он вернуться, схватили, то во время обыска при аресте полицейские обнаружили у него заготовленную, видно авансом, записку: «…в моей смерти прощу не винить…»
На поступок, однако, мужества недостало. Уж больно Савва Иванович был жизнелюб…
А вот другой купец первой гильдии и коммерции советник, харьковчанин Алчевский, банкир, заводчик, шахтовладелец, приехавши в Петербург за кредитами и заказами для спасения лопнувших своих фирм и получив от министра финансов от ворот поворот, кончил счеты с жизнью под поездом на петербургском Варшавском вокзале. А обесцененные акции его предприятий с благословения Сергея Юльевича, того более с его помощью, в которой он каким‑то месяцем раньше отказал — вполне обоснованно, впрочем, — попавшему в отчаянное положение харьковчанину, все достались почти что задаром москвичам Рябушинским.
Возле хищных железнодорожных тузов, таких как Блиох, Вышнеградский, Губонин, Кербедз, отменную все ж таки деловую выучку прошел в свое время «юго–западный железнодорожник»…
17. Из‑за ширмы
К числу многих, кто испытал, явно, тайно ли, нестерпимую радость от известия о внезапной отставке самого Витте, как ни странно, принадлежал и Петр Иванович Рачковский. Что, казалось бы, изгнаннику до судьбы фаворита, временщика, правиттеля?!А все ж таки было приятно при сознании того, что, и высоко залетевши, можно больно упасть. И чем выше, тем будет больнее!..
Разумеется, опередивший министра в невеселом состязании сыщик не мог знать, что большой политик просчитался в затеянной чисто по–полицейски интриге. Зато догадывался без труда, на чем оступился он, полицейский. Да так, что, пользуясь этим, его давний, еще с судейкинских пор, доброжелатель Плеве, только недавно занявший долгожданное министерское кресло, мало того что потребовал его отъезда из Франции с запретом туда возвращаться, лишил полной пенсии, увольняя, но и уведомил об этом посольство в Париже ко всеобщему сведению открытым листом… Так вот, полицейский погубил себя тем, что в большую политику дерзнул было взлететь.
Как бы встречь…
Хотя тщеславие, как некоторых, не изнуряло его, всегдашняя закулисная роль, сколь влиятельною ни была, временами становилась невыносимой. Безудержная сила выталкивала из‑за ширмы.
Из суфлерской будки на освещенную сцену.
Так, в начале парижской службы Петр Иванович по собственному разумению учредил надзор за княгиней Юрьевской и ее детьми, сиречь детьми императора Александра И. От консьержки узнавал о каждом их шаге. Стоило, однако, этим сведениям дойти до императора Александра III, их единокровного брата, как карьера ретивого сыщика повисла на волоске.
Удержался он тогда и даже исправился во мнении императора благодаря удачной проделке с процессом бомбистов, якобы готовивших покушение на священную императорскую особу. Приговор парижского суда оказался суров, что смягчило государя к французам, положив, можно сказать, основу сердечному согласию Франции и России. И Рачковский имел на это больше влияния, нежели российский посол. К французским министрам и к самому месье президенту сделался вхож. А они, в свою очередь, не пренебрегали русским хлебосольством на вилле в Сен–Клу.
Настолько «женераль рюс» вошел в доверие к месье президенту, что тот, случалось, отдавал предпочтение ему и его агентам перед собственною французской охраной, да и комнату предоставил в его пользование в Енисейском дворце.
Набирая политический вес за границей, деятельный сыщик, уподобляясь покойному своему патрону Судейкину, уж не примеривался ли в конечном счете к министерскому креслу?.. Удачи, должно быть, вскружили ему голову. При всей своей расчетливости не сумел удержаться в рамках дозволенного, увы, преступил. Где именно и когда? По меньшей мере трижды и почти что в одно время.
Затеял во Франции «Лигу для спасения российского отечества», ее листовки разносили по Парижу уличные газетчики, камло, призывая прижимистых граждан вступать в «Лигу», а главное, раскошеливаться на благое дело. К тому же поболее сотни тысяч вытянул из Петербурга, да явно переиграл. Не принял в расчет перемены министров. При Сипягине бы сошло. Аферу, отдающую хлестаковщиной, прихлопнул новоиспеченный министр Плеве.
Повел было собственную международную политику с… Папой Римским. Кардинал, коего прочили в преемники престарелого Папы, готов был принять поддержку с его стороны. Сам же Папа Лев XIII на аудиенции в Ватикане, после того как «месье женераль» поделился сомнениями по адресу кардинала польского, высказал пожелание иметь в России папского представителя. Рачковский поспешил в Петербург, заручился согласием министра (тогда еще Горемыкина) и даже царя… и вдруг в одночасье все повернулось. Под воздействием влиятельных сил царь взял назад свое слово, и эта интрига, таким образом, окончилась пшиком.
Ввязался наконец в историю с лионским знахарем–чудотворцем. На сей раз, впрочем, не по собственному почину, однако же через голову надлежащего начальства. Этот некий месье Филипп, не без участия Петра Ивановича разысканный и представленный царю с царицей яри посещении Франции, был вытребован в Петербург и совершенно потряс их гипнотическими и спиритическими талантами. В особенности царица подпала под его чары, когда он предсказал ей рождение долгожданного наследника. Однако не всем при дворе пришлось по душе возвышение осыпанного милостями магнетизера. Противный лагерь возглавила вдовствующая императрица–мать. По ее‑то поручению и кинулся Рачковский с помощью французских коллег наводить о Филиппе справки. Легко убедившись, что тот шарлатан и к тому же, по слухам, якшался с масонами, привез про то доклад в Петербург. Явился к министру Сипягину.
Сипягин прочел. Сказал:
— Доклад адресован не мне. Ничего не хочу о нем знать. — И, указав на камин, на багровые уголья, договорил: — По–человечески же советую отправить его туда…
Увы, Петр Иванович доброго совета не принял, у него‑то на уме имелись свои виды.
А вскоре несчастный Сипягин погиб, и, как только та место его заступил Плеве, последовала расплата.
Фортуна от Петра Ивановича отвернулась…
Но так уж он был устроен, что ничего не умел прощать. Добродушию, отходчивости в его каверзах не оставалось места. Их скорее отличало холодное расчетливое иезуитство, заносчивость, недаром многие предполагали в его жилах шляхетскую кровь.
Окончательная расплата коллегу Плеве ждала еще впереди.
Да и с проходимцем Филиппом предстояло ему поквитаться.
Нет, Петр Иванович не наигрался еще за долгую, беспорядочную и столь недооцененную службу…
Не по своей воле оставив любезный ему Париж и мимоездом задержавшись в Брюсселе, он обосновался в Варшаве, где когда‑то в канцелярии генерал–губернатора прослужил недолго чиновником для письма. Лет тридцать тому минуло, знакомств почти не осталось, но охранное ведомство действовало и в Царстве Польском… Разумеется, Петр Иванович зажил вполне частною жизнью со своей француженкой Ксенией Мартыновной и сыночком, но при этом кое–какие связи и тут заплел. Встречался изредка да невзначай с одним из прежних своих агентов, весьма ценным, — если тот, понятно, появлялся в Варшаве. Террористы вроде бы затеяли охоту на Плеве, что Петра Ивановича занимало. Агент, имевший с полдюжины кличек, правда, частным образом этого не подтверждал, однако и не отрицал в то же время. До Петра Ивановича доходило, будто в Петербурге арестованы в связи с этим некие артиллерийские офицеры, а затем и человек более полуста из подобных охотников в Петербурге, Москве, Киеве и Ростове, так что министр не мог не узнать о своем предназначении стать для них дичью. Поговаривали о серьезном усилении его охраны…
О сложностях между Петром Ивановичем и министром посещавшему Варшаву агенту, как и многим в их ведомстве, разумеется, было известно. Это, однако, не мешало ему обиняком раскрывать отставленному начальнику раздобытые по своим ходам факты. И Петр Иванович заподозрил невольно, что агент, весьма может быть, каким‑то образом причастен… От ясных слов увертливый агент ускользал… а Рачковский тем паче. Щекотливая тема все колесила намеками да в обход. Интерес у обоих, однако, был близкий. Похоже, случились по меньшей мере еще две провальные попытки, покуда агент не явился в Варшаву одновременно с газетным сообщением об удаче.
Разговора на сей раз не получилось. Впрочем, регулярно наведываясь в охранное отделение, Петр Иванович как бы мимоходом справлялся, как продвигается розыск убийц. На месте преступления схватили лишь одного бомбиста, подельники же провалились сквозь землю. Знакомец ли Петра Ивановича умело замел следы за собой или другой кто, этого он, конечно, не мог знать точно. Сам же подавно не наследил. По–прежнему не оставлял улик Петр Иванович.
18. Такт в голове
Могло показаться, что столичные бюрократические дрязги всецело поглотили Сергея Юльевича. К счастью, так не случилось. Борьба за власть не сама по себе занимала его, по крайней мере на собственный его взгляд; власть виделась не самоцелью, а средством для успешного ведения дел. Выкинутый из министров «пинком в зад», он довольно скоро нашел занятие по себе. Нерастраченную энергию сосредоточил на Сельскохозяйственном совещании. Сугубо городской житель и по рождению и по воспитанию, он не был настолько самонадеян, чтобы вообразить себя сильно сведущим в сельском хозяйстве… впрочем, как в свое время в железнодорожном или в финансовом. От умозрений же, как всегда, был далек. Просто жизнь, сама действительная российская жизнь не давала больше отсрочек завершению начатой Александром II крестьянской реформы. Вот что виделось Сергею Юльевичу главным в 1903 году.
В начале его карьеры таким главным — делом— представлялось сооружение железных дорог! Оно продиктовано было российским пространством как важнейшее средство скрепить страну в одно целое, как возможность пронизать необъятное тело кровеносной системой. Но откуда взялись бы для этого сотни тысяч рабочих рук без реформ Александра II Освободителя?! И откуда взялись бы для этого капиталы без реформ финансовых, в каких сам он, Витте, сыграл не последнюю роль?.. Известный лозунг его предместника и наставника Вышеградского: «Недоедим, а вывезем!» — довольно быстро себя исчерпал. А старый железнодорожник у руля сложнейшей машины, именуемой финансами Российской империи, лишний раз убедился в том, что никакая машина без топлива не идет. И, чтобы обеспечить надежно ее работу, нужно позаботиться о его запасах. Это топливо — экономическое состояние России, страны по преимуществу крестьянской. Финансисту цифры не лгут. Русский подданный не способен был заплатить даже третьей части налогов француза — почему? Да потому, что он прозябает. Потому что раб!Пусть теперь уже не душою и телом, но раб произвола и сельского управления, и сельского схода. Следственно, в первую голову надо пускать на слом обветшалую, не поддающуюся совершенствованию средневековую сельскую общину, неспособную к производству товара, добиваться окончательного освобождения крестьян, распространения на них общегражданского права, превращения их в свободных граждан и в смысле экономическом, и в правовом.
Своим сотрудникам Сергей Юльевич не уставал повторять: не поддавайтесь пустому идеальничанью! Все равно экономические, хозяйственные потребности продиктуют свое. С ним жестоко спорили, он яростно убеждал, его собственный опыт привел к этому корневому правилу. Это ведь вовсе не верно, будто он был далек от умозрений всегда, «пустому идеальничанью» в свое время заплатил дань, но сумел отбросить, разорвать эти липкие путы. Большинству его прежних единомышленников избавиться от них так и не удалось, и его обвиняли в отступничестве, в ренегатстве. В предательстве даже. А Сергей Юльевич не из презрения к принципам, не из цинизма порочного, не из хамелеонства менял убеждения, в чем его упрекали неоднократно, а по той элементарной причине, что из них вырастал, как дитя из пеленок. Сама действительность излечивала от того умиления патриархальною стариной, что сквозило в его прежних писаниях: «…неужели необходимость развития русских мануфактур поведет и у нас к ломке нашего исконного строя, к обращению хотя бы части народа в фабричных автоматов, несчастных рабов капитала и машин?..» Самому не верилось, что собственная рука выводила такое… и вспоминать не хотел, к несчастью, напоминали… Вот когда‑нибудь, когда он совсем выйдет в тираж и, наверно, примется за мемуары, он попробует растолковать и свое увлечение, и свое разочарование патриархальщиной, славянофильством, коего воителей, прежних своих согласников, именовать стал с некоторых пор старьевщиками исторического бытия… но с единственным при том исключением: ни в малой степени не задевая дорогой ему памяти кумира молодости, любимого своего дяди Фадеева.
Император Александр II выкупил у помещиков душу и тело крестьян, освободив их от помещичьей власти, но не от рабства произвола, не успел устроить их быт на началах прочной законности, а не усмотрения. Но объективно — логически, политически — реформы Александра II подвигали Россию по пути к конституции. Права и обязанности свободных граждан России должен был обозначить закон. В том числе и право самодеятельной личности свободно распоряжаться собственными руками.
Верный излюбленной своей методе постижения проблем, Сергей Юльевич пригласил к себе присяжного поверенного Гессена, редактора кадетского «Права»:
— Что это вообще за штуковина — конституция в правовом государстве?
По совету Гессена, сопровожденному стихотворным напутствием, или, точнее, предостережением, взял с собою на дачу в Сочи для изучения (вопреки своей методе) тома профессора Градовского — руководство по государственному праву.
Стихотворное же предостережение застряло в памяти наизусть:
…Широки натуры русские -
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал…
Начатые Александром II реформы были свернуты на середине. Убийство царя погубило и подготовленную Лорис–Меликовым конституцию…
От него, от Лориса, получил в свое время Сергей Юльевич урок политики, суть которого не потерял из виду по сию пору.
Человек кавказский, Лорис–Меликов хорошо знал семейство Сергея Юльевича. Старший брат Александр даже служил у Лориса под началом. Когда понадобилась его поддержка, принял он Сергея Витте как своего. Речь тогда шла о составленном Витте уставе железных дорог. Утверждение устава встречало препятствия. Сергей Юльевич просил всемогущего диктатора государева сердца провести устав через Государственный совет, с обычной настойчивостью доказывая собственную правоту. Это вызвало у сановника недовольство.
— Что ты, душа мой, мне одно и то же толкуешь, — сказал он, слегка закипев. — Проведи да проведи. Тебе хорошо говорить… Я тебе, дорогой, так скажу. Когда я был молодым офицером, то для нас, молодых, авторитетами были фельдфебели и унтер–офицеры… Без них молодой офицер что может поделать?! А я еще вечно на гауптвахте сидел… И вот один фельдфебель выдавал дочку замуж и на свадьбу пригласил молодых офицеров. Мы пришли… Сначала венчание, как полагается, потом был обед, а после обеда бал. Начался полькой, так себе шла. Потом кадриль, а после кадрили мазурка… кавалеры стоят как мумии. Фельдфебель говорит: сейчас я их выучу! Подозвал всех к себе и сказал: дамы в мазурке должны только бегать, а вы ногами делайте что хотите, а в голове такт держите, тогда и выйдет мазурка!.. Вот ты мне говоришь, сделай да сделай, болтаешь, болтаешь, а мне в голове надо такт держать. Если я, дорогой, не буду в голове такт держать, то, пожалуй, государь меня выгонит!..
Смышленый Сергей Юльевич хорошо научился держать такт в голове. Да натура порой подводила…
Он держал в голове такт и думал: что было бы, если бы злодейское покушение на государя–освободителя не удалось очередной раз? Держа такт в голове, обсуждал эту в прошлом возможную ситуацию с Лопухиным, человеком в охранных делах не последним. Неужто нельзя‑таки было оградить царя от очередных нападений, когда террористы за ним охотились, как за зайцем? Неужто охранное отделение тогда было настолько бессильным? Или… может быть, оно и не очень старалось исполнить свой долг?! Закрыло глаза? Умыло руки? В роковой день перед глазами царя был проект конституции Лорис–Меликова. Царь был должен его вот–вот утвердить… Еще дядя Фадеев задавался вопросом и — задавал его людям, самым близким к погибшему государю: постигают ли продление его царствования, скажем, на десять лет? И что из нас вышло бы в таком случае? И они отвечали в один голос, что нет, мол, постигнуть не могут. А дядя Фадеев только тяжко вздыхал и крестился: пути Господни неисповедимы…
Сергей Юльевич пробовал постигнуть это сам. Землевладельцам, для их кармана, это обещало новые, и огромные, потери. А тогда, точно так же как и теперь, самый, может быть, влиятельный, могущественный в империи слой был заинтересован — экономически в первую очередь, — чтобы конституции не допустить. И помимо того, царь готовился обвенчаться со своею морганатическою женой[37], от княгини Юрьевской у него уже были дети. Даже день был назначен!.. Какими неисчислимыми проблемами ее коронация грозила династии, то и в мыслях трудно было представить… А одной метко брошенной бомбой неразрешимые проблемы разрешились мгновенно!..
— Согласитесь, Алексей Александрович, в руках вашего департамента жизнь любого русского человека, — сказал, помнится, Сергей Юльевич Лопухину, с трудом удерживая такт в голове, — Не исключая самого государя!
Они встретились с ним в Париже почти сразу после отставки Витте.
Директор департамента полиции замахал руками и открестился как от напасти:
— Бог с вами, Сергей Юльевич! Подумайте, до чего мы здесь эдак договоримся!..
…Между тем Сельскохозяйственное совещание под энергичным главенством отставленного министра набрало по всей России заметную силу. В губерниях и в уездах его местные комитеты говорили громкими голосами и, главное, весьма откровенно. Учрежденное еще с доброй помощью покойного Сипягина, у сипягинского преемника оно, с его деятельностью, вызывало изрядное раздражение, нараставшее даже в ту пору, когда Витте был в полном порядке, но — сдерживаемое до времени.
Наружу это выплеснулось осенью девятьсот второго в Крыму, куда Витте прибыл из поездки на Дальний Восток со всеподданнейшим докладом.
Переполненный впечатлениями от величия огромной страны, из конца в конец даже по железной дороге — по Великому Сибирскому пути! — пришлось едва не полмесяца ехать («Нельзя не поразиться мощными размерами сооружения, — докладывал всеподданнейше, — нельзя не испытать чувства удивления перед громадностью выполненной задачи…»), побывав не только на дальней окраине во Владивостоке, но и в Маньчжурии, в Порт–Артуре, в Дальнем — с целью обозрения последнего звена пути Китайской Восточной железной дороги, он вывел притом из осмотра весьма мрачные заключения. О ненормальности положения дел. Он настаивал перед царем на выводе войск из Маньчжурии, на соглашении с Японией для предотвращения больших бед. Он сожалел, что ему помешали воспользоваться приглашением японского императора и пересечь полоску моря между Порт–Артуром и Японскими островами…
Его величество, как обычно, оставался непроницаем… Неужто вправду не мог простить макакам давнего удара шашкой… саблей по голове?!
Из дворца, из Ливадии, в ялтинскую гостиницу вместе с другими сановниками возвращались и Витте с Плеве. Вячеслав Константинович пригласил их превосходительств к себе в апартамент отобедать, и Сергей Юльевич приготовился к жаркой с ним схватке по поводу дальневосточных дел. Но в обычной, поначалу бессвязной застольной беседе Плеве неосторожно задел сельскохозяйственные комитеты: какое множество у губернаторов с ними хлопот. Да еще не удержался от выпада:
— С вашими, Сергей Юльевич, комитетами…
Отчего на комитеты досадует Плеве, гадать не было нужды. Первоначальная высочайшая благосклонность сменилась раздражением ими по причине непредвиденного просчета. Ожидалось, что в губерниях и уездах станут нападать на экономическую, финансовую политику, и, таким образом, Витте как бы сам себе построит ловушку. А в действительности недовольство выражали внутреннею политикою вообще, а по отношению к крестьянам в особенности.
Сергей Юльевич принял вызов, ожидаемая дуэль началась — на ином, однако, ристалище, чем он думал.
— Объяснять настроения в обществе только этим? Ошибка! Корни глубже гораздо. Они в нашем прошлом, в недостроенном здании Александра II, — оседлал он излюбленного конька. — Вот откуда желание свобод, самоуправления, общественного участия… Этого полицейскими мерами не остановить, все гораздо глубже, чем может казаться. — И в свою очередь позволил себе прямой выпад, не задумываясь о такте: — Движение не поддастся тому аппарату воздействия, что имеется в распоряжении министра внутренних дел!..
Вячеслав Константинович хотел было возразить, но Сергей Юльевич не позволил остановить себя. Досказал что хотел:
— В наши дни не считаться с общественным мнением? На кого же правительству опереться? На народ?! —Он махнул рукой с безнадежностью, — Есть одна серьезная почва — образованные классы! Власть должна пойти им навстречу — им, их движению. И — возглавить его! Я не вижу другого пути…
Плеве стал отвечать с усмешкой и с обычной своей невозмутимостью, мало–помалу теряя ее, однако. И ответ его оказался еще пространнее речи Витте:
— Я не спорю, что движение глубже, чем многие думают. Я согласен, что корни его в прошлом. И что нам грозят немалые потрясения, допускаю. Но мы обязаны ставить преграды этому, а не плыть по течению. Нет, конечно, не ваши комитеты вызывают брожение. Но они арена для его проявлений!.. Помилуй Бог, произойдет революция, она будет не такая, как на Западе. Не народ поднимется и не войско, наш народ и армия, видит Бог, за царя. Революция будет искусственной, поднятой как раз образованными, интеллигентами. Их‑то цель — свергнуть власть, чтобы самим сесть на ее место…
Он немного передохнул, ковыряя остывшее блюдо, а Сергею Юльевичу вспомнилась сентенция царская, что следовало бы приказать Академии наук вовсе вычеркнуть противное слово «интеллигент» из русского словаря.
Ну а Плеве между тем продолжал:
— А случись так, не смогут они возглавить движение потому хотя бы, что окажется выдано множество векселей, и, чтобы по ним заплатить, придется идти на любые уступки. Так что, встав во главе, очутятся на деле в хвосте. И свалятся со всеми своими утопиями, краснобаи, говоруны, граммофоны… И тогда… — Вячеслав Константинович высоко поднял вилку и зловеще ткнул ею в направлении оппонента, — из подполья появятся жаждущие погибели России преступники с евреями во главе. А что будет тогда?! — И не стал ждать ответа на вопрос, риторически заданный. — Их поход на бюрократию, поймите, лишь лозунг, прикрывающий цель, повторяю, что цель их — разрушить самодержавие. Нет двух мнений, что реформы нужны, но только не этим путем. А содействуя, помогая правительству. У него традиции, опыт, умение управлять. Вам ли должен я, Сергей Юльевич, напоминать, что все наши реформы шли сверху. Нет, всякую игру в конституцию следует пресекать в корне!.. Вы же сами живой пример, чего может добиться талантливый и энергичный министр безо всяких там конституций…
Последнее замечание отчасти смягчило Сергея Юльевича.
— Во многом вы совершенно правы, — почти миролюбиво проговорил он. — Но я‑то утверждаю другое. Правительство, самодержавное или нет, нуждается прежде всего в сочувствии, в содействии общества. А этого, согласитесь, не существует сейчас. Значит, надо добиваться такого сочувствия — но не репрессивными же, Вячеслав Константинович, мерами! Вот что я утверждал… и утверждать продолжаю: большинство революций оттого происходит, что правительство вовремя не удовлетворяет назревших потребностей!.. Назревших и даже зреющих.
Для спора о Дальнем Востоке в тот раз уже не осталось ни времени, ни охоты.
…А Сельскохозяйственное совещание с его комитетами все‑таки пережило своего гонителя. Ненадолго, впрочем. В марте девятьсот пятого управляющий делами совещания Шипов неожиданно сообщил Сергею Юльевичу по телефону, что совещание решено закрыть.
— Как? Каким образом? По какой причине? — изумился Сергей Юльевич.
— Как революционный клуб! —ответствовал Иван Павлович Шипов в телефонную трубку.
Воистину у страха глаза велики.
Плеве, царствие ему небесное, не было, но в целости и сохранности оставалась бессмертная высшая полиция, каковая, помимо всего прочего, усматривала в сельской общине, в этом стадном устройстве крестьянского быта, гарантию существующего порядка.
Глупцы! Когда бы совещанию дали закончить работу, многого, что произошло потом, не случилось бы. Сергей Юльевич был в том убежден. Крестьянство не оказалось бы так взбаламучено революцией, и множества иллюминаций, скорее всего, не состоялось бы, в итоге жизнь сотен, если не тысяч, людей была бы сохранена.
Вместо этого довели Россию до смуты.
Заварили, безумцы, кашу. А расхлебывать кому выпало?
Ему и выпало, Сергею Юльевичу графу Витте!..
Часть вторая ДЕЛО № 1 О НАЙДЕННЫХ СНАРЯДАХ В ДОМЕ ГРАФА ВИТТЕ (продолжение)
1. На другое утро
осле бессонной ночи суета в особняке на Каменноостровском если и утихла, то ненамного. Поубавилось полицейской публики, зато замельтешили многочисленные газетчики, беспокойные и назойливые как мухи. С этой братией Сергей Юльевич был неизменно любезен, здоровался со знакомыми, незнакомых терпел. В беседы о происшедшем, однако, особенно не вступал, рассказывать предоставляя прислуге. В центре внимания очутился курьер Карасев. Вечером он заметил на заснеженной крыше отпечатки сапог. Подозрительные следы привели его на крышу соседнего дома.
Не сыщику пришло в голову осматривать крыши, не следователю, не полицейскому, которых понаехало пруд пруди. Утер им нос курьер Сергея Юльевича, состоявший при нем много лет. Не с неба же эти бомбы свалились, рассудил он здраво и вылез в чердачное окошко.
Однако же когда Карасев пришел утром, Сергей Юльевич отвлек его от сыскных операций, невзирая на проявленные им способности по сей части. Он вручил Карасеву запечатанный сургучом пакет со Справкой для камарильи, чтобы занялся своим делом, отвез пакет в Министерство двора барону Фредериксу, министру. Сергей Юльевич обещался представить Справку к этому дню. Посторонние происшествия не должны были препятствовать делу.
К пухлой Справке он присовокупил записку барону Владимиру Борисовичу, что будет признателен, и весьма, если барон как лицо, посвященное в перипетии того времени, соблаговолит указать на какие‑либо неточности. «Не откажите вернуть мне Справку с вашими замечаниями», — написал Сергей Юльевич, будучи совершенно уверен, что прежде того она не минует и государя.
Отправив Карасева с пакетом, он подумал было заняться просмотром газет, чтобы хоть в чем‑то вернуться к обычному распорядку. По обыкновению, просматривал свежие газеты за утренним кофе. На сей раз, приготовив ему кофе, Матильда Ивановна вспомнила, что Карасев еще вечером высказался в том смысле, что не мешало бы позвать трубочистов, проверить оставшиеся дымоходы. Держалась Матильда Ивановна молодцом, ее не нужно было успокаивать, скорее, она своим хладнокровием благотворно влияла на Сергея Юльевича. Но ее тревожили обнаруженные Карасевым следы.
— Вдруг найденный снаряд не единственный!..
Именно таково было предположение проницательного курьера.
Пришлось задуматься над тем, откуда лучше звать трубочистов. Тут тоже была незадача. Обращаться к своим, постоянным, Сергей Юльевич не захотел. Не мог исключить вероятия, что те приложили руку к случившемуся. Но даже если на самом деле они ни при чем, их вполне смогут обвинить в причастности, если кто‑то того пожелает… В итоге осматривать трубы явились вызванные по просьбе Сергея Юльевича дворцовые трубочисты. И без особых усилий обнаружили еще одну адскую машину — в другом дымоходе.
Ну а следом снова пожаловал бравый ротмистр Комиссаров со своими людьми. С осторожностью извлекли из трубы, сноровисто разрядили и эту машину, оказавшуюся точной копией найденной прежде.
И глава полицейского департамента тоже не обошел вниманием места событий. В особняк на Каменноостровском Трусевич попал в самый раз ко времени завтрака, — впрочем, запаздывавшего в суматошный день, потому без помех задержал Сергея Юльевича разговором… О том, чтобы вернуться к обычному размеренному расписанию жизни, в этот день оставалось только мечтать.
— Вы себе представляете хотя бы направление сыска? — спрашивал полицейского директора Витте.
— Не волнуйтесь, Сергей Юльевич, это дело поручено опытнейшему из наших следователей, — старался успокоить его Трусевич. — Поверьте, все будет раскрыто, голубчик ваше сиятельство.
— Хотелось бы верить… Но на кого подозрение? Где хоть искать преступников?
Накануне в разговоре с Сергеем Юльевичем, напротив, не он, а полковник Герасимов из охранки задавал ему подобный вопрос: не подозревает ли он кого‑либо, кто бы мог подложить машину? Сергей Юльевич отвечал, что совершенно не знает, на кого и подумать, хотя политические его враги в настоящее время, как ему кажется, скорее не анархисты, а противоположные им крайние правые, но он мысли не допускает, чтобы эти господа решились на такой ужас. И в свою очередь задал вопрос, не имеет ли полковник кого‑нибудь на подозрении. Тот сказал, что точно не знает, но согласен, что, возможно, это кто‑то из правых…
Директор же департамента, начальство полковника, был настроен куда благодушнее. И когда Сергей Юльевич спросил, где, по его предположениям, следует искать преступников, отвечал:
— Ну уж, сразу преступников, ваше сиятельство… негодников, лучше бы сказать, шалопаев. Бомбы‑то их даже и не могли взорваться, ведь часовой механизм был зажат в ящике между стенок.
— А если бы печь затопили? Обошлось бы и без часов, надо думать… Не–ет, тут действовали террористы!..
— Наша часть — следствие, — с холодком напомнил директор Трусевич. — А уж кто они там, ваши бомбисты, это суд решит, Сергей Юльевич… Главное, порекомендую вам, с вашего позволения: избегайте излишних волнений!..
При этих успокоительных словах полицейского главы неожиданно из угла кабинета раздались бодрящие аккорды военного марша.
— Что это?! — встрепенулся глава.
— Часы… Всего лишь часы, не тревожьтесь. Это мои пограничники напомнили о себе.
На столике в углу, сбоку островерхого камня, на гребне которого конный дозорный, натянув поводья, глядел вдаль, был укреплен циферблат.
— Вы же знаете, корпус пограничной стражи был основан при Министерстве финансов, вот мне как министру и преподнесли в свое время презент. Тем более этот марш выбирал для корпуса я… — И добавил не без усмешки: — Эти часы не врут! Ровно в полдень сигналят, как пушка с Петропавловской крепости… Так сказать, приглашают к завтраку… Хотя, боюсь, что сегодня… — Сергей Юльевич виновато развел руками.
После душеспасительной этой беседы он подумал о Манасевиче, вопреки тому что другим неоднократно советовал держаться от сего господина подальше. Господин был из пишущей братии, но его услугами можно было воспользоваться и в иных видах.
Мало кто сомневался в тесных связях Ивана Федоровича Манасевича–Мануйлова с полицейским ведомством, равно как никто не усомнился бы в том, что он не Иван, не Федорович, не Манасевич–Мануйлов. Его происхождение было еще темнее, чем его деятельность, хотя, казалось, куда уж… Самоуверенный, наглый, авантюрист и жуир, он однажды, по молодости, покусился на самого Рачковского, предавшись по собственному почину политическому сыску в Париже. За что тут же получил по рукам, и достаточно сильно. Впрочем, подувял он ненадолго, и Рачковского таки после отставки сменил, во всяком случае в том, что касалось прессы, — подвизался, помимо прочего, в журналистике. Нюх имел как у гончей. Но с Сергеем Юльевичем обмишулился. Собирал о ней материалы, не исключено, что для книги, биографической, а тому в одночасье по шапке… Ходили, впрочем, неясные — как во всем, что имело к нему отношение, — слухи, что и тут слегка поднапачкал… Это не помешало ему послужить при Витте в смутную пору его премьерства, посильно оказывая всяческие, большею частью незначительные, услуги. В охочем до домыслов Петербурге кое‑кто даже стал утверждать, будто Манасевич (возможно, из‑за его туманного происхождения) приходится какой‑то родней графине Матильде Ивановне (не без намека на ее прошлое, туманное почти столь же). Ну уж это была полнейшая чушь. Так или иначе у Манасевича со времен Рачковского имелись свои счеты с полицейским ведомством. И он без колебаний согласился на просьбу Сергея Юльевича разнюхать по собственным тайным линиям, какие же все‑таки силы скрываются за попыткой взорвать особняк на Каменноостровском.
Однако, несколько поостыв и на холодную голову поразмыслив, как бы восстановив, по Лорису, такт в голове, Сергей Юльевич пришел к выводу, что, пожалуй, частное следствие только осложнит дело. Такой вывод напрашивался сам собой, в особенности после того, как судебный следователь допросил Гурьева. Из вопросов, какие ему задавались, не составляло труда понять, что судебная власть допускает, будто бы в действительности покушения не было, а была… симуляция покушения. Если уж власть додумалась до того, что он мог сам себе подложить бомбу… Сергей Юльевич почувствовал опасность в подобном обороте событий. Не зная, что Манасевич вздумает предпринять и не желая попасть еще в какую‑нибудь малоприятную историю — и притом держа «такт в голове», — попросил прекратить начатые было разыскания, предоставив вести следствие надлежащим властям.
— Сожалею о таком вашем решении, — отвечал Манасевич. — Мои сотрудники были на пути к интересным раскрытиям. Разумеется, по вашей просьбе я сразу же телеграфирую в Москву и в Нижний Новгород, куда повели следы, разыскания немедленно прекратить.
И представил Сергею Юльевичу счет произведенных расходов. Сергей Юльевич предпочел безропотно их оплатить, хотя ни его беседа с полицейским директором Трусевичем, ни тем более беседа судебного следователя с Гурьевым отнюдь не вселяли надежд на успешный исход официального расследования.
2. Сила пишущей братии
За утренним кофе Сергей Юльевич имел привычку просматривать свежие газеты, где внимательно, а где бегло, — «Биржевые ведомости», «Речь», «Русское слово», а также, по старой служебной закваске, три, которые читал царь, — суворинское «Новое время», московские «Русские ведомости», «Свет» Комарова. Просматривая, отчеркивал заинтересовавшие места, с тем чтобы вернуться к ним вечером, когда секретарь положит вырезки ему на стол.
В среду 31 января ни одна газета не обошла вниманием случая на Каменноостровском. Даже вырезка из черносотенного «Русского знамени» среди прочих лежала у него на столе: «…без содрогания не представить себе картины, если бы адский замысел удался…» — даже «черная сотня» негодовала.
Над вырезками из газет Сергей Юльевич засиживался допоздна. Он давно уже оценил возможности печати, двоякие, обоюдосторонние, — как выразительницы общественного мнения и в то же время как орудия воздействия на него. И последним широко пользовался с помощью собственных лейб–журналистов, напрямик и… объездом, приручая, к примеру, «Биржевку» публикацией казенных объявлений тысяч этак на двести в год и ничуть этого не скрывая.
Да что говорить, достаточно одного факта, чтобы понять, какое значение придавал он печати.
В Справке, которую с Карасевым отослал камарилье, перечислены были события двух недель, предшествовавших Манифесту 17 октября. Исторической этой датой она завершалась. В ней поэтому, естественно, не сказано было, что, едва тем вечером возвратясь с подписанным царем Манифестом из Петергофа, почти одновременно с отправкой в типографию его текста Сергей Юльевич велит разослать чуть ли не в три десятка изданий коротенькое приглашение господам петербургским редакторам пожаловать к нему завтра, во вторник, 18 октября, к II часам утра, на Каменноостровский, 5, для беседы. Свою деятельность первого в российской истории председателя Совета Министров он, таким образом, начал с разговора в том самом жанре, что лишь десятилетия спустя получил наименование пресс–конференции.Эта, данная графом Витте в первый же день его премьерства, тоже, между прочим, стала первой в своем роде в российской истории… Он хотел заручиться поддержкой господ журналистов в предстоящем расхлебывании бурно кипящей и не им заваренной каши, в архитрудном, взваленном на него деле — успокоении взбаламученной страны. А они… они буквально закидали его непомерными требованиями, не сознавая, что, погнавшись за журавлем в небе, рискуют упустить из рук едва пойманную синицу.
Встреча не оправдала его надежд.
— Они мне в бороду наплевали! — гневался Сергей Юльевич вослед собеседникам.
Однако отношения своего к печати от этого, как выяснилось, не переменил. Уразумел: господа журналисты помутились от нахлынувшей внезапно свободы. Не забыл, что недавно совсем, главным образом благодаря их коллегам, он добился успеха с японцами в Америке, в Портсмуте. Не сумей тогда найти с этой публикой общий язык, кто знает, чем закончились бы мирные переговоры…
Он обдуманно стал разыгрывать в тогдашнем дипломатическом торге эту сильную карту.
Сев в Шербуре на пароход под торжественные звуки «Боже, царя храни» и помахав на прощание с палубы оставшейся на французском берегу Матильде Ивановне, он решил на шесть дней плавания через океан уединиться в каюте, дабы собраться с мыслями, сосредоточиться, определить для себя план кампании. Уединиться оказалось не так‑то просто, и как раз в первую очередь из‑за корреспондентов, английских, американских, французских и своих, русских, отплывших с ним вместе. Притом Сергей Юльевич, как будто бы вопреки собственным намерениям, отнюдь не чурался их общества, кое–кого даже приглашал на обед. Или же, прогуливаясь по палубе с тем или иным из их братии, не только и не столько высказывался с осторожностью сам, не больно‑то удовлетворяя профессиональное любопытство собеседника, в том в особенности, что касалось щекотливой темы предстоящих переговоров, сколько, не выпуская изо рта папиросы, старался порасспросить об американских настроениях, о личности президента, об отношении к России и к злополучной войне. Как выяснилось позднее, эти обеды и эти прогулки на самом деле вполне отвечали его намерениям. И плану, который, разумеется, был им продуман. Под пунктом третьим он в нем обозначил: имея в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя особливо предупредительно и доступно ко всем ее представителям. И, не откладывая в долгий ящик, дал интервью о предстоящих переговорах известному публицисту Диллону.
Нелишне заметить, оно не было первым. Еще в Петербурге, перед отъездом, Сергей Юльевич побеседовал с корреспондентом Ассошиэйтед Пресс, который в нем видел представителя проигравшей войну страны, побежденной и жаждущей мира любой ценой.
Пришлось осадить заносчивого американца.
— Не судите о нас с точки зрения западных идей. Чтобы познать Россию, необходимо здесь родиться! — вразумлял его Сергей Юльевич. — Россия отнюдь не находится накануне утраты великодержавной своей роли. Вот увидите, через несколько лет она вернет себе положение могущественной, влиятельной в европейском концерте державы!
Он даже сказал тогда не без пафоса славянофильской своей поры: «…чтобы познать Россию и постигнуть душу народа…»
Но интервью Диллону на борту парохода «Кайзер Вильгельм» стало предметом особой гордости Сергея Юльевича. Со времени существования прессы оно оказалось первым, отправленным с середины океана — по воздушному телеграфу! Во всяком случае, если верить тому, что говорилось вокруг… и, что греха таить, тешило его самолюбие. А главное, после этого общение с журналистами сделалось еще оживленней.
Ну а вблизи Нью–Йорка громадину «Кайзера» встретили сразу несколько юрких корабликов с репортерами разных американских газет. С той минуты все дни пребывания в Новом Свете Сергей Юльевич находился под неусыпным надзором газетчиков. Следили за каждым его шагом. Не менее, если не более зорко, нежели родимые свои агенты… Направо и налево он раздавал интервью и автографы, пожимал руки машинистам поездов, на которых ездил, он был все время актером, играя в демократическую простоту едва ли не похлеще самого американского президента, собаку съевшего в этой роли, и все это попадало без промедления в газеты, день ото дня располагая к русскому гиганту и прессу и публику, склоняя общественное мнение на сторону русских в ущерб японцам, в российский фарватер, как выразился один корреспондент…
Вот когда Сергей Юльевич уверовал окончательно в могущество пишущей братии… а, следовательно, отчасти и собственной литературной агентуры, собственных своих «лейб» — журналистов, или, в сокращении, «лейб». Ей–богу, он не взялся бы утверждать, что, скажем, Петру Ивановичу Рачковскому, этому признанному магистру и испираций, удавалось посредством своей агентуры добиваться во времена оны подобных результатов…
3. Неугодный посланник
…О предполагаемых переговорах с японцами приехал советоваться к Сергею Юльевичу Николай Валерьянович Муравьев. Незадолго до того он оставил Министерство юстиции и, так и не ставши министром внутренних дел — по его мнению, не без руки Сергея Юльевича, — обитал теперь в Риме. Был отправлен туда послом по протекции старого своего благодетеля великого князя Сергея Александровича буквально накануне его гибели. Просился‑то, нетрудно догадаться, в Париж (а кто не хотел бы пожить в Париже), но теплое место было занято прочно; а вот в Риме для Муравьева вакансию освободили.
Разумеется, и до этого визита на Каменноостровский Сергей Юльевич довольно‑таки обстоятельно знал, что в верхах готовятся к подобным переговорам. Тем более тешил себя надеждой, что и сам сыграл тут не последнюю роль. Не то что с начала, а до начала задолго, с самого, можно сказать, появления тучи на горизонте, противник злосчастной войны, он и позже, когда гром уже грянул, не однажды обращался к царю с настояниями отвратить грозу. Прошлым летом писал ему из Германии, после того как получил предложение под рукой обсудить условия примирения с японским послом. Это было еще прежде падения Порт–Артура… Но, опальный, не удостоился даже ответа. И еще раз писал. И сразу же после Мукдена. Зловеще, сверх меры сбывались его давние, еще довоенные предупреждения… Теперь он предвидел: дальнейшие жертвы приведут страну к катастрофе, к ослаблению и помрачению духа, к беспорядкам, которые могут перерасти в ураган. Финансы, хозяйство расстроятся совершенно, и Россия потеряет за границей кредит, а ее кредиторы станут ее врагами. Теперь он поучал всемилостивейшего «слабосильного деспота»; если решимость нужна при счастье, то при несчастье она сугубо необходима. Она есть ступень к спасению.
«…Не боязнь водит мою руку, а решимость, — писал он царю, — решимость сказать Вам, что другие, может быть, сказать побоятся. Нельзя медлить, нужно немедленно открыть мирные переговоры…»
Такую правду царь не привык слышать… Ответом по–прежнему оставалось молчание.
Между тем разве было неясным, что условия мира до падения Порт–Артура оказались бы легче, чем после, так же как до Мукденского сражения легче, чем после него… чем до Цусимы… чем до грозящей потери Сахалина и Владивостока…
— Как старый преподаватель математики, — мрачновато пошутил Сергей Юльевич, принимая у себя Николая Валерьяновича Муравьева, — я вывожу формулу: тягостность условий мира будет пропорциональна длительности военных действий.
И все‑таки, по всему судя — хотя бы по визиту сему, капля камень долбила.
Но еще понадобилась Цусима, чтобы вразумить меднолобых, и вслед за этим еще вмешательство американского президента…
До Сергея Юльевича донеслось: после цусимской трагедии двух недель не минуло, как посол Америки испросил высочайшую аудиенцию — и якобы передал императору мнение президента о полной безнадежности войны для России. Война‑де грозит ей потерей восточноазиатских владений, а также серьезными внутренними потрясениями (не о том ли предупреждал и Сергей Юльевич…). Притом президент деловито вызывался устроить свидание российских и японских представителей. На сей раз царь согласился. На последовавшее официальное предложение Рузвельта тут же отозвались с готовностью и японцы. Похоже, он действовал с их одобрения… Что, казалось бы, янки до русско–японской драки? Недоумение Николая Валерьяновича Муравьева Сергей Юльевич рассеял без особых усилий. Банкиры нью–йоркские вложили в Японию столько долларов, что в какой‑то момент пришли к выводу, что предприятие делается слишком рискованным.
Николай Валерьянович провел целый вечер на Каменноостровском. Встретились вполне дружелюбно, словно забыли или, по крайней мере, отодвинули в сторону прежние нелады. Экстренно вызванный из своего Рима, Муравьев получил поручение отправляться на мирные переговоры в Америку. Почему именно туда, объяснялось желанием Рузвельта.
— Разумнее было бы съехаться где‑то поближе к месту событий, — полагал Сергей Юльевич. — Почему бы, например, не в Пекине?
— Еще и Париж назывался, — сообщил ему Муравьев. — Но если уж выбирать между Европою и Америкой, согласитесь, в Америке легче избавиться от вечных европейских интриг.
Он приехал к Сергею Юльевичу только что от царя весь в сомнениях, сумеет ли справиться с труднейшей задачей.
— Вон мудрец Нелидов, посол в Париже, по возрасту и нездоровью предусмотрительно отказался…
— А также по незнанию английского языка и дальневосточных дел, — как бы в назидание добавил со своей стороны Сергей Юльевич.
Он пользовался собственным источником сведений по ведомству иностранных дел. Так вот, согласно вестям от его источника, министр сразу же, еще до Нелидова, предложил государю для переговоров с японцами кандидатуру Витте. Но на докладе министра Николай решительно начертал: только не Витте. Не мог, по характеру своему, простить ему прежних предостережений, в особенности же того, что они оправдались.
— Да, да, — в ответ на назидание Витте сказал между тем поглощенный своим Муравьев, — о дальневосточных делах я и хотел порасспрошать вас. И кого бы посоветовали взять с собой…
Он царю доложил откровенно, что задача, возлагаемая на него, неблагодарна до крайности. Хотя при настоящем положении, безусловно, по его мнению, необходима. Но все равно, заключит ли он мир или нет, его станут терзать и винить в последующих несчастьях, которые, скорее всего, уже неизбежны… Человек, по меньшей мере парижского «мудреца» не глупей, теперь он взвешивал, стоит ли приносить себя в жертву, имея в виду, по всему судя, цель, к какой устремился ныне. Догадаться нетрудно, что метил Николай Валерьянович опять же на большой министерский пост, только уже на сей раз не внутренних, а иностранных дел…
Сергея Юльевича, однако же, уверял, как счастлив, что своевременно избавился от родимой смуты и суеты, от чепухи, творящейся в Петербурге. И, наблюдая заграничную жизнь, убеждается все более в том, что, учитывая происходящее, только конституция может спасти Россию. Не исключено, что таким заявлением хотел потрафить хозяину дома.
Когда через несколько дней Витте доложили, что Муравьев отказался, вослед старику Нелидову сославшись на нездоровье, по причине коего боится не вынести долгого плавания за океан, и даже при этом прослезился у государя, — Сергей Юльевич рассудил, что умный человек окончательно взвесил, что дело невыигрышное, успеха не обещает, притом же рискованное, и весьма… Отчасти смущало лишь то, что при встрече на вопрос Сергея Юльевича о самочувствии с бодростью отвечал, что оно‑де прекрасно…
Тем временем явственно оживали совсем было утихшие толки о кандидатуре самого Витте. Видя, как эти толки встревожили ее Сергея Юльевича, Матильда Ивановна придумала своими путями разведать, насколько они серьезны. Бесхитростным этот женский ход едва ли кто бы решился назвать…
Пора была летняя, дачная: на Елагином острове они соседствовали с Котиком Оболенским, почитавшимся в свете да друга их дома. Да так оно, по сути, без скользких намеков, и было… Жил Котик на даче с матушкой, весьма уже пожилой, которую пользовал профессор, лейб–медик. Вот Матильда Ивановна с Котиком и уговорилась, что он профессора пригласит к матушке, а заодно передаст ему приглашение к Витте на завтрак. За завтраком, потчуя гостя, хлебосолы–хозяева, Матильда Ивановна в первую очередь, все расспрашивали его о том, что говорится о кандидатуре Сергея Юльевича в Гатчине. Гость не многое слышал и, само собой, между прочим; но слышанного не скрывал и уж во всяком случае расспросам не удивился, поскольку прием такой, осведомления ради, не в доме Витте на свет появился…
В те же дни телеграфное известие о японском десанте на Сахалине заставило сферы поторопиться. Буквально назавтра же граф Ламздорф, министр иностранных дел, уединившись с Сергеем Юльевичем, сообщил, что при добрых отношениях между ними там(красноречивым жестом показал, где именно) ему поручили приватным образом выяснить, дабы не встретить отказа, не согласится ли Сергей Юльевич принять мирную миссию на себя. В отличие от Муравьева с Нелидовым, он действительно недомогал — по обыкновению, горлом, но не захотел уподобиться этим мудрым дипломатическим змиям и отвечал не колеблясь, что да, он согласен. Как он мог упустить столь завидный шанс возвратиться в большую политику! Дело было как раз по нему, с мировым, с настоящим размахом…
И немедля последовало назначение, неожиданное не более, нежели долгожданное… Вчера еще, казалось, немыслимая беседа с царем состоялась уже на другое утро, государь со всегдашней своей учтивостью благодарил Сергея Юльевича за изъявленную готовность и желал успеха на переговорах.
Едва возвратясь из Царского Села в Петербург, он уже обсуждал, по высочайшей воле, военное положение с великим князем — главнокомандующим.
А затем его лихорадило в течение нескольких дней той предотъездною лихорадкой, что у немцев называется райзефибер: торопливые сборы в дорогу, беседы, и интервью, и прощальный визит к царю, при котором государь повторил настоятельно основное наше условие: ни рубля контрибуции и ни пяди земли.
Ну а дальше был поезд в Париж вместе с Матильдой Ивановной и с маленьким внуком, гостившим у деда с бабкой на даче. Большинство делегации также ехало с ними. «Муравьевский» ее состав Сергей Юльевич целиком сохранил, не стал трогать, необходимости в том не видел, да и времени не имел… А потом, не доезжая до места, — дружная атака французских корреспондентов, выехавших им навстречу, и беседа с самым бойким из них, из парижской «Матэн», о семейной жизни, об отношении к детям… Самое большее, чего тот достиг, — снял на фотокарточку месье Витте с внуком на коленях. От политических разговоров месье артистически ускользал…
На парижском вокзале дю Нор их встречала толпа во главе с российским послом, тем самым мудрым Нелидовым — вполне комильфо, — что не стал подвергать себя риску выступить в его роли. С послом рядом находился полицейский префект. Спустя несколько дней те же лица явились на проводы с другого вокзала, Сент–Лазар, на поезд в Шербур. А все это недолгое время по Парижу Сергея Юльевича сопровождала охрана на велосипедах — как недоброй памяти Вячеслава Константиновича Плеве когда‑то. Оказалось, опасаются покушения со стороны русских революционеров (Плеве, как известно, такая предосторожность не уберегла). Этим людям возможный с японцами мир, точно кость, стоял поперек горла… Французская же публика была к происходящему подчеркнуто безучастна, опрокидывая его прежние представления о парижанах. Уязвленное патриотическое чувство относило их равнодушие на счет военного краха. Правда, власти, начиная с президента Лубэ, принимали месье с теплотой и как искренние друзья России призывали непременно заключить мир. Соглашаясь с ними, Сергей Юльевич притом трезвой головой понимал: соблюдают в этом французы первым делом свой собственный интерес…
Наконец последняя рытвина на ухабистой, по–российски, дороге — непредвиденная задержка в Шербуре.
Пароход опаздывал из‑за шторма. Коротали вечер в оживленном веселящемся казино, не в игорном, разумеется, зале, но под музыку пили чай на террасе, по–семейному, допоздна, вместе с зятем и дочерью, провожавшими их из Парижа. Затем там же при казино в номерах и остались на ночь.
Океанский «Кайзер Вильгельм» подошел к берегу утром принять на борт пассажиров.
Взяв у трапа под козырек, пассажира герра С. Ю. Витте сопровождал на верхнюю палубу капитан, весь в белом, под бравурные звуки судового оркестра, завершавшего русским гимном затянувшуюся прелюдию к его путешествию в Новый Свет из старухи Европы.
4. Палубные интервью
На корреспондента лондонской «Таймс» американца Джорджа У. Смолли Сергей Юльевич произвел особенно сильное впечатление. Говоря честно, он и сам приложил к этому кое–какие старания. Так или иначе результат был достигнут, доказательством чему стали публикации этого поначалу настроенного в пользу японцев журналиста. Нет, недаром некоторые в Петербурге искренне считали Витте гипнотизером.
Вместе с коллегой по редакции сэром Дональдом Уоллесом, признанным русофилом, они отправлялись в Америку, так же как и Витте, на «Кайзере Вильгельме». Однако, в отличие от коллеги, не ожидая от переговоров никакого толка, Смолли ехал без особой охоты. Знакомый с российским политиком, сэр Дональд предложил представить коллегу, будет в любом случае любопытно. Но тот предпочел, чтобы прежде сэр Дональд прощупал почву, пожелает ли этого Витте. Симпатии Смолли могли быть ему известны.
На третье утро плавания сэр Дональд подвел его к бородатому русскому. Тот медленно привстал из глубокого кресла во весь свой впечатляющий рост и как‑то нерешительно протянул руку.
— Вы представитель «Таймс» в Вашингтоне? — спросил на корявом французском.
— Совершенно верно.
— Ваши корреспонденции не особенно приязненны России?
Смолли не удивился вопросу:
— Скорее они дружественны Японии, месье. Но должен заметить, что симпатии к России вообще наша традиция, в отличие от японофильства.
Американцу показалось, что пристальный взгляд русского пронзил его сверху вниз почти что враждебно. Потом он так описал поразившую его внешность этого «удивительного человека», мощь которого сразу же ощутил в этом взгляде из‑под крутого высокого лба: широкие губы, нос даже не вздернут, а словно провален, как сломан у переносицы, что часто бывает у профессиональных боксеров, неправильные черты, татаро–славянские (по разумению журналиста), да и скроен нескладно, чересчур длиннорук даже при этаком росте… Одет был свободно и просто, в чем‑то поношенном, мешковатом, сильно смахивая на какого‑нибудь управляющего фабрикой, выбившегося из низов, этакого селфмейдмена, как называют таких в Штатах, самого себя сделавшего мужчину.
Впрочем, долго рассматривать он себя не дал:
— Что вы думаете о том, чтобы прогуляться по палубе?..
Прогуливались довольно долго. Эту первую их беседу
трудно было назвать открытой. Приглядывались друг к другу, прощупывали на нейтральных темах. Представитель потерпевшей военное крушение стороны совершенно не похож был на удрученного человека. Напротив. Был явно невозмутим и самоуверен, хоть и не скрывал своей озабоченности предстоящим ему делом. Зажигал от одной папиросы другую, то и дело перезаряжая свой прокуренный деревянный мундштук.
Его интересовало, как в Америке смотрят на русско–японские распри.
Впрочем, не преминул в разговоре заметить:
— В этой русско–японской дуэли были, как полагается, свои секунданты. У нас — Франция и Германия. У японцев — Альбион и, прошу прощения, Америка!..
Его занимала личность американского президента. Когда выяснилось, что Смолли давно и близко знаком с Тедди, сказал:
— Не стану выспрашивать про то, чего вы все равно не захотите говорить. Но ваш президент — патрон предстоящих переговоров, и, что бы вы мне ни рассказали, я выслушаю с большим вниманием.
Собеседник, конечно, тоже не мог обойтись без вопросов, иначе какой бы он был журналист. Ему не раз приходилось слышать расхожие характеристики, раздаваемые мистеру Витте как главному уполномоченному на переговорах о мире: бесспорно, человек очень способный, но дипломатического опыта не имеет, не Талейран, отнюдь.
Однако от разговоров о собственных намерениях «не Талейран» с неизменной ловкостью уклонялся. В затруднительных случаях его выручал французский язык, который они употребляли в беседе, чужой обоим, так что каждый мог коверкать его по–своему…
Все же при расставании Витте пообещал:
— Вам, Жорж, — он на французский лад произносил его имя, — конечно, захочется знать, что будет происходить на конференции. Заходите ко мне, я откровенно расскажу вам, что можно.
Его благосклонностью Смолли не пренебрег, он держал слово, но ни положение его, ни обстоятельства не позволяли пускаться в излишнюю откровенность. Прекрасно отдавая себе в этом отчет, под конец он сказал американцу:
— Если обратно опять поедем одним пароходом, я многое смогу вам открыть, чего пока что касаться не вправе…
До обратного пути было, однако, еще так далеко. И каким он окажется, этот обратный путь, тоже было скрыто от глаз, точно в океанском просторе… И никак невозможно было того исключить, что окажется возвращение очень и очень скорым. Сергей Юльевич старался особенно не показывать, что настроен весьма недоверчиво к предстоящим переговорам. Только секретаря своего, из «одессистов», уже попросил справиться о расписании пароходов, следующих из Нью–Йорка обратно, и наверно не из одной своей неизлечимой слабости к расписаниям вообще…
Но… переговоры все‑таки начались, и более или менее в назначенный срок.
Разумеется, ход конференции невозможно было держать в совершенном секрете, да это просто и не было ни в чьих интересах. А российских уж точно. Не раскрывая конкретных подробностей, мистер Витте рассуждал с журналистами на общие темы, что ни в коей мере не нарушало условий переговоров. Например, на опыте наполеоновских войн или более близкой франко–прусской войны выяснял, как наука международного права трактует такое понятие, как военная контрибуция… То, что, именно эта проблема стала камнем преткновения на мирных переговорах, сразу сделалось секретом полишинеля[38]. Так же как трехкратное обращение — и все по этому поводу — знаменитого своим упрямством американского президента[39] к императору всея России. Рузельвельт, как почему‑то президента Теодора Рузвельта упорно называл Витте (быть может, позволяя себе милую безобидную причуду великого человека, а возможно, по какой‑то иной причине; известно, Сергей Юльевич — мало было одесского говора — любил иногда ввернуть еще и заковыристое словцо), Рузельвельт так Рузельвельт, Бог с ним, поддерживал долго японскую сторону…
До поры, однако, до времени. Потому что, пока настойчивый Тедди донимал своими посланиями государя, Витте завоевывал американскую прессу…
Японцы же, те вели себя замкнуто, с высокомерием. Победители!
Сергей Юльевич как‑то заметил с усмешкой тому же Смолли:
— Ваши японские друзья даже американскую публику не желают знакомить со своими делами!..
5. Не в лаун–теннис
…Завоевывал американскую прессу, пренебрегши предложением какого‑то предприимчивого мистера повернуть ее в российскую пользу за… два миллиона. Да еще при условии — миллион вперед. Предложение содержалось в одном из писем, приходивших пачками в адрес русской делегации в Портсмуте, чаще прямо на имя Витте. Здешней почте пришлось‑таки попотеть. Писали лавочники и авторы книг, состоятельные дамы и защитники белой расы. Желали успеха, просили автографы и давали советы. Предлагали средства от пьянства, за которые русский царь якобы обещал награду, и средства от комаров, донимавших участников переговоров. Некий доброхот прислал медаль времен американской Войны за независимость. Текст на ней, до странности актуальный, был из заявления их посланника Талейрану: «Миллионы для обороны, ни единого цента для контрибуции»… Ясновидящая из Нью–Йорка пересказывала свои кошмары желтой опасности и, ссылаясь на евангельские пророчества, заклинала заключить мир и ввести реформы, а иначе бедствия ожидают Россию!.. И на все на это Сергей Юльевич почел необходимостью отвечать, когда не сам, то через секретаря. Помимо протоколов на заседаниях в обязанность секретаря входило объясняться с корреспондентами и еще вести подробный дневник.
— Для истории пригодится, — уверял его Сергей Юльевич.
О ней, так внезапно распахнувшей перед ним свои двери, он и тут, естественно, не забывал.
Местом исторических переговоров американцы выбрали помещение адмиралтейства в военной гавани, находившейся под охраной. Журналистов и иных любопытных (а таких здесь водились стаи) в ворота не пропускали. Располагалась гавань на окраине городка, за рекой, что служила границей между двумя штатами. Жили в штате Нью–Гэмпшир, заседали же в штате Мэн. Тут, как видно, тоже имелся резон, равно как в выборе этого Портсмута, штат Нью–Гэмпшир. От него поблизости находилось поместье Рузвельтов, летняя резиденция президента.
Тедди вырос здесь, в Ойстер–Бэй (то есть в Устричной бухте). Рассказ Жоржа на пароходе Сергей Юльевич выслушал, как обещал, со вниманием. Запомнил и на ус намотал: потомок первых поселенцев–голландцев, основателей будущего Нью–Йорка, по–американски, стало быть, аристократ, кончил Гарвард, лучший университет. Что не помешало ему при повороте судьбы поселиться в прериях, среди ковбоев, разделить (и описать) их вольную жизнь. А потом уже, спустя много лет, вновь оставить столицы, где к тому времени сделал карьеру, и, набрав из друзей–ковбоев отряд волонтеров, прославиться на испано–американской войне из‑за Кубы… Возвратившись, «герой Сантьяго» повел другую войну — против непомерно жиреющих трестов. И против притеснителей негров. Так что еще неизвестно, кого больше нажил, сторонников или врагов. И тем самым сделался как‑то ближе новоявленному российскому дипломату, самому обладателю такого таланта — и сторонников наживать, и врагов.
…В помещении адмиралтейства хозяева конференции подготовили просторный чертежный зал, оснащенный спасительными в здешнем пекле электрическими веерами. Прелесть этого достижения цивилизации можно было оценить еще до первого заседания, на приеме в честь открытия переговоров, когда зал был увешан флагами, играл оркестр, даже пушки салютовали, и все местное начальство и общество приветствовали гостей.
Ах уж эти приемы в честь миротворцев! Вслед за адмиралтейским устроили в городе, в штате, а еще раньше в поместье у президента и в живописной Устричной бухте на президентской яхте… Сергей Юрьевич даже взмолился: сколько можно заставлять работать желудок, когда же наконец примутся за дело мозги?!
Он, конечно, изрядно лукавил. Потому что уже первую встречу за завтраком с «Рузельвельтом» — и семейством его — сам назвал вызывающим дебютом. Потребовалась двухчасовая беседа, чтобы растолковать президенту, что он судит односторонне о настроениях русских, считая их побежденными в войне. И кажется‑таки убедить его в том, что Россия ни на какие унизительные условия не согласится, как ни серьезно ее внутреннее положение.
— Оно не может заставить великую Россию отказаться от самое себя! — не без пафоса заявил Сергей Юльевич, и барон Розен, посол в Штатах, перевел это президенту.
Похоже, тому это не слишком понравилось.
— При подобных взглядах соглашение едва ли возможно! — отрезал он, но тотчас взял себя в руки. — В интересах обеих сторон окончить войну, — сказал примирительно, и барон Розен перевел это Сергею Юльевичу. — В свою очередь я советую японцам проявлять умеренность в требованиях. Даже если не удалось бы договориться сейчас, надо так разойтись, чтобы не захлопнуть двери… для новых переговоров.
— На сей счет мы имеем инструкции, — заверил Витте, и барон перевел.
…В оживленной, залитой светом Устричной бухте президентская яхта «Мэйфлауэр» — тезка парусника первопоселенцев — среди многих судов выделялась расцветкою флагов. Рядом с синим, президентским, развевались на мачте японский — восходящее солнце — и русский. Тут пушечным салютом не обошлось. Пока добирались по заливу до яхты, их отчаянно приветствовали с берега фабричные гудки…
За завтраком в кают–компании после церемонных представлений друг другу (враг врагу?) Тедди в роли хозяина обхаживал и этих и тех, все же явно предпочтение отдавая Витте, единственный свой тост произнес, обратившись к нему, и потом они еще побеседовали по–французски, обойдясь при этом без баронских услуг. А когда после завтрака на палубе появился фотограф, то Рузвельт пригласил русского великана встать по правую руку, по другую встал маленький рядом с ними обоими японец. Подобно тому как барон Розен прежде, до Америки, был российским посланником в Токио, этот щуплый барон Комура перед войной представлял своего императора в Петербурге. Сергей Юльевич, кажется, его и раньше встречал.
Если Розена не было рядом, во многих случаях выручал полиглот Диллон, журналист; тот самый, что передал беспроволочную телеграмму с середины Атлантического океана. Участвовать в официальных заседаниях он, однако, не имел права. С пониманием там обстояло даже и в этом смысле не так‑то просто. Разговаривали на четырех языках. По–русски и по–французски Витте, по–японски и по–английски — Комура. Один из помощников переводил ему с французского на японский (или обратно), один из секретарей Витте — с английского на русский (и обратно)…
Удивительно, как все эти сложности предугадала некая дама из Массачусетса: заранее прислала мистеру Витте по почте международный словарь. Жаль, что Диллона он не мог заменить.
Куда прискорбнее, впрочем, оказался дефицит понимания по существу. Из предъявленных в виде дюжины пунктов японских условий половина была неприемлема для России.
Адмиралтейский телеграф отстукивал без передышки: Портсмут — Петербург — Петергоф; Петергоф — Петербург — Портсмут. (И своим чередом, разумеется, в Токио и оттуда.) Телеграммы быстро, при всех, Сергей Юльевич строчил в перерывах; тут же срочно их шифровали, проклиная его почерк попутно. А открытые тексты чуть не каждый день исправно отправлялись в Виши, где ждала их Матильда Ивановна: жив, здоров, все благополучно… вне зависимости от того, что происходило в действительности…
Иван Павлович Шипов, советник по финансовой части, предложил уже было пари, что мира не будет. Но опять же само собой в перерыве. Ну а в зале в конце заседания Витте подчеркнуто громогласно обратился к секретарю:
— Пожалуйста, узнайте, голубчик, расписание пароходов в Европу!..
Барону Комуре тут же, разумеется, перевели.
— Вы говорите постоянно так, будто бы вы победители! — не сдержался однажды главный японец.
А Витте в ответ как отрубил:
— Здесь нет побежденных, а потому нет победителей!
Журналисты подкарауливали секретаря в гостинице.
После обеда. На лестнице. В коридоре.
Тот в подробности не вдавался:
— Уступаем все время мы. А об успехе спрашивайте у партнеров, это от них зависит.
Но партнеры отмалчивались надменно.
В американских газетах мрачно предсказывали разрыв и упражнялись в карикатурах. Сергей Юльевич просил их для него вырезать. К примеру, такую. Великан из‑за ширмы передает карлику по частям свое платье: галстух, рубашку, брюки…
Не отставали фельетонисты, потешаясь над бодрым ничегорусских и при успехе, и при неудаче и их вечным завтра.
За неделю, даже за полторы каждодневных утомительных встреч переговоры почти не сдвинулись с места… в самом деле будто бы на краю обрыва застыли. Покуда, после этой никчемной недели, не счел нужным вмешаться в них, паузу выдержав, «Рузельвельт».
Ранним утром поднятый с постели телеграммою президента посол Розен, живший отдельно от остальных на даче, выехал к нему в Ойстер–Бэй — получить (было сказано в телеграмме) конфиденциальное сообщение для мистера Витте. Едва вечером Розен появился в гостинице, его, как назойливые комары, облепили изнывающие от жары, безделья и любопытства корреспонденты.
— О чем с вами говорил президент?!
— Мы беседовали о славянских литературах, — отвечал невозмутимый лифляндский барон, — мы ведь оба интересуемся ими…
Передавая Сергею Юльевичу это самое конфиденциальное сообщение с рекомендацией взаимных уступок, компромисса на застопорившихся переговорах, рассказывал, что получил их на площадке для игры в лаун–теннис, где с утра, за игрой, застал президента с ракеткой в руках и в костюме из белой фланели.
— Разговор происходил в перерывах игры, — с усердием излагал посол.
Сергей Юльевич пропустил эти мелочи мимо ушей.
Перед ним были деловые соображения, и он немедленно принялся изучать их. И сразу же оценил эти предложения делового человека деловому человеку.
Впрочем, Розену рассеянно ответил из вежливости:
— Жаль, не я был на вашем месте, мы бы с Тедди сразились, я ведь тоже не прочь был попрыгать в лаун–теннис…
Сразиться предстояло не на этой площадке.
…Если бы из четырех пунктов, по которым согласия не получалось, от 10–го и 11–го отказались японцы, а от 5–го — русские, то остался бы один лишь 9–й… Его можно было бы отдать на третейский суд, например французскому президенту, другу России, и королю Англии, склонной к Японии (секундантам в русско–японской дуэли, тут подумалось Сергею Юльевичу; положа руку на сердце, президентская четкость пришлась ему по душе). А пока суд да дело, Япония не стала бы продолжать войну ради денег…
Загвоздка в том заключалась, что пункт 5–й означал уступку Сахалина Россией, а в 9–м речь шла о возмещении японцам военных расходов.
Сергея Юльевича взорвало:
— Вот если бы они Москву заняли, тогда еще можно было бы о контрибуции рассуждать!..
6. Сделка
Тедди Рузвельт был не из тех, однако, кто поворачивает с полдороги.
Витте тоже был не из этих.
Тедди Рузвельт стремился к первенству всегда и во всем — от политики до охоты на бизонов.
Витте тоже на вторые роли не подряжался.
Американец, точно маклер на бирже, играл то на повышение, то на понижение, смотря по обстоятельствам. Но во что бы то ни стало хотел добиться для Японии поболее денег.
Русский не желал платить ни рубля.
Репортеры тем временем занялись ловлей блох, пытаясь оценить обстановку. Японцы отдали взятый в гостинице напрокат несгораемый шкаф, а русский Шипов потребовал собственное белье из стирки! — ну разве это не признаки близящегося разрыва?!
Впрочем, президент не ждал у моря погоды. Затеял дипломатическую перекличку европейских столиц по поводу своих предложений о компромиссе. Париж, «секундант» российский, настаивал на том, чтобы не закрывать переговоры; в крайнем случае, только прервать.
Витте, со своей стороны, выжидал:
— Пускай вина в срыве будет японской!..
Президент передал через Витте новые предложения для
царя.
«…Если бы я был русским государственным деятелем и патриотом, я бы с величайшей радостью заключил мир», — писал он, излагая новые условия японцев: половина Сахалина, при уплате именно за эту территорию.
— Что‑то вроде того, что было заплачено за Аляску, — не без насмешки прокомментировал своим помощникам Сергей Юльевич, — с той лишь маленькой разницей, что не нам заплатят, а мы.
Не надеясь, очевидно, на сговорчивость Витте, то же самое послание в то же самое время президент направил царю через американского посла в Петербурге.
В телеграммах царь уже настаивал на разрыве. Он явственно опасался, как бы Витте не пошел на попятную — лишь бы из самолюбия, из тщеславия не упустить мира. Впрочем, неукоснительно следуя высочайшим инструкциям, глава русской делегации велел секретарю расплатиться по гостиничным счетам… При этом, правда, с резкими заявлениями не торопился. Продолжал держать свою паузу.
У него сомнения не было: «Рузельвельт» действует по уговору с японцами. Не составляло большого Секрета, что университетский его товарищ по Гарварду, другой японский барон, Канеко, как бы служит приводным ремнем к движению той стороны. Витте определенно поставил ее в затруднительное положение: контрагенты признали фактически, что ведут войну ради денег!.. Под свою тактику Сергей Юльевич, как нередко, подвел и теоретический фундамент: пусть японцы запутаются в собственной аргументации!..
Секретарь старательно вырезал для него из газет все новые карикатуры. Комура с Витте за игрою в карты, пытаются подглядеть один у другого. На картах Комуры написано: «Крайний минимум». И — «Максимальные уступки» у Витте… За хвост медведя уцепился японец. Один говорит: «О, если б я мог удрать с честью!» — а другой: «Ах, если б я мог отпустить его с выгодой!..» И еще: разъяренный медведь (понятно — Россия), которого на ремне едва удерживает ковбой (Тедди), волочит его за собой прямо в пропасть, где написано «Война»…
Задумываясь над тем, а ради чего, собственно, американский‑то президент из кожи лез вон, подталкивая упиравшихся противников к примирению, Сергей Юльевич находил на это ответ в целом ряде причин — политических, коммерческих, наконец личных. Разделить их не всегда было просто; кто‑кто, а уж Витте мог о том судить по себе… Все же главное ему виделось гак: стремясь вырваться за пределы западного полушария, из той обособленности, на какую до сих пор география обрекала его страну, «Рузельвельт» для Америкихотел на Дальнем Востоке хорошего мира — и хорошего рынка, при каком ослабленная войною, финансово зависимая от Штатов Япония закупорила бы выход в Тихий океан ослабленной войною России. Потому‑то откровенный нажим с его стороны почти с одинаковой силой испытывали и микадо[40]и царь.
И должно быть, по тем же мотивам не изменяла выдержка Сергею Юльевичу. Ведь нетрудно было понять, что провал сделки означает и для маклера личный провал, тогда как успех принесет ему новые дивиденды. В политике нет друзей, в ней есть интересы. И покуда они совпадали, следовало обождать хотя бы еще чуть–чуть, японская шпага… или, может быть, сабля — вот–вот должна надломиться.
И она таки надломилась.
В тот день в ответ на новую телеграмму из Петербурга о немедленном прекращений переговоров Витте возразил, что должен выслушать новые условия — дабы вину за разрыв не взвалили на нашу сторону.
Проведя бессонную ночь и после длительных проволочек просовещавшись пол–утра с Комурой почти что один на один, он вышел в это прекрасное утро к своим сотоварищам, взволнованный и торжествующий, позабывши, что еще ночью себя уговаривал, что будет лучше, если судьба отведет его руку. Ибо всю тяжесть этого мира петербургские доброхоты и даже сам государь взгромоздят на его плечи…
— Мир, господа! Поздравляю! Японцы уступили во всем!!
Засим последовало нечто, совсем не предусмотренное дипломатическим протоколом: объятия, поцелуи.
А Розен, невозмутимый, хладнокровный, рассудительный Розен за всех крикнул:
— Молодец, Сергей Юльевич!
И вновь гремели над Портсмутом пушки в честь мира. А на президента, на царя и микадо посыпались поздравления глав других государств, монархов и президентов. И только реакция Петербурга, держа в напряжении, оставалась Сергею Юльевичу неизвестной. Его величество счел за благо показать характер[41], прежде чем прислать свою поздравительную телеграмму.
В Атлантическом океане, на обратном пути в Европу, прохаживаясь, по обыкновению, взад–вперед по палубе «Кайзера Вильгельма Второго» и из длинного мундштука дымя очередной папиросой, словно с пароходными трубами на пари, споря с ними не только дымом, но, пожалуй, и ростом, и выполняя обещанное по пути из Европы, он рассказывал Джорджу Смолли из лондонской «Таймс»:
— Эта сморщенная мумия барон Комура приехал надменно диктовать нам свои условия как победитель. Мы же прибыли на переговоры. Окончательные японские требования оказались для нас неприемлемы. Это был критический момент. Конференция зашла в тупик. Все, что можно было сказать, было сказано раньше. При гробовом молчании я вынул портсигар, достал папиросу, закурил. То же следом сделал Комура. Переговорам, судя по всему, настал конец, и опять в свои права вступала война… Шестьсот миллионов долларов контрибуции мы платить наотрез отказались, я даже торговаться не стал. Докурив папиросу, я начал другую. То же сделал Комура. Только он мог сказать что‑то новое, очередное слово в этом дипломатическом торге принадлежало ему… Уступая пол–Сахалина, мы поставили его перед выбором: если воевать дальше, то почти исключительно ради получения с нас контрибуции!.. Я, конечно, не слыву дипломатом, но в деловых, а тем более в финансовых спорах–переговорах, как у нас говорят, съел собаку. В этих торгах нужна отменная выдержка. Наконец Комура сквозь зубы предложил отложить решение на три дня. На отсрочку я согласился. Отсрочка давала возможность снестись соответственно с Токио и с Петербургом. Рузельвельт ваш тоже даром времени не терял. Он вмешался, и притом совершенно иначе, чем прежде. Вам известно, Жорж, из оперы «Фауст»: люди гибнут за металл? Однако же проливать кровь, свою и чужую, на войне, неприкрыто, лишь ради денег… этого в цивилизованных странах могли не понять… Словом, когда мы сошлись опять через три дня, то Комура сразу же заявил, что Япония отказывается от требования контрибуции!..
— Ну а если бы пришлось продолжать войну? — спросил журналист. — Вы бы не раскаялись в своей выдержке?
— Передержки в торговле, разумеется, никогда нельзя допускать, — усмехнулся политик, вышагивая по палубе посреди Атлантического океана, и выдохнул струю дыма. — У нас считается: лучшее — враг хорошего… Тем более в России сильная партия высказывалась за войну. Я, понятно, не принадлежал к ней. Я добивался мира. Но при этом никогда не думал, что Россия сломлена! Японцы не протянули бы долго. В крайнем случае до весны. Они ограничены в средствах, это вам финансист говорит. У них тогда было уже все заложено и перезаложено… кроме, может быть, жен… Поверьте, они не хуже нас это знали!
— Да вы отдаете ли себе отчет, месье, — воскликнул взволнованный журналист, — что за зеленым столом вы добились того, на что их генералам потребовалось столько кровопролитных сражений?! Вы разбили их наголову — несомненно, дома вас ожидает триумф!
Сергей Юльевич не стал разочаровывать американца.
Зачем было выносить из избы российские домашние неурядицы? То, к примеру, что еще накануне Цусимы царь твердо намеревался продиктовать условия мира в поверженном Токио, как это предрек ему архиерей Серафим, прозорливец уже оттого, что святому Серафиму Саровскому соименник. И что по этой безусловной причине одни только жиды и интеллигенты могли, дескать, думать другое.
Он лишь ответил американцу совсем не веселым тоном:
— Вы не можете даже вообразить, как много предубеждений и враждебных влияний скопилось против меня… и как близко они проникают к престолу!..
7. Между двух огней
Сновавшему в устье Невы проворному пароходишку далеко было до многопалубных трансатлантических «кайзеров вильгельмов». Но в бурном октябре девятьсот пятого пароходишко этот служил единственной связью между столицей и загородным дворцом, местопребыванием государя императора. Сколько раз пришлось в эти дни Сергею Юльевичу на «Неве» прокатиться из Петербурга в Петергоф и обратно, немудрено было сбиться со счета. Наконец с высочайше подписанным Манифестом в руках семнадцатого числа он возвращался в город вместе с великим князем Николаем Николаевичем, петербургским главнокомандующим, двоюродным дядей царя. Знакомцы давние, в молодости, бывало, в Киеве чуть не каждый вечер винтили за ломберным столиком, так что Сергей Юльевич прекрасно знал великому князю цену, со всем его влиянием во дворце, с его мистическими недугами[42] .
— Ах, дорогой граф, — восторженно твердил Николай Николаевич в присутствии ехавших с ними Вуича, князя Алексея Оболенского, барона Фредерикса, — семнадцать — магическое число! Сегодня 17 октября и семнадцатая годовщина того дня, когда при крушении в Борках спаслась вся царская семья! И опять же 17 октября вы спасаете династию снова!
В меру собственного темперамента в возвышенном расположении духа пребывали все… Озабочен был только он, Сергей Юльевич. Царедворец–барон уже успел нашептать ему, со слов великого князя, как же все‑таки государь решился подписать Манифест. Подобно многим другим, великий князь, должно быть, голову потерял от страха перед происходящим, иначе бы не вбежал к царю с револьвером в руках и не поклялся бы тут же пустить себе пулю в лоб, если он не подпишет…
— Это счастье, — восклицал Фредерикс, — что государь вызвал великого князя из его орловского имения… Князь бросил охоту и, говорят, добирался из Тулы чуть ли не в товарном вагоне!..
Не теряя времени ни минуты, Сергей Юльевич отправил Манифест в типографию прямо с пристани, где его встречал директор телеграфного агентства, которому позвонили из Петергофа по телефону.
И тут же распорядился пригласить к себе на завтра цвет петербургской печати.
В назначенный час в белом доме на Каменноостровском собрались редакторы, издатели, видные сотрудники газет и журналов в таком количестве, что едва втиснулись в вестибюль.
Выходя к ним, невозможно было не вспомнить их американских собратьев, донимавших Витте в Портсмуте и до Портсмута, а особенно после. Если точность есть вежливость монархов, беспристрастие есть вежливость журналистов, — что‑то в этаком роде говорил он, помнится, прощаясь там с ними. И что сам принадлежит к той растущей категории государственных людей, которая признаёт великое могущество печати. И что должным образом ценит пользу, принесенную ими, и их содействие…
Там, однако, эти хищные стаи газетчиков почитались в порядке вещей, там обед, ими данный ему в Нью–Йорке, проходил под девизом: «Перо могущественнее меча». Тут, у нас, к подобному не привыкли… Ну так что же, пора привыкать! И в точности так же, как там обходил он всех, пожимая руки, так и теперь пожал руку каждому. И извинился, что не приглашает садиться.
— Слишком тесно у меня, господа…
Он и сам садиться не стал, заговорил стоя, проникновенно, заранее обдуманными словами:
— Не мне вам напоминать, господа, что в России печать всегда имела исключительное значение, ибо других органов для выявления мнений попросту не существовало. При всем бесправии и беззащитности у нас печать имела и имеет громадное влияние на умы… Я обращаюсь к вам не как царедворец или министр. Я прошу вас как гражданин, как русский, помогите умы успокоить! Теперь все дезорганизовано, так дальше жить невозможно. Пока не водворится порядок, сделать нельзя ничего! Скажу вам по–человечески — и у меня сейчас нет должного равновесия между умом и чувством, я нуждаюсь в поддержке. Помогите успокоить общество. Когда появится народное представительство, поверьте, все облегчится. Тогда правительство станет играть такую же роль, как в культурных странах. Господа, в ваших силах принести огромную пользу. Не мне, не правительству. Всей России!..
Разумеется, он отчетливо сознавал, что перед ним не та публика, которую можно пронять красноречием. Он и не пытался пустить его в ход. Но, закончив краткую речь, все же ждал одобрения. И неизбежных от журналистов вопросов.
С того дня, как вернулся в Европу, всячески этой братии избегал. Устал от их назойливости комариной и, главное, потерял из виду цель, ради коей стоило блистать перед ними. Но теперь такая цель появилась, и он ждал… нет, он жаждал их соучастия!
Однако, опередив любопытных, знакомый по Портсмуту молодой Суворин требовательно произнес:
— Для успокоения страны прежде всего необходима политическая амнистия!
— Да, господа, — кивнул Витте. — Но к сожалению, одновременно с обнародованием Манифеста произошли несчастные события. Я имею в виду — у Технологического института[43]… Боюсь, войска применили оружие по недоразумению… Я уже говорил е министром юстиции и просил созвать сведущих лиц, чтобы определить, в каких размерах возможна амнистия.
Нагловатый издатель «Биржевки» Проппер на это отозвался с развязностью:
— Требование амнистии категорическое. Преступно было бы, чтобы в обновленной России остались без амнистии те, кто работал на пользу обновления. В требовании амнистии петербургская печать едина!
Председатель правительства отвечал примирительно:
— Я сделаю все, что смогу, так и можете написать. Если же вы станете утверждать, что успокоение невозможно, пока не будут удовлетворены те требования и другие… Одни станут требовать одного, другие другого: сделайте так, иначе мы не сделаем этак… что получится, господа? Кого прикажете слушать? Обращаюсь к вашему благоразумию, прошу прежде всего доверия…
— Мы‑то верим… народ не верит!
Сергей Юльевич не разобрал, кто это произнес, да, собственно, так ли уж это было важно. Он продолжал по–прежнему миролюбиво:
- …Я рад, что вы доверяете мне… Тем более у государя нет важнее заботы, чем благо народа. Но одни советники говорят ему: это благо, а другие: нет, это вред… Я употреблю все силы… Но мы еще в водовороте смуты, всегда возможны кровавые столкновения. Если каждая группа станет предъявлять свои требования…
— Это не группа, а вся Россия! — перебил Проппер.
— Нет, не вся, не вся Россия, — попробовал возразить Витте и услышал в ответ выкрики:
— Разногласий у нас нет!
— За амнистию даже «Гражданин» Мещерского!
— Амнистию поскорей!
Он пытался сказать:
— Господа, вы требуете…
А его не желали слушать:
— Мы не требуем и не просим! Утверждаем: необходимо!
— Страна не верит обещаниям власти, — перекрыл шум седобородый сутулый Анненский, писатель из «Русского богатства». — До успокоения еще далеко. Мы погубим значение печати, согласившись с вами. Это будет преступление!
— Начните с отмены военного положения!
— С отмены смертной казни!
— Наши требования должны быть выполнены! — не останавливался Анненский. — Должны быть реально осуществлены свободы, объявленные в Манифесте.
— В этом можете быть уверены, — пообещал Витте.
— Тогда мы готовы вас поддержать! — в свою очередь поручился за всех Проппер.
— Перед кем?! У монарха мне вашей поддержки не нужно! Государь нуждается в верной картине, чтобы видеть, где истина. А ему одни говорят: нужна сила, репрессии! Нет, не сила, возражают другие, необходимо удовлетворить желания большинства. Так вот, вы и постарайтесь, чтобы государь убедился, что добрые меры дают результат. Вот лучший путь для печати. На нем и поддерживайте меня. Я согласен, что необходимы реформы. Но для этого на улицах не должны стрелять. Вы требуете всего и сразу. Между тем правительство даже еще не успело организоваться!.. Нужен порядок. А пока я не могу поручиться, что не будет стрельбы…
Нет, согласия по–прежнему не наступало.
— Увести из столицы войска и казаков! — с молодым задором наскакивал старик Анненский.
Витте. Теперь нельзя.
Анненский. Теперь революция! Нужны не обещания, не векселя. А валюта! Полновесная валюта!!
— Назначьте срок для вывода войск!
— Уберите диктатора Трепова!
— Довольно отсрочек!
— Создадим народную милицию!
Точно на уличном митинге, выкрики не прекращались. Удивительно, что не слышно было представителей правых газет. Князя Ухтомского из «Петербургских новостей», посланника от князя Мещерского из «Гражданина»… Словно языки проглотили. Только потакали молчанием взвинченным крикунам.
Между тем кто‑то проговорил уверенным, профессорским тоном:
— Печать готова оказать вам содействие одним способом — фактическим осуществлением свободы слова, которая возвещена Манифестом. Таково решение «Союза газет».
Витте отвечал:
— Полагаю, это решение не полезно. Свобода слова объявлена, но до новых законов о печати, покуда их нет, надо соблюдать существующие. Вы твердите: то снять, то свергнуть! Дайте время…
Анненский. Мы готовы дать время, но жизнь не ждет. А при нынешней свободе невозможно нумер выпустить из типографии без разрешения цензуры!..
Голос. Мы не станем выпускать газет, пока войска не уйдут!
Витте. Нет, уж лучше остаться без газет… Если не будет войск и начнутся грабежи и разбои, население вправе обвинить правительство…
— Вы не доверяете обществу!
— Стачечный комитет ручается: без войск будет порядок!..
Витте. Не могу согласиться. Вы упраздняете правительство! А на нас ответственность за семьсот тысяч обывателей Петербурга…
— Удалите войска!!
С ангельским, как самому представлялось, терпением Сергей Юльевич разъяснял:
— Если так поступить, сотни тысяч, их жены, их дети, объявят меня сумасшедшим.
— Но нас бьют казаки! Уберите эту орду!!
Витте. Я насилиями сам возмущен. Дайте несколько недель… Беспорядки всегда происходят от недоразумений.
— Уничтожьте смертную казнь!
— Немедленно политическую амнистию!
— Для гарантии личности удалите войска!
Витте. Когда все успокоится, войска удалятся.
— Вы сами говорите о Технологическом институте. Войска — причина беспорядков!
Витте. Столько задач! У меня ведь не сорок восемь часов в сутках. Я только еще организую правительство. Дайте мне передышку.
Он не узнавал себя сам. С кем когда‑нибудь говорил в таком просительном тоне… А в ответ услышал реплику, полную яда:
— Раз правительство еще не организовалось, не отложить ли беседу до тех пор, когда Сергей Юльевич Витте в силах будет исполнять свои обещания?!
Не поддавалась аудитория на уговоры. Не поддавалась никак.
— Пускай свободы будут осуществлены сразу!
— В особенности свобода печати!
Вопреки натиску Сергей Юльевич не отступал:
— Завтра мы будем это практически обсуждать. Пока же настоятельно рекомендую: не нарушайте законов о цензуре. А я сегодня же поговорю с Главным управлением по печати об устранении недоразумений!.. Вообще прошу, господа, приходите ко мне, когда нужно. В любое время. Черкните мне пару слов, всегда можете рассчитывать на поддержку… Все, что я говорил вам здесь, готов повторить всем, придут ли ко мне революционеры или анархисты… До свидания, господа.
И, как писалось в газетных отчетах о встрече (запоздавших, кстати, дня на три, поскольку газеты в общей сумятице не выходили), «граф Витте обошел всех с рукопожатиями и удалился. Журналисты начали разъезжаться».
Он сумел удержать до конца пресловутый Лорисов «такт в голове», но раздосадован был, оскорблен в лучших чувствах, обескуражен, взбешен. С Тедди Рузвельтом тамошние разве так бы посмели?!
Под горячую руку угодил верный Колышко, Появившись сразу после обезумевших от свободы собратьев.
— Они мне в бороду наплевали! — негодовал и в то же время жаловался Сергей Юльевич, как обычно расхаживая по кабинету. — Даже этот пройдоха Проппер требует, видите ли! Давно ли шлялся по моим передним, выпрашивал казенные объявления и всякие льготы!.. Значит, в самом деле что‑то особенное случилось в России, коли подобный субъект заговорил таким языком!..
— А вы лавровых венков ожидали? — съехидничал Колышко.
Сергей Юльевич пропустил его замечание мимо ушей.
- …Когда бы эти писаки знали, что в сферах творится! Какое недоверие! — тяжело ронял он слова. — Едва не республиканцем меня там считает! Едва не американцем!.. Отчасти по этой причине государь и подписал Манифест. Чтобы, упаси Бог, никто не подумал, будто конституцию России дал Витте… Нет, если б мне доверяли, ограничились бы, конечно, моей Запиской…
— Я сейчас мимо Казанского проходил. Там на площади против вас горланят, — сообщил мрачно Колышко. — Эти, с черными флагами. Чуть не вечную память поют…
— Я попал между двух огней, — сокрушался Сергей Юльевич. — Общество должно помочь мне!.. Знаю, Манифест взбудоражит Россию, но я еще в русское общество верю… Если бы только мне помогли!.. А они мне в бороду наплевали!..
8. Великое содействие
Как ни странно это звучит, его, как видно, избаловали американцы. Своим вниманием, участием, своей заинтересованностью в происходящем, не обязательно дружелюбной, но неизменно неравнодушной. Хотя, казалось бы, ну какое может иметь касательство до событий в Маньчжурии или даже в Санкт–Петербурге и в Токио житель Пенсильвании или города Луисвилл, штат Кентукки… пускай даже разговоры об этих далеких событиях ведутся в их Портсмуте, штат Нью–Гэмпшир?
А касательство — было!
И когда на прощальном банкете в его честь в нью–йоркском фешенебельном «Метрополитен–клубе» мистер Витте поднял тост за великий и удивительный американский народ, это было не только дипломатической вежливостью, данью признательности хозяевам за гостеприимство. В самом деле, русского европейца — а Сергей Юльевич причислял себя к таковым — многое в Новом Свете удивляло своей непривычностью. Новизной. Как ни сблизило континенты в просвещенном XX веке развитие промышленности, и торговли, и техники — беспроволочный телеграф, думал он, или быстроходные океанские пароходы, благодаря которым смог сам убедиться: океан уже не столь разделяет, сколь соединяет между собой берега, — Новый Свет на поверку все равно оставался Новым Светом.
Конечно, не было ни времени, ни возможности ознакомиться как следует с тамошней жизнью, но доступное мимолетному взгляду, что подметить успевал все же, совпадало с впечатлениями, например, секретаря-«одессиста», а «одессист» кое‑что значило для него!.. Не в первый раз отправляясь за океан, еще по дороге туда убеждал тот Сергея Юльевича, что это только сначала янки кажутся материалистами, расчетливыми, чуждыми всякого идеализма и прочих слабостей.
— Но ведь это же превосходно, голубчик! — прерывал Сергей Юльевич. — Пустое идеальничанье — вот, может быть, национальная наша беда!
И тогда молодой собеседник, подзадоренный, не удерживался, возражал патетически:
— Когда узнаёшь их ближе, видишь — и начинаешь ценить — высокие нравственные качества свободолюбивых граждан великой страны!
Теперь же, оглядываясь из своего взбаламученного российского далека, он не мог не признать, что даже шапочное знакомство с той жизнью нечто важное подвинуло в нем самом. Будто свежим воздухом подышал.
Вторым Колумбом себя от этого, разумеется, не вообразил. Отношения с Америкой начались не с него и даже не с печально известной продажи Аляски. Верный способу пополнять свой багаж в разговорах, он и там мотал на ус кое‑что. Запал в память один спич застольный в том же «Метрополитен–клубе». Произнес его издатель, устроитель банкета, и назвать это можно бы речью, как он выразился, о великом содействии — с их Войны за независимость начиная. Так вот, Екатерина Великая не согласилась помочь английскому королю усмирить восстание североамериканских колонистов, потому как противно достоинству двух великих наций соединяться для подавления справедливых требований третьей!.. И император Александр I, еще сражаясь с Наполеоном, поддержал Соединенные Штаты в их второй стычке с Англией… И во время междоусобицы, Гражданской войны, в знак поддержки федералистов–северян русская эскадра патрулировала американские воды, готовая оказать помощь… Правда, в соответствии с обстоятельствами оратор предпочел не касаться осложнений последнего времени, на Дальнем Востоке, что Сергей Юльевич про себя, конечно, отметил, но в свою очередь, сделав скидку на обстоятельства, не нашел возражений.
Ну а как было забыть эти письма, пачки писем, что обрушились на несчастную провинциальную почту и — за почтою следом — на российскую делегацию в Портсмуте!.. Пачки писем с разных концов страны, где просьбы о фотографических карточках и автографах перемежались советами, как лучше вести переговоры с японцами, а различные изобретательские прожекты — приветами, пожеланиями успеха и даже подарками… Господин, побывавший в Японии, делился соображениями, как России наладить отношения с нею. Диссертация мистера из Вашингтона трактовала исторические судьбы Америки и России, а в итоге делался вывод о будущем мировом господстве двух этих стран… Попутно же рекомендовалось развивать в России свободу и просвещение. Нью–йоркское общество под громким названием «Объединенные нации мира» выдвигало спой план, как окончить войну таким образом, чтобы она стала последней в истории… А мистер из Луисвилла, штат Кентукки, советовал поучиться в Америке, как надобно управлять Россией. Другой же, этому в противовес, не без иронии уверял, что, если бы мистер Витте остался в Штатах и стал бы американским гражданином, его бы, конечно, выбрали в президенты!..
…Оказанный ему в Новом Свете прием многим в Петербурге и без того мешал хорошо спать. А тут еще граф Сергей Юльевич с оживленностью стал передавать свои впечатления в гостиной Каменноостровского дома, в довольно‑таки людном этом салоне графини Матильды Ивановны, и отчасти, быть может, как раз оттуда черпали тревожные новости тайные его зложелатели, которые принялись внушать государю, будто Витте ни больше ни меньше как метит в… президенты всероссийской республики.
У Сергея Юльевича эти нашептывания по поводу его президентства вызывали разве что язвительную усмешку.
Казалось бы, в данном случае должен более опасаться «Рузельвельт» Первый, нежели Николай Второй!..
Его рассказы, как и его впечатления, конечно, были, по обстоятельствам, отрывочны, беспорядочны, неполны.
Все больше какие‑то мелочи, детали, подробности… но из них, в особенности на расстоянии, складывалось нечто похожее на мозаичную картину.
— Ты знаешь, Матильдочка, в Портсмуте, недалеко от отеля, жили две очень милые дамы с взрослыми дочерьми, мы пару раз ходили к ним пить чай, так вот, молодые люди засиживались с барышнями до позднего вечера, и, представь себе, это не выглядело ни в какой степени предосудительным!.. — вдруг вспоминал Сергей Юльевич к подходящему случаю, не имевшему, впрочем, касательства к их семейству, поскольку дочь Вера была уже замужем.
А барышни весьма хороших фамилий, которые жили в отеле, уйдут в лес с молодым человеком тет–а-тет, гуляют там по целым часам, катаются в парке на лодке, и никому в голову не приходит ничего дурного. Напротив, постыдными у них считались бы гадкие мысли!..
Другой раз начинал удивляться американским студентам.
— У нас ведь, Матильдочка, как? Студиозус, бывает, живет впроголодь, по себе помню, да и политехников своих вижу, а до черной работы не унизится ни за что. А у них в ресторанах к столу подают, во всяком случае летом, во время вакаций, не кто иные, как студенты университетов… После завтрака или обеда, убрав со стола, переоденутся и как ни в чем не бывало ухаживают за дамами и за барышнями в нашем отеле, гуляют с ними, играют себе в игры, а когда время к обеду, опять берутся за дело. И зарабатывают, скажу тебе, очень и очень прилично, я сам их расспрашивал… При тамошней демократии, сиречь, Матильдочка, народоправстве, просто не существует зазорных работ. Отсутствует, и всё, такое понятие!..
В Нью–Йорке Колумбийский университет оказал ему честь, избрал почетным хонорис кауза, доктором права. В связи с церемонией в университете перед отъездом он провел там полдня, беседуя с профессорами.
— Между прочим, их спрашиваю, — рассказывал дома, — возможны ли у них беспорядки вроде тех, что в наших университетах, и что бы они делали, если бы так случилось. На это мне отвечали, что никогда об этом не думали. А подумавши, добавляли, что вмешиваться им не пришлось бы, поскольку сами студенты отлично справятся с теми, кто попытается заниматься чем‑либо, кроме науки, в университетских стенах.
-…Зато само обучение, — продолжал Сергей Юльевич, — побуждает к осознанию и отстаиванию своих мнений и прав на основе закона. Мне говорили, что еще на школьной скамье подросток приучается следить за событиями в стране, обсуждать их, оценивать. И не только устно, письменно также, в школьных, а потом и в студенческих журналах, и это, Матильдочка, развивает в нем самодеятельность и полную самостоятельность в суждениях. Ты знаешь, именно так, в университетских пределах, начинал политическую карьеру президент Рузельвельт! Соученики избрали его редактором журнала… если не ошибаюсь, назывался журнал «Адвокат»… это тоже, по всему, не случайно!..
Секретарь- $1одессист» приобрел «Рузельвельтову» книгу об американских идеалахи перевел патрону по выбору некоторые отрывки. Сергей Юльевич воспроизводил их по памяти, быть может не очень точно, но с видимым удовольствием:
— Гражданин должен служить обществу, а иначе недостоин названия гражданина!.. Дело удается только тому, кто не держится в стороне ото всего остального… У гражданина нет права думать только о своих делах, но притом полагаться он должен на самого себя, а никак не на государство!..
Увлеченный соблазнительностью предмета, с легкостью необыкновенной переносился от конца путешествия к его началу или, благо вздумается, наоборот.
— В Нью–Йорке на пристани нас встречала с хлебом–солью депутация от славян. Их оратор в своем приветствии назвал всех их, и себя в том числе, усыновленными Америкою. Толпа страждущих стать такими же в это время стекала на берег с нашего парохода. Ты могла заметить этих горемычных людей, когда провожала меня в Шербуре. Я их видел, наблюдал за ними в пути со своей верхней палубы, прогуливаясь среди океана. Всю нижнюю палубу они заполняли прямо‑таки вповалку, дети, женщины, старики. При спокойной воде обрывки слов долетали до нас наверх, главным образом это были поляки, но, думаю, среди них попадались и наши евреи… Ты бы видела, Матильдочка, сколько их там, в особенности в Нью–Йорке! Когда первый раз наш кортеж торжественно въезжал в Портсмут, на главной улице шпалерами были выстроены войска, и не единожды раздавался из рядов крик: «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Гуляя как‑то потом в свободное время по городку, я заглянул в галантерейную лавку и разговорился — по–русски! — с хозяином. Услышав, откуда он, спросил, как ему здесь живется — сравнительно с прежней жизнью. Он ответил, знаешь, с этим неприятным местечковым акцентом, который, однако, не умерял его гордости: «Там я был жид паршивый, а здесь… здейсь могу сенатором стайть!» Он, скорее всего, им, конечно, не станет, но действительно право имеет — вот что важно ему!.. — как и всякому из «усыновленных» Америкой!
Он жалел, и весьма, что узнать поближе эту страну не случилось, не по письмам и нечаянным встречам. С удовольствием поговорил бы с добровольными советчиками из Пенсильвании, из Кентукки, и с крестьянами здешними, и с нью–йоркскими биржевиками, и с тем машинистом, которому на прощание в Бостоне только руку пожал (и расцеловался по–русски), да мало ли еще с кем! Посол Розен очень настаивал, чтобы Сергей Юльевич совершил поездку после конференции по большим городам. При популярности, им заслуженной, поездка помогла бы сблизиться между собой нашим странам… Из Петербурга на телеграмму по этому поводу сообщили, что государь на поездку согласие изъявил, но притом… на определенных условиях. Дальше следовали наставления. Тогда Сергей Юльевич телеграфировал, что, к сожалению, по нездоровью поехать не сможет.
Он в общем‑то не хитрил. Самочувствие и впрямь оставляло желать лучшего, одолевали разгулявшиеся болячки. Они, впрочем, не смогли ему помешать, перед тем как отплыть восвояси, забраться в Нью–Йорке на небоскреб. Под самую крышу, на тридцать седьмой этаж!
Об этом рассказывал:
— Поднялись, понятно, на лифте. На улице дул ветерок, и в комнатах наверху чувствовалось, что они чуть колеблются… как каюты на пароходе. Занятное, доложу тебе, Матильдочка, таки головокружительное ощущение!..
Стократ значительнее, разумеется, оказались колебания совершенно иного рода — те, что в результате американского путешествия усилились у него самого. Справедливее, наверно, было бы говорить не о колебаниях, а о внутренних переменах. Самоанализ не был коньком Сергея Юльевича, человек действия не привык вглядываться глубоко в себя. Остановиться, сосредоточиться всегда было некогда, недосуг. Сознавал ли он, нет ли, факт лишь то, что живое гражданское общество не могло не воодушевить его. Его взгляды и прежде не каменели, подобно надгробиям, в жизни не однажды менялись, всякий раз под воздействием здравого смысла!.. Напрасно его упрекали в хамелеонстве. Не заслужил.
Известно, ящерица сменой окраски приспосабливается к окружающей обстановке. Он — менялся внутренне: и тогда, когда расставался со славянофильскими увлечениями молодых лет, и при других обстоятельствах. Нечто схожее произошло и теперь… В измученное войною и беспорядками отечество возвращался реформатор, куда более решительный, нежели уезжал.
Если бы не состоялось этого путешествия в Америку, вполне вероятно, что Манифест 17 октября не удался бы таким, каким был.
9. Двойная игра под нагайкой
Быстрота ума Сергея Юльевича давно стала притчею во языцех делового и бюрократического Петербурга. На сей раз понадобилось несколько дней, чтобы окончательно убедиться: да, его действительно швырнули в костер. Портсмут если и вспоминался, то как отдых благословенный.
Что случилось у Технологического института, оказалось, еще только цветочки… Он узнал, перед самой встречей с редакторами: войска стреляли в толпу, есть убитые и раненые. А ведь успел связаться по телефону с командиром Семеновского полка, вызванного к институту. Пытался предотвратить кровь. Тщетно… Командир выполнил недавний приказ генерал–губернатора Трепова: патронов не жалеть, холостыми не стрелять!.. Вот кто стал вице–императоромв Петербурге, редакторы справедливо требовали его отставки. Но этим только помешали премьеру добиться, чтобы его немедленно удалили: поддайся Витте их натиску, это выглядело бы как слабость. Впрочем, ночью он связывался по телефону и с Треповым, прося не препятствовать ликованию. Тот ответил, что приняты меры лишь к охране дворцов… А на улицах, на набережных Невы появились уже и лозунги, и плакаты, и красные флаги. Один трепыхался даже над Академией художеств.
Не вечна суровая мгла!
Разрушены крепкие стены!
Святая свобода пришла -
И вышло из плена
Свободное слово!
Между тем, покуда ошалевшие от радости интеллигенты в чаду исходили восторженными стишками, — отнюдь не только слово высвобождалось, не только вывешивались на балконах скатерти и ковры всех оттенков красного цвета. Ягодки были еще впереди… Сразу же после опубликования Манифеста случилось побоище в Москве и в Иваново–Вознесенске, поднялась волна еврейских погромов. Недели не прошло, а уже «Биржевка» писала о кампании против Витте — «в бюрократических кругах, а также среди некоторых лиц из придворных, с целью его удаления», а по городу распространялись черносотенные листовки. За Нарвской заставой был даже замечен городовой, когда расклеивал их на заборах.
Одна из листовок, под устрашающей виньеткой — нож, топор, револьвер, крест и череп, — подписанная некоей «Русской национальной московской лигой», гласила: «Царь–батюшка не ведает твоего горя, народ! Ему не дают читать наших русских газет. Витте теперь что хочет, то и делает. Витте повсюду хочет насадить жидов… И тогда… не заговоришь по–русски, не помолишься по–православному, а будут везде жид, жид и жид! Бей жидов! Начнем с проклятого Витте!..» Другая же, судя по всему, своя, питерского изготовления, сообщала: «Всех крамольников поддерживает Витте, женатый на жидовке… Притворяется верноподданным, а сам собирается сделаться царем на Руси. Сам расхищал казну, ввел казенную продажу водки, чтобы споить русский народ. Теперь, негодяй, бежит от народного гнева и переселяется из своей квартиры на Каменноостровском, 5, ближе к Зимнему дворцу…»
Не имея времени вдаваться в детали, Сергей Юльевич попросил подклеить пахучие тексты в альбом с вырезками из газет. Но что правда, то правда: ему предложено было переехать в Зимний дворец, в запасной его флигель. Между прочим, исходило это от департамента полиции, под предлогом, что министрам и другим высокопоставленным особам необходимо приезжать к нему, а охрана их в ином случае будет крайне затруднена. Так что источник сведений у сочинителей листовок был совершенно надежный…
Он и подготовке к переезду не в состоянии был уделить ни минуты. Занят был чуть не по двадцать… по «сорок восемь» часов в сутки. Хлопотунья графиня приняла на себя все заботы по переселению в дворцовый дом на набережной, в квартиру с окнами на Неву. Соседние помещения на втором этаже были отданы Совету Министров — под залу для заседаний, кабинет председателя и небольшую канцелярию во власти Николая Ивановича Вуича (между прочим, зять покойного Плеве и — на то невзирая — близкий Сергея Юльевича помощник, немало ему пособивший при составлении Манифеста). Отсюда, с помощью Вуича, в течение нескольких дней, напряженных, уплотненных невероятно, Сергей Юльевич, в сущности, один был вынужден править Россией… если, конечно, сие можно было вообще называть правлением.
На этом рубеже, на этой, как тогда представлялось, границе между временем старым и новым, полицейской Россией и Россией правовой граф Витте почел за необходимость привлечь в правительство общественных деятелей. Истратил на совещания с ними не один день, однако вследствие несогласий вынужден был отступиться. Между тем каждый час был дорог. Забастовки железных дорог, а потом почты и телеграфа оторвали столицу от провинции, а там растерянные местные власти просто не понимали, что происходит.
Восстанавливать порядок на транспорте пришлось начальнику Юго–Западных дорог Немешаеву, которого «старый юго–западный железнодорожник» пригласил министром путей сообщения. С неотложной задачей новый министр справился довольно‑таки скоро, в отличие от своего предместника милейшего князя Хилкова, давнего приятеля Сергея Юльевича. В молодости Хилков, гвардейский офицер и помещик во времена Александра II Освободителя, раздал свои земли крестьянам и уехал в Америку. Там князь поступил простым рабочим на железную дорогу, затем стал помощником машиниста и машинистом, а когда развернулось железнодорожное дело в России, вернулся… Работал обер–машинистом в Конотопе, тогда и сдружились… Сделавшись министром, милейший князь так, по сути, и оставался обер–машинистом, что явственно проявил при недавней забастовке в Москве. Урезонивая бастующих, наивный Хилков сам сел на паровоз в попытке увлечь машинистов… те, однако, лишь над ним посмеялись…
Немешаев действовал куда жестче и — успешнее. Начало его карьеры, впрочем, не обошлось без досадного недоразумения. Свежеиспеченный министр встречен был в столице… казацкой нагайкой, едва своими глазами захотел посмотреть, что творится на улицах.
На Невском, против Гостиного двора, со ступеней ресторана «Доминик» наблюдал за толпою. Какие‑то люди что‑то выкрикивали, возвышаясь над ней, а толпа отвечала им «Марсельезой». Вдруг надвинулись казаки с пиками наперевес, рысью, вдоль обоих тротуаров. Люди бросились врассыпную, Немешаева столкнули с его ступеней. Увидав плетущегося мимо извозчика с седоком, кричавшим толпе, он вскочил на подножку, но упал, по счастью, внутрь, в пролетку. Подлетевший казак стал хлестать крикуна нагайкой, тот вывернулся, сбежал, а лежавшему поперек пролетки порядком досталось пониже спины… Трудно было сдержаться от смеха, представляя себе дородную фигуру в описанной ситуации, но смех, увы, отдавал горечью, в особенности если оценить символичность картины…
Не сам ли это Сергей Юльевич угодил под нагайку, да и только ли он, когда, в сущности, та же участь постигла высокий порыв Манифеста 17 октября!.. При всей хваленой сообразительности Витте понадобилось время для уразумения этого…
Пока же демонстрации в поддержку свободы и контрдемонстрации монархистов приводили к стычкам, к увечьям и даже к смертям… Бесчинства на улицах и погромы, волнения в военных частях и в учебных заведениях — все требовало вмешательства, и немедля. Тогда как машина власти оказалась напрочь выведенной из строя.
С утра до ночи председателя еще не составленного Совета Министров осаждали петициями делегации и депутации, представители съездов, союзов и партий. Железнодорожные делегаты. Депутация Санкт–Петербургской биржи. Эти с требованиями, те с заверениями. Представители рабочих. Рабочие–революционеры из‑за ареста товарищей. Рабочие–консерваторы, враждовавшие с рабочими–революционерами. Кто с жалобами, кто с ультиматумами. Кто с прошениями, кто с советами. Статс–секретарь по финляндским делам с проектом манифеста для Финляндии. Еврейская депутация с бароном Гинзбургом во главе. Один из видных кадетов Гессен с вопросом об отношении правительства к его партии. С рассуждениями о конституции Милюков…
Когда Вуич приводил дождавшихся наконец своей очереди посетителей в кабинет, их встречал огромный, усталый, взъерошенный человек, буквально засыпанный бумагами, что устилали стол, кресла, даже пол был похож на белое зимнее поле. Письма, петиции, телеграммы, изорванные конверты…
— Что я могу поделать?! — перед очередными посетителями нервно разводил Витте руками.
И журналисты одолевали его, журналисты… Для них Сергей Юльевич даже в этом калейдоскопе всегда готов был выкроить минуту–другую, рассчитывая на поддержку… и просчитываясь порою.
Проницательный Клячко–Львов заподозрил в новой политике ни много ни мало двойное дно; печатно высказался о непрочности «основополагающего акта», подписанного под условием… его отмены!.. Председатель Совета Министров вызвал дотошного репортера к себе. Сквозь царящий в квартире содом, в обход толпящихся депутаций отведя в какую‑то боковую комнату, Сергей Юльевич уперся в него тяжелым взглядом.
— Вот уж никак не ожидал от вас, что станете ставить палки в колеса!
— Вам не следовало ожидать, что я скрою сведения, столь для общества важные, — парировал Клячко, — «Права даруются… впредь до подавления»!.. Не так ли?!
— Для начала я не могу не признать, что вы целиком правы, но, во–вторых, вы же сами понимаете, что с этим кретином, — тут он поднял длинную руку и неопределенно покрутил ею над головой, — иначе ничего не поделаешь…
— Тем более следовало сообщить об этом.
— В будущем, для истории — да. Сейчас — вы должны опровергнуть свое сообщение!
— Я никому ничего не должен и не считаю его ошибочным!.. Но если вы сами пришлете опровержение, ручаюсь, оно будет у нас напечатано.
Немного подумав, Витте сказал:
— Дайте слово, что после этого вы больше не станете касаться сего вопроса.
— Такого слова я дать не могу, — держась на равных с главою правительства, стоял на своем питерский — не нью–йоркский — газетчик. — И даже наоборот, буду утверждать, что я прав, так как знаю, что мое сообщение верно.
— Что же мне с вами делать? — задал и ему Сергей Юльевич дежурный вопрос этих дней.
— У вас вся полнота власти! Арестуйте меня. Вышлите!..
Тогда Витте наклонился к упрямцу и почти шепотом произнес:
— Ищите дураков в другом месте. Пусть они создают вам карьеру!..
И выпроводил наглеца в окружающий содом.
…В Одессе когда‑то считалось, что этот Витте не глупей Рафаловича. А сам скромный банкир Рафалович утверждал, что даже умней.
10. Конфуз
Он жаждал успокоения в государстве, объединения враждующих партий, всеобщей общественной поддержки с самых разных сторон. Иной раз готов был ради этого подлаживаться к собеседникам, с утра до ночи сменявшим друг друга у него в кабинете, пытаясь на пользу провозглашенным целям найти общий язык, попасть в тон с десятками депутаций, нимало не смущаясь противоречивостью исполняемой роли. Вероятно, в этом сказывалась его растерянность перед напором событий, неуправляемых, стихийных, неизмеримо более сложных по сравнению с привычными ему деловыми… И все это на самом что ни на есть виду. И многое из этого без промедления попадало в газеты…
С еврейской депутацией он искренний друг евреев:
— Меня нечего убеждать, я не юдофоб, это всем известно, я знаю, что уравнения в правах требуют высшие интересы России… В конце концов, нет другого решения еврейского вопроса в будущем, чем принятое в цивилизованных странах!..
Но эти банкиры и адвокаты, взбудораженные сегодняшней волною погромов, творимых науськиваемой, по их разумению, кем‑то невидимым, озверелой толпой, требуют от него срочных, экстренных мер, дабы прекратить пролитие ни в чем не повинной крови.
— Скажите мне, что следует предпринять? — вопрошает первый министр, — Что вы бы предприняли на моем месте?
Не дожидаясь ответа, остерегает:
- …Только внушите тем вашим деятелям разных партий, что очень часто проповедуют самые крайние политические идеи: это не их дело!.. Предоставьте это русским по крови, не ваше дело поучать нас, заботьтесь‑ка о себе!..
И тут же вопреки простой логике обещает:
— Я все для вас сделаю, что в моих силах.
И когда посетители предлагают свои меры, немедленно соглашается с ними, просит сегодня же составить необходимый проект.
— Все будет сделано, только успокойте общество!..
При другом свидании (их несколько состоялось) он
неожиданно предложил:
— Вы бы не желали, господа, составить депутацию к государю?
Последовавшую за этим немую сцену нарушили реплики:
— Но государь торжественно принимает черносотенцев!
— Говорят, будто носит их знак на груди!
— И правительство даже не выразило никакого сочувствия тем, кто пострадал от погромов!
В самом деле, между двумя визитами этих господ к Витте царь принял депутацию союзников[44]у себя в Петергофе, и притом весьма благосклонно. Что было, то было. И нагрудный их знак действительно получил. И ободрил их приветственной речью.
— Так тем более, господа, поймите, — отозвался на нестройные реплики первый министр. — Милостивый прием депутации вашихповлиял бы на черносотенцев успокаивающе! Неужели же это требует разъяснений?
Разумеется, он заранее заручился высочайшим согласием на свое приглашение. Ему стоило, признаться, труда убедить государя, что такая встреча, помимо всего другого, произвела бы хорошее впечатление за границей. И что это («два пишем, один в уме») в свою очередь облегчило бы (довольно было в пример привести банковских нью–йоркских тузов) получение займа, который столь необходим нам, — хотя бы для борьбы с революцией, не говоря уже об остальном. Сей последний довод оказался для его величества неотразимым…
Поблагодарив за лестное предложение, еврейские деятели пообещали обсудить его со своими.
Один из них не замедлил при этом напомнить библейское предание об Эсфири, во спасение народа своего обольстившей грозного царя персов. «Пойду к царю, хотя это против закона, и, если погибнуть, погибну!»… (У этих деятелей, заметил тут себе Сергей Юльевич, ко всякому случаю про запас наготове ветхозаветная притча.)
Другой же без околичностей поставил условие властям предержащим, чтобы заявили о недопустимости политических барышей на еврейской крови.
— Да, да, само собой разумеется, — со своей стороны опять охотно пообещал Витте.
И позднее вновь это подтвердил повторно пришедшей к нему депутации.
— Но что же вы, господа, решили о посещении, про которое мы прошлый раз говорили? Государь ждет вас, благожелательный прием обеспечен!..
Но и на сей раз услышал в назидание притчу: «Как могу я предстать перед царем, когда у меня платье разодрано в знак печали и голова посыпана пеплом?!»
А вскоре после этих доморощенных эрудитов–спиноз являются к нему в сапогах бутылками, в поддевках, в вышитых малороссийских косоворотках депутаты от мещан и крестьян из города Екатеринодара. Он, сочтя по их облику, что принимает на сей раз квасных патриотов, заговорил с ними, бес попутал, чуть ли не на языке тех листовок, что подбрасывались ему самому. Дескать, государь император денно и нощно печется о народном благоденствии, а смутьяны, жиды и интеллигенты сеют всяческую крамолу, раздор и смуту промеж истинно русских людей…
— Тут особо жиды отличаются, — продолжал ничтоже сумняшеся граф (если б слышала только его графиня! — до того ли ему было, чтобы подумать об этом?!), — с их способностью зазнаваться, с корыстолюбивостью, с большим даром нахальства… Однако у нас не как у других, слава Богу! Это у американцев да у французов президент опасается, изберут ли его избиратели, и английский король весь в долгах у жидовских банкиров. А Россия своим величием обязана царям, наш государь, слава Богу, независим!.. Не злосчастная эта война, все бы у нас с вами было!..
Среди многих достоинств, какими наделила этого человека природа, не хватало, очевидно, того, что в нужный момент позволяет взглянуть на себя со стороны. А быть может, просто растерянность и усталость это в нем притупили, из‑за них не удержал и «такт в голове»… а то бы, наверно, не оконфузился столь неуклюже. Хотя, в сущности, подчинился необходимости политической, это она толкнула его на вынужденный поступок (как когда‑то на рискованную комбинацию Зубатов — Плеве). Депутаты от города Екатеринодара рты разинули и потеряли дар слова от неслыханных от графа Витте речей. И без промедления ретировались.
А потом не без насмешки поведали об этом удивительном реприманде что‑то, видно, пронюхавшему репортеру.
Когда изложение этой дивной беседы появилось в газете, даже старик Суворин, калач тертый, высмеял незадачливого репортера. Надо, дескать, быть идиотом, чтобы поверить, будто Витте мог такое произнести!.. Ну а председатель Совета Министров, разумеется так же печатно, самым резким образом все это опроверг (впрочем, не указывая щекотливых мест). И тогда охмелевший от дарованной свободы газетчик (как назло тот же Львов–Кляч ко), предварительно, шельма, у нотариуса заверив свидетельства очевидцев из Екатеринодара, так нескладно втянувших Сергея Юльевича в конфуз, опубликовал заявление, что изложенное безусловно верно, опровержение же заведомо ложно, и притом с любезностью предоставил графу Витте восстановить свое доброе имя коронным судом.
Никаких дальнейших действий по этому поводу Сергей Юльевич не предпринял. И проведала ли Матильда Ивановна об этом конфузе, у нее не стал выяснять… а она и проведала если, то виду не подала. Когда же некоторое время спустя — по какому‑то новому случаю — Сергей Юльевич вновь подвергся расспросам неугомонного репортера, он ни единым словом не помянул происшедшего между ними.
11. Притча, опера и гравюра
Как‑то, к слову пришлось, он поинтересовался у своей Матильды Ивановны, а не помнит ли она случаем ветхозаветного предания об Эсфири. Разговор с еврейскими эрудитами запал в голову.
— В чем там, собственно, было дело?
Ее, по правде говоря, вопрос удивил. Никогда в Писании особенно не блистала. Пытаясь что‑либо припомнить, нахмурилась, пожала плечами.
— Что‑то героическое такое, знаешь, наподобие как в опере о Юдифи… только, кажется, без отсечения головы.
Оперу с Федором Шаляпиным в роли того вражеского иудейскому племени полководца, персидского, ассирийского ли, чью помутившуюся от безумной любви голову постигла столь печальная участь, они слушали с наслаждением вместе в московской Частной опере бедняги Саввы Ивановича Мамонтова (тогда еще, впрочем, совсем не бедняги).
…Красавица еврейка пробралась из осажденного города во вражеский стан и обещает пораженному ее красотой полководцу, что поможет ему завладеть этим погрязшим в грехе городом. Полководец оказал ей прием поистине царский, задал пиршество в ее честь.
- …Помнишь, как замечательно его арию спел Шаляпин?!
После пира они остаются одни в шатре, и хмельной полководец увлекает ее с собою на ложе. Она как будто бы поддается ему, но, дождавшись, когда он, истомленный, уснет, вытаскивает его меч из ножен и мечом этим отрубает ему голову… А позднее, в полночь, выносит ее из стана в корзине для провианта, которую заранее припасла, и с добычей возвращается к себе в город. Утром голову своего полководца охваченные ужасом ассирийцы (персы?) увидели выставленной над городского стеной…
— А кто пел ее? Тоже ведь пела отменно!
Уж тут Матильда Ивановна ответила без запинки, в чем, в чем, а в певцах толк знала, ценителем оперы считалась по праву.
И неожиданно для самой себя проговорила слова, неизвестно откуда вдруг пришедшие на язык:
— «Пойду к царю и, если погибнуть, погибну!» — так твоя Эсфирь заявила!
Когда на развале в Париже, на набережной Сены против собора Нотр–Дам, ему на глаза попалась гравюрка со знаменитой картины «Юдифь» — из царского дворцового собрания, кстати, — он привез ее Матильде Ивановне в Биарриц: библейская красавица, опираясь на меч, наступила на голову поверженного врага.
— Подарок со значением? — усмехнулась она и вешать картинку на стену в гостиной не захотела.
Казалось бы, как это все далеко — ассирийцы, персы, ан нет. Подобные материи, библейские, иудейские, что‑то такое в глубине у нее бередили. Словно бы смешивались в ее представлении с нынешним юдофобством, российским. Собственное происхождение графиню стесняло, хотя ни за что бы из гордости в том не призналась, возможно даже себе самой.
Ее соплеменники, приняв православие, нередко норовили откреститься от прошлого, очиститься от собственной скверны, порывались поскорей раствориться в российской среде. Даже говорить выучивались по–русски почище иного природного русака. А потом напоказ выставляли свою акающую московскую, беглую питерскую или новгородскую речь, с высоты ее презирая местечковый картавый гвалт вчерашней родни. Она знала сколько хочешь таких господ, но ее саму та же гордость оберегала от этаких превращений, Бог свидетель. Хотя имя… имя, данное родителями, подобно многим новообращенным, сменила — ни Матильдою, ни тем более Ивановной до крестин не была, и вообще предпочла бы о материи сей позабыть, да вот только материя о себе напоминала без спросу. А в особенности с той поры, как сделалась Витте… Всеми этими дурно пахнущими прокламациями напоминала, всеми этими статейками в грязных листках, да и просто гадкими намеками из‑под руки. Верно: гордость, как панцирем, защищала ее, гнусности отскакивали, почти не оставляя царапин. Вот Сергею Юльевичу, ему каково?! Ему кололи глаза, его, как кнутом, исхлестывали женой до рубцов. Он, конечно, держал себя по–мужски, не подавал виду, как ему больно, но от нее‑то эту боль не удавалось скрывать… И тогда она корила, угрызала, казнила себя, что ломает, что пакостит ему жизнь… Он ее как мог по–своему утешал, объясняя с терпением ангельским, домашний учитель, что сокрыто за такими нападками, теперь это хорошо понял, что — и кто, у кого какая корысть и кому удается из гнусностей извлечь политически прибыль.
— Вообще же на эту кухню, Матильдочка, я тебе заказываю дорогу, там, поверь, отвратительный запах!..
…Небольшую гравюру с картины художника Джорджоне «Юдифь», застекленную, в рамке, графиня Матильда Ивановна все же повесила у себя в будуаре.
— Если бы я умел рисовать… — устраиваясь в кресле напротив гравюры и разглядывая ее, мечтательно сказал Сергей Юльевич, — то, пожалуй, приделал бы голове под ногой у Юдифи, угадай, Матильдочка, что? Ты права, как всегда: свою бороду и этот свой вздернутый нос, что ты скажешь?
Боже праведный, как любила она его в тот момент, вся, до кончиков пальцев, до просветляющих навернувшихся слез…
Спору нет, когда, миротворец портсмутский, спускался с борта «Кайзера Вильгельма Второго» под торжественные аккорды «Боже, царя храни», он был величественнее несравненно и достоин обожания, должно быть, но душою ближе она не ощущала его еще никогда…
- …Впрочем, может, Матильдочка, пригласим умелого карикатурщика с этой целью?
12. Смута и кровь
Указ о политической амнистии, которой так добивались господа петербургские редакторы и, понятно, не только они, был объявлен на четвертый день после высочайшего Манифеста. Так же как сам Манифест, далеко не всем и амнистия оказалась по вкусу. Крайний приверженец самовластья граф Шереметев, к примеру, повелел в своем дворце оборотить портреты государя изображениями к стене… Впрочем, графский чудаковатый протест был вполне безобиден по сравнению, скажем, с действиями Совета рабочих. Там решили продолжать всеобщую забастовку, поскольку‑де Манифест не удовлетворяет рабочие массы. После повторного такого призыва на больших петербургских заводах получили телеграмму от Витте. Председатель правительства давал братцам–рабочим товарищеский совет не слушаться тех, кто толкает их к голоду и разорению… Телеграмма ли подействовала, нет ли — факт, что забастовка, а с нею влияние Совета, сильное в разгар Октябрьской стачки, постепенно пошли на убыль.
Верховодил там некто Носарь, помощник присяжного поверенного, поступивший на фабрику ради пропаганды ткачом. Был момент, когда город хихикал над сомнительной шуткой, будто действуют два правительства параллельно — графа Витте и Носаря. В это время газеты, по доходившим до Сергея Юльевича сведениям, печатали только то, что угодно было их наборщикам и печатникам. Выпускать ли из типографии номер, решали не редакторы, а они… Так что даже суворинское «Новое время» уверяло с ехидством, что еще неизвестно, кто кого арестует: Витте — Носаря или Носарь — Витте. Кое‑кто в полиции воспринял шутку всерьез, как угрозу. Именно тогда в одно прекрасное утро Сергей Юльевич обнаружил во дворе дома взвод преображенцев, вызванный для охраны его особы…
Прочитай он в свое время повнимательнее «Войну и мир» графа Льва Толстого, том четвертый (если он том четвертый вообще одолел), то, вполне вероятно, в голове бы всплыл Наполеон Бонапарт, уподобленный ребенку — в карете, который, держась за тесемки, воображает, что правит… Сходно с толстовским Наполеоном, события несли его, словно щепку в потоке…
И все‑таки Носарь, а не Витте, вопреки Суворину, был спустя полмесяца арестован…
Витте с этим не торопился, выжидал, пока рабочая масса разуверится в своих вожаках, которые, подтолкнув к забастовке, очень мало чего добились. Он и медлил, чтобы дать этой мысли созреть, ведь в противном случае крутыми мерами можно было только сильнее разгорячить людей, даже пролить, не дай Бог, кровь. Ну а так арест утратившего влияние вожака прошел почти незаметно… если, правда, не считать последовавшей попытки вызвать финансовую панику в Петербурге.
Казначейство и без того пребывало в глубоком прорыве. Здоровье российских финансов, так, казалось, расцветшее бытность министром Сергея Юльевича, было подорвано злосчастной войной. Лекарство виделось в новых займах. Он искал их в Америке и во Франции по дороге туда и по дороге оттуда тоже, И вот Октябрьская стачка спугнула зазванную наконец‑то в Петербург делегацию французских банкиров! Просидев почти безвылазно несколько дней в гостинице «Европейская» без электричества и под присмотром полиции, банкиры по совету Сергея Юльевича от греха подальше отбыли восвояси… А за этим — удар с целью вызвать обвал, финансовый крах: воззвание Совета рабочих с призывом к населению забирать вклады из сберегательных касс и из банков. Его поместили едва ли не в каждой газете все по той же причине хозяйничания типографских рабочих. В момент, когда Россия только–только робко вступала на дорогу к правовому государству, подобное проявление свободы попросту опрокидывало законы! Нет, глава правительства не имел права допустить такое. Ибо не ограниченная законом свобода есть не что иное, как анархия, подрывающая новорожденную свободу под корень!.. Происшедшее лишний раз подтвердило Сергею Юльевичу, что господин–товарищ Носарь арестован на законных началах. Следом за главою Совета отправились в «Кресты» господа газетчики, опубликовавшие его призыв, а неделю спустя, точно так же без каких‑либо осложнений, присоединился к ним весь собравшийся на заседание в Зольно–экономическом обществе Петербургский Совет.
Таким образом, в Петербурге, казалось, водворился хоть какой‑то порядок… нарушаемый разве что назойливыми карикатурами да противогосударственными частушками, направленными отчасти и в самого Витте и благодаря своей популярности вскорости дошедшими до него:
Царь испугался,
Издал Манифест:
Мертвым — свобода,
Живых — под арест…
Тревогу вызывали известия из Москвы. Именно Москва представляла собою, по мнению, разделяемому Сергеем Юльевичем, котел, в каком варилась российская смута. Там сильно бурлило. Арест в Петербурге Совета еще подбавил горючего москвичам. Но… надлежащее министерство сохраняло невозмутимость. Только что назначенный министр Дурново лишь сетовал, что секретная полиция в полном расстройстве. В это‑то как раз было трудно поверить… Вообще же что можно было поделать, когда центр России, за исключением Петербурга, в сущности, был почти оголен. Действующая армия никак не могла выбраться из Маньчжурии. Из‑за беспорядков, заражавших и саму армию, сообщение по Сибирской железной дороге то и Дело прерывалось. Без армии, без денег — хорошо же было его правительство!.. Между тем в Москве надо было что‑то срочно предпринимать. После очередного заседания в Царском Селе Сергей Юльевич сказал государю, что в Москву надо назначать решительного и твердого человека, иначе она окажется под властью смутьянов. На вопрос, кого бы он предложил, назвал Дубасова.
— Позвольте вызвать его из Курска.
Адмирал был послан туда для подавления крестьянских волнений. Давно уже списанный на берег, в петербургские канцелярии, за несогласие с японской войной, этот крепкий служака справился с сухопутным заданием, по оценке Сергея Юльевича, отлично. Его имя прогремело еще в турецкой войне; когда «юго–западный железнодорожник» занимался перевозками войск на театр военных действий» Дубасовым восхищались: это тот моряк, что подорвал на Дунае броненосец «Хавза–Рахман»! Потом адмирал командовал эскадрой на Дальнем Востоке, гак что они с Витте знали друг друга давно. К тому же женат он был на сестре покойного Сипягина, не один раз встречались в его «русской столовой»…
Спустя несколько дней новый генерал–губернатор уже сообщал из Москвы по телефону: обстановка весьма напряженная, войска мало, необходимо подкрепление из Петербурга. Потом опять позвонил: у него едва хватает солдат для охраны вокзалов, в городе же практически нет никого. Подкрепления нужны экстренно, ни за что нельзя поручиться!
Через Трепова Сергей Юльевич немедля доложил о звонке государю. Адмирал был не из тех, кто теряет голову по пустякам… В тот же вечер государь передал, чтобы Витте обратился к великому князю — главнокомандующему.
— У меня самого войск в обрез! — взвился Николай Николаевич. — Ведь и город и окрестности охраняю, всю семью августейшую! Как можно ослаблять армию здесь?! А не дай Бог что заварится!
— У нас здесь успокоилось, слава Богу, — возразил Сергей Юльевич, — Что до слухов, так у страха глаза велики…
— И какая уж такая беда, если Москву разгромят? — не унимался главнокомандующий. — Да, не спорю, когда‑то она вправду была сердцем России, но теперь‑то вся зараза оттуда!
Переговоры в подобном духе протянулись за полночь, покуда не прибыл фельдъегерь с пакетом от государя.
В результате около сотни кавалерии и несколько пушек Семеновского полка отбыли на двух поездах с Николаевского вокзала под командою полковника Мина. Того самого, что; стрелял у Технологического института…
Ценой сильного пускания крови адмирал Дубасов и полковник Мин в несколько дней усмирили восстание. Поначалу председатель Совета Министров действия их одобрил. Он считал: революционные выступления следует подавлять силою же, без сентиментальности, без пощады. Но коль скоро сопротивление сломлено, продолжать пролитие крови, причем часто крови невинных, есть неоправданная жестокость. К несчастью, подавивши восстание, полковник и его подчиненные продолжали кровавые действия, бессмысленные и бессердечные.
Мин жизнью поплатился за это. Через несколько месяцев был застрелен террористкой на Петергофском вокзале. Дубасову в Москве бросили в экипаж бомбу. Адъютант погиб, адмирал получил контузию… Этим дело не кончилось. В годовщину московских событий, минувшим декабрем, в него почти в упор выстрелили из браунинга в Таврическом саду в Петербурге. Судьба его берегла… Террорист промахнулся и, схваченный тут же, признался, что долг его был отплатить Дубасову за Москву… Стоило ли в таком случае удивляться, если, может быть, и Сергею Юльевичу уготована была та же участь. Хоть и говорил полицейскому полковнику, что могла на него покушаться скорее все ж таки «черная сотня», — красным, в сущности, тоже любить его было не за что.
Так что вряд ли он имел основания исключить, что в своих тайных судилищах его приговорили и те и другие. И не отступятся от исполнения приговора при первой же неудаче…
Негодяи действуют среди тех и других, так, во всяком случае, он полагал. При всем том выводил из горького опыта формулу. Негодяи из левых преступают закон большей частью из принципов все‑таки, из убеждений. Тогда как негодяи из правых идут на преступления, консервативностью и преданностью престолу, как броней, прикрываясь, а на самом‑то деле неизменно из подлости, из корысти.
13. Графский герб
В укромном углу Каменноостровского дома, а именно у Матильды Ивановны в спальне, подобно гравюрке с Джорджоне на вилле в Биаррице, подальше от посторонних глаз, висел большой портрет Сергея Юльевича в генеральской форме, в папахе и с шашкою на боку. Бравый вид, внушительный, но… отчасти комический для такого сугубо штатского человека. И смешной и — трогательный, когда бы пришлось объясняться по сему поводу, наверно, добавила бы Матильда Ивановна… только с кем объясняться?! С ним самим? Или, может быть, с Верочкой, нечастой теперь гостьей под родительским кровом… Облачаться в генеральский, а вернее, почти генеральский мундир Сергею Юльевичу высочайше было даровано право как шефу пограничной стражи, но требовался наметанный глаз военного человека, чтобы обнаружить это почти. В свое время пограничная стража стараниями Сергея Юльевича была придана Министерству финансов наряду с таможенным ведомством, поскольку главной обоих обязанностью было смотреть за контрабандой. Министр, таким образом, превратился, если угодно, в военачальника. И при всем своем отвращении к чиновничьему вицмундиру не мог упустить случая нарядиться в мундир военный, чудеса, да и только. А Матильду Ивановну трогало мальчишество, всем казалось — чуждого обыкновенных слабостей сановного бюрократа. Он же в форме и в сопровождении ординарца отправлялся на верховую прогулку для моциона с дачи, с Елагина острова, в Сестрорецк, на новый курорт, где, бывало, встречался с грузным всадником в голубом мундире, не более военным, нежели он, то бишь с шефом жандармов Сипягиным Дмитрием Степановичем…
Ох уж эти мужские игры в солдатики, забавляющие до старости лет!.. — умилялась Матильда Ивановна, даже в этих властных мужах все равно ребяческое сохранялось!..
С недавних, однако, пор граф Сергей Юльевич поддался новому увлечению, и ни занятость делами, ни смута и революция не смогли его от этого отвратить. Изнемогши за день от правительственных забот, которые требовали, без преувеличения, «сорока восьми» часов в сутках, поздно вечером обложится фолиантами, а то, лучше, зазовет к себе, как водилось, собеседника–знатока… теперь по геральдической части. А потом, чуть не в полночь, заглянет на половину Матильды Ивановны с гербовым альбомом в руках:
— Ваше сиятельство, графинюшка, ну‑ка выбери на собственный вкус!..
Это жуткое время, что выпало на их долю, останавливало трамваи на улицах, заводы и фабрики, отключало электричество и водопровод, выводило на городские площади толпы, но как будто не зыбило канцелярски заведенных распорядков и сословных устоев той жизни, какой жил, точно в белые ночи, верхний слой имперской столицы, вся спесивая столичная знать. Уж на что ее не жаловал Сергей Юльевич, здравомыслящий человек, а и он подчинялся устоявшимся правилам этой призрачной жизни. И, не менее ученая судьбой, не менее здравомыслящая, чем он, сердцем, Матильда Ивановна понимала: этот графский герб не причуда, а, скорее, отдушина для него.
Через три дня ровно после подписания царем Манифеста — Петербург весь кипел, как и остальная Россия, — 20 октября девятьсот пятого года, глава, в сущности, еще не собранного российского правительства в ответ на рутинное уведомление департамента герольдии Правительствующего Сената о полагающемся его сиятельству по достоинству графском гербе отписал, не сам, правда, а по его поручению некое должностное лицо, что граф желал бы герб возможно простой, с изображением на нем посредством эмблем… и далее перечислялись понятия, какие признал для себя главнейшими. Краткий перечень выражал те принципы, каких он, по его убеждению, твердо держался, вопреки нередким и злым укорам в отсутствии у него таковых.
Законность. Свобода. Мир. Верность.
Графский герб как бы возвращал его в долгий ряд титулованных предков, разумеется по линии материнской, коими он всегда так гордился; если речь заходила о родословной, разумел только их, вынося за скобки отцовскую, ни в какое сравнение не идущую с ними ветвь… Что поделаешь, мезальянс! Мать, конечно, вступила в неравный брак, да ему ли было бросать в нее камень… он и здесь не избегнул противоречий. И когда, показав в кабинете долгоруковскую стену, демонстрировал особо того достойному гостю легендарный крест светлейшего князя Михаила Черниговского, реликвию и святыню, перешедшую к нему от любимой бабушки Долгорукой, непременно упоминал о корнях, восходящих к Владимиру Святославичу, крестившему Русь…
По преданиям, князь Михаил, казненный в Орде, перед смертью наказал передать этот крест его детям, и потом, в поколениях, крест переходил от отца к сыну на протяжении шестисот с лишним лет… У иных знатоков возникали, впрочем, сомнения в достоверности этой легенды, здравомыслие не позволяло Сергею Юльевичу умолчать об этом. Сам же мученик князь приходился, и сие уже вне сомнений, внуку былинного князя Владимира Красное Солнышко правнуком, а прямой потомок его дал начало роду князей Долгоруких… и в гербовнике дворянских родов России родовой их герб означен по порядку седьмым!.. А отныне (и этого нужды не было разъяснять), словно равный в этом ряду, появлялся герб графов Витте, им заслуженный, графом Сергеем. Не оттого ли, в порыве, пал он перед пожаловавшим ему титул царем — на колени… о чем так не любил впоследствии вспоминать.
Перед тем как в герольдию отослать ответ, накануне, он советовался с графиней Матильдой Ивановной о своем четырехчленном девизе. И, любуясь своим графом Сергеем Юльевичем, она, не знавшая собственных предков и в четвертом колене и уж по крайней мере не желавшая о них вспоминать, одобрила без оговорок его замечательный выбор. Что можно еще лучше придумать: законность, свобода, мир, верность!..
Будь спокойнее время, сбрось он крест государственных тягот, его воля, сам, наверное, представил бы для начала, как такие понятия изобразить на бумаге. Почему бы, скажем, не взять за основу копию американской статуи Свободы, преподнесенную ему после Портсмута, не увенчать ее оливковой веткою мира… в руки, может быть, дать ей весы Фемиды, а у ног посадить верного пса… Да, увы, вздохнуть было некогда под тяжелой ношей, ну и воля его, равно как законность, свобода, мир, была скована верностью… А к тому же геральдическая символика, как оказалось, подчинена правилам, не менее чем грамматические, строгим, это Сергей Юльевич уже усвоил себе. Корова не пишется через «ять». Надо было постигнуть особую грамоту, чтоб понимать, что именно высказывается в гербе. Ему это напоминало иероглифы у китайцев. Свободу могут означить орлиные крылья, объяснили ему знатоки, оливковые ветки — мир (это он угадал бы). Законность же на геральдическом языке ему предложили изобразить с помощью атрибута древнеримской верховной власти. Римский консул являлся народу в сопровождении почетной стражи, эти стражники–ликторы шествовали со знаками достоинства своего господина — пучками связанных прутьев с топором посредине… Топор и прутья — вот исстари символ закона! (Отнюдь не слепая Фемида…)
За сто рублей гербописец–художник постарался сложить это все воедино.
— Ну как тебе? — развернул Сергей Юльевич перед Матильдой Ивановной присланный ему герольдмейстером красочный многоцветный рисунок.
Он отнесся к задаче с полнейшей серьезностью. Китайская церемония, несомненно, льстила его самолюбию, да, признаться, Матильды Ивановны тоже.
Отставив на вытянутой руке, она со вниманием рассматривала картинку.
Золотой щит обрамлен серебряным дикторским пуком под императорским орлом с золотым же щитком на груди. На этом, малом щитке — царский вензель: Н И, а снизу червленый лев с оливковой ветвью в лапе…
Над разгадкою смысла голову можно было сломать, китайская грамота, да и только, но в общем, Матильда Ивановна согласилась, выходило красиво.
Одного недоставало в рисунке — аллегории верности. Из герольдии сообщили: на их языке верность принято изображать в виде собаки (тут опять угадал!), но еще одна фигура чересчур загромоздит композицию. Предлагали вынести «верность» в девиз. Его сиятельство предложение герольдии отклонил, и 9 декабря от его имени в департамент отослали письмо с просьбой об изменении проекта герба, с тем чтобы по исправлении оный снова ему представить.
Таким образом покончив на данном этапе со столь тонкой материей (по совпадению, как раз в этот день, 9 декабря девятьсот пятого года, в Москве начался вооруженный мятеж…), Сергей Юльевич вернулся к не менее важному, занимавшему его делу — оно прямо касалось отношений с Америкой — к подготовке доклада о проекте Трансаляскинской Сибирской железной дороги, с которым на днях ему предстояло выступить перед царем.
14. Вице–император
С известных пор едва ли не за всяким царским действием или решением Сергей Юльевич угадывал дворцового коменданта. По сути, обязанность сего чина заключалась в охране жизни его величества. При Александре III так и назывался: начальник охраны. Свитский генерал Трепов не довольствовался, однако, такой ролью. Удаленный от предыдущей должности по условию председателя Совета Министров, он и в новом своем качестве сохранил влияние на царя. И не только сохранил, но весьма приумножил. Так, по крайней мере, представлялось в сферах: самый интимный и сильный советчик государя. И, как в случае с подкреплениями Дубасову, сноситься с царем приходилось все чаще при помощи Трепова. Это он, а не государь, писал графу Сергею Юльевичу резолюции. Едва не каждый всеподданнейший доклад попадал в генеральские, нет, в вице–императорские руки!.. Страной от имени государя управляли как бы две власти. Официальную возглавлял и, стало быть, за все был в ответе граф Витте. Власть же намного более влиятельную — и не отвечающую ни за что — «вице–император» Трепов. Кто из двоих одерживал верх, ни для кого не составляло секрета. Довольно было одной лишь причины. Телохранитель мог видеть царя по нескольку раз на дню, тогда как первый министр в лучшем случае два–три раза в неделю — хотя бы потому только, что жил в Петербурге, а государь в Царском Селе…
Временами выдержка Сергею Юльевичу изменяла.
— Трепов верховенствует наподобие азиатских любимых евнухов! — срывался он, кое–кем и сам именуемый первым визирем.
В кошмарной обстановке после 17 октября, требовавшей действий быстрых, решительных, он ощущал себя связанным по рукам и ногам, тогда как именно Трепов был, быть может, главным виновником творившихся беспорядков. Не случайно господа питерские редакторы, собранные Сергеем Юльевичем в первый же день возвращения к власти, требовали от него срочно убрать этого негласного всероссийского диктатора… словно это в его возможностях было!..
Трепов много лет прослужил в Москве при великом князе Сергее Александровиче. Государев дядя управлять генерал–губернаторством толком не мог, за него это делали фавориты, все последние годы — обер–полицмейстер Трепов. В недолгую эру улыбок, после убийства Плеве, оба сочли за благо удалиться от дел, и были оба отставлены, недотерпев какой‑то недели до скончания чуждой им «эры». Она неожиданно оборвалась в кровавое петербургское воскресенье.
Пути Господни… Двумя днями позднее едва отставленный из Москвы полицмейстер получил новое назначение — генерал–губернатором первой столицы.
…Что на фабриках готовят петицию, известно стало до 9 января за несколько дней. Текст петиции, которую рабочие намеревались подать государю императору, получил в числе многих и Сергей Юльевич у себя на дому. Не то просьбы, не то требования рабочих касались их бытия и были, на взгляд Сергея Юльевича, преувеличены, односторонни, однако изложены довольно‑таки миролюбиво.
В субботу вечером, накануне, на Каменноостровский к нему явилась вдруг целая депутация не знакомых с ним лично господ, некоторых он узнал по портретам: Максим Горький, писатель Николай Анненский, энциклопедист академик Арсеньев. В тот день у министра внутренних дел прошло совещание, о котором Сергей Юльевич прослышал стороной, его даже не пригласили. Посетители же с самоуверенностью стали на него наседать: его долг, видите ли, сделать то‑то и то‑то, дабы предотвратить несчастье. Чтобы государь принял петицию, иначе ждите кровопролития, расправу готовят!.. Сергей Юльевич отвечал, что дела этого вовсе не знает и потому вмешаться никак не может… Уходя, кто‑то помянул Понтия Пилата: дескать, умыл руки…
Наутро, едва лишь вставши, он увидел в окно шествие с хоругвями, образами и флагами. Как только толпа прошла, поднялся на балкон, с которого хорошо виден Троицкий мост через Неву, и тотчас услышал выстрелы с той стороны. Народ хлынул обратно. На руках несли убитых и раненых, проливших первую кровь в революции пятого года. На этой крови и всплыл неведомый Трепов.
Отчего же именно он, а не кто‑то другой? Тому Сергей Юльевич видел ряд причин, или, может быть, поводов. Озабоченный приисканием места, под руку вовремя кому следует подвернулся. Из конной гвардии вышел, одним этим по душе министру двора, тот когда‑то командовал, конногвардейским полком и сослуживцев своих отличал. Вдобавок, сверкая страшно глазами и лихо закручивая усы, впечатлял бравым видом. Сергей Юльевич молодого офицера приметил еще на похоронах императора Александра III.
Помнится, услыхав на Невском зычное «Смирна–а!» и следом «Гляди веселе–ей!» — согласитесь, не совсем, подходящее к обстановке, — спросил у соседа, кто этот дурак. Оказался ротмистр Трепов… Спору нет, полицейское воспитание тоже кое‑что значило для карьеры, а также и то немаловажное, хотя, впрочем, не афишируемое обстоятельство, что будто бы состоял с царским домом в каком‑то родстве.
Поначалу новый генерал–губернатор взял круто. Неурядица, смута забирала, однако, еще круче. Поставленный командовать ее подавлением, Трепов, подобно командовавшим на японской войне, увы, не снискал себе лавров. Его решения отличались неожиданностями, соответствующими невежеству гвардейского офицера, как определил Сергей Юльевич. А либерал князь Урусов еще добавил к этой характеристике: «погромщика по убеждению и вахмистра по воспитанию». К сентябрю революция вышла из берегов, и диктатор совсем растерялся. Перед бурными волнами разгулявшегося русского океана он признавал одно: руки по швам, никакой сложности явлений не существует, все это выдумки интеллигентов, жидов и масонов!.. И в то же время кидался из крайности в крайность. Примеров было сколько угодно. Довольно такого: в октябрьские дни отдал приказ патронов не жалеть, а уже через несколько дней высказывался за амнистию… Расшатанная подобными шараханиями власть досталась Витте.
К подготовке Манифеста Трепов, казалось, касательства не имеет. Сергей Юльевич встретил его лишь однажды на заседании и ни о чем с ним не говорил. Стороной, однако, дошло, что ему показывают все проекты. Впрочем, только Сергей Юльевич возглавил правительство, Дмитрий Федорович Трепов сообщил ему по телефону о своем желании от дел отойти. Ну а прямо говоря, — в них запутавшись, улепетнуть… Это полностью отвечало намерениям Витте. Все же он не ответил ни да, ни нет. Вынужден был задержать его в пику требованию редакторов. Немедленное удаление могли принять за проявление слабости… Недели же через две, когда Сергей Юльевич счел возможным исполнить желание Трепова, тот, как бы между прочим, сказал, что назначен дворцовым комендантом. Удаляя, его приблизили!.. В приемных дворцового коменданта в Петергофе и в Царском Селе скоро сделалось потеснее, чем когда‑то у министра финансов или чем у первого министра нынче. Стаи делателей карьеры протискивались туда, оттирая друг дружку. Иностранные корреспонденты там ловили удачу. Различные доносы и всяческие записки для государя приносили советники с заднего крыльца… И все полгода, сумасшедших полгода недолгого своего премьерства, граф Витте постоянно натыкался на одно и то же препятствие, как будто наступал на грабли на треповском огороде, на котором порой самому себе представлялся как бы соломенным чучелом. На потешную эту роль он не мог согласиться! Убедившись, что перебороть обстоятельства свыше сил, заговорил с дворцовым диктатором об отставке. Теперь уже, разумеется, о своей. Тот его убеждал остаться. При одном лишь уговоре, однако: граф смирится… Сергей Юльевич Витте возвращался к этому с государем. Несколько раз государь уклонялся от разговора, пока наконец не дал понять, что прежде следует заключить заем — для спасения наших финансов. Задача представлялась исключительно трудной, но условие все ж таки было исполнено, контракт подписан. И спустя две недели после того — и накануне открытия подготовленной им Государственной думы — граф Сергей Юльевич Витте получил вольную… К тому моменту при содействии Трепова свою интригу заплел с черного хода старый лис Горемыкин. Он и сменил графа в премьерском кресле. Ненадолго, однако. Даже его высокобезразличие не сумел со своим благодетелем–вахмистром спеться. Стал жаловаться едва ли не через неделю, что Трепов все ему портит. Засим и трех месяцев не прошло, как одновременно с роспуском Думы Горемыкин разделил участь опального Витте, а на смену пришел (разумеется, по внушению Трепова) Петр Аркадьевич Столыпин. И сумел удержаться у власти много дольше своих предшественников…
Как‑то раз, в столыпинские уже времена, старый лис явился с визитом на Каменноостровский. Оба бывших премьера, и хозяин и гость, от дел давно отошли, и делить им было особенно нечего. В завязавшейся мирной беседе Сергей Юльевич у Ивана Логгиновича между прочим поинтересовался, каковы все же стали причины его ухода.
— При Трепове было невозможно работать, — без обычного своего лукавства отвечал Горемыкин. — Я не мог исполнять требований государя, которые на самом деле исходили от Трепова!.. Посудите, Сергей Юльевич, сами…
И как на духу поведал про последнюю каплю, что переполнила чашу, когда получил от государя письменную инструкцию (составленную, само собой, Треповым), как вести себя с Думой и в Думе. Будто поведение «по инструкции» могло смирить недержимых говорунов!.. Думу следовало просто закрыть, считал Горемыкин; государь с его мнением согласился.
— Но, распустив Думу по моему совету, — продолжал Иван Логгинович, — одновременно по совету Трепова меня уволил… Вы же знаете, Сергей Юльевич, характер нашего государя!..
— Еще бы! — сказал Сергей Юльевич и, позабыв об осторожности, выпалил: — Знаю, как свои собственные карманы! Это очень даже в его духе… В одной руке карандаш, а в другой резинка.
И в свою очередь задал вопрос, свой любимый:
— Вот вы, Иван Логгинович, должны хорошо знать Столыпина. Что он собой представляет на самом деле, бывший вашминистр внутренних дел?
Немного подумав, Горемыкин высказал суждение, как приговор:
— Тип приспособляющегося провинциального либерального дворянина. — И добавил к своему вердикту постскриптум: — Но при Трепове и он бы столько не усидел! Его счастье, что Трепов не задержался, приказал долго жить…
Сергей Юльевич закивал в знак согласия. По данному поводу между отставными премьерами спора быть не могло. С кем, с кем, а уж с Треповым Столыпину действительно судьба улыбнулась.
Нельзя, впрочем, исключить и того, что Столыпин в любом бы случае одержал над Треповым верх. Так и так наступала его, Трепова, очередь впасть в немилость у государя. Господь спас…
15. Слон и тот боится…
Проводивши нежданного гостя до парадных дверей, Сергей Юльевич вернулся по лестнице к себе в бельэтаж и увидел в вестибюле Матильду Ивановну.
— Что его сюда принесло, этого господина?!
Спросила с враждебностью и, пожалуй, с тревогой, даже не пытаясь их скрыть от него.
— Я и сам, Матильдочка, признаться, теряюсь в догадках…
— Да уж поверь, не просто так залетел, не та птица!
Не та птица… Как обычно, Матильда была права, Сергей Юльевич и сам достаточно быстро сообразил, какую, собственно, цель мог преследовать сей визит. Просто так, в жилетку поплакать, старый лис действительно ни за что бы к нему не пожаловал, потому хотя бы, что даже для такого поступка чересчур был ленив. Тяга к деятельности, пусть и столь немудреной, могла в нем проснуться разве что под воздействием собственного интереса, настолько Сергей Юльевич «его высокобезразличие» понимал… и не устоял перед дрянною мыслишкой: а уж не для того ли старый лис со своими обидами и являлся, чтобы вынюхать его мысли о государе?.. Разумеется, дабы при случае их распустить где понадобится, хотя бы и на самом верху!.. Наушничать, это было бы вполне в Горемыкином духе, грязноватым таким способом сводить старые счеты.
После отставки от своего премьерства, когда Сергей Юльевич явился к государю откланяться, его величество сообщил, между прочим:
— Я решил заместить вас недругами вашими, но не подумайте, что именно по этой причине. Нахожу их назначение в настоящее время полезным.
Сергей Юльевич в ответ попросил:
— Может быть, вашему величеству будет угодно открыть, кто такие эти мои враги? Не догадываюсь о том…
Услыхав имя Горемыкина, не сдержался, воскликнул:
— Ну какой же он враг мне?! Если вы имели в виду лиц такого калибра, мне, ей–богу, нечего опасаться!..
А вот в этом Матильда Ивановна согласиться с Сергеем Юльевичем едва ли была готова.
— Слон и тот боится мышей, — сказала.
В свое время, когда Сергей Юльевич пребывал еще в полной силе, Горемыка, помнится, буквально за ним охотился, пускался во все тяжкие — ради нужной ему встречи. Поскольку в присутственных местах Сергей Юльевич предпочитал его избегать, не побрезговал заискивать у Матильды Ивановны, этой женщины, у которой, по его мнению, высказываемому на людях, не то что дамам бывать зазорно, а и мужчинам!.. И прилюдные эти высказывания для Матильды Ивановны недолго оставались секретом.
Побожится, к примеру, в одном порядочном доме, что никогда не допустит знакомства своей жены с этой женщиной, а назавтра же, под вечер, заявится ничтоже сумняшеся к Матильде Ивановне, уже прознавшей про это. Случай этот она не выдумала, так на самом деле и было, но, слава Богу, за ним следом пришел другой человек, а именно доктор, заглянувший ее проведать. Прошмыгнув мимо доктора через полутемную залу, Иван Логгинович с поспешностью ретировался.
— К вам наведывается Горемыкин? — удивленно спросил Матильду Ивановну доктор. — За глаза распускает про вас такое…
— Что‑то часто повадился, ищет встреч с Сергеем Юльевичем, — отвечала она. — У меня обивает пороги, вьюном вьется, а по городу, знаю, собак вешает на меня. И боится, как бы кто его здесь не заметил, чуть дверь скрипнет, сбегает! Противно.
Из деликатности доктор повернул разговор на другое, а Сергей Юльевич, узнав о нем, возмутился:
— Зачем же ты, Матильдочка, этого старого сплетника принимаешь?!
А она ему объяснила:
— Не хочу, Сереженька, наживать тебе лишних врагов. Разве их без того не довольно?! А меня, — смеялась, — от этого лиса, от грызуна от этого, не убудет!.. «Горе мыкали мы прежде, горе мыкаем теперь…» Одно жаль: для флирта, бедненький, дряхловат!..
У нее была своя житейская мудрость.
Ну а счеты, само собой, между ними водились, между Витте и Горемыкой. И памятной обоим историей с сэром Базилем Захаровым, инженером Белинским и европейским турне, что стоила Горемыкину министерского кресла, их давнишние счеты не исчерпывались, отнюдь.
Подобно тому как с покойным Плеве не бывало у Сергея Юльевича согласия почти что ни в чем, так же и с Горемыкиным складывалось похоже. На любое Виттево да находилось Горемыкино нет — и напротив. С той лишь разницей немаловажной, что в Плеве он встречал противника искусного и, стало быть, достойного его самого, тогда как «Чего изволите?» Ивана Логгиновича превращало борьбу с ним в пустое занятие. Ну как если бы молотил воздух… Он держал свою позицию цепко, но до тех только пор, пока сего изволили свыше, а при первой же перемене ветра с облегчением отступал. Когда‑то он долго и, надо думать, в охотку бездельничал, выбирая, куда доходнее двинуться, направоили налево, выбрав же, благополучно, подобно многим, сменил либеральный сюртук на вицмундир, в достаточной степени консервативный, чтобы благословлять применение конной полиции против недовольных студентов или земских начальников против крестьян. Кто‑то удачно сравнил его со старой, вытертой енотовой шубой, которую при необходимости извлекают из шкапа, а по миновании таковой до нового случая прячут обратно. Понадобилось прикончить Сельскохозяйственное совещание Витте с его планами второй крестьянской реформы — молью траченного Горемыку сюда! Перед Портсмутом опять норовились извлечь… хитрый бестия увильнул. Зато едва было не пригодился на то, чтобы охолостить Манифест 17 октября.
В самый пик совещаний с царем в Петергофе, при очередном возвращении на пароходе в столицу, Сергей Юльевич по нечаянности в разговоре услышал, что придется пароходу сплавать туда еще раз, Горемыкина привезти… Так открылось, что, совещаясь с Витте, его величество в то же время — параллельно и от него под секретом — совещается с Горемыкой о том, как… исправить подготовленный Витте проект!.. А потом ему еще морочили голову, будто речь идет всего лишь о редакционных поправках, покуда определенно не прояснилось, что эти поправки, по существу, переворачивают его проект… Тут Сергея Юльевича взорвало, и пришлось‑таки домашним царским советчикам до поры вешать шубу на место, в шкап, — пока ее вдруг не швырнули прямо в высшее в российском правительстве кресло, еще не остывшее после деятельного через меру графа Витте…
Своего мнения о сановном нуле Сергей Юльевич не находил нужным скрывать, равно как вообще своего взгляда на государственных наших мужей, — которые когда не нули, тогда чаще всего подлецы… Кто не нуль, тот подлец, так и виделось, особенно в плохую минуту. Кто не подлец, тот нуль… Этот же счастливо вобрал в себя оба качества вместе; кроме собственного кармана, ему на все было наплевать с колокольни. А если и выделялся чем среди подобных других господ «Чего изволите?» или «За царя, православие и народность» (а по правде‑то «За свое пузо, карман и карьеру»), то разве замечательно пышными баками.
Словом, тип вполне подходящий, чтобы, подольстившись, пронюхать, что творится у опального графа в доме… и, того более, на уме.
А Матильда опять оказывалась права, да и науке известно было отличнейшим образом: всего больше на свете слон и в самом деле боится мышей. Нету для него опаснее твари.
16. Вокруг прославившейся печи
…Такой же подвешенный на веревке ящик, обшитый холстом, такая же стеклянная трубочка выступает из отверстия наружу, внутри такой же часовой механизм, как будильник, установлен на те же девять часов. Вторая машина в дымоходе виттевского дома оказалась точной копией первой.
В лаборатории Михайловской артиллерийской академии, куда обе машины отправили на экспертизу, разобрались с ними досконально. И как устроены, и какого вида в них вложено взрывчатое вещество, и что последовало бы за взрывом, если бы часовые механизмы сработали, и по каким причинам этого не случилось. Большие авторитеты, генерал–профессор по артиллерии и владелец часовой фирмы Павел Буре, определили, что гробики–ящики слишком узки, чтобы дать полный ход молоточку будильника, а часы встали, когда их стрелки показывали двадцать пять минут девятого часа… так что молоточек не достал трубочки с кислотой и потому ее не разбил. Без этого же не могло произойти воздействия на взрывчатое вещество, состоявшее из гремучего студня с примесью аммиачной селитры, нитроглицерина и пироксилина. Побудить эту адскую смесь ко взрыву могла также, по расчету профессора артиллерии, помимо того, и другая причина. А именно: жар топки. В таком случае не имело никакого значения, исправно ли работал будильник. Достаточно было бы затопить печь. При этом эксперты вывели заключение, что машины изготовлены технически очень умело, а примененный в них род взрывчатой смеси, произведенной, по–видимому, в Вене, даже им незнаком. Для оценки разрушительной силы пришлось одну из двух бомб, с дозволения судебной власти, взорвать на артиллерийском полигоне за городом, где обыкновенно учащиеся академии стреляют из пушек. После чего генерал–профессор был вынужден сильно изменить свое прежнее мнение о возможных последствиях, которыми грозил взрыв дому на Каменноостровском. Если сначала предположение было, что от взрыва пострадали бы стены в комнатах, где стоят печи, и, возможно, потолки на первом и втором этажах, однако вообще всего дома не повредило бы, то после пробы на полигоне профессор склонился к выводу, что должно было разнести не только весь этот дом, но сильно пострадал бы также соседний…
Казалось, после этакого заключения судебная власть с особым усердием примется за розыски злоумышленников, пускай в данном случае, к счастью, их умысел не оправдался. Мало ли бед могли еще натворить при своем злодейском умении!.. Кто именно смастерил эти дьявольские устройства? Каким образом раздобыли венский, невиданной мощности, динамит? Кто, наконец, подложил его в печи? Вопросов было хоть отбавляй, на следователях лежала обязанность представить на них действительные ответы. Но вместо того чтобы обязанность исполнять, отыскивать преступные следы покусителей и улики, они увлеклись идеей, будто бы преступление… сфальсифицировано, пустились на поиски доказательств комедии, выспрашивали у домашних, прислуги, у того же Гурьева, наконец, а не подкладывал ли кто бомбы из дому, изнутри. С какой же целью? А якобы с той, чтобы покушение на жизнь Витте привлекло опять внимание к графу, принесло ему новую популярность! Удивительная для самого Сергея Юльевича сыскная версия, сначала пущенная в подметной листовке с угрозами «графу Сахалине», полицией не ограничилась, достигла высоких сфер…
В эти дни в особняк на Каменноостровском потянулись чередой посетители, друзья и знакомые, дабы выразить, как приличествует, сочувствие обитателям белого дома. Среди них лица, близкие к самым верхам. Заезжал барон Владимир Борисович Фредерикс, как добрый знакомый, не в качестве министра двора. И Котик, князь Николай Дмитриевич Оболенский, натурально не в качестве управляющего кабинетом царя. Наведались и другие высокопоставленные особы. Вот кто‑то из них и сообщил Сергею Юльевичу под рукой, будто сам государь высказал предположение, что если не самолично граф Витте мог решиться на такую проделку, то кто‑нибудь из близких ему людей. Не исключено, что и по желанию графа… ведь известна склонность его к интриганству!.. Впрочем, это говорилось якобы прежде того, как обнаружила себя истинная сила адской машины… И еще будто бы видели на столе у царя подробный план дома на Каменноостровском, который его величество со внимательностью рассматривал, что, по меньшей мере, свидетельствовало о высочайшем внимании к происшествию…
Граф с графиней Матильдой Ивановной встречали посетителей в вестибюле второго этажа, куда снизу, от парадных дверей, вела некрутая, с плавным изгибом лестница. Здесь, под портсмутскою стеной, пожимали пришедшим руки, принимали слова участия, с большей или меньшей любезностью приглашали направо, в гостиную. Тот, кто редко бывал в доме, как правило, медлил возле стены с фотографическими снимками и рисунками пребывания графа в Америке. Заседание мирной конференции. Ее участники, русские и японцы, с американским президентом Теодором Рузвельтом. Встречи Сергея Юльевича с простыми американцами. Чтобы ознакомиться с текстом под фотографиями, приходилось задержаться немного. Наиболее любопытствующий мог прочесть приветственный адрес рабочих графу по его возвращении: «Вы сделали невозможное возможным. Вы прекратили безумную войну, но вас не захотели встретить достойно и не дали это сделать другим…»
Гостиная представляла собой парадную белую залу, подмостки — то ли сцена, то ли эстрада — придавали ей сходство с залою театральной. Еще ее расширяя, в простенках между высокими окнами отраженным светом отблескивали зеркала от пола до потолка, как бы множа скульптуры по сторонам, фарфоровые статуэтки, картины на стенах, и фотографии в эмалевых рамках, и старинные часы на кафельном белом камине, и уютные уголки, зовущие к тихой беседе под темными пальмами рядом с цветами на тонконогих столиках под старину… Словом, угадывалась женская заботливая рука; а со сцены перед гостями собственного салона нередко Матильда Ивановна под гитару исполняла чувствительные романсы.
Только подумать, что все это в одночасье могло превратиться в руины, в мусор!..
— Надо отдать должное мастерам, которым заказали снаряды, — говорил граф Сергей Юльевич, — Но заказчики‑то, заказчики каковы! В Одессе знают, откуда руки растут у таких кретинов, но пощажу, господа, ваши уши. А сколько ошибок при установке! Они же спускали свои бомбы не туда и не так! На наше таки с графинею счастье.
— В самом деле, господа, в самом деле! — подхватывала Матильда Ивановна. — Мы же в девять часов никогда в тех комнатах не бываем, даже в столовой под ними. Да и печи топятся редко, пока что там никто не живет. Эти бестолочи даже ничего про нас разузнать не сумели…
— Но ведь пытались, Матильдочка.
И Матильда Ивановна в подтверждение рассказала, что в тот вечер, как обнаружились бомбы в печах, дворник вспомнил: за день до того или за два подошел к нему какой‑то барин в дохе с поднятым воротником, лица и не разглядишь, выспрашивал, где господские спальни, но дворник ответил ему, что не знает, тогда барин сказал, если в левой стороне дома, то лучше бы перешли в правую…
— Загадка же в том, — пояснил с недоумением Сергей Юльевич, — что бомбы опустили‑таки на левую сторону… Или наш дворник путает, где право, где лево?!
Но дворник не путал. Долгое время спустя Сергею Юльевичу рассказали, что личность в дохе был засовестившийся покуситель, пытался в последний момент предотвратить кровь.
— Надеюсь, следователям известно про этот случай?! — по–конногвардейски зычно не то спросил, не то объявил барон Владимир Борисович.
— Дворника допросили в тот же вечер, — сказал Сергей Юльевич.
— Ну и что, до сих пор не нашли никого?
— Должно быть, ищут…
Барон принялся вполголоса расспрашивать Александра Николаевича Гурьева как первого очевидца случившегося. Гурьев, собственно, заехал сообщить Сергею Юльевичу про допрос у судебного следователя; натолкнулся на сановных посетителей неожиданно. Он хотел было, с одобрения хозяина, незаметно улизнуть, но Фредерикс задержал его. Когда в своем рассказе о злополучном вечере Гурьев упомянул вскользь, что помогает Сергею Юльевичу в работе, барон оживился:
— Я слышал, Сергей Юльевич собирается издать книгу… по финансовым вопросам, если не ошибаюсь, по нынешнему управлению финансами? В неодобрительном роде, конечно?
Как ни умерял свой голос бывший конногвардейский полковник, Сергей Юльевич сказанного не пропустил.
— Ну что вы, Владимир Борисович, как верить досужим городским пересудам?! Когда он приходит мне помогать, то в чисто научной, я сказал бы, с историческим уклоном работе… Если ей суждено появиться в печати, то, надо полагать, после моей смерти…
— Бог с вами, Сергей Юльевич, вон как вас судьба бережет!..
Князь Котик был из тех немногих друзей, что бывал в доме запросто.
— Показали бы, граф, — попросил он, — эту самую отныне знаменитую печь…
— Конечно, конечно, — обрадовалась графиня. — Вон и Гурьев пока не ушел, захватим его с собой, чтобы все рассказал, как было…
Барон откланялся, взглянув на часы, а они поднялись на третий этаж по парадной лестнице из вестибюля. Матильда Ивановна предпочла, впрочем, воспользоваться подъемной машиной, наглядным достижением прогресса.
— Устала я, господа, ото всей нашей передряги.
Исполнив возложенную на него миссию, Александр Николаевич Гурьев, чьи мысли не в меньшей степени, чем адскими бомбами, были заняты возникновением японской войны, улучил момент задать князю Котику свой вопрос:
— Ведь вы, князь, в свое время сопровождали государя в путешествии на Дальний Восток… Что за история приключилась в Японии? Если не ошибаюсь, вы сами свидетель?..
И продекламировал наизусть до сих пор крамольное:
Происшествие в Оцу,
Вразуми царя с царицею!
Сладко ль матери, отцу,
Если сына бьет полиция?
А царевич Николай,
Когда царствовать придется,
Ты смотри не забывай.
Что полиция дерется!
Усмехнувшись, обходительный князь сказал:
— Это было феерическое путешествие! Красоты природы сменяли одна другую… как и моря–океаны. Мы въезжали в иноземные страны на слонах или на верблюдах!.. На крокодилов охотились, верите ли, на тигров! И увидели семь чудес света… когда не больше! Да и общество составилось куда уж лучше — полковые товарищи цесаревича!.. Кстати, с нами был князь Эспер Ухтомский, вам известный журналист и издатель, тома про это путешествие сочинил! Не читали?
— Об этом случае, в Оцу, там не очень‑то убедительно…
— А вы спрашивали Сергея Юльевича?
— Сергей Юльевич разве был там?!
— Быть‑то не был, конечно. Но историю сию не хуже меня знает.
Понимая, что сейчас не до этого давнего случая, хотя нельзя исключить, что он и впрямь в возникновении русско–японской сыграл не десятую, не двадцатую роль, Гурьев не последовал сразу княжескому совету. Отложил свой вопрос до более подходящей поры.
Сергей же Юльевич, со своей стороны, высказывал князю чрезвычайное недовольство полицией:
— Вместо того чтобы разыскивать преступников, тратят силы — и средства! — на какие‑то просто дичайшие бредни! Словно кто‑то нарочно толкает по фальшивому следу!..
И волей–неволей с сожалением, даже, может быть, с грустью, вспоминал о Рачковском. Тот, наверно, не сплоховал бы, провернули такое бы дельце. Вот был сыщик так сыщик.
17. Не пустые угрозы
Спустя два с небольшим месяца после обнаружения бомб на Каменноостровском застрелили в Москве депутата распушенной Думы журналиста Иоллоса. А в редакцию газеты «Русские ведомости», где покойный работал, доставили два анонимных письма с угрозами многим лицам. «Иоллос был первым по очереди» — объявлялось там, и в ряду прочих имен значился граф Сахалино. Псевдоним совершенно прозрачный, разновидность других подобных, граф Полусахалинский, к примеру, — неприкрытый намек на то, что это именно Витте отдал макакам исконную русскую землю. Для самых же непонятливых к внесенному в список имени «граф Сахалино» добавлено было и разъяснение: «устроивший недавно симуляцию покушения на себя бомбами». Ото всех этих прозвищ черносотенством разило не меньше, чем от такого, тоже дошедшего до Сергея Юльевича, как «граф Полуиерусалимский»… Да, собственно, авторство сих перлов вовсе ничуть не скрывалось.
Погибший Иоллос был избран в первую Думу по списку кадетов. Он редактировал кадетские «Русские ведомости», сосредоточась на экономических темах. Прошлым летом, сразу вслед за роспуском Думы, на даче в Финляндии, в Териоках, был убит его гимназический друг и коллега партийный и думский профессор–экономист Герценштейн. Сергей Юльевич хорошо знал обоих по статьям и по думским речам, не всегда для него убедительным, но неизменно толковым. Да к тому еще оба как‑никак любезные его сердцу «одессисты», одного этого казалось ему достаточно, чтобы не упускать их из виду, даром что лет на десять его моложе… Возможно, и это, далеко у него не единственное, словечко кто‑то принимал за причуду, только он‑то считал Одессу отнюдь не просто местом обитания или рождения, но как бы родом деятельности, образом жизни… «Одессисты» — это как юристы, артисты…
В разоблачении убийц Герценштейна Иоллос принял деятельное участие. Да они и не слишком‑то прятались, эти бандиты. Не требовалось наряжать особо хитроумное следствие, дабы в том убедиться. Довольно было одного неопровержимого факта. Бесспорного, точно пуля. В московском черносотенном «Вече» заметка о покушении на этого Большого жида опередила само событие. Появилась на несколько часов раньше, чем оно было в действительности совершено?..
Однако же исполнителям этого, несомненно организованного, преступления удалось, вопреки очевидности, скрыться… и, казалось, бесследно. Лишь упрямство финского следователя помогло все‑таки довести разыскания до суда. Один из преступников предстал перед судьями в небольшом городке Кювенеппе.
Другие обвиняемые в зал суда не являлись. Заседания по этой причине то и дело приходилось откладывать, из печатавшихся «Русскими ведомостями» отчетов собственного корреспондента с каждым разом становилось все более ясно, что это будет тянуться нескончаемо, до морковкина заговенья… В марте месяце, седьмого числа, объявили очередной перерыв, до апреля. А четырнадцатого числа утром, часов в одиннадцать, по петербургским редакциям разнесся слух, будто бы убит Иоллос…
Накануне по городу ходили подобные толки — об убийстве другого бывшего думца–кадета, Родичева. Они, к счастью, не подтвердились. Так что оставалась надежда на опровержение и из Москвы… Все же на всякий случай дозвонились по телефону до «Русских ведомостей». Оказалось: Иоллос в редакции; питерцы облегченно вздохнули — как накануне. А во втором часу дня Иоллоса действительно застрелили по пути из редакции, на стрелке Спиридоньевки и Гранатного переулка, у ворот дома Торопова.
Шел со службы домой своим обычным маршрутом, на ходу просматривал свежий газетный лист. Его так и нашли с номером «Русских ведомостей» в руке, этого щеголеватого господина с прусской стрелкой усов, и упавшим, о булыжник разбитым пенсне, и с подметным письмом в кармане, подписанным ясно и в то же время безлично: «Черносотенцы», а начинавшимся с обращения, вроде бы никак не относящегося к благонамеренному конституционному демократу: «Слушайте вы, красносотенная сволочь!» Дальше следовал полный набор угроз отомстить за убийства верных слуг царских и за выступления против власти и помазанника Божьего, самодержца. «…Знайте, что на каждое убийство мы ответим тем, что будем вырезывать ваших главарей…» Этот грязный листок в кармане еще, понятно, ничего не доказывал сам по себе, да и как сказать, предназначался ли именно жертве… Мало ли каким путем он мог попасть к журналисту… Куда большие подозрения вызывал опередивший события утренний слух. Дотошные братья газетчики достаточно скоро по цепочке установили, откуда этот слух исходил.
В том и дело, что провидцы обнаружились среди пишущей братии, в погромном «Русском знамени» на сей раз. В этот день оно вышло с огромным траурным крестом на первой странице. Да и могло ли быть простым совпадением то, что хозяин дома на углу Спиридоньевки и Гранатного переулка, возле которого погиб Иоллос, состоял в «Союзе русского народа», был там видный деятель, и весьма, а одну из квартир в его доме занимала редакция того самого черносотенного листка, что опередил прошедшим летом убийц Герценштейна. Положительно, эти бандиты не сообщали о совершенных преступлениях, а заранее оповещали о них. По ошибке ли, с умыслом, как знать…
Разумеется, было начато следствие об убийстве, его просто нельзя было не начать. Известные достоверные факты при всей своей недвусмысленности, однако, никак не давали московским Шерлокам Холмсам достаточных улик для раскрытия преступления. От столичных своих коллег москвичи мало чем отличались… Точно так же в пухлые тома мало–помалу складывались бумаги, тома множились, а непойманные убийцы точно так же разгуливали на воле.
18. Гарем Витте–паши
Редкий день Сергей Юльевич проводил в одиночестве. С тех пор как остался, что называется, не у дел, белый дом на Каменноостровском сделался куда оживленнее. Удивляться тут нечему. Лиц, с ним встречавшихся, поубавилось, и заметно, но раньше‑то он принимал их на службе. После отставки являться стали домой. Из‑за неплотно притворенной двери кабинета то и дело слышались возбужденные голоса и тяжелая поступь его хозяина. По давней железнодорожной привычке он предпочитал беседовать на ходу, шагая мимо собеседника из угла в угол, от августейших особ к Долгоруким, на манер хищника в клетке, и как бы выхаживал мысль за мыслью. Случалось, в споре не выдерживал и собеседник, принимался шагать навстречу, от Долгоруких к особам, и, порою сходясь посредине, оба, в раже отчаянно жестикулируя, срывались на крик, так что резкий фальцет Сергея Юльевича проницал надежные стены. Его облик вообще поражал какими‑то явными несообразностями, диссонансами. При петровском росте этот тонкий неожиданный голос. Нескладная фигура — слишком длинное туловище на коротковатых ногах. Энергический неудержимый напор — и бескостное вялое рукопожатие. Он был полон противоречий — да, и внешних, физических тоже!
При открытости дома посетители, однако, незаметно, но твердо подвергались разумному разделению. Как у химика в колбе, по слоям, по удельному весу. Встреча Гурьева с бароном и князем приключилась в нарушение правил, объяснимое да и простительное ввиду неординарности обстоятельств. Вообще же Александр Николаевич Гурьев со своею ученостью и доверенностью, не шедшими в сравнение с таковыми качествами и барона и князя, принадлежал, несомненно, к иному слою. К виду лейб[45].
Кто уж кто, а они не могли не наведаться к Сергею Юльевичу после злосчастного покушения. Профессиональное любопытство, вероятно, толкало тоже, но вряд ли справедливо было бы утверждать, что дело заключается только в нем. Без сомнения, с каждым из этих людей у Сергея Юльевича помимо деловых были еще и свои, с кем‑то более, а с кем менее доверительные отношения.
Вслед за Гурьевым, свидетелем поневоле, чередою явились Клячко–Львов из кадетской «Речи», и Руманов из «Русского слова», и Морской фон Штейн, и, конечно, Колышко. А еще Александр Егорович Беломор–Конкевич, настоящий морской волк; юрист Иосиф Гессен, наставник Сергея Юльевича по правовым вопросам; вывезенный им из Киева украинский писатель и финансист Рудченко; и, при сложности в отношениях, беспардонный издатель «Биржевки» Проппер… Господа эти были, как правило, хорошо друг с другом знакомы, однако не обходилось без ревности между ними, точно между женами у султана в гареме.
Вечно их распирали новости, пересуды, сенсации, удержать каковые редко кто в силах. Помимо всего остального, Сергей Юльевич просто получал удовольствие от разговоров с борзо пишущими людьми. Еще в Одессе дружили, споря без удержу, со знаменитым Бароном Иксом[46], признанным властителем дум всей Южной России. Убеждение его было; журнализм — это донкихотство. Когда Сергей Витте допекал его своими трезвыми доводами, Барон кричал:
— Он таки воображает, что он Рафалович!
В переводе с одесского эти слова означали, что Сергей Юльевич считает себя умнее всех.
А раскипятившись вконец, Барон ему заявлял:
— Ты для меня больше не существуешь. Я тебя убил!..
Но когда у Барона возникли с властями трудности, неоднократно убитый им друг–приятель пристроил его у себя на железной дороге секретарем…
В петербургском литературном «гареме» у Витте не находилось, пожалуй, ни одного донкихота. Зато циники преобладали, большей частью веселые циники. Наподобие всеядного Бурдеса, что печатался под разными псевдонимами в либеральной, монархической, черносотенной и еврейской прессе без зазрения совести, лишь бы гонорар пожирнее. Этот, правда, к его «лейбам» не принадлежал. Далеко ли, впрочем, ушел Колышко, подписываясь как минимум семью разными именами.
Одно время Колышко сделался как бы старшей женой в «гареме». Сравнение чересчур рискованное, особенно в применении к данному господину. Ибо рекомендовал его Сергею Юльевичу не кто иной, как грязный князь Вово Мещерский. Было это давно, до того, как Сергей Юльевич сделался министром путей сообщения и, будучи еще мало знаком с князем, не очень‑то вникал в пересуды о нем. Так, встречались случайно несколько раз в загородных садах да в летних театрах, оба жили на даче на Крестовском острове. Беседовали ни о чем… Потом, правда, бывал по приглашению князя у него на обедах в компании сановных гостей. В ответ приглашал и к себе. Как‑то раз Мещерский приехал к Сергею Юльевичу просить за одного из служащих по его министерству. Речь шла именно о Колышко, тогда чиновнике особых поручений при нем, а прежде исправлявшего такую же должность при министре внутренних дел. Князь просил обратить на Колышко внимание как на человека больших способностей и своего духовного сына. Что сие означало, Сергей Юльевич не очень‑то понимал, пока добрые люди не нашептали, что князь Вово вечно покровительствует молодым людям, каковые бывали с ним в тесной любви… (И кстати, один из таких — Манасевич–Мануйлов…) Колышко же в министерстве Сергей Юльевич и сам уже заприметил. Понравился бойкостью, особливо бойкостью своего пера; а это Сергей Юльевич весьма ценил в подчиненных. Бумаги, бумаги, доклады, речи, записки, проекты, которые переполняли министра, — у Колышки все получалось отменно. И когда был отправлен расследовать злоупотребления, кажется в Могилеве, то справился хорошо и с этим. Лишь один за ним потянулся хвостик: выдает себя за влиятельное в столице лицо, по–гоголевски точь–в-точь. Хлестаковщиной он и в Петербурге грешил, но разве это не простительный недостаток для человека, гораздого не одни служебные записки строчить, но и статейки в газеты, и книжки очерков, и «критико–психологические этюды», роман даже сочинил и пьесу, добравшуюся до сцены. Свои произведения он исправно Сергею Юльевичу преподносил, и так же исправно, ссылаясь на занятость, Сергей Юльевич их не читал, как не читал, к примеру, творений собственной пишущей родни — тетки Ган («Зинаиды Р.»), кузин Желиховской и Елены Блаватской, и даже родной сестры Софьи, которая подписывала романы и прочие свои опусы С. Витте, что приводило порой к понятным и обидным для Сергея Юльевича недоразумениям. Исключение составляли лишь сочинения дяди Фадеева… А что до Колышко, чиновная карьера закончилась у него не слишком красиво, уже после оставления Сергеем Юльевичем путейского ведомства. Литературная же продолжалась.
Журналистами совершенно иного пошиба были матерые газетчики Клячко–Львов и Руманов, оба подвижные и разговорчивые донельзя, распираемые слухами, скандалами, сенсациями петербургской политической, и не одной политической, жизни. Этим сходство и ограничивалось, начиная с того, что один (Руманов) был круглый, как яблоко, и весьма обходительный, из тех доброхотов душевных, что наобещают с три короба, а что исполнят — Бог весть. Для придания себе веса не прочь был разыграть перед иным зрителем сцену, скажем, телефонного разговора запросто с какой‑нибудь высокостоящей персоной, пользуясь при этом выключенным аппаратом… на чем бывал и подловлен. Худощавый, блондинистый, зоркий Клячка (как звался собратьями по перу) был куда определеннее, резче, надежней, хотя, признавал Сергей Юльевич на собственном опыте, приручению поддавался трудней, чем другие. Общепризнанный король интервьюеров, в кадетской «Речи» он вел рубрику «В сферах», и влиятельные его связи поистине не имели границ, а проницаемость была бесподобной, он открыто этим бравировал, в самом деле со многими будучи на короткой ноге. Зачастую министры узнавали последние новости от него. Что министры, когда сам Сергей Юльевич Витте услыхал о собственном жданном–нежданном устранении из премьеров по телефону: позвонил Алексей Оболенский, в свой черед узнавший об этом от Клячки… При всем том сей король проживал в столице, в сущности, незаконно: давным–давно перебрался из черты оседлости под видом аптекарского помощника, коим ввиду их полезности право жительства предоставлялось беспрепятственно наряду с первогильдейными купцами, дантистами и проститутками. Регулярно Клячке вручались полицейские предписания о высылке, и не менее регулярно он их не исполнял, рассчитывая в случае надобности на могущественных покровителей…
Рядом с этими зубрами был почти незаметен отставной чиновник Министерства финансов Морской фон Штейн, подвизавшийся ныне в «Историческом вестнике», и на него Сергей Юльевич тоже имел виды…
Из них каждый в той или иной степени мог писать — и писал — по его шпаргалкам. Злопыхатели утверждали, будто Витте эти перья скупил, он же сам полагал, что всего лишь инициирует выступления их в печати. А пока что каждый из них, выражая Сергею Юльевичу искреннее сочувствие, не без опаски оказаться обойденным собратом, предлагал осветить темное преступление соответствующим образом на соответствующих страницах. Сергей Юльевич говорил «спасибо» и отказывал всем до единого. Объяснял это тем, что следует набраться терпения, дождаться от расследования результатов и тогда уж давать оценку всему происшедшему в зависимости от того, каковы эти результаты окажутся.
Одни карикатурщики продолжали резвиться без спросу, у присяжных весельчаков Сергей Юльевич давно приобрел популярность… даже большую, чем у их американских коллег. Тем паче что после 17 октября сатирических журналов развелось что клопов… В каком только виде не исхитрялись обезобразить его!.. Ну а он даже в пике могущества, вместо того чтобы гневаться либо обижаться, усмехнется себе в бороду над остроумным рисунком и — за ножницы, и — в особый альбом… В Петербурге, как в Портсмуте американском, искажения собственного лика коллекционировал, как другие коллекционируют марки.
Там и Виттева пляска была подклеена, и Витте–паша, и на тонком стержне долговязая, легко узнаваемая фигура — большой Политический флюгер, и она же, плывущая, словно в лодке, в большой галоше… Выл и Витте–паук, и фетиш, и пробка с его портретом, вылетающая из бутылки шампанского марки «Свобода»…
Теперь добавился к тому еще Витте, сидящий на бомбе, а также укрепляющий сразу две под собой…
19. Саблей по черепу.
К причинам русско–японской войны
Совет князя Котика Оболенского расспросить Сергея Юльевича о происшествии с цесаревичем Александр Николаевич Гурьев хорошо запомнил. Он, конечно, не так наивен был, чтобы использовать это в тексте своего сочинения, но понять дальнейшие события, что в конце концов привели к войне, кто знает, возможно, этот случай в чем‑то поможет.
Улучив удобный момент, завел, к слову, об этом речь.
— Странно, что вы спрашиваете меня, — сказал Сергей Юльевич, — я там был точно так же, как вы… Лучше прочтите толстенную книгу Эспера Ухтомского. Чудесные иллюстрации, печаталась в Лейпциге, от этого одного получите удовольствие… Кстати, вы же у нас энциклопедист. Откуда это имя — Эспер?
— Имя греческое, — без запинки ответил Гурьев, — вечерняя звезда в переводе… Читал я Ухтомского…
— Я тоже когда‑то прочел, но, честно говоря, подзабыл, хотя это происшествие в Оцу в самом деле могло сказаться впоследствии на политике государя… даже помимо его воли. Подумайте, разве мы сами порой не совершаем поступков, не отдавая себе отчета в их подспудных причинах?.. Ему же… Трудно даже вообразить, какое количество решений ему приходится принимать ежедневно!.. — спохватился под конец Сергей Юльевич.
Гурьев достаточно его изучил, чтобы понять назначение отвлекающих слов. Пропуская их мимо ушей, повторил, что Ухтомского он прочитал, да там про это не очень‑то внятно…
— Россия держится только тем, — по–лекторски наставительно продолжал свое граф, — что у нее есть законный наследственный царь, царь милостью Божьей… Любой поступок самодержавного императора отражается на судьбах империи… В этом сила его, дай‑то Бог, чтобы в этой силе Россия скорее нашла равновесие!..
-…Ухтомский подробно описывает все в деталях, но причин покушения все же не раскрывает, или, вернее, оставляет их как‑то в тумане…
— А что вы хотели? Ухтомский издан после цензуры самого императора, — неожиданно сказал Сергей Юльевич, — Напомните вкратце, что там понаписано.
— Кавалькада джанрикшей с цесаревичем и его свитой ехала по узкой улице Оцу между двумя шеренгами полицейских, — прилежно, точно выученный урок, отвечал Гурьев. — Город Оцу — это возле Киото, тоже был когда‑то японской столицей. — И прибавил: — По совету князя я уже все это перечитал.
— Князя Котика? Николая Дмитриевича? — поправился граф. — Он цесаревича сопровождал, все случилось у него на глазах. Его бы и расспросить… да едва ли расскажет.
- …И вот из ряда вдруг выскочил один полицейский и, выхватив саблю из ножен, двумя руками с размаху полоснул по голове цесаревича, — Гурьев держался стиля книги. — Его высочество выпрыгнул из коляски, возница же вместе с греческим, принцем, что ехал следом, повалили злодея…
— А причину нашли в фанатизме японского самурая, не так ли?
— Объясняется именно так. Тот, как истинный приверженец традиций, не мог простить, что цесаревичу показали в императорском саду зрелище, которого всегда был достоин лишь японский микадо. Какую‑то их древнюю игру в мяч…
— Как истинный, если по–нашему, патриот? — заметил Сергей Юльевич.
Он выслушал длинный пересказ, согласно покачивая головой и почти что не перебивая. Потом сказал:
— Не думаете же вы, что после удара шашкой… саблей по черепу у цесаревича осталось от японцев благоприятное впечатление!
— Но что‑то заставило же полицейского его ударить?!
- …Позднее, когда он вступил на престол, — не дал прервать себя Сергей Юльевич, — и ему стали на Японию наговаривать, как она слаба и ничтожна, как ее легко разгромить, щелчка российского хватит, ему не терпелось этим науськиваниям поддаться. У нас, к несчастью, самые крупные события происходят по воле одного–единственного лица… И злополучная война, открывшая брешь смуте и революции, произошла помимо правительства и даже ему вопреки. Царь сделал для этого все, предполагая, будто может поступать как вздумается, а войны все равно не будет!.. Потому как не посмеют макаки! Ведь даже в своих резолюциях на официальных докладах не стеснялся пользоваться этой презрительной кличкой… Боюсь, он не скрывал презрения еще и тогда, во время путешествия, иначе не получил бы шашкой… саблей по голове…
— Так в чем же презрение проявилось?! — воскликнул, Теряя терпение, Гурьев.
— Повторяю, ведь я там не был, а говорили, шептали всяко. Не передавать же вам досужие толки!.. Будто в перерывах между официальными церемониями и развлечениями в разных феерических странах, когда плыли по морям–океанам от порта до порта, лишенные, по сути, надзора молодые люди весьма‑таки весело проводили время, что приводило якобы и к печальным последствиям. К примеру, младший брат Николая, Георгий, великий князь, как известно скончавшийся от чахотки, не доживши до тридцати, получил будто бы по веселому делу такой удар от тезки своего, принца греческого, что свалился с корабельного трапа и расшиб себе грудь, и это, возможно, обострило болезнь… Я знаю императора с юных лет, — опять как бы спохватился Сергей Юльевич, — он всегда производил впечатление весьма воспитанного молодого человека. Он таким и остался… Воспитание скрывает все его недостатки. А в дальнем плавании, к тому же вверенном господину, скажу прямо, ничтожному, да и поклоннику «зеленого змия», вполне допускаю, что молодые люди могли закусить удила… словно необъезженные жеребцы.
— Но какие слухи ходили о происшествии в Оцу? — напомнил Гурьев.
— Слухи, слухи, — проворчал Сергей Юльевич. — Обо мне вон тоже черт знает что наболтают!.. Неужели вам обязательно знать, что за несколько дней до покушения в Оцу удалую компанию этих вельможных гуляк вроде бы видели в городе инкогнито… будто бы в чайном доме у танцовщиц, уж не знаю, как они называются там, что‑то наподобие баядерок индийских… или даже в веселом месте, где матросы и офицеры развлекаются во время стоянок, обрядившись по–японски в халаты… и будто бы цесаревич и вся его свита изрядно пили. И еще, помнится, тогда говорилось, что в каком‑то месте священном, — то ли на острове… в кумирне, в капище, в молельне, я знаю? — цесаревич позволил себе недостойный поступок… чуть ли не нужду, извините, справил…
— Если так, — заметил тут Гурьев, — негодяй этот… патриот, как вы говорите, он не злобный фанатик, отнюдь!..
А Сергей Юльевич, вдруг обернувшись к большому, чуть ли не в рост, портрету в порфире на стене за спиной, ткнул в сердцах указательным пальцем:
— Византиец! Ни единому слову верить нельзя! А уж зло‑то куда дольше добра помнит!.. — И тут же который раз спохватился, восклицая своим фальцетом: — Люди так говорят, не я!..
20. Господа сыщики ясности не желают
Достало‑таки у Сергея Юльевича выдержки дождаться окончания следствия. Устоял перед натиском своих «лейб»; да и прочих иных щелкоперов. Впрочем, натиск был не столь уж силен, отдельные наскоки — не более. Не так много времени, в сущности, потребовалось властям, чтобы подвести под делом черту, но оно, это время, вместило столько, что на фоне событий его дело представлялось порой маловажным даже Сергею Юльевичу самому. Что говорить о других?..
Покушение в Москве на бывшего думца Иоллоса, журналиста «Русских ведомостей», на сей раз успешное с точки зрения негодяев, коих и в этом случае никак не удавалось найти даже по несомненным уликам. Затем раскрытие заговорав самой Думе, что дало властям предержащим столь желанный повод ее распустить. Наконец настоящий государственный переворот, совершенный Столыпиным, разом оттеснил остальное…
Однако Сергей Юльевич изменил бы себе, если б все это время просидел сложа руки. Нет, не только газетные вырезки и карикатуры складывал он в свой личный архив. Он, и это важнее, собирал документы… Документы вяло текущего следствия в том числе. Скрупулезно оставлял себе в копиях все эти скучные протоколы, заключения, акты; держал, таким образом, под контролем полусонные действия судебных и полицейских чинов. Их не расшевелили даже показания некоего свидетеля, цехового, недавно из погромщиков. По его словам, расстался с «союзниками» потому, что по целым дням у них там говорилось и обсуждалось «о побоях и об убийствах». Еще прошлой осенью слышал в конторе «Союза», что графа Витте как виновника всего движения следовало бы пристрелить… Причем один из говоривших сказал, что сделал бы это с удовольствием сам, другой же ему ответил, что, кого на это назначат, тот и пойдет…
Итог следственных действий, как Сергей Юльевич и предвидел, оказался весьма плачевным. Даже и мотивов преступления не назвавши, так как якобы «предположения могли быть только гадательными», горе–следователи прекратили расследование «за исчезновением виновных», коих, в сущности, и не хотели найти. В следственных документах содержались несомненные тому доказательства. Ничего не выяснили, ни на чей след не напали, никого поймать не сумели.
Онине выяснили. Зато онузнал.
Помог его высокородие Случай. Как известно, господин сей проявляет благосклонность к тому, кто готовился к его посещению. Судьба предпочитает взрыхленную почву. Подарок судьбы преподнес… Политехнический институт. Самый любимый, пожалуй, из множества завершенных Витте трудов. Сергей Юльевич имел гордость считать и учащих и учащихся в Политехникуме за своих подопечных. Его собственному почину, его увлечению и заботам, его попечению как министра финансов институт был обязан появлением на свет Божий в замечательном здании посреди хвойного леса в Сосновке, на северной окраине Петербурга. Порожденный промышленными потребностями России, Политехникум стал вторым петербургским университетом. Со своим детищем Сергей Юльевич не терял связи. При подборе исторических материалов, в приведении в порядок архива и библиотеки ему охотно помогали студиозусы–политехники, для которых, помимо прочего, лишняя копейка никогда не бывала лишней… этого‑то из собственного университетского опыта Витте не позабыл…
В образе студиозуса–политехника и явился к нему Случай. Строго говоря, даже не самому Витте; одному его знакомому назван был главный исполнитель покушения на графа. Однако под честное слово держать имя в тайне. При ином обороте, объяснил студиозус, у него а семействе неминуема катастрофа, поскольку бомбист этот ему родня.
Знакомый все‑таки не сдержал обещания, посвятил Сергея Юльевича в секрет. Назвал имя… был ли» впрочем, смысл его оглашать, коли все равно невозможно раскрыть перед следователем. Ведь раскрытие потянуло бы целую цепочку других: от кого это стало ему известно, то есть имя знакомого; затем студиозуса; наконец имя студиозусова отца, который и застал своего то ли шурина, то ли зятя за приготовлением бомбы и которому тот сообщил по–свойски, что готовит подарочек графу Витте. А помимо официального следствия и суда как он мог изобличить преступника или тем более наказать?! Смог лишь выяснить без излишнего шума, что такое из себя представляет сей господин, — оказалось, тот самый, что, скрывая лицо, посоветовал дворнику передать господам, чтобы перебирались на другую сторону дома.
Господин этот, К., был из партии подкупных борцов за сохранение устоев и за несколько дней до намеченного покушения поселился в меблированных комнатах, точь–в-точь против особняка на Каменноостровском; занял номер с окном на проспект как удобный наблюдательный пункт… Вообще же в своей партии был субъектом известным…
Получил объяснение и его странный поступок. Перед самым назначенным днем у этого господина тяжело заболел ребенок. В совпадении К. увидел знамение свыше и в порыве раскаяния поспешил снять с души грех, предупредить о грозящей опасности графа–жидомасона.
…Не отмщения граф Сергей Юльевич жаждал, а ясности. В этой части он ее получил. Оставалась туманность в одном: для какой своей цели соизволил государь император хранить у себя в рабочем столе план дома на Каменноостровском и отчего это, как передавал Сергею Юльевичу один доверенный очевидец, его величество в этом плане хорошо разбирался, даже знал, где и как располагались машины для взрыва…
Добиваться полного разрешения этой трудной загадки со стороны Сергея Юльевича было бы, по меньшей мере, неблагоразумно. Только лишний раз о том пожалел, что Петр Иванович Рачковский удалился от службы. А Герасимовы, Трусевичи эти по сравнению с ним все лишь мелочь и мелочь. Так он мыслил себе, ни на грош даже не подозревая, что к происходящим в его доме событиям протянулась от Рачковского, как всегда, незаметная ниточка. Даром что теперь тихо жил не у дел, от невских берегов, поговаривали, далече. То ли в Париже своем, то ли в Варшаве…
Часть третья ДЕЛО № 2 О ВАС. ФЕДОРОВЕ, ОБВИНЯЕМОМ В УБИЙСТВЕ КАЗАНЦЕВА И ПОКУШЕНИИ НА ЖИЗНЬ гр. ВИТТЕ
1. Объявленное покушение
лесистой местности Пороховые, близ станции Ржевка Ириновской железной дороги, прохожие обнаружили труп неизвестного молодого человека лет восемнадцати–девятнадцати, прилично одетого, заколотого кинжалом… Мало ли сообщений об убийствах, убийцах, убиенных появлялось из номера в номер на страницах петербургских газет, всякий день какой‑нибудь бедолага отдавал Богу душу не по собственной воле, так что не было ничего удивительного, что Сергей Юльевич Витте не обратил внимания на очередную такого рода заметку. Будь он менее озабочен своими делами, все же, может быть, взгляд его задержался бы на строках о том, что помимо записной книжки с телефонными номерами рядом с трупом валялись железные банки со следами взрывчатки…
Накануне отменили заседание Государственного совета… вследствие полученных председателем сведений, что готовится террористический акт. Но Сергею Юльевичу было не до того, слишком был занят составлением протестующего письма в ответ на фальшивку, тем же днем опубликованную суворинским «Новым временем». Под видом секретного доклада германскому императору там давалась оценка государственной деятельности Витте. Такая, что совершенно вывела его из себя. Клевета и ложь!.. Признавая сквозь зубы, что конституция в принципе — благо, безымянный автор клеветал и лгал, будто способ, каким она была дана в Манифесте, есть большое бедствие для России и во всем виноват человек, который думает только о себе и готов, лишь бы только прославиться, уподобиться даже древнему Герострату! Для того, мол, и возбудил своей конституцией по всей России пожар… Якобы перепечатанный из французского журнала, доклад, несомненно, сочиняли здесь, в Петербурге. И не составляло труда догадаться, из каких он кругов исходил.
Отправив протест против клеветнического «доклада» в газеты и как бы сбросив тем самым ношу, Сергей Юльевич несколько успокоился. Но ненадолго. На другой же вечер к нему неожиданно приехал Иван Павлович Шипов, его старый друг и сотрудник, в его правительстве министр финансов, а прежде — управляющий делами памятного Сельскохозяйственного совещания и советник в Портсмуте.
Этот, казалось бы, приятный сюрприз принес с собой, к сожалению, новую тревогу.
— Ко мне заходил Лопухин, хорошо вам, Сергей Юльевич, известный, — сказал Шипов. — Мы живем с ним соседями в одном доме и даже на одной лестнице, хотя домами и не встречаемся. А тут он зашел специально, чтобы передать вам, зная, что мы с вами дружны… просил, стало быть, предупредить вас, чтобы вы завтра не ездили на заседание в Государственный совет.
На завтра перенесли как раз то самое, отмененное из‑за угроз заседание.
— Господин осведомленный, — отметил Сергей Юльевич, — конечно, уволен от службы, но связей, должно быть, не растерял. В чем же причина предупреждения?
— Если верить его словам, завтра по дороге на заседание или, быть может, обратно предполагается бросить в вас бомбу!..
— Уж не сама ли секретная полиция затеяла это? — усмехнулся Витте. — Там не слишком брезгливы… Но вы меня ставите в неловкое положение. Конечно, я очень вам, Иван Павлович, благодарен, и вам и Лопухину… Но посудите сами. Уж если известно, что Шипову об этом дал знать Лопухин, а Лопухин в свой черед оповещен еще кем‑то, стало быть, о покушении знают по меньшей мере несколько лиц… И если я послушаюсь ваших советов, то тем самым покажу им всем, что праздновал труса. Я бы, может быть, завтра на заседание и вообще не поехал, но в сложившихся обстоятельствах как прикажете поступить? Нет, придется уж ехать…
Рассуждая таким образом, он давно расхаживал по кабинету из угла в угол мимо своего нежданного гостя, между Долгорукими и августейшими особами визави.
— Интересная особенность, — продолжал он, — обратили внимание, Иван Павлович? О покушении — о предстоящем убийстве! — оповещают заранее, точно речь о театральном спектакле. Так было с Герценштейном и в Москве с Иоллосом… А теперь и подавно…
— Вы хотите сказать, что усматриваете одну руку? — ужаснулся Иван Павлович. — Неужто, Сергей Юльевич, такое возможно?!
— У нас в России ничего невозможного, дорогой мой, нет!..
Проводив Шипова, позвонил, невзирая на поздний час, Быховцу:
— Надеюсь, Игнатий Николаевич, не спите еще? Если утром заеду к вам завтракать, не прогоните родича? Вопрос к вам, не терпящий отлагательств.
Когда же Быховец рассыпался в любезностях, не дослушал:
— И еще одна просьба… не затруднит? Пришлите за мной карету, а то мой мотор не в порядке.
К такой мере предосторожности то настоянию Матильды Ивановны он все же решил прибегнуть.
Муж сестры ее, инженер путей сообщения и действительный статский советник, занимал бельэтаж в роскошном доме на Миллионной. Меж собою сестры были очень близки. До тех пор пока Быховец не без помощи шурина не перебрался окончательно в Питер, Женя подолгу гостила на прежней министерской квартире у Витте на Мойке и, случалось, выполняла различные поручения по деликатным семейным делам: к примеру, посредничала в переговорах с первым мужем Матильды по поводу усыновления Сергеем Юльевичем его дочери…
Евгения Ивановна проявила тогда себя большим дипломатом. Человек этот, Лисаневич, оказался не прочь воспользоваться обстоятельствами в не бескорыстных целях, отнюдь; не говоря ни да, ни нет, оттягивал согласие сколько мог; но Женя, действуя по сестрину поручению, где угрозами, где посулами все же вынудила его согласиться. Сама Матильда видеться с ним не желала» и Сергей Юльевич ее понимал. Когда‑то, в начале знакомства, ему иногда приходилось бывать у них в доме, и нельзя было не заметить, что бедную Матильду надо срочно спасать. Она достаточно хлебнула с ним счастья. Даже решая судьбу родной дочери, точно так же как при разводе, сей надворный советник не побрезговал вымогать… как мздоимец опытный под прозрачным предлогом получения взаймы.
Вообще, если уж ворошить прошлое, — а Сергей Юльевич, признаться, этого занятия не любил, чересчур много всегда было не терпящих промедления жгучих дел, да и проку не видел копаться в старье, что уж было, как говорится, то быльем поросло, — но все‑таки если уж предаваться воспоминаниям, надо прямо сказать, что женитьба на Матильде Ивановне оказалась для Сергея Юльевича чревата не одним только риском вылететь из министерского кресла.
Происходила она из довольно‑таки многолюдной семьи, целый шлейф родственников потянулся за очаровательной женщиной, так что Сергей Юльевич в одночасье оказался вынужден их принять за своих… взамен приданого, что ли?!
Почти как по Чехову, три сестры… три сестры из провинциального города, — разумеется, в мечтах о столицах. Матильда (по–семейному Маня) вот вырвалась к надворному в Петербург, обретя сомнительное свое счастье. Евгения же и Вера прозябают с мужьями в Новгороде, одна со своим инженером, другая с земским врачом. Сверх того, еще братец Миней, тоже выбравшийся в столицу. На Большой Конюшенной, угол Невского, братец держит магазин золотых вещей и серебряных и драгоценных камней. По–своему процветает, бонвиван и маклер, к тому же оказавшийся нечистоплотным. «Негодяй твой брат!» — заявил Сергей Юльевич молодой жене, получив из Парижа уведомление, что господин этот ходит по банкирам и занимает под вексель деньги, козыряя именем новообретенного зятя. Матильда Ивановна не стала отстаивать фамильную честь. Вполне согласилась с разгневанным мужем: беда с этими близкими, только компрометируют да врагам дают пищу. Сергей Юльевич не мог ума приложить, как бы выжить родственничка из Петербурга, но… не было бы счастья, так несчастье помогло — тот вскорости умер. Матильда оплакала братца… в меру.
Это был первый, однако не единственный подобного рода случай. Такова уж планида могущественного человека, или, вернее, неприятное приложение к ней. Нечто схожее произошло с Мерингом, женатым на дочери первой жены Сергея Юльевича. Тоже заявлялся к банкирам якобы от него и тоже, понятно, небескорыстно… Пришлось так устроить, чтобы его удалили из Петербурга.
Вообще же Сергей Юльевич всегда был готов порадеть родному… Матильде и ее сестрам грех было бы на него обижаться.
И эта Женина квартира в бельэтаже на Миллионной, и эта карета, которую ему одолжил ее муж Быховец по особому случаю, все их несомненное, в глаза бьющее благополучие проистекало в конце концов оттого, что когда‑то Сергей Юльевич дал неплохо заработать свояку на железнодорожном подряде, благодаря чему незаметный заведующий дистанцией на Новгородской железной дороге на удивление всему городу возглавил сооружение Пермь–Екатеринбургской линии от Перми до Котласа. Да и другой свояк, врач, существенно подкрепил свое состояние, управляя одно время Архангельско–Ярославской, той самой, мамонтовской, дорогой…
Непредвиденный семейный завтрак мог бы стать событием радостным, когда бы не причина, к нему приведшая. Матильда не захотела отпускать Сергея Юльевича в этот день одного. Он, впрочем, держался абсолютно спокойно и после завтрака отправился‑таки в Государственный совет — все в той же, Быховцу принадлежащей карете.
До Мариинского дворца доехали без каких‑либо осложнений, и как ни в чем не бывало Сергей Юльевич просидел там до конца заседания. Однако обещанного покушения все не случалось. После заседания, выйдя на улицу, как нарочно, пришлось долго искать карету, которая, по уговору, должна была его дожидаться. К сожалению, не спросил у кучера имени, а тот тоже, должно быть, видел Сергея Юльевича первый раз. Словом, потеряли один другого, и Сергей Юльевич отправился себе пешочком — по Казанской, по Невскому, свернул к гостинице «Европейская», получая удовольствие от неспешной прогулки по улицам. Позволял себе это так редко… Наконец попался приличный извозчик, который и довез его благополучно до дому. Объявленное на этот день покушение не состоялось. Тревога оказалась ложной… или же попросту вымышленной?..
2. Исповедь убийцы убийцы
Лопухин не стал раскрывать Шипову источников своей осведомленности. Уж так подлежащим ведомством был воспитан. А если информация оказалась ошибочной, ну что в этом странного, в конце концов? Куда хуже было бы умолчать… а если бы покушение состоялось?! Его же самого оповестил знакомый журналист из газеты «Речь»: в редакцию пришел некто с повинной в недавнем убийстве в Москве Григория Иоллоса. Этот человек сообщил, между прочим, что та же группа… нет, он выразился по–другому: что тот же кружок готовит убийство Витте, когда граф поедет на заседание Государственного совета. И именно знакомый из «Речи» надоумил предупредить графа Витте через соседа Лопухина по дому Ивана Павловича Шипова… На деле предостережение оказалось ненужным, так, во всяком случае, представлялось по крайней мере в течение двух–трех недель, до тех пор, пока вся эта история не получила огласки. Оттяжка же тем объяснялась, что короткое это время вместило события куда более важные, они отодвинули все остальное.
Сначала, а именно через день после каретного маскарада Сергея Юльевича на закрытом заседании Государственной думы, Столыпин объявил о противоправительственном заговоре, к которому причастна думская фракция социал–демократов. Хотя Сергей Юльевич при сем присутствовать, понятно, не мог, это не помешало ему уже в тот же вечер с достоверностью знать, что председатель Совета Министров потребовал привлечь к следствию подозреваемых депутатов, однако немедленного согласия от Думы не получил. Тем не менее назавтра последовало официальное сообщение: «О раскрытии замысла членов Государственной думы социал–демократической партии ниспровергнуть существующий государственный строй». Более пятидесяти думцев оказались под угрозой ареста либо даже были посажены тотчас. А еще на следующий день высочайшею волей недостаточно сговорчивая Дума была просто распущена. И особо в вину ей вменялось, что не выдала по первому требованию своих членов.
Правда, одновременно назначались новые выборы, но по новому же избирательному закону, даже на первый взгляд сильно измененному и урезанному, тогда как право на подобные изменения принадлежало исключительно самой Думе. Это был удар по самой сути Манифеста 17 октября. Сергей Юльевич Витте не колеблясь расценил происшедшее: переворот.
Нашлись, однако, радетели народные, которые от сего события сильно возликовали. Обскакавши многих, сразу 3–го же июня всеподданнейшую телеграммку о слезах умиления и радости при чтении Манифеста, покончившего с «преступною Думой», отбил председатель «Союза русского народа» Дубровин: «Верь, государь, мы все, русские люди, готовы идти за тобой… и не пожалеем ни жизни, ни имущества на защиту нашего обожаемого государя».
Его императорское величество не промедлил со всемилостивейшим телеграфным же ответом, соизволив выразить благодарность за преданность и готовность служить престолу.
Было в этом обмене посланиями нечто такое, что даже Суворин, только что, кстати, тиснувший в своем «Новом времени» пресловутый «секретный доклад» о Витте, не захотел этих излияний печатать, по бестактности сочтя их за подделку. (Хотя, по сути, здесь ничего нового не содержалось по сравнению с тем, что было сказано в связи с образованием «Союза», — на приеме его делегатов, вручивших царю свои опознавательные значки.)
А в июньский тот нескончаемый питерский вечер Сергей Юльевич заехал к Суворину в Эртелев переулок, в его терем в пять этажей, где места хватало и для редакции, и для типографии, и для апартаментов самого Алексея Сергеевича с домочадцами.
— Пришел к вам проститься, — сказав Сергей Юльевич. — К своему доктору за границу собрался. От него в Биарриц, на дачу. А оттуда — в Брюссель, к дочери… Вольна жизнь не у дел!
Но Суворин показал ему текст сомнительной телеграммы царя.
— Как в японскую войну надеялся сам все исправить, и теперь то же самое, — прочитав, заметил Сергей Юльевич. — Все столь же самоуверен, словно после роспуска Думы настанет революции конец и благововление в облацех… В его поступках, ей–ей, что‑то детское! Это в тридцать‑то восемь лет!..
— Не забыли, как в первые дни царствования я спросил вас, что будет?
— Ну и что же я тогда вам ответил?
— Вы сказали дословно: дела понемногу пойдут, и лет в тридцать пять он станет хорошим правителем…
— То же самое, помнится, я сказал… ну не важно кому… одному умному человеку. И знаете, что ответил на это он? «Вы жестоко ошибаетесь. Это будет слабосильный деспот![47]»
— Человек ваш был в самом деле не глуп, — заметил Алексей Сергеевич Сергею Юльевичу, об имени не любопытствуя.
— Действительно, и весьма…
…За всеми этими многозначащими событиями об убийстве близ станции Ржевка недели на три совсем было позабыли, а когда вспомнили, неожиданно обнаружилось, что между убийством и дубровинским, столь дорогим государю «Союзом», а также и несбывшимся покушением на графа Витте, без сомнения, существует очевидная связь. Это следовало хотя бы из небольшого сообщения в газете «Речь». После напоминания о печальной находке в лесу и о том, что личность убитого не была установлена, там в разделе Хроника излагалось присланное в редакцию заявление неких безымянных социалистов–революционеров: что убитый‑де — это нередко проживавший в Москве по такому‑то адресу Александр Казанцев, один из организаторов черносотенных боевых дружин, который располагал большими деньгами, ассигнованными «Союзом русского народа».
«Маскируя свои истинные цели, — было сказано далее об убитом, — и выдавая себя за представителя революционных организаций, вербовал малосознательных людей. В конце мая организовывал покушение на графа Витте. Когда истинные намерения Казанцева раскрылись, привлеченные им рабочие покончили с ним на месте свидания, где предполагали получить снаряды, которыми условились действовать из гостиницы, что против квартиры графа Витте, при проезде его в Государственный совет».
Прочитавши эту заметку, Алексей Александрович Лопухин испытал, наверно, удовлетворение от того, что полученная им информация, в каковой он и сам было усомнился, в конечном счете оказалась правдивой.
До Сергея же Юльевича в заграничном его далеке петербургские газеты доходили, естественно, с опозданием. Но задержка, как правило, была незначительна, и он уделял пересылке газет большое внимание, как бы опасаясь оторваться от русской жизни. Регулярно извещал своего поверенного в Петербурге о переездах и смене адресов. В его любви к расписаниям, должно быть, сказывалось железнодорожное прошлое, так что порой, при дальних маршрутах, он просил высылать корреспонденцию на промежуточные станции — чтобы было не скучно ехать…
Статейку об убитом Казанцеве, само собой, Сергей Юльевич отчеркнул, предназначая ее как документ в свой архив. И естественно, задался вопросом, как на сей раз поведут себя подлежащие ведомства.
В этих ведомствах скандального заявления также не пропустили. Того более. Прознав о нем еще прежде, чем оно попало в печать, и опасаясь нездорового любопытства публики, поспешили возобновить прекращенное было за неопознанием трупа следствие и, как вскорости выяснилось, без особого труда установили, кто же именно был убит.
Еще бы им не узнать хорошо знакомого господина! Откреститься от него стало попросту невозможно, в особенности после того, как неделю спустя та же «Речь» наконец напечатала, правда в несколько, как бы сказать, олитературенной форме (и Сергей Юльевич соответственно прочитал это в своем далеке), признание человека, убившего Иоллоса и готовившегося убить Витте.
На другой же день после происшествия близ станции Ржевка молодой этот человек появился на месте потаенных и в то же время кому надо известных сборищ революционной молодежи.
— Это я убил найденного с бомбами!.. Это я — убийца Иоллоса!.. Отведите меня в партию! Пускай партия меня судит!..
Производя впечатление полупомешанного, он выглядел в этом секретном месте весьма подозрительно и не знал пароля, но его просьбу все же исполнили: он упоминал такие подробности, что заставлял себе верить…
В безопасном укрытии, куда окольными путями его отвели, он в течение нескольких дней исповедовался перед партией.
Суть поведанного этим Федоровым (он так назвался) и была изложена в дошедшем до Биаррица номере питерской «Речи» от 28 июня.
3. Снятие «Большого жида»
Полицейский урядник, с чьих слов газетный репортер первым тиснул в «Речи» заметку о жутковатой находке близ станции Ржевка, сильно омолодил погибшего, хотя в жизни этот отставной гвардейский солдат в самом деле выглядел замечательно молодо.
Крепок был. Сняв гвардейский мундир еще до японской войны, поступил на завод кузнецом. И с не меньшей энергией, чем руками, работал ладно подвешенным языком. Был всегда наготове составить компанию, повеселиться, побалагурить. И насчет прекрасного полу не промах. Многочисленные приятели прощали ему безобидное, казалось им, хвастовство. Одному говорил, что посредничает при продаже домов, — непонятно, зачем набивал себе цену. Другому — будто приторговывает пухом–пером. Перед третьим–четвертым хвалился, что завел слесарную мастерскую. А назавтра, забыв, что наплел там вчера, оказывался владельцем, например, квасоварни. А еще не прочь был ввернуть в разговорце про какое‑нибудь превосходительство, а то и сиятельство, с каковым на короткой ноге… Хлестаков, да и только. Плюс к тому любил щегольнуть, приодеться, за собою следил, точно девка на выданье. Позавел таким образом знакомств по всему городу, а особенно в Петергофском участке. На заводе Тильмана — зарабатывал там трудовую копейку ковкой железа. И копейки этой при таком‑то характере ну никак не хватало…
Заводские рабочие посерьезнее сторонились рубахи–парня. И какая могла быть гулянка в девятьсот четвертом, в пятом году! Тем более что именно в пятом году Шурка Казанцев куда‑то запропастился, оставивши по себе у многих знакомых неясное предположение, что, наверное, связан с сыскным… Объявился он вскоре в Москве, но, однако же, не на баррикадах. В декабре, в то время как Дубасов и Мин свирепствовали «а Пресне, Шурка в Марьиной роще развлекался с горячей, как булочка, Дуськой, прожигая последние денежки. До стрельбы ли туг было… покамест к весне не заделался патриотом, о чем, не утерпев, сообщил таинственно своей Дуське. А затем и деньга завелась. Шурка стал подвизаться при редакции «Вече». Летом же объявил несравненной Дуське, что должен отправиться в Петербург, чем вызвал бурные слезы, а в утешение наказал, чтобы не ревела, дура, подождала, пока вернется, тогда точно господа заживут.
И обещание свое на сей раз, надо отдать ему справедливость, исполнил. Возвратился с набитым карманом, снял квартиру из четырех комнат в Грузинах, так что Дуська, превратясь в Евдокию, почувствовала себя почти барыней наконец. Тем более; у ее Александра теперь на языке не переводились графы да господа. И должность у него стала такая, что даже имя надо скрывать и проживать по чужому паспорту, чтобы за революционерами вести наблюдение.
А что там за сказочные дела произошли у него в Петербурге, про то Евдокия своего Александра Еремеевича допросами донимать не стада. Чутьем бабьим, должно, учуяла, что при всей своей болтливости про это правды все равно бы не выложил. Ни за что не раззвонил бы о том, как в упор застрелил указанного ему человека, так толком и не поняв, а, собственно, за какие грехи.
Приехавши тогда в Питер, он прямо с Николаевского вокзала отправился по записанному еще в Москве адресу: Четвертая рота Измайловского полка, номер 6. Придверный служитель доложил кому надо о его появлении, а затем представительный господин ему объявил, что принимает его в «Союз русского народа», в боевую дружину, для беззаветной службы за веру, царя и отечество. С каковою целью потребовал от него клятвенного обещания на листке с портретом какого‑то интеллигента в очечках и небольшою бородкой, которое Шурка с охотою написал под диктовку, тем более что представительный господин в свой черед выдал ему вполне приличную сумму денег на проживание. Обрадованный Шурка, давно уж не державший в руках столько, Прикинул было, как разыщет старых дружков, но господин его упредил, сказав, что надо будет с группой дружинников не откладывая поехать в Финляндию, чтобы снять одного негодяя, преступника и жида. Само собой, Щурка не стал с ним спорить.
С Финляндского вокзала часа за полтора они доехали на поезде до станции Териоки. Здесь ждали их еще несколько человек. Переночевали в пристанционной гостинице, получили по револьверу, ножу и панцирю, чтобы надеть под рубаху, И еще по карточке с устрашающей надписью: «Каморра народной расправы», чтобы подбросить ее на месте событий. Потом направились в лес для пристрелки. Господин, приехавший с Шуркой, объяснил ему, что делать, до мелочей. И, собираясь обратно в Питер, оставил его за старшего, приказав остальным во всем ему подчиняться.
Преступник — негодяй, жид — проживал в Териоках на даче. Это его, интеллигента, изображение было наклеено на листок с Шуркиной клятвой, так что Шурка смог узнать его в лицо без труда. Подобно другим дачникам, он имел дурную привычку прогуливаться под вечер вдоль берега моря. Оставив двоих дружинников возле ближнего хуторка дожидаться, Шурка с тезкой своим по прозванию Сашка Косой — сильно важным «союзником», командовал путиловской сотней, а прозвание получил за то, что имел один глаз стеклянный, — потопали вдвоем к берегу через дюны караулить Интеллигента–жида. Тот прогуливался не спеша со своею жидовкой и с двумя дочерьми, так что за дюнами легко было их обогнать, и, встретив, разрядили чуть не в упор свои револьверы. Косой все же ухитрился промазать, а Шурка попал. Негодяй свалился, а они без помех дали деру, позабыв совсем от раздавшихся воплей и визгов про свои карточки народной расправы. И сейчас же уехали в Питер. Там пришли на квартиру к тому, представительному, что командовал ими и привез в Териоки, доложили, как было, получили свое заработанное; а потом на извозчике он повез их в Четвертую роту, где контора «Союза». Там в огромном, дай Бог как обставленном кабинете они опять все в подробностях доложили самому главному в их «Союзе», тоже, кстати, Шуркиному тезке. Александр Иванович был, видать, ими очень доволен, даже Шурку похлопал одобрительно по плечу.
4. Детский доктор Дубровин
К своим пятидесяти доктор Александр Иванович Дубровин, практикующий врач по внутренним и детским болезням, достиг многого из того, к чему стремился в несытой студенческой юности. Солидное благополучие обеспечено собственным домом, кирпичным, в пять этажей, приносившим надежный доход. Чин статского советника, почитай что полковник в переводе на военный язык. При этом семейные узы с их докучливыми заботами не обременяли его, хотя знал, наверное знал, что в чужих семьях подрастают кровные его дети. Состоятельный, свободный мужчина в соку, казалось бы, чего еще для себя желать? Живи в свое удовольствие. Ан нет. Какой‑то въедливый червь, прожорливый, как солитер, грыз и грыз доктора изнутри, заставив и медицину‑то почти что забросить ради стези общественной.
Домовладение находилось в Четвертой роте Измайловского полка, выходя другой стороной на Пятую роту, между Измайловским и Забалканским проспектами. Послуживши после академии военным врачом, тому лет, должно быть, пятнадцать, поселился доктор в этих местах, где улицы по традиции различались по номерам рот гвардейского полка, стоявшего здесь на квартирах. Устроившись на место врача в ремесленное училище Цесаревича Николая, расположенное в Первой роте, снял квартиру на Забалканском проспекте, дом 59. Училищные хворобы подобны солдатским — прыщи, поносы да онанизм, так что с тоски открыл доктор частный кабинет в неприсутственные часы. Внутренние и детские болезни. Прием от четырех до шести. С рецептами направлял в аптеку напротив, угол Клинского переулка. Ее владелица в свой черед отсылала к нему обращавшихся в аптеку за помощью, он же в знак признательности старался прописать им лекарства, что подороже… Женщина одинокая к самостоятельная, полковница в прошлом, ныне вдова, отнеслась к молодому доктору более чем благосклонно. А он как раз ожил, незадолго до того избавившись наконец от многолетней, давно уже тяготившей связи. Та женщина родила от него двух дочерей и истратила наследство свое еврейское, чтобы дать ему доучиться. Она жила в памяти ходячим упреком. Он старался ее благодеяний не вспоминать, ибо эти воспоминания доводили до бешенства. Только подумать, кому был обязан! Только запах пеленок распеленутых у него на приеме младенцев не давал похоронить прошлое окончательно, вызывая вдруг к жизни каморку под крышей позади Казанского собора, где провел он лучшие годы в унизительной зависимости и нищете.
Аптекарша оказалась женщиной удобств исключительных. 14 лекарствами тебя обеспечит, и живет поблизости, тут же на Забалканском, рукой подать, между Шестой и Седьмой ротами, и помочь может дельным советом. И не просто советом. У него завелись понемногу свободные средства, не от жалованья, разумеется, от практики частной, и аптекарша взяла его на отменных условиях в долю… По какой‑то труднообъяснимой причине среди его пациентов было непропорционально много евреек и еврейских детей, оттого ли, что эта нация больше любит лечиться, оттого ли, что платит получше. Из‑за всех этих прекрасноглазых Лейбочек и Рахилек невозможно было избавиться от безмолвных упреков его прежней Любови. Он за это ей мстил, сходясь с ее соплеменницами, доводя их до исступления. Толк знал в этом и сладость.
И училище, где служил Александр Иванович, тоже стало ему родным домом, благодаря особливо тому, что с директором сделались не разлей вода. Аполлон Аполлонович, сын поэта Аполлона Майкова, получивший должность по отцовской протекции, оказался тоже своего рода поэтом. И у него поперек горла застряли источившие доктора Александра Ивановича черви. Был уверен, что от этого ядовитого племени все напасти, рушащие матушку–Русь. При; удобном случае он пускался в излюбленные свои рассуждения, благодарными слушателями были ученики, начиная с тех, старших классов, с которыми нередко кутил по ночам, приглашая в компанию и приятеля–эскулапа. Впрочем, этим ученикам, приготовленным в подмастерья, уже было лет по восемнадцать, по двадцать, здоровенные лбы, перепить могли кого хочешь, воспитателей собственных не исключая…
О ночных попойках в училище Цесаревича Николая и о прочих замашках его директора дошло каким‑то образом до министра финансов, по совместительству председателя Общества, на попечении коего училище находилось. По решению Витте Майков–сын был вынужден распроститься со своим теплым местечком… о чем Сергей Юльевич, разумеется, и думать забыл. Зато не забыл Аполлон Аполлонович. Временщика Полуиерусалимского возненавидел люто на всю жизнь. И немало постарался, укореняя в соумышленниках сие чувство. В случае с училищным эскулапом семя ненависти пало на взрыхленную почву, тем паче что с уходом директора их дружба не прервалась.
После безвременной кончины рабы Божьей одинокой аптекарши Катерины Михайловны, царствие ей небесное, доктор Александр Иванович присмотрел себе поблизости дом. Тот самый кирпичный, пять этажей. И нередко стали собираться к нему, благо места теперь хватало с избытком, обсудить душевным друзьям российские злоключения, злые козни исконных врагов Христовых, даже жаркими чарами жен своих совращавших с пути истинного православного человека, что, к примеру, Александр Иванович испытал на собственном грешном опыте и в чем, осознав подоплеку, был готов покаяться до глубин естества. Да и как только не выдавал себя этот тайный всемирный заговор христопродавцев! Вся крамола, сатанинские права и свободы, о которых горланят на каждом углу, вся анархия, дозволенность и разврат супротив России, супротив белого царя православного — от него, от антихриста современной неурядицы корень, уж на этом‑то истинно русские люди сходились.
Однако во мнениях все ж таки недоставало согласия, про Москву вообще говорили, что там среди своих же разные партии. Скажем, «Общество хоругвеносцев», монархическая партия, «Союз русских людей»… Питер в этой части поотстал от Первопрестольной. И отставал, по крайности, до тех пор, пока в один прекрасный день, вслед за объявлением высочайшего Манифеста 17 октября, доктор Александр Иванович не получил приглашения к человеку могущественному, известному, а в то же время и тайному, закулисному, теневому, пожаловать без церемоний, запросто, к Петру Ивановичу Рачковскому на квартиру.
Не без робости направляясь по указанному адресу, Александр Иванович не мог, разумеется, знать, что совсем перед тем незадолго, в самый, как бы сказать, разгар октябрьской смуты, когда власти предержащие все больше одолевала растерянность, полицейский полковник Герасимов, петербургский главный охранник, заговорил однажды с полицейским полковником Рачковским, лицом первым в политическом сыске:
— Слава Богу, Петр Иванович, защитники трона, кажется, склонились к сплочению. Агитируют за массовое движение благомыслящих русских людей на началах укрепления монархии, противу всей этой красной сволочи!.. Гоже ли отсиживаться в стороне, когда давно пора создавать организацию для противодействия влиянию бунтовщиков на народ?!
— А с чего, Александр Васильевич, вы полагаете, будто мы а стороне? — чуть ли не обиделся полковник Рачковский. — Хотя, признаться, дело в самом начале… Но — могу познакомить вас с неким доктором, что берется за создание организации монархистов…
Не привык Петр Иванович действовать по подсказке, не в его это было правилах, что не раз навлекало на него неприятности. Даже стоило парижской резидентуры. Но и это не излечило его от небрежения к толстокожим— так именовались на его языке петербургские шефы. Как положено, отчитывался перед ними, писал докладные, но, не надеясь пронять, предпочитал самостоятельные поступки.
Когда в молодости его заагентурил жандармский подполковник Судейкин, то использовал его, в частности, для сношений с другим, ценнейшим своим агентом, штабс–капитаном, предавшим «Народную волю» (раскаявшимся впоследствии и убившим своего совратителя). Планы же у Григория Порфирьевича Судейкина были Наполеоновы, и молодому Рачковскому, «состоявшему при департаменте полиции дворянину», отводилось в них место; он даже догадывался, куда метит шеф, хотя, разумеется, не имел прямых доказательств тому, что отец полицейской провокации не прочь был убрать тогдашнего министра внутренних дел, дабы самому занять его кресло. Тут замысливалась двухходовка, что вскоре и обнаружилось на одном из судебных процессов. Судейкин рассчитывал, что за сей недосмотр его должны отправить в отставку. И тогда, на втором ходу, намечался им в жертву великий князь Владимир, брат царя, вот тогда уже, спохватившись, Судейкина как спасителя призовут!.. Штабс–капитан Дегаев поставил на этих расчетах кровавую точку[48]. Молодой же Рачковский, успевший в связи с делом Дегаева нащупать нити в Париже, вскоре вовсе перебрался туда… от толстокожих подальше. Уже в то время ощутил на себе недобрую руку Плеве, недруга судейкинского и конкурента.
В полицейских сферах Петра Рачковского считали судейкинским подопечным, да так она на самом деле и было. Во всяком случае, в «Священную дружину» его приняли не без помощи шефа, чья роль в тайном обществе была далеко не последней. Довольно того, что разосланная в газеты гектографированная прокламация этого «Общества борьбы против терроризма» для пожертвований и добровольцев дала такой адрес: Главный почтамт, до востребования, Н. И. Киедусу. Публичная разгадка сего псевдонима принадлежала Суворину и порядочно подпортила «дружине» ее реноме… Что это за Н. И. Киедус такой? Чухонец? Немец? Ушлый газетчик догадался прочитать этот ребус справа налево. И получилось: Судейкин! о Опасность вновь усилившегося в России брожения Петр Иванович учуял пораньше многих. Из парижской норы наблюдая за русскими террористами, он уже в девяносто шестом насчитывал их три сотни, не меньше. Надеясь привлечь внимание, открыто говорил о том в Петербурге. Толстокожие оказывались еще тугоухи. Наконец «месье женераль» с помощью сколоченного им кружка журналистов–французов заварил в парижских газетах кампанию против эмигрантов, предупреждая об угрозе революции в России и необходимости исключительных мер борьбы. И по опыту «Священной дружины» заявил о создании для спасения русского отечества «Лиги». Нанятые своевольным «месье женералем» уличные газетчики расклеивали ее листовки по всему городу, и не только французы, откликаясь, стали присылать свои франки. Доброхоты нашлись и в Петербурге, в сферах!..Но — главарь толстокожих, Плеве, добился ликвидации этой аферы… Бог с ним, с Плеве; он свое получил…
Выходило, таким образом, что сплочение благомыслящих было третьей попыткой Рачковского осуществить стародавний замысел, что возник, кстати, во время оно в молодой, порывистой голове молодого Сергея Витте: террористам из революционеров их противники отвечать должны тем же!..
Два полицейских полковника побеседовали об этом замысле буквально накануне 17 октября. А тотчас по объявлении Манифеста на квартире Рачковского встретились с ними обоими доктор Дубровин и инженер Тришатный, родной брат старого сотрудника Рачковского, присяжного поверенного. Да и с доктором у Петра Ивановича без труда отыскались нити связующие. Мог рассчитывать на это заранее. А чему тут, собственно, удивляться? Как‑никак и обитал, и служил доктор, и практиковал в том самом питерском уголке, где когда‑то молодой Петр Иванович подвизался в редакции, в «Русском еврее»… И подобно тому как, пользуя еврейских детишек « в определенном смысле еврейских мам, Александр Иванович постигая их среду изнутри — и, будьте благонадежны, достаточно, ха, ха, глубоко! — Петр Иванович проделывал едва ли не тот же фокус на своем журналистском поприще… да и агентском…
Приглядывались, таким образом, принюхивались друг к другу недолго… Герасимов, недавний провинциальный жандарм, был, разумеется, не из того теста, чем почти офранцузившийся Рачковский с его эспаньолкой и тросточкой, с его католичкой женой, которая, впрочем, в разговоре участия не принимала. Дородный Герасимов, понятное дело, принадлежал к толстокожим и ни на минуту не забывал и другим не давал забыть о собственной важности. Не менее дородный Дубровин, тоже мужчина видный, заметно нервничал, хотя и пытался это скрыть за звонкими фразами. Все выглядели одногодками, что способствовало успеху знакомства. Так что вроде смотринами остались довольны. Ловцам–полковникам с их наметанным глазом, что лукавить, хотелось бы щук покрупнее, но и эти все ж таки не плотвичкою были… Что касается другой стороны — их улова, доктор сразу смекнул, что запахло деньгою, обладал на сей счет поразительным нюхом.
Результатом доверительного разговора стала встреча через несколько дней, теперь уже на квартире Дубровина. Полтора–дна десятка людей, не всегда меж собой и знакомых (приводили один другого), рассуждали о Манифесте, как откликнуться на него; и о недозволенности ограничивать царскую власть; и о защите самодержавия, православия, народности русской. Один москвич говорливый рассказал о своем «Обществе народной охраны», оберегавшем царя при проездах его по Москве. С особым интересом вслушивался Петр Иванович в пересуды собравшихся о злодейском всемирном заговоре, суждения, безусловно, свидетельствовали, что хлопоты его с сийонскими… пардон, сионскими мудрецами отнюдь не пропали даром, отчего молчком испытывал горделивое, сходное с родительским, чувство. К тому же не миновал его слух, будто сам государь ужаснулся сему сочинению, в чьей правдивости не усомнился… Передавали, воскликнул: точно наш девятьсот пятый год направляется рукой мудрецов!..
Тем временем доктор Дубровин выказывал всячески возмущение революционной разрухой. Уверял, что все силы готов отдать на борьбу с этим сбродом, и убежден, что стоит только клич кликнуть, как от революционного сброда мокрого пятна не останется! Такая докторская! горячность не укрылась от полковничьих чутких ушей. Многословность выдавала неосновательность, а горячность вызывала сомнения в надежности… Герасимов ждал практических мер. Хоть бы посылали своих ораторов на революционные митинги, для начала. Дубровин, само собой, заверял, обещал…
На том, собственно, и разошлись по домам.
А двумя неделями позже дубровинские гости получили к нему на следующее заседание повестку; там сказано было: по вопросу об организации «Союза русского народа».
Доктор принял их как радушный хозяин, и его без споров определили в председатели нового Общества. Цель назначили ни много ни мало: восстановить самодержавие, как оно было до злополучного октябрьского Манифеста.
«Благо родины, — говорилось в выработанном уставе, — в незыблемом сохранении православия, русского неограниченного самодержавия и народности».
А еще спустя две недели новоявленные союзники публично и к тому же весьма громогласно объявили о себе на митинге в Михайловском манеже. Распаленные зажигательными речами, с криками вывалились толпою на Итальянскую улицу, на Манежную площадь.
Надрывались, заполняя на площади сквер:
— Долой подлую конституцию!
— Смерть графу Витте!
И еще неделей позже выпустили собственную газету, номер первый. Нюх на деньги доктора Дубровина не подвел.
5. Царское слово к истинно русским
Не вчера было сказано: два споспешника у карьерного лица в Петербурге — счастливый случай и императорский яхт–клуб… Сергей Юльевич Витте, без сомнения, принадлежал к тем, кому выпало первое. На вопрос, что важнее всего, на его взгляд, для успехов в государственной службе» называл первым делом не ум и не искру Божью. «Властитель обязан быть felix!» (с латыни «феликс» — это удача, фортуна). Очень многие, кого фортуна не одаряла сама, искательствовали ее в яхт–клубе.
Командоромтам состоял барон Фредерикс, министр императорского двора. В завсегдатаях были великие князья, начиная с Владимира Александровича, дяди царя. Покровителем считался великий князь Николай Николаевич, петербургский главнокомандующий, царю двоюродный дядя, а его правой рукой — генерал–майор Раух. Сознававших свою избранность членов яхт–клуба меньше всего привлекала лодочная гавань на Невке. Они часами просиживали у высоких окон роскошного здания на Большой Морской близ Исаакиевской площади за обильными трапезами, сдабриваемыми неспешной беседой, созерцая прохожих–проезжих… Ну а те в свою очередь бросали ответные взгляды на святыню, предмет желаний. Отголоски событий проникали за тяжелые портьеры весьма приглушенно, монотонного существования, как правило, не нарушая.
Но случались и исключения из правил. Как, к примеру, тогда, когда члены яхт–клуба записались дружно в «Священную дружину»…
Петру Ивановичу Рачковскому пришлось подергать за потаенные нити, чтобы одно влиятельное лицо обратилось с просьбою к генералу Рауху: переговорить с неким доктором Дубровиным со товарищи. На сей раз, после нескольких неудачных попыток, «союзники» перешагнули неприступный порог. Заискивая перед генералом, домогались приема у великого князя. К заискиваниям, впрочем, в яхт–клубе не привыкать было, куда необычнее звучали в его стенах угрозы. «Положение очень опасно! Генерал, быть может, не знает, что в России восемь масонских лож?! Побуждаемый жидами председатель Совета Министров ведет к революции и распадению России…»
— Сам граф Витте — масон, — сообщил доверительно этот Дубровин. И с воодушевлением продолжал: — Да известно ли вам, что в Петербург доставлены части гильотины для царя?!Уж такого‑то мы не допустим!!
— Вы имеете ли связь с партией Минин и Пожарский? —осторожно спросил генерал.
— А чего они от вас добивались? — напрягся доктор.
— Так же точно хотели дойти до великого князя… Эти люди грозят варфоломеевской ночью, чтобы вырезать главарей революции, и первого — Витте…
— Это проходимцы, — уведомил генерала доктор (само собой подразумевая при этом: не то что мы!).
— Я их выгнал, — успокоил доктора генерал.
И в итоге пообещал его высочеству доложить.
Великий князь принимал троих «союзников» в строгой тайне. В клубе, в комнате Рауха. Введя главнокомандующего к ожидавшим его посетителям, генерал тотчас покинул комнату.
Всего лишь за два месяца до того Николай Николаевич пригрозил застрелиться, если царь не подпишет высочайшего Манифеста. Даже вспоминать не хотелось. Минута растерянности, слабости, еще подогретой той безумной поездкой из Тулы в товарном вагоне. Ныне, кажется, смута, слава Богу, минует. Вот и в мятежной Москве посланные им доблестные семеновцы уже почти навели порядок. Великий князь рад визиту истинно русских людей.
Следуя рецепту, данному советником и наставником его Петром Ивановичем Рачковским перед отъездом в Москву на арестование бунтовщиков, доктор Дубровин раскрывает глаза великому князю на причины смуты, пересказывая известно каких мудрецов. Князь хоть сам не читал Протоколов, но о них уже слышал. Склонный вообще к экзальтации, он до глубины поражен воззванием иудейского раввина к единоверцам, этой пересказанной доктором речью на кладбище над гробницами предков, где, оказывается, сыны Израиля собираются раз в столетие среди ночи вот уже девятнадцать веков! Вот, оказывается, в чем главная цель обладания золотом, капиталами, овладения обществом — воцариться надо всеми народами на земле, как обещано их отцом Авраамом… И до чего коварным путем! Подрывать христианскую веру, прививать христианам вольномыслие, скептицизм, раскол, проникать в медицину, философию, право, захватив вторую, после золота, силу, а именно прессу! Все понятия переделать на дьявольский лад!..
Доктор явно в ударе, да и спутник его, Аполлон Майков–сын, не молчит, но еще сильней распаляет воображение великого князя, сводя старые счеты с Витте. Этот граф Полусахалинский–Полуиерусалимский хотел вынудить государя дать конституцию. Конституционалисты же слуги чьи? Капитала! Еврейского… и московского также!.. Они, видите ли, называют других революционерами слева и справа! Но революционеры — левые, они служат тому же еврейству, благодаря всеобщей разрухе расчищая ему дорогу, чтобы господствовало над православным народом! Мы же — правые — воистину правы, мы стремимся, наоборот, к равновесию народного организма на началах истинных православия, самодержавия, народности. А парламент, Дума — это же уничтожение наших основ, потому Витте и вырвал у царя Манифест!..
Великий князь Николай Николаевич, которому лучше, чем кому‑либо другому, известно, что в действительности происходило при подписании Манифеста, однако же с одобрением слушает эти речи, не возражает, поддакивает, кивает…
И опять же согласно совету, полученному от Рачковского, напоследок доктор Дубровин умоляет его высочество посодействовать истинно русским людям получить аудиенцию у государя.
Его высочество предпочел бы уклониться от этого. Существует, мол, церемониальный порядок, все приемы у государя устраиваются через Министерство двора…
— Да, конечно… Нотам нас не понимают… Вся надежда на вас!
Спустя час они расстаются, сияя.
— Только слушайтесь меня! — говорит на прощание князь, как бы приняв «союзников» под свое покровительство.
А через неделю в Царском Селе они в составе человек тридцати предстали перед государем, помазанником Божьим, на торжественной церемонии под сводами Александровского дворца.
Началась она тем, что сочлен их игумен Арсений, настоятель Воскресенского, Новгородской губернии, монастыря, передал в дар государю икону архистратига Михаила, не просто так, со значением: ты, мол, наш, подобный архангелу, воевода, низвергатель дышала, покровитель, заступник и ангел–хранитель верных Богу князей и людей… А затем и доктор Дубровин, зачитав приветственный адрес и отдав папку с адресом в те же высочайшие руки, преподнес в добавление знаки «Союза» в футлярах — под лучезарным крестом православным и царской короной поражающий змия всадник, Георгий Победоносец, — для самого государя и для наследника цесаревича также.
Государь принимал подношения, благосклонно выслушивал речи, растроганно благодарил. Да и как ему было не слушать этих верноподданнических речей, когда проливались бальзамом на не зажившие еще раны.
— Не верь, государь, злым советникам, что нашептывают ограничить самодержавную власть и принять конституцию. Народ такой власти не от Бога — не подчинится! — заклинал и одновременно клялся царю один из допущенных к нему верноподданных. — Потакателям крамолы не должно быть места у твоего трона, а то опять нас ждет смута и кровь!..
— Как свет дневной ненавистен кротам, так самодержавие ненавистно врагам России! — блеснул риторикой другой.
Остерег:
— Не верьте, ваше величество, тому, кого выдвигают масоны и кто опирается на инородцев!
И хотя имя вслух не отважился произнести, без того всем было понятно, о каком ненавистнике речь.
Выражая одобрение каждому за обращенные к нему благостные слова, помазанник Божий обещал нести бремя власти, отчет в которой даст перед одним Господом Богом, и уверенность изъявлял, что русский народ поможет ему. И, благодаря всех русских людей, примкнувших к «Союзу русского народа», призывал их объединяться, ибо рассчитывает на них.
6. Видение детского доктора
Среди своих сторонников доктор Дубровин публично распространялся о якобы посетившем его видении. Перед слушателями представали рисуемые в папиросном дыму картины ужасного для всякого патриота будущего. В ранних питерских сумерках синие докторские очки в золотой оправе сверкали при этом в особенности зловеще.
… Ночь. Зимний дворец. Козлобородый фавн гнусавым голосом читает «Бориса Годунова»…
«Достиг я высшей власти…»
Он вспоминает, что царь Борис начинал всего лишь спальником при царе Иване, подавал одеться. Сказочное возвышение!.. Почти такое же, как у железнодорожного служащего…
«Я покину этот дворец! — обещает он с угрозой кому‑то, кто за стенами, должно быть, не может его услышать, — Я недолго здесь пробыл, но я вернусь! И вернусь навсегда!»
А рука его в воздухе чертит: Сергий, Сергий…
Но вот хмурую картину Зимнего вытесняет освещенная круглая зала другого дворца. Таврического. Эта сцена заседания Государственной думы, она отвратительна. Крикливые речи полны лицемерия и еврейского задора. От них мутит, от этих речей… замутили всея Россию — и евреев, и финнов, и поляков, и грузин. Но только не козлобородого… Он, злой гений, уже где‑то далеко отсюда, в Европе, на Западе, он доволен и радуется: во всем его воля и его друзей!..
А потом, воротясь с Запада, затаился в своем белом домев ожидании близкого торжества, тогда как повсюду беснуются толпы, громят города, зверствуют, убивают, а в погромах особо изощряются евреи!.. При бездействии власти все злые демоны сорвались с цепей, а из них главный лишь потирает руки. «Еще шаг, и у ног моих ляжет Россия, утопив в крови заповеди Истории, променяв их на обеты масонов».
И уже в кровавом тумане возникает глумливый образ демократической республики, когда в «белом доме» кагал биржевых королей, жрецов Ваала, Каинова семени, возглашает: «Что медлишь? Будь первым президентом России! Точно новый Моисей, раздели с нами пир на разрушенных стенах Иерихона!..»
Но Сергий Каменноостровский, хозяин дома козлобородый, возражает на это: «Ошибаетесь, почтенные господа, не пришел еще этот час, повременю, он еще впереди. Я еще обожду, пока жалкие пигмеи не перегрызутся, пока вожаки партий не истребят друг друга. Вот когда ото всех этих президентов народ о царе затоскует, когда сметет их могучей метлой, — тогда уж наступит мой час…»
…И выбрали первого президента Российской республики — господина Милюкова–речистого. Но кто нетерпимее демагогов, добившихся власти! Меняют президентов, меняют! В речах бешенство. На улицах кровь. Виселицы. Разруха. Никто не хочет работать.
Когда уже нечем стало платить проценты по займам, вмешался кредитор–Запад, банкиры–жиды, навязавшие России свои миллиарды. К границам придвинулись армии и флоты.
Страна на краю погибели, а в Таврическом дворце все сотрясают воздух безумными словесами.
И — доспорились. Доигрались. Допрыгались!
Поднялся народ, подхватился. Как в судорогах, сметал все, что на пути попадалось. И культуру и цивилизацию заодно. Одичалая Россия точно отпрянула назад лет на триста. К царю Годунову!..
Прощай, разгромленный Петербург!
В Московском Кремле — торжества воцарения. Достиг своего черный ворон земли русской. С высокого соборного крыльца под перезвон могучих колоколов обращается триумфатор, спаситель России, гнусавым своим голосом: «Народ московский!..»
Словно бы под воздействием этой мрачной фантазии тягостные густые сумерки совсем размазали очертания обширного дубровинского кабинета. И тут, слава Богу, наступил конец наваждению.
Стоило доктору только умолкнуть, как полутьму до краев залило общим воем:
— Сме–ерть! Витте–е-е!!
Но кто‑то догадался повернуть выключатель, и, пораженные светом, все враз онемели.
Тогда тишину нарушил чей‑то одинокий голос:
— Выслушайте и меня теперь, господа мои, судари. Фантазию куда менее страшную, зато реальную… Вот какой разговор прислышался мне, когда государь будто бы наконец соизволил назначить правителя государства — скромного полковника Иванова Шестнадцатого. Такого же, как сотни других офицеров…
Пошуршав извлекаемым из кармана листком, говоривший начал читать по бумажке:
— В приемной, в Зимнем дворце, дожидался императорского уполномоченного граф Витте.
Прошли в кабинет.
«Я вам очень признателен, генерал, что вы изволили меня вызвать. Мой опыт, мои знания к вашим услугам».
«Я вызвал вас не за этим, — сухо остановил Витте диктатор. — Считаю вас главной причиной революционной смуты в России. Как министр финансов, вы вашей политикой разорили Россию и подготовили положение, в каком нас застала японская война. Вы развратили правительство, печать, общество, убили народную честь и совесть. Вы заключили преступный мир в Портсмуте. И наконец, устроили ряд анархических выступлений, чтобы вырвать у царя несчастный Манифест 17 октября. Все вместе дает столь ужасную картину предательства и измены, что я не затруднился бы расстрелять вас в двадцать четыре часа!..»
Прерывая чтение, аудитория взвыла снова. Но довольно было короткого жеста Дубровина, чтобы восстановился порядок.
А читавший продолжил:
— «Я умолял государя разрешить предать вас суду, с вас начать очищение… К несчастью, государь на это не дал согласия. Но поручил предложить вам покинуть Россию. Немедленно и навсегда».
«Я этому решению не могу подчиниться, — отвечал Витте. — Не признаю за собой таких вин! Я действовал по совести, разумению, чувству долга, всегда с высочайшего одобрения. Каждый шаг известен был государю. Я требую суда над собою и там сумею оправдать свои действия!»
«Известно, вы запаслись документами, — усмехнулся диктатор, — как доподлинный бюрократ устраивали себе прикрытие на каждом шагу. Теперь хотите сделать государя своим соучастником, всю вину свалить на него?! Знайте, я бы этого не побоялся. Я сумел бы показать на суде, как вы обманывали, как предавали государя! Понимаю, вы рассчитываете на бессовестную печать, чтобы создать себе новую мировую рекламу. Государь это хорошо взвесил. Вам такого торжества дать нельзя! Сколько вы желаете сроку на сборы?»
«А если я не поеду?»
«Вы будете арестованы немедленно, и прямо отсюда с вами отправится мой адъютант, которому вы передадите документы вот по этому списку!..»
Восседавший за просторным столом под собственным поясным портретом в солидной раме Дубровин гулко захлопал в ладоши, словно подавал команду. Следом слаженно зарукоплескали другие.
Настроение собравшихся, омраченное поначалу, повеселело явно и бесповоротно.
7. Дружина со списком
На масленицу господа эти собрались на блины в составе всех партий «Русского собрания», и питерских и московских. Просторное помещение Конногвардейского манежа было полно. Известный русский человек Грингмут, оратор признанный, редактор «Московских ведомостей», а в прошлом галицийский, что ли, еврей, на невообразимом своем русском языке громя графа Витте, буквально наэлектризовал собрание. Соревнуясь с уважаемым москвичом в резкости, доктор Дубровин заявил, что Витте посадил царя в клетку. Эффект превзошел всяческие ожидания. Любители блинов, повскакав с мест, кричали:
— Где живет Витте?! Идемте! Убьем его!!
Но и на сей раз дело как будто ограничилось криками — в том по крайности, что касалось видимой его стороны. Потому что уже и невидимая существовала, покамест мало кому ведомая, конспиративная, тайная сторона союзного дела. Заключалась она в организации боевых дружин. Все в «Союзе» считали — во всяком случае, кто был посвящен в тайну, — что идея принадлежала Дубровину, тогда как в действительности этим осуществлялась задумка Рачковского: террор на террор, однако Петр Иванович, как всегда, предпочел остаться в тени. Иное Дубровин. Тот стремился всечасно быть на виду, а тем паче с тех пор, как самому государю стал лично известен. И хотя по уставу «Союзом» управлял совет, действительным главарем, полновластным хозяином даже, сделался он. Располагая пухлым карманом — все субсидии, пожертвования собирал без посредников сам, на сей счет проявил талант недюжинный, и ни в приходах, ни в расходах отчитываться не любил, делал то, что считал нужным, и не терпел возражений. Ему уже побаивались противоречить…
Дружин в Питере создали несколько, наряду с городской — районные: нарвскую, путиловскую и другие. Денег на оружие не жалели. Револьверы хороших систем большими партиями доставляли в деревянных ящиках, главным образом из Финляндии или из Царства Польского. Их хранили в специальной комнатке на нижнем этаже дубровинского дома. Народишко в дружины насобирался всякий, зачастую сомнительный, и весьма, с такими отпетыми головорезами во главе, как Мишка по прозвищу Душегуб или Сашка Косой, готовыми и на вымогательство, и на шантаж, а то и на неприкрытый разбой. Доктор Александр Иванович, можно сказать, лично гарантировал боевикам безнаказанность.
За Невской заставой они облюбовали чайную в Прогонном переулке. Там, среди своих, не стеснялись. Только и речи было что о расправах да об убийствах, говорили, что сам Дубровин наставляет бить до десятого пота.
— А коли поймают, какая разница, сколько присудят, потому как все одно после помилуют!..
Граф Витте там тоже поминался нередко: виновник всего! Его первым положено снять.
— Я бы сам его пристрелил, как собаку! — на всю чайную обещал сгоряча один завсегдатай.
— Кого на это назначат, тот и пойдет, — сумрачно умерял его пыл другой.
Не всем, впрочем, по душе оказалось, что от «Союза» стало сильно отдавать уголовщиной. Но помалкивали из боязни, как бы самим под кулаки не попасть, когда не под выстрел… кому охота!
А покуда сорвиголовы упражнялись в похвальбе да постреливали себе помаленьку, головы посветлее, сойдясь на секретное совещание, втихомолку составили длинный список приговоренных к снятию… Притом против каждой фамилии со старанием наклеивался портрет, чтобы в нужный момент вернее узнать жертву в лицо. Лиц таких набралось сорок три; номера же им вытаскивала, можно сказать, судьба. Номер первый достался, таким образом, Герценштейну. Предназначаться‑то первый номер должен бы, по общему мнению, графу Витте — с графом, однако, судьбе было угодно распорядиться иначе. Ее волей и вторым оказался не он, а московский журналист Иоллос. В длинном списке значились думцы Родичев, Набоков, Милюков, Винавер, журналист–правовед Гессен, адвокат Грузенберг, все по большей части кадеты… Аппетиты далеко выходили за рамки первоначального замысла: в список ни один террорист не попал. Либералы, многоглаголящие краснобаи — да! Конституционалисты! Впрочем, вполне вероятно, Рачковский допускал и это в своих расчетах, одномерными никогда, в сущности, не бывавших. В числе целей, похоже, задумывал и такую — нагнать страх на так называемое общество… Или, больше того, — обзавестись под рукою как бы собственной, постоянно готовой к действию боевой организацией по образчику той, что имелась в распоряжении одного (его имя нельзя было произнести) полицейского агента в среде социалистов–революционеров[49]… с обратным, разумеется, знаком.
8. Две сети
Трудолюбиво, тщательно и по возможности беспрерывно, точно паук, вил незримые свои нити Петр Иванович Рачковский, сплетал в паутину агентурную сеть. После стольких лет вынужденного антракта из‑за дворцовых интриг его видимая карьера возобновилась в январе девятьсот пятого, за Кровавым воскресеньем следом, когда Дмитрий Федорович Трепов спешно возвратил его в Петербург, чтобы поставить во главе политического сыска. Лишь с такой высоты Рачковский сумел разглядеть и оценил в полной мере гениальность варшавского, да, впрочем, не только варшавского, своего знакомца–агента. Того самого, что появлялся в Варшаве наездами и коего заподозрил тогда Петр Иванович в причастности к судьбе Плеве.
Было время, сотрудник из кастрюлидаже считался как бы его воспитанником. Именно такова стала первая кличка предложившего полиции свои услуги студента из германского университета в Карлсруэ, по недослышке переиначенного крючком канцелярским в кастрюлю, что и было им начертано на обложке личного дела Азефа.
Как глава заграничной агентуры, Петр Иванович, понятно, не мог не ценить успехов удачливого агента, однако главное в нем, разгаданное тогда в Варшаве, в полной мере открылось Рачковскому уже в Петербурге. А именно двойственная и притом выдающаяся его роль. Полицейский осведомитель в то же время, будучи членом центрального комитета, возглавлял боевую организацию эсеров!
Однажды к концу лета, вскоре по возвращении из‑за границы, где провел чуть ли не год после гибели Плеве (это лишний раз подкрепляло предположения Петра Ивановича на его счет), он явился к Рачковскому с подметным письмом, полученным питерскими его товарищами по партии. Точнее, с копией полученного письма.
— Вот почитайте‑ка!
Петр Иванович пробежал бумагу глазами. Чем дальше, тем она делалась интересней. Речь шла о предателях в партии, виновниках многих провалов. Следовало исчерпывающее их перечисление, и названы были два имени. Одно — инженер Азиев. Далее была просьба письмо уничтожить, не делая ни копий, ни выписок, а предостеречь товарищей устно.
— Ну, что скажете? — поинтересовался агент, и ни жилка не дрогнула на каменно тяжелом его лице. — Вы, конечно, поняли: Азиев — это я.
— Что вы намереваетесь с этим делать?! — напрягся старый проказник, почуяв достойного партнера.
Никто ведь не заставлял его приносить рискованное письмо в департамент.
— А что бы вы посоветовали, Петр Иванович?
— Хм, хм… С какой стороны ни взгляни, так и так вы открыты… Но где, скажите, та сволочь…
Агент не дал шефу развить тему. Прервал:
— Вот и повезу это в Женеву. Центральному комитету. А что? Уж лучше пускай клевета попадет к товарищам из моих рук!..
Без участия Азефа не обходился ни один сколько‑нибудь заметный террористический акт, осуществленный или проваленный. И он держал в руках рычагу, определявшие выбор. Вместе с товарищами они намечали очередную мишень. Определяли жертву. Выносили ей приговор. Ну а дальше ее судьбу — казнить или миловать — решал, в сущности, он сам. Мало кто обладал такой властью над людьми, над их жизнью и смертью. Жизнь сановника и жизнь террориста… и обоих их вместе зависела от него. Само собой, содержание — и не скудное, получаемое от ведомства, — значило для провокатора много. Но в какое сравнение с деньгами могла идти сладчайшая, тайная, почти безграничная власть… И кто же лучше Рачковского в силах был оценить это…
Помнится, когда впервые увидел Агента (с большой буквы!), внешность этого человека поразила его. Ухватил наметанным глазом — в мгновение ока — толщину, сутулость, тяжелую голову почти что без шеи, низкий лоб и суженный череп, поросший темными, жесткими даже на вид волосами, одутловатое лупоглазое лицо с приплюснутым носом и под узкими усиками вывороченные жадные губы. Низость, порочность этой наружности невозможно, казалось было, скрыть. И мелькнуло тогда у Петра Ивановича подозрение: уж не в отместку ли за собственную монструозность человек этот выдает, продает, предает… уничтожает других?! Впрочем, на подобных психологических изысках не позволил себе застревать. Этот монстр вызывал в одно и то же время отвращение, уважение, страх… И матерый сыщик, по холодном раздумье, вывел, что у иуды тоже есть чему поучиться! Смог, сплетая черносотенную паутину, понять, что не может упустить подвернувшийся случай заплести параллельную, в революционной среде. Собственную, свою! Параллельную той, дубровинской, и одновременно — азефовской, ибо гений на то он и гений, что способен вырваться из‑под присмотра. Но тогда уже точно не собака завиляет хвостом, а хвост собакой! И вообще говоря, разве худо, если чуткие, покорные ниточки станут слушаться как правой твоей руки, так и левой?.. И притом чтобы правая ведала, что творит левая!
А также наоборот.
«Подвернувшийся случай» представился Петру Ивановичу в виде печально знаменитого вожака рабочего шествия в Кровавое воскресенье. После Девятого января поп Гапон бежал за границу. А где‑то в ноябре, ввиду октябрьского Манифеста, вернулся. Когда графу Витте в Зимнем дворце доложили об этом, он поручил Манасевичу–Мануйлову, тогда при нем состоявшему, уговорить расстриженного попа, для его же пользы и для пользы рабочих, чтобы немедленно убирался во избежание ареста. И суда за Девятое января. Словами первый министр не ограничился. Подкрепил их пятьюстами рублей из личного своего кармана. Стремление же Гапона восстановить разгромленные рабочие организации без внимания не оставил. Поднадзорные, подобно зубатовским, полицейскому ведомству, они, на его взгляд, заслуживали одобрения — дабы использовать их в собственных видах, для успокоения забастовок и смуты. Гапону, убравшемуся в Париж, даже переслали от Витте шпаргалку, по какой следовало составить воззвание к рабочим в поддержку Манифеста 17 октября и созыва Думы, чтобы больше не проливалось рабочей крови — «и так ее достаточно пролито». Рачковский был, ясное дело, прекрасно об этом осведомлен, равно как о том, что глава правительства распорядился отпечатать воззвание порядочным тиражом на средства департамента полиции… В конце декабря Гапон, однако, опять объявился в Питере: перед тем незадолго графу Витте от него передали, будто бы он готов раскрыть властям боевую организацию эсеров, и Манасевич–Мануйлов в связи с этим был отправлен за ним в Париж.
Увы, у Петра Ивановича это была не самая счастливая полоса. Жизнь, конечно, приучила его к тому, что полосы чередуются — за черной когда‑то наступает и светлая… Но все же, все же… Недовольный его деятельностью в Москве, куда его отправили для ареста бунтовщиков, министр по возвращении вскоре от службы в департаменте его отстранил, хотя и поручил переговоры с Гапоном. От успеха их, таким образом, во многом зависело, восстановится ли его положение. Минует ли черная полоса…
Поначалу они скрытно встречались у Мануйлова на квартире. Тему обсуждали одну — возобновление гапоновских организаций, отделов, как он их называл. Их с десяток насчитывалось в Петербурге.
При втором разговоре, однако, стоило хозяину отлучиться из комнаты, Рачковский быстро проговорил:
— Этот Мануйлов — балда. С ним не следует иметь дела!
И дал номер своего телефона: четырнадцать, семьдесят четыре.
- …Домашний, звоните в любое время…
Нетерпеливый Гапон позвонил назавтра же:
— Ну как там с моими отделами?
— Надо свидеться лично, — ответил в трубку Петр Иванович. — Жду вас в ресторане Донона, в девять вечера. Спросите Иванова.
При свидании он постарался, как обыкновенно в подобных случаях — а сколько таких у него было, — расположить к себе собеседника, подлещивался к нему. Тот, впрочем, отвечал тем же. Петр Иванович не скрыл, что уполномочен министром. И что и министр, и граф Витте считают Гапона человеком талантливым, но в то же время опасным. Побаиваются, как бы опять не устроил какой‑нибудь вспышки, вроде Девятого января. Гапон уверял, что взгляды его изменились. Он и раньше склонялся в сторону мирных действий, теперь же совершенно отказывается от резкостей, тогда высказанных в прокламациях, и сожалеет о них. Петр Иванович в этом Гапона одобрил, но сказал, что не имеет гарантий.
— Вам бы следовало написать министру и все, мне здесь сказанное, изложить.
Гапон заметно заколебался.
— Без такого письма, — сменив тон, как меняют на столе блюдо, жестко сказал Рачковский, — нечего и просить возобновления ваших отделов. Ведь министр не может обратиться к государю с пустыми руками. Необходим оправдательный документ.
Поп–расстрига перестал набивать себе цену. Отодвинув тарелки, тут же принялся за требуемое письмо.
Задумчиво потягивая из бокала, полицейский полковник молча за ним наблюдал. Господин тщился выглядеть хорошо одетым. Знаменитую по Девятому января бороду заменил модною эспаньолкой, на помятом лице сверкали алчно глазищи. Он, скорее, смахивает на коммивояжера, нежели на народного трибуна, отметил про себя Петр Иванович.
Мельком глянув не витиевато подписанное письмо, обещал передать его по назначению и попросил согласия прийти на следующую их встречу с крайне интересным, талантливым (и добавил про себя: толстокожим) коллегой, возможно первым по этим качествам во всем департаменте. Полковник Герасимов очень желает видеть Георгия Аполлоновича Гапона.
Георгий Аполлонович Гапон согласился.
Даже самые переговоры с ним недешево обходились казне. Рачковский приглашал на обеды в дорогие рестораны — и притом в отдельные, естественно, кабинеты, — заказывая лучшие блюда у Контана, у Кюба на Морской, у Донона на Мойке. Стол ломился от яств и питий… На такие расходы в департаменте не принято было скупиться.
И на следующий раз был заказан стол у Кюба на три персоны…
Незнакомый Гапону полковник, разумеется в штатском, обрадовался встрече столь бурно, что полез обниматься, между прочим ощупывая карманы Гапона, и даже похлопал его пониже спины, чтобы верней убедиться в отсутствии револьвера. Убедившись, принялся расспрашивать о жизни революционеров, и Гапон охотно стал хвастаться, чтобы произвести впечатление, будто он все знает и может.
За обедом Петр Иванович передал впечатление начальства от его письма.
— Знаете, что сказал граф Витте? «Гапон хочет меня поиметь, но это ему не удастся!..»
Кусок едва не застрял у Георгия Аполлоновича в горле.
Сам же Петр Иванович по–прежнему осторожничал:
— Вы бы нам доказали, что не имеете старых замыслов. Вы бы нам помогли… Рассказали бы, к примеру, о боевых дружинах…
— Нам известно, ваш друг Рутенберг занимается ими, — проговорил в свой черед Герасимов. Ловцы–полковники опять составляли дуэт. — Но прячется хорошо. А словили — пришлось отпустить, улик не было… Вот вы, похоже, нуждаетесь, — добавил он безо всякого перехода, — а друг на рысаках разъезжает, кутит. Большими деньгами распоряжается, видно…
— Вы бы нам вот этого соблазнили! — подхватил Петр Иванович.
И тут пошел торг между ними.
Сбивая цену, Петр Иванович сникал на глазах, даже дрожь в голосе появилась, артист!.. Казалось, еще чуть–чуть — и заплачет.
— Я стар, а заменить меня некем. Вот вы бы показали себя… Нам нужны такие, как вы. Возьмите мое место!..
Соблазнительны посулы полицейских полковников! В ответ Гапон подтвердил: он готов исполнить обещанное графу Витте. Но для этого надобны деньги… большие, господа, деньги! Сами заметить изволили: Рутенберг тратит свободно. Тут мелочью не обойдетесь. Между тем он уверен: крупной суммой Петра Рутенберга удастся заинтересовать!.. Тот руководит боевой организацией, да потерял веру в победу…
И назвал свою цену. Пятьдесят тысяч ему и столько же его другу, тому, кто спас его жизнь в Кровавое воскресенье.
На таких условиях он, Гапон, обещает поехать в Москву к Рутенбергу.
Об этом заманчивом плане Рачковский без промедления доложил министру. Министр внутренних дел Дурново посоветовался с председателем Совета Министров.
Сергей Юльевич рекомендовал соблюдать осторожность с Гапоном, но за платой ему особенно не стоять.
В итоге Гапон отправился, как обещал, в Москву.
Рачковский же велел кому следует проследить, как Гапон исполнит свое намерение встретиться с Рутенбергом; и ему вскорости сообщили, что эти двое действительно свиделись в Москве, в «Яре»… И когда на следующем завтраке у Кюба вернувшийся в Питер Гапон доложил шефу, что наверное Рутенберг согласится с ним побеседовать, у Петра Ивановича не было оснований в том усомниться.
Наполеоновский его замысел, похоже, приближался к осуществлению.
И снова была назначена встреча втроем — на сей раз второму полковнику предпочли террориста.
В девять вечера, в субботу 4 марта, в ресторане Контан.
9. Конец гапониады
Именно в этот день, 4 марта, Рачковскому позвонил Герасимов, и тот не стал скрывать от коллеги назначенной встречи:
— Хотите и вы прийти?
— Нет, — ответил ему толстокожий, — спасибо. Я не приду… и вам ходить не советую!..
— Это отчего же?! — напрягся Петр Иванович.
После их обеда с Гапоном толстокожий полковник доложил министру, присутствием Петра Ивановича не стесняясь, что возражает против затеи, ибо план Рачковского никуда не годится. И объяснил почему. Петр Иванович с не меньшей резкостью такое мнение опроверг, Дурново после некоторых колебаний с ним согласился. И вот упрямец–полковник опять за свое.
— Так по какой же причине, сударь, вы мне советуете отказаться от встречи?! — повторил, едва сдерживаясь, Петр Иванович.
А в ответ из трубки услышан:
— Мои агенты мне сообщили, что на вас расставлен капкан!..
— Чушь какая‑то, — рассмеялся Петр Иванович. — Как вы можете этому верить?
— Я предупредил вас, — сказал Герасимов.
Но часа через два повторил свой звонок. Не застав на сей раз Петра Ивановича дома, настойчиво попросил жену удержать его от посещения Контана:
— Там Петру Ивановичу угрожает несчастье.
Необычный звонок все‑таки заставил Рачковского задуматься над советом Герасимова. И по размышлении даже прислушаться к нему…
Назавтра Петру Ивановичу доложили, что Гапон с Рутенбергом были вечером в ресторане, как обещались. Петр Иванович попытался связаться с Гапоном, поскольку должен был объясниться. Не терял надежды, что произошло всего–навсего недоразумение. Заполучить центральную агентуру, чтобы осведомляла о каждом шаге боевой организации! И еще того более, чтобы эти шаги куда следует направлять!Неужели такое замечательное предприятие в самом деле могло провалиться? Трудно было свыкнуться с этим!..
Но расстрига исчез. Пропал. Испарился.
О постигшей его судьбе Рачковский узнал от… Азефа.
Узнал вместе с Герасимовым, а его кабинете, куда Герасимов по телефону Петра Ивановича пригласил:
— Тут мои молодцы схватили вашего человека. Он в вашем отсутствии говорить не желает.
— Это кто же такой? — поинтересовался Рачковский и услышал от Герасимова одну из кличек Азефа; после отстранения от департамента как‑то совсем потерял его из виду.
В трубку Петр Иванович буркнул:
— Сейчас буду.
Едва переступив порог герасимовского кабинета и действительно увидев Азефа, осклабился:
— Давненько не знаю о вас, дорогой Евгений Филиппович, рад встретиться… Как поживаете?
А услышал в ответ едва ли не площадную брань:
— Не ломайте комедию, Петр Иванович! Вы бросили меня, как собаку, без связи, без средств, на произвол судьбы. Я вынужден примкнуть к террористам, чтобы не умереть с голоду…
Отталкивающее лицо его побагровело, он набрасывался, как разъяренный бык.
Бывший «месье женераль» скандалов не выносил.
— Не волнуйтесь так, Евгений Филиппович. Ведь я теперь не у дел, — проговорил примирительно. — Хотя, каюсь, маленько недосмотрел…
Но Азеф не унялся:
— Недосмотрели? Полноте, Петр Иваныч! Скажите: вздумали подыскать мне замену!
И как из браунинга выстрелил — раз, два и три:
— Ну что, удалось вам Рутенберга купить?! А Гапон оказался надежным агентом? Боевую организацию вам выдал?!
Возникла немая сцена, не хуже, чем в гоголевском «Ревизоре». От вида оторопевших полковников Азеф испытал торжество, которого и не пытался скрывать.
— Признайтесь, не можете словить своего Гапона? — продолжал со злорадством. — А он, бедняга, в Озерках на заброшенной даче болтается на веревке! Чтобы в том убедиться, запишете, господа, адрес?!
Только тут Петр Иванович вполне осознал, что Агент не блефует.
А тот желал до конца насладиться произведенным эффектом:
— И благодарите судьбу, уважаемый Петр Иваныч, что вас миновала сия участь… клянусь, не избежать вам ее, если продолжали бы свои амурыс Гапоном!..
Так…
Значит, план, замечательный план окончательно рухнул. Не придется ему, упиваясь могуществом, тайно дергать за ниточки две друг другу враждебные шайки… и натравливать одну на другую!.. Да и только ли одну на другую!.. Столь старательно сплетенная паутина лопнула в одночасье, а если какая муха и запуталась в ней, то разве лишь он сам!.. Чувство острого унижения испытал всеведущий сыщик.
Этот жид отвратительный его начисто переиграл! Если был он когда‑либо настолько унижен, то, быть может, единственный раз в жизни — при Плеве, но тогда он пал жертвою высших сил, интриг в императорском доме! Ну и недруг его давнишний, еще с самых судейкинских пор, воспользовался случаем выставить его вон. Впрочем, Плеве сумел нажить себе столько врагов, что в конце концов не без помощи многих кончил счеты с жизнью. Дело темное, но Рачковский‑то ведал, кто умыл при том руки, словно Понтий Пилат. И не обошлось без Азефа в том деле, уж теперь можно было не сомневаться!
Англичанин–политик однажды заметил: у Британии нет друзей, у Британии есть интересы. Вот так в политике и вообще. (В политической полиции в частности.) Нет друзей, а одни интересы. Приятельство и предательство рука об руку шествуют рядом. Сегодня Азеф тебе враг, как вчера был соратник. Да что там Агент, хотя и с большой буквы!/. Петр Иванович был унижен вдвойне, ибо точно теперь узнал, что толстокожему полковнику жизнью обязан.
Не скончалась черная полоса. Провели воробья на мякине. Старого, многоопытного воробья!..
Все же Петр Иванович нашел утешение в том, что уж лучше два унижения пережить, чем одно–единственное уничтожение…
10. Паук в паутине
Генерал свиты его величества Дмитрий Федорович Трепов много лет прослужил в Первопрестольной. Немудрено, что Москва (разумеется, верхушечная Москва) считала его своим… заступником и ходатаем по делам. Вот и эту книжицу получил от московских русских людей вместе с просьбой нижайшей ознакомить с ней государя. «Если его величеству будет угодно…» — полуобещал он им, перелистывая страницы. «Протоколы» какие‑то, какие‑то мудрецы… Сионские? Про иудеев?.. Государь, впрочем, выказал интерес, взял почитать. И, обычно столь сдержанный на похвалы, собственноручно начертал на полях резолюцию, от прочитанного едва не в восторге: «Какая глубина мысли! Какое точное выполнение своей программы! Как будто наш 1905 г. направляется рукой Мудрецов! Не может быть сомнения в подлинности. Везде видна направляющая и разрушающая рука еврейства».
О царской оценке Рачковский знал уже спустя несколько дней, от Дмитрия Федоровича, пересказали ему слово в слово. Сердце нестареющего озорника, проказливое его сердце едва не разорвалось от гордости, как он услыхал это. Еще бы! Ведь одною из первых целей изготовления «Протоколов» было воздействовать на молодого царя. Пускай царь уже не так молод, но наконец‑то они добрались до цели!.. И столь точное попадание! Если бы только Петр Иванович мог открыться перед государем, ах, если бы он не должен был до конца удерживать и эту тайну в себе, чтобы унести с собою в могилу!.. Хоть бы с кем‑нибудь поделиться… но нет, такое немыслимо было!
Невзирая на многолетнюю выучку, его буквально распирало от немоты. Одно лишь то утешало, что черную полосу в жизни все ж таки вытеснила полоса светлая! Но больно уж резко, но слишком уж круто!.. Из пропасти, можно сказать, — и на этакую высоту!..
Другой бы на его месте просто не вынес того полученного им предательского удара… несчастный Гапон!.. Горемычный Петр Иванович устоял — главным образом именно потому, что был горемычный, то есть близкий человек Горемыкину — с давних, кстати сказать, пор, когда ездили вместе в Англию по марким делам и поездка стоила министерского кресла. Тяжелая длань всевластного тогда Витте всем весом придавила его. Но раздавить не смогла. А быть может и так, что просто не захотела.
Между тем политический калейдоскоп пересыпался, перемешивался, не останавливаясь ни на минуту. Меняются местами фигуры, кто вверх, кто вниз. Интересы сходятся и расходятся. Сторонники делаются противниками, и напротив. Настала пора Горемыкину свести счеты с Витте. Не удалось при подготовке октябрьского Манифеста — удалось ныне.
Откровение Азефа, от которого Рачковского, мягко говоря, взяла оторопь, пришлось на дни открытия Государственной думы — сразу после падения графа Витте. И Петр Иванович Рачковский, даром что не раз выполнял поручения Сергея Юльевича, очень даже приложил к сему руку. Равно как к тому, чтобы на место Витте заступил Горемыкин. Едва только назначение состоялось, на квартиру председателя Совета Министров, на Фонтанку, перебрался и Петр Иванович, до того обретавшийся у Трепова на Морской. Это ли не свидетельствовало о близости…
Увы, его сразу же невзлюбил горемыкинский новоиспеченный министр, саратовский губернатор Столыпин, не простил провала с Гапоном. От политического сыска проштрафившийся Петр Иванович был отлучен… что не помешало ему, однако, сделаться политическим советником у нового председателя Совета Министров, весьма к тому же влиятельным. Он находился при квартирном хозяине почти безотлучно и советы старался давать по нраву его высокобезразличию: не горячиться, пусть события происходят сами собой, все устроится мало–помалу… Иван Логгинович поручил ему наблюдать за деятельностью Государственной думы — Петр Иванович ревностно наблюдал. Поручил участвовать в организации правых партий и в желательную сторону их направлять — деятельно участвовал и направлял. Не отказывался и от поручений встречных, таких, к примеру, как содействие в получении из казны денег. Посредничал, и для себя не без пользы, по этой части имел давний опыт. По его совету Иван Логгинович передал послушной ему дубровинской своре на думские выборы круглую сумму…
Его старания не прошли незамеченными. Государь, помазанник Божий, высочайшею милостью его не оставил. Награда стоила иных отличий и орденов. Ни много ни мало семьдесят пять тысяч досталось Петру Ивановичу от царских щедрот — «за успешное использование общественных сил». И ей–ей, не меньшую радость он испытал оттого, что наконец благодаря Трепову удостоилось внимания государя его давнее» однако не позабытое детище — и впечатление произвело глубочайшее!
Петр Иванович воспрянул духом.
Но тут, к несчастью, случилось то, что казалось совершенно немыслимым.
Не один он узнал об оценке царем «Протоколов», удивительного в этом не было ничего. Как и в том, что видные черносотенцы по горячему следу подали в Министерство внутренних дел доклад о необходимости широко их распространить, использовать для борьбы с «воинствующим еврейством» ради «истинно русского дела». Применительно к обстановке не должно было быть ни малейших сомнений в успехе этого предложения.
Государево мнение, разумеется, не хуже других известно было новому министру Столыпину. В решительности же поступков никто не мог ему отказать, Сергей Юльевич Витте — за глаза — именовал его не иначе как штык–юнкер… В данном случае что‑то помешало Петру Аркадьевичу показать немедленно свой характер. Что‑то вынудило проявить столь несвойственную ему осторожность. Скорее всего, недавнее заявление отставного полицейского директора Лопухина. Тот посмел публично обвинить министра внутренних дел, что он, дескать, терпит погромщиков в своем ведомстве! Министр, собственно, получил от Лопухина письмо еще после своих объяснений в Государственной думе по запросу о Комиссарове и его типографии, однако отвечать на возмутительное письмо не счел нужным. Он, видите ли, доверился своим подчиненным, а они обманули его! И в первую очередь — чиновник особых поручений Рачковский, в действительности зачинщик погромных воззваний. И вообще это дело есть, видите ли, лишнее тому доказательство, что у нас полицейский чиновник со своими секретными агентами бесконтрольно вершит судьбы обывателей, то есть — в сумме — и всей России!.. И все это попало в печать! Столыпин был в бешенстве. Однако же нового повода дать не хотел для упреков его в жидоедстве, тем более в полицейском ведомстве питали известное недоверие к происхождению «Протоколов сионских».
Прежде чем докладывать государю о полученном от черносотенцев предложении, министр решил избавиться от всякой неясности. Два жандармских офицера наряжены были произвести секретно расследование по щекотливому делу.
Один из них ведал особым отделом и во всем, что касалось политической полиции, эксперт был признанный. Другой же, в прошлом москвич, сменил в Саратове доверенного человека Столыпина[50], взятого им с собой в Петербург и, к несчастью, почти сразу погибшего при взрыве на Аптекарском острове. Иначе деликатное поручение досталось бы, вероятно, ему. А московские связи его преемника в этом деле представлялись вовсе не лишними, поскольку к государю «Протоколы» попали через руки Трепова именно из Москвы.
Офицеры, ищейки опытные, за дознание взялись рьяно. От издателей подследственного произведения к его переводчикам, от тех, кто переводил рукопись, разматывали запутанный клубок к тем, кто доставил ее из Франции, и к тем, наконец, кто якобы ее обнаружил в секретном хранилище в Ницце, этой столице масонов. И эта нить распутываемого от конца к началу клубка подводила жандармов все ближе и ближе к заграничной агентуре родимой полиции, возглавлявшейся в те поры все тем же Рачковским… Да к тому же в архиве самого департамента среди прочих иных бумаг, уличающих еврейский заговор, откопалась пространнейшая Записка, составленная по почину Рачковского в Париже с целью повлиять на молодого царя, однако отвергнутая тогдашним министром внутренних дел. Записку эту под заголовком «Тайна еврейства», сходственную с «Протоколами» почти как родительница с кровным чадом и в любом случае предварявшую их, министр Столыпин — тому министру дальний преемник — просмотрел внимательно, с карандашом в руке, и мнение предшественника полностью разделил. Согласился с выводами жандармских ищеек: поразившие его императорское величество «Протоколы», вне всяких сомнений, — подделка. Подлог.
А в итоге действительный статский советник Петр Иванович Рачковский со своими опасными шалостями как бы сам угодил под следствие. С высоты в пропасть… Тем паче его горемычность уже более не ограждала его. Правление Горемыкина продлилось всего‑то семьдесят два дня, да и Трепов, покровитель их с Петром Ивановичем общий, увы, порастерял свою силу, а вскоре и приказал долго жить…
Сменил Горемыкина в кресле председателя Совета Министров не кто иной, как Столыпин.
Когда о результатах предпринятых разысканий он осмелился всеподданнейше доложить, государь испытал сильное потрясение. Этим обманом будучи оскорблен в лучших чувствах, виду, впрочем, как обычно, не показал. Дабы обрести равновесие, отошел лишь по заведенной привычке к окну, забарабанил по стеклу пальцами, закрутил ус. Для посвященных это было недоброй приметой…
Затем взял со стола злополучный доклад, что дал повод к столь неожиданной и неприятной развязке, и на нем начертал собственною рукою: «Протоколы» изъять. Нельзя чистое дело делать грязными способами».
Замкнувшая царскую сентенцию жирная точка для действительного статского советника Рачковского означала одно: конец. Конец карьеры. Не очередную темную полосу, неизменно чреватую последующим просветлением, но отрешение от службы окончательное, вчистую.
…С высоты — в пропасть!
Наблюдательный глаз мог бы тут лишний раз разглядеть еще одно соответствие темной линии жизни изворотливого и циничного сыщика, этакого суфлера множества политических актов, так и не покинувшего до последнего занавеса своей будки, и ослепительно яркой — политика, государственного человека, солиста на исторической сцене. Долгие годы извивались их линии параллельно, лишь моментами соприкасаясь, и одна стала как бы тенью другой. Их карьеры, почти одновременно начавшись, почти одновременно обе и оборвались.
Петра Ивановича Рачковского — и графа Сергея Юльевича Витте…
(А злосчастные «Протоколы» значительное время спустя еще раз напомнили о себе Петру Ивановичу, когда дальний преемник его, очередной новый шеф толстокожих, как‑то вечером пригласил старика, чтобы посвятил его в затейливую историю. Петр Иванович не отказал, не скрыл, что его рук проделка, обещался генералу через несколько дней прийти, доложить в подробностях все, как было, вот только в деревню на денек съездит.
В тот денек, сам того не заметив, Сергей Юльевич Витте навсегда потерял свою тень. Потому как со всеми своими прегрешениями вместе Петр Иванович в тот несчастный денек из деревни своей прямиком отправился на суд Божий, не успев до конца поделиться богатым посюсторонним опытом…
Впрочем, опыт его, видимо, не вовсе пропал для любознательного полицейского генерала. Хотя, правда, в ином сюжете. В ту же осень тот пытался умыть руки при убийстве полицейским агентом–эсером Петра Аркадьевича Столыпина.
Ни при жизни не давал противникам спуску, не прощал ничего Петр Иванович, ни, сдается, и после смерти.
Но про это ему уже было невозможно узнать.)
11. Подручный тезка
По утрам секретарь редакции «Русского знамени» являлся на квартиру к патрону в собственном его доме в Измайловской роте, где помещалась редакция, со свежими материалами для газеты, а вечером приносил уже готовые к печати. Александра Ивановича Пруссакова Александру Ивановичу Дубровину отрекомендовал сам петербургский градоначальник, одно это сразу и, казалось бы, навсегда определило между ними доверительные отношения. Поэтому глава «Союза» и поручил полному своему тезке секретарство в редакции и допустил до участия в главном совете. В одночасье же выяснилось, что обязанности новобранца-«союзника» редакцией не ограничатся.
…Как‑то вечером, не затягивая, по обыкновению, газетных дел, Дубровин попросил Пруссакова:
— Не могли бы вы, дорогой Александр Иванович, исполнить важное поручение? Знаете этот белый дом в начале Каменноостровского проспекта, по правой стороне… особняк графа Витте? Надобно раздобыть подробный план дома.
Не требовалось семи пядей во лбу, чтобы понять нешуточность просьбы, когда простое упоминание этого имени приводит Дубровина в неистовство, и, лишь бы не произнести самому, называет он графа не иначе как Полусахалинским. Не бывало такой сходки в «Союзе», где бы Витте не поносили. Но на этот раз затевалось что‑то посерьезнее криков на митингах и трескотни в чайных…
Пруссаков не скрыл удивления:
— Для какой же именно цели нужен план, Александр Иванович?
— По желанию… — Александр Иванович–старший замялся и указал неопределенно куда‑то за окно, в небеса. — По желанию августейшей особы, — нашелся он наконец. — То, что высшая особа обращается к нам, большая для нас честь. Доверяет нам, а не правительству, понимаете!.. со Столыпиным во главе!..
— Доверяет, простите, в чем?
— У этого графа имеется компрометирующая переписка. Нужно его дом обыскать, чтобы изобличить его в двойственности и в предательстве!..
— Но где же его достать, этот план? — все еще недоумевал Александр Иванович–младший.
— А вот это уж ваша забота, голубчик… За доставление обещаю вам тысячу рублей!
Рассчитал верно, что подействует на тезку сильнее всяческих уговоров… Бессребреник вообще был бы белой вороной в «Союзе», Пруссаков же и в самом деле вечно нуждался.
Но на всякий случай добавил, как бы желая сбить цену или, может быть, опасаясь, чтобы не пришлось ее повышать:
— Вообще‑то у нас этот план уже есть… желательно для надежности сверить. При обыске надо лучше ориентироваться, да и занять, знаете ли, входы–выходы…
Все усилия приложил Пруссаков, но, увы, так и не заслужил этой тысячи, столь нелишней ему, семейному человеку. Несмотря на свои старания, с поручением справиться не сумел…
Разговор же с патроном в памяти сохранился.
И спустя какое‑то время вспомнился по, казалось бы, совсем постороннему поводу и который раз заставил вздыхать о своей неудаче.
Разбирая по секретарской обязанности дубровинские бумаги, в набросанном его рукою черновике натолкнулся на фамилию Витте. Натолкнулся, посмотрел повнимательнее и — глазам своим не поверил: речь шла о покушении на ненавистного графа как о факте, уже состоявшемся… Это явно выбивалось за рамки обычной среди «союзников» трескотни.
У него на сей раз хватило ума не выказывать излишнего любопытства. Про себя лишь подумал, что, возможно, оно даже к лучшему, что не удалось раздобыть тогда вожделенного плана.
Ну а мучиться над загадкой ему недолго пришлось.
Через несколько дней услыхал о бомбах, обнаруженных в доме на Каменноостровском.
А еще через день при очередном визите в дубровинскую квартиру застал там двоих добрых молодцев, которые громогласно упрекали патрона в жадности и что будто бы он их обсчитал.
— Как вы, так и мы, Александр Иваныч, — угрожающе наступал один. — А то пойдем к графу Витте и все расскажем!
— Да ты держал ли когда в руках три‑то тысячи?! — в свой черед возмутился Дубровин.
И, заметив вошедшего Пруссакова, повернулся к нему:
— Вот враги не дают мне покоя, эти левые, эти жиды, этот Витте! Шантажируют, что донесут, будто покушение наших рук дело, а я вместо денег им дал вот это!.. — И погрозил увесистым кулаком.
В раздражении захлопнув за теми двоими дверь, достал из кармана листок бумаги.
— Вот я приготовил заметку для ограждения от возможных нападок со стороны всякой сволочи, которая, конечно, сама все подстроила!
По–редакторски цепким взглядом Пруссаков тут же обнаружил в листке что‑то очень знакомое… трудно издали было разглядеть слова, но, всмотревшись, узнал: тот загадочный черновик!.. А когда Дубровин стал ему диктовать по листку, не осталось ни малейших сомнений. Однако же под диктовку записал до конца, до заключительного риторического вопроса: «Чего же хотят кровожадные безумцы… крови ради крови?!»
В ближайшем же номере «Русского знамени» заметка — без подписи — появилась под заголовком «Неудавшийся адский замысел».
Пруссаков же по заданию патрона незамедлительно отправился в Гельсингфорс сочинять оттуда корреспонденции против Витте, а в частности и о том, что это он сам подложил себе бомбы с той целью, чтобы напомнить совсем позабывшему его обществу о собственной важной персоне…
Подписывался, не без умысла (чем мы хуже вас), тоже графом: граф Беер…
И в финской газете, ухватив его мысль, поместили ехидный рисунок: излюбленный персонаж карикатур, неуклюжий и долговязый, собственноручно спускает бомбу в трубу своего дома.
12. Самим рук не марать
Несмотря на неудачу первой попытки с этими злополучными бомбами в дымоходах, не в одних только чайных предвкушали расправу над Витте и не только на митингах и толковищах — в окружении доктора Дубровина также. А вездесущий князь Мика Андроников, например, тот и вовсе от самого градоначальника петербургского эту новость принес на хвосте, о чем, кстати, счел обязанностью Сергея Юльевича предупредить.
Номер третий по секретному списку «сорока трех» наконец все же выпал Витте…
План притом наметили поистине хитроумный. Он навряд ли мог сам собой зародиться в прямолинейных мозгах; не иначе Петр Иванович Рачковский еще не в худшую свою пору подбросил подопечным дьявольскую идейку: самим рук не марать!..
…В бурном октябре девятьсот пятого рабочие Тильмансовского механического, что на Петергофском шоссе, выбрали слесаря Семена Петрова в Совет рабочих депутатов, и вместе с другими членами Совета он был по приказу правительства Витте 3 декабря арестован. А спустя приблизительно год вернулся тайком домой в Питер, поскольку из мест не столь отдаленных благополучно сбежал. Жил с матерью в деревне Волынкино, невдалеке от завода.
И вскорости нежданно явился к нему в гости приятель, прежде тоже работал у них на заводе. Явился, на радостях полез целоваться:
— Сенюха! Как здорово, что ты жив–здоров! Ну мы делов с тобой натворим теперь!..
Всю ночь до утра просидели, рассуждая о том о сем.
Из заводской среды разбитной кузнец Шурка Казанцев заметно собой выделялся, что, собственно, и привлекло к нему в свое время Семена. Понравилась и компания, куда Шурка его с собою привел. Даже не столько понравилась, сколько заинтересовала. Публика всякая, на гитарах играли, беседовали, винцо попивали… Отвлеченные материи занимали Семена, хоть толком и не учился, любил читать, а потом обсуждать прочитанное. Политики же там не касались.
В политику ударился позже и тогда услыхал про Казанцева говор, будто предал он партийный кружок. А кто считал, даже два кружка. Но к этому времени он с завода ушел, столкнулись нечаянно, гуляя в Зоологическом саду. В честь свиданьица Шурка угостил коньячком у буфета. А потом: у меня, Сенюха, к тебе предложение, давай, мол, займемся вместях организационным делом… Вспомнив слышанное про него, Семен от Шуркиного дела предпочел отбояриться.
Другой раз на улице встретились уже осенью, опять‑таки совершенно случайно. Семен не скрыл, что заседает в Совете. Шурка тут же попросил достать для него на заседание два билета. Пришлось объяснять, что у Семена на это нет права, надо обращаться в партийную организацию. Шурка стал настаивать, пока рукой не махнул: эх ты, а еще, мол, друг назывался…
И вдруг — как снег на голову после побега. И разговоры про всякое всю ночь напролет.
Между прочим:
— Ты, наверно, эсдек? Наша‑то партия погрознее… Мы — максималисты!
А поскольку Семен промычал что‑то неопределенное, взял быка за рога:
— Нам тут надо снять одного, ты как насчет этого?
— Это как же тебя понимать — «снять?»
Шурка было замялся:
— Ну… убрать… прикончить… не валяй дурака!
— А постановление партии у тебя есть? — неожиданно осведомился Семен.
На этом разговор оборвался.
Утром, из дому вышли, Шурка — хлоп на извозчика, что твой барин. И одет был как барин.
— Я ходить не привык!
Расплатился за Невской заставой, показавши толстый бумажник. Повел завтракать в ресторан…
Там вернулся к прерванному разговору:
— Нашел бы ты, Сенюха, помощника, только чтобы надежный. И исполнил бы дело… Я вижу, с деньгой‑то у тебя не того!
И снова потряс бумажником, расплачиваясь за обоих.
После Шуркиных настояний Семен пришел советоваться к другу–приятелю, безработному, как он сам, по соседству тоже жившему с матерью, только что не нелегалу.Зато знали про Васю–маленького, что перевозил оружие рабочим отрядам.
К Казанцеву поехали вместе, на Петербургскую сторону, тот где‑то возле часовни Спасителя обитал, и еще одного своего волынкинского с собой прихватили, Леху Степанова, портняжку.
Раз, другой побывали у Шурки, на третий тот им открыл, что партия постановила снять графа Витте… — всему вредит и предатель! Сговорились еще встретиться, обсудить все подробно. Но на тот раз Семен прийти к Шурке на Петербургскую уже не сумел.
По причине того, что за час до назначенного свидания его снова схватили…
В передаче с воли он нашел неожиданно в книжке между страниц записку от Шурки, тот обещал, что поможет Семену освободиться. А он уж всякое стал думать на Шурку, припомнились прежние про него толки… Уж не замешан ли, часом, приятель в его аресте?.. В камере сидели товарищи посознательнее, чем он. Когда им про Казанцева, и про арест свой перед самым свиданием, и про его обещание рассказал, они тут же обрисовали ему, какая за такие освобождения бывает расплата. Ответил он Шурке резко — и вскорости снова отправился в ссылку. На сей раз на Север.
Однако же и в Архангельской губернии задержался недолго… Без Шуркиной сомнительной помощи сумел вырваться оттуда и до Питера добрался, даром что в карманах гулял ветер. А уж Шуркин разбухший бумажник чуть ли не по ночам снился. Не выдержав искушения, решил он все‑таки с ним повидаться, отправился на Петербургскую сторону, но на той квартире его не застал. Единственно, что смог разузнать — у себя же в Волынкине, — что вроде бы Казанцев в Москве, а главное, по какому адресу его там искать: к нему будто бы уехал Вася–маленький.
На последние взял билет до Москвы. И по адресу обнаружил кузнечное заведение, хозяином которого оказался… Казанцев! Там, при кузнице прямо, жили несколько человек рабочих, Вася–маленький тоже.
Встретились, говоря просто, по–братски, но, перекинувшись парой–тройкой слов о себе, соскользнули к Казанцеву, в недоумении, откуда у него деньжищи. Вот и кузню завел. А спрашивается, для чего?
— Работы‑то почти нет, — рассказывал Вася Семену. — Зато стрельбой занимаемся…
— Это где? Прямо тут?
— Тут, а где же еще. Меряемся, кто метче.
— А на шум, — поинтересовался Семен, — не сбегаются?
— Бывает, и городовой заглянет. Так ему Шурка‑то поднесет, он еще и спасибо скажет…
— Н–да, дела…
Слово за слово выяснили, что и Вася кое в чем заподозрил Казанцева, запутывает он их в нехорошее что‑то. Во что именно, Вася покамест не знал, но от этого разговора и Семеновы подозрения укрепились.
Увидались они с Шуркой мельком, когда тот выезжал со двора в пролетке на рысаке. С ним сидел незнакомый господин.
— Это кто же такой важный с усами? — с любопытством спросил Семен.
Ему объяснили, что граф. Буксгевден.
Вечером Шурка прислал за Семеном, позвал к себе на квартиру.
Покуда малость ошеломленный Семен озирался по сторонам — квартира показалась роскошной, четыре комнаты с кухней, — хозяин ему говорил:
— Не удивляйся, Сенюха, что я с графом. Граф тоже максималист. И партия может предложить тебе дело…
И хотя в ответ Семен по привычке своей промычал нечленораздельное нечто, достал из стола деньги:
— В четверг с Васей–маленьким поедете в Питер, это вам на дорогу. Я тоже еду, только отдельно. Там встретимся, расскажу все подробно.
Понимал, гладкий черт, в каком Семен пиковом положении. Настороженности Семен, однако, не потерял, особенно как углядел в столе револьверы, в полуоткрытом ящике, откуда Шурка брал деньги. Револьверы и рядышком — значки с Георгием на коне.
Поверх же стола лежали газеты, головами к Семену; он, однако, названия, шевеля губами, и так разобрал: МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЧЕРНЫЙ ВОРОН. ВЕЧЕ.
Шустрый Шурка перехватил его взгляд.
— Нам случается прикидываться «черной сотней», как видишь.
Ночью в поезде, по дороге в Питер, на Семенов об этом рассказ Вася–маленький так отозвался:
— Неизвестно еще, кем он в самом‑то деле прикидывается — «черной сотней» или же красным максималистом!..
И поделился новыми своими наблюдениями за Шуркой.
— Мы проверим в Питере, верно, Семен? Если он нас морочит, я его…
Не докончив, Вася–маленький полоснул ладонью по горлу.
По уговору он должен был встречать Казанцева в Питере на вокзале, и, приехав, Шурка назначил свидание им обоим. Там, в условленном между ними месте, Семен его видел в последний раз. Конечно, тогда он еще не знал, что в последний… как и сам Шурка.
Место оказалось гостиницей, аккурат против дома Витте.
— Из окна отсюда и бросим бомбу, когда граф поедет… Толково придумано?! — Шурка не упустил случая прихвастнуть. — Вот и выполним постановление партии!
Семен с Васей не возражали, и назавтра, наутро, Шурка нм назначил новую встречу, чтобы ехать начинять бомбы.
— Ветку знаете, что идет от станции Ржевка?
— Ириновская? — уточнил Семен.
— Она самая. По ней и поедем…
Но на станцию они не пришли.
Накануне, после того как расстались, Семен проследил за Шуркой и заметил, как тот разговаривал с какими‑то темными типами. Шпики вроде, филеры? Он предложил Васе–маленькому не откладывая бежать, по части побегов был большой мастер. И обещал, что потом с товарищами раскроет Казанцева… Не тут‑то было. Вася–маленький заявил, что справится сам! Но на станцию Ржевка все‑таки опоздал… Поспешил к Казанцеву на квартиру, объяснил, что утром не нашел ни его, ни Семена и что тот, видать, просто струсил.
— И черт с ним, я один справлюсь! — успокоил Казанцева Вася.
На это ему Шурка ответил, что бомбы отвез и оставил в лесу, так что можно успеть и завтра приготовить, как надо…
Про это, а также и про дальнейшее все Семен потом прочитал в газете, когда Вася Федоров покаялся в том, что наделал. Иванов, о котором он там говорил как о подельщике о своем, никакой был, конечно, не Иванов, а Петров — он, Семен. Зачем его Вася перекрестил, не понять, когда Петровых у нас на Руси, должно, не менее, чем Ивановых… Сам, однако, из ссылки сбежав, называл себя вот именно так, Ивановым… может, Васе–маленькому говорил, а он и запомни…
13. Хорошо мозгуется в Биаррице
С тяжелым сердцем покидал на сей раз Россию Сергей Юльевич. Впрочем, он бы затруднился с ответом, если б его спросили, когда у него было на сердце легко. Ему бы радоваться, что судьба в который раз проявила благосклонность, уберегла, охранила от заранее обещанной смерти. Сверх того: готова была одарить острым чувством миновавшей угрозы, обновленным ощущением жизни. Понимал все умом, а душа подарка не принимала… Угнетенное состояние духа не оставляло его — а ведь это было так чуждо его натуре!..
Не с одним Сувориным попрощался Сергей Юльевич перед отъездом. И в конечном счете едва ли не любой разговор сам собою сводился к одному и тому же. К обсуждению слабосильного деспота. Представлялось, что он, почти по–детски резвясь, беспрерывно раскачивается на качелях. На одной стороне их — решительный Петр Аркадьевич Столыпин, на другой же — негодяй лейб–кабатчик Дубровин, которого чуть ли не лобызал.
Говорили с князем Святополк–Мирским, в свое время сменившим Плеве и принесшим, считалось, с собою весну, скоро, к несчастью, сгубленную кровью Девятого января. С той поры князь в отставке, ведет светскую жизнь, никакими политическими заботами не обременен.
Говорили о печальном, если не ужасном положении дел.
— Наши бедствия следуют из характера государя, — откровенно сетовал князь, — Как же можно ему верить, если завтра он отказывается от того, что одобряет сегодня?! Разве так спокойствие установить?!
Накануне разгона Думы, перед самым 3 июня, на Каменноостровский пожаловал барон Фредерикс. По своей ли воле посетил его министр двора или будучи послан свыше, Сергей Юльевич не знал, да и не стремился узнать. Но явился барон к нему за советом… Собственно говоря, их давно связывали приятельские отношения, так что в визите барона ничего из ряда вон не было. И все же, все же. Трудно было от того отрешиться, что перед тобой министр императорского двора…
— Сами видите, дорогой граф, что вокруг происходит ле бордель, — бывший командир конной гвардии рубил сплеча, — и, наверное, знаете, каким образом следовало бы поступить…
Как туг было не вспомнить, что в сферах после 17 октября взяла моду упорнейшая молва, будто бы Витте знает, как надо спасти Россию, но только не хочет этого делать!.. Для Сергея Юльевича такое суждение не составляло тогда секрета.
Теперь же он ответил усмешкой на лихую атаку барона:
— Вы мне льстите, мон шер… Но если всерьез, я действительно полагаю, каким образом следует поступить, тут вы правы. Но этот поступок требует громаднейшего терпения…
И он разъяснил барону, что имеет в виду.
А имел он в виду, что Думу надобно распустить, и затем распускать многократно, и снова каждый раз выбирать, обязательно по закону 17 октября, до тех пор, пока она не станет благоразумной…
Он вдруг ясно представил себе песчаный пляж в Биаррице, ту картину, которую вот–вот опять увидит после разлуки: океанские волны раз за разом перекатывают прибрежный песок и тем самым мало–помалу как бы очищают его.
— Между прочим, — сказал Сергей Юльевич, — так действовали в Японии после введения конституции.
— Но где же нам взять столько времени?! — воскликнул барон.
— В противном случае могу дать другую рекомендацию… Да боюсь, что напрасно, — махнул граф рукой. — Все равно вы исполнить ее не сумеете…
— Все‑таки скажите, Сергей Юльевич, — настоятельно попросил Фредерикс. — Божьей помощью, может быть, и сумеем…
Они сидели, откинувшись в креслах, в кабинете Сергея Юльевича, рядом со статуей покойного Александра III.
Витте обернулся к бронзовому императору и, указывая на него, патетически произнес:
— Воскресите его!!!
Он раздваивался и в этом. Едва ли покойный самодержец потерпел какие бы то ни было ограничения своей власти, своего самовластия… Не тот имел норов… А признанный конституционалист, того более — почитаемый первым из них, прародитель Манифеста 17 октября, не находил граф для него слов осуждения. Скорее напротив.
Противоречие это Сергею Юльевичу как раз только что пришлось растолковывать забегавшему с ним проститься одному из «лейб»: «Вот здесь, — указал на собственное сердце, — вот здесь я за старый порядок, но здесь, — ткнул в свой лоб, — я, конечно, стою за новое!..»
А Руманов ему ответил: «Вы, наверно, помните слова человека, понимавшего толк во власти: у государственного деятеля сердце должно находиться в голове! Так сказал Наполеон Бонапарт…»
Но Сергея Юльевича и такой авторитет не сразил: «Так‑то так, да я на это вот что скажу. Возьмем винную монополию, для примера. Или золотую валюту. Послушайте сюда, неужели вы думаете, или какой‑то парламент мог пойти на эти реформы? — «Одессист» время от времени просыпался в нем. — На реформы, ударяющие частные интересы? Ни за какие коврижки! Только самодержавный властитель!..»
И еще он припомнил тут слова одного француза, что у них во Франции такую реформу почти немыслимо провести, поскольку при выборе депутатов в палаты первую роль играют содержатели кабаков во всех видах…
Приблизительно то же самое, едва ли не слово в слово, он теперь залпом выпустил в министра–барона. Не отказал лишь себе в удовольствии ужесточить итог:
- …Только сильный самодержавный властитель!..
Говорил и в то же время с ясностью сознавал, что причиной разгона Думы, произведенного Столыпиным государственного переворота, настоящей причиной, а не предлогом, послужил не заговор вовсе ее членов социал–демократов, к тому же сомнительный, и весьма, но в первую голову неугодное, как всегда, камарилье обсуждение в Думе крестьянской проблемы. Вот уж это на деле грозило нарушить частные, а точнее, частновладельческие интересы!.. И Вторая Дума — все по той же причине! — последовала за Первой. Разделила ее плачевную участь…
Пораскинуть мозгами над создавшимся положением, взвесить, оценить обстановку, спокойно обдумать ситуацию, вместившую в себя такое количество разнородных по первому взгляду событий — и столыпинский переворот, и покушение на него самого, и не внушающее доверия следствие по этому делу, и не менее сомнительный думский заговор, — все это, вместе взятое, вопреки собственным правилам Сергей Юльевич порешил отложить на дачное лето. До безмятежного в летнюю пору, идиллического Биаррица… Самый воздух благодатного места, как всегда, поспособствует приведению мыслей в порядок. В чем, в чем, а уж в этом‑то не испытывал Сергей Юльевич ни малейших сомнений.
14. Исчезнувший Казанцев
Казанцев частенько курсировал между Москвою и Питером. Иной раз отсутствовал всего несколько дней, порой исчезал надолго. О занятиях тамошних своей Евдокии рассказывал скупо, от ее же вопросов отделывался коротким: дела были. Однако возвращаться стал при деньгах. Когда познакомились, в карманах сквозило, и жилье снимал какую‑то конуру. А приехавши под масленицу седьмого года, заговорил, что пора бы нанять квартиру… И взаправду нанял, четыре комнаты на Грузинах. Дусе радоваться бы таким поразительным переменам, да она и радовалась, натурально, когда бы не одно обстоятельство, удивлявшее еще более. Шура снял квартиру не на себя, на Казанцева, а на какого‑то Казимира Олейко, из поляков, что ли. Даже паспорт себе выправил на такое имя!.. Дусе же, чтобы не привязывалась, объяснил, что так нужно при его новой должности, не по своему паспорту проживать. Потому как должность его — по сыску и по слежке за революционерами. Он и сам себя стал за таковского выдавать: Дуся слышала его разговоры с молодыми парнями, которых он однажды — ей запомнилось, на первой неделе поста, — привез с собою из Питера и у них в четвертой комнате поселил. Правда, парни, слава Богу, вскорости переехали на квартиру при кузнице, которую Шура нанял на Пресне.
В конце мая он снова собрался в свой Питер. Уезжая, не всегда говорил, когда думает возвращаться. Но на этот раз простился всего‑то денька так на три: не скучай, Дуська! И в то же время предупредил, что если вдруг задержится, паче чаяния, и к июню не будет, то чтобы его кузнечное заведение перевезли без него в дом графа Буксгевдена в Марьину рощу. Поручил это одному из питерских молодцев. И еще ему наказал отнести тому графу на Никитский бульвар какую‑то большую коробку. Граф за это дал денег червонец и еще тридцать шесть целковых передать Евдокии, заплатить за квартиру.
Сказать правду, она и сама во время отлучек Шуры получала от графа на пропитание. По обыкновению же, Шура приносил домой деньги к первому числу каждый месяц, рублей двести, а бывало и триста, жалованья от графа, который взял Шуру к себе управляющим домом.
Поскольку, однако, на этот раз ни к первому, ни к третьему он не вернулся, Евдокия собралась отправиться к графу. Пошли с питерцем этим, Лехой; тот хотел расспросить, как ему быть с перевозкой кузни.
Граф Александр Анатольевич, показалось, был заметно встревожен. Ни с того ни с сего прочитал им заметку в газете про убийство молодого человека на окраине Питера… возле трупа валялись железные банки от взрывчатки и с запальным шнуром. Евдокия вся обомлела, вдруг почуяв, к чему граф клонит…
А он Лехе сказал, чтобы съездил, разузнал там на месте… И на дорогу дал денег. Ну и ее не обидел деньгами, известно.
До отъезда Леха старался уговорить обеспокоенную Евдокию, мало ли находят, мол, убиенных, побожился все там в Питере выведать и в адресном столе навести справки.
— По обеим фамилиям! — перестав от него таиться, наказывала ему Евдокия. — Казанцева и Казимира Олейко! Запомнил, Леха?!
Запомнить‑то Леха запомнил, но когда возвратился, сказал, что обыскался меблирашек этих, какие ему указали на углу Невского проспекта и Литейного; как сельдей их в угловом доме набито: Лебедевой, Маковской, Серышевой, Штробница и Бог весть кого еще.
— Это ладно, — отмахнулась от него Евдокия. — Ты скажи, ты нашел?!
Он кивнул; да, он все же нашел те, в каких останавливался Александр, и дознался, что тот как ушел из своих меблированных комнат мая двадцать седьмого числа утром рано, так больше и не показывался с тех пор. И Леха передал Евдокии из его комнаты вещи, чемодан и трость, которые взял под расписку, подписавшись именем Иванова и заплативши перед этим за комнату… И еще там ему рассказали, будто кто‑то, из себя, по описанию, Сильно с Васей–маленьким схожий, попытался было уже их получить того самого двадцать седьмого числа под вечер, вроде бы по поручению постояльца… Да ему не отдали.
Тут уж Евдокия кинулась со всех ног на Никитский бульвар к графу, забила тревогу, чтобы заявить в полицию или куда следует.
— Вас же, батюшка Александр Анатольевич, скорее послушают… Ну а если вам не по чину, я сама побегу, куда надо, вы только, пожалуйста, подскажите мне, дурехе, куда!..
Граф, понятно, как мог пытался женщину успокоить, убеждал, что еще ничего до конца не известно, предложил сумму денег и в конце концов, хоть и с видимой неохотой, пообещал ее просьбу исполнить.
И действительно, в половине июня прокурор Московского окружного суда получил заслуживающие, на его взгляд, внимания сведения об имевшем место в Петербурге убийстве. О чем и счел необходимым поставить в известность столичных коллег. Ибо, по его суждению, появились некоторые основания предполагать, что убит был некий Александр Еремеев Казанцев, проживавший в Москве под именем и по паспорту Казимира Олейко.
15. Два Казимира Олейко
Два обывателя проживали в начале девятьсот седьмого года в Москве под весьма редким, прямо сказать, по здешним широтам именем.
Из них первый еще прошлой весной лишился законного своего паспорта. Присел в Сокольниках на скамейку, пригрелся на солнышке, положил рядом с собою пальто, а в нем, в кармане, между прочим, и паспорт. А потом, отойдя, паспорта в кармане не обнаружил, хотя вроде бы близко и не было никого. Однако же, воротясь к злополучной скамейке, ничего ни на ней, ни возле нее не нашел… Пришлось после этого Казимиру Олейко–первому, не подозревавшему, впрочем, что он не единственный, подавать заявление о пропаже в полицейскую часть.
Без каких‑либо проволочек и осложнений скоро ему прислали из любезного Царства Польского абсолютно новенький паспорт.
Казимир же Олейко–второй в феврале поселился в доме Добролюбова на Большой Грузинской улице под номером 36 в квартире из четырех комнат, а затем еще снял неподалеку, на Большой Пресне, в доме Водо, кузнечное заведение с квартирой для служащих.
Если бы Казимиру–первому по случайности когда‑нибудь довелось увидать документ Казимира–второго, он, конечно, без всяких сомнений признал бы в нем тотчас свой потерянный — либо украденный — старый паспорт. Но такой случайности, разумеется, произойти не могло.
Запутанную биографию старого паспорта Казимира Олейко восстановило лишь расследование таинственного убийства Александра Казанцева.
Уже после получения Казимиром–первым нового документа полицейское дело о пропаже старого было передано в соответствии с правилами — купно с паспортом, который все ж таки в конце концов каким‑то образом отыскался, — из участка в охранное отделение, где его, как положено, списали в архив. И никто никогда бы в это плевое дело не заглянул, если бы не сказанное убийство. А тогда, из архива извлекши, в него заглянули наметанным глазом. И нежданно (а быть может, как раз и жданно) открылось, что все бумаги в деле аккуратно, с дотошностью канцелярской подшиты, за единственным исключением: нету паспорта самого!.. Хотя в протоколе о передаче скучного дела из участка в охранку он указан и, как отмечено, «препровожден, вследствие выправления Казимиру Олейко нового паспорта»…
Ну а как он к Шурке оттуда попал… об этом приходилось только гадать. Разгадка в общем‑то была запрятана не так уж глубоко, но что до подробностей, то их можно разве вообразить… как без лишнего шума изъяли документ из архивного дела по приказу захудалого полицейского чина, а затем передали агенту из рук в руки, да так, чтобы свидетелей не осталось…
Зато до чего же удобно жилось с ним Шурке Казанцеву! Кому надо, внушал, что чужая фамилия позволяет вернее выслеживать разных смутьянов; кому надо, пускал пыль в глаза, что партия требует от максималиста прикрываться чужим именем для конспирации. И двойная такая, а то и тройная игра как нельзя лучше пришлась по сердцу Шурке с его авантюрным душком.
А узнать, что полицейское следствие как бы против собственной воли установило, каково в действительности происхождение Казимира Олейко–второго, — Шурке Казанцеву так в жизни и не довелось.
16. Петербург из Биаррица
В субботу под вечер «старый железнодорожник» сел в спальный вагон скорого поезда на парижском вокзале Монпарнас и, благополучно проспав Орлеан и Тур, Ангулем и Бордо (разумеется, до мелочей изучивши весь этот маршрут), утречком в воскресенье уже сошел на станции, от городка километрах в трех. Не прошло получаса, как он обнимал свою Матильду Ивановну и внука, полной грудью вдыхая бодрящий воздух.
С появлением внука семейство Сергея Юльевича стало проводить здесь каждое лето. И вилла, в которой они поселились на живописной главной улице городка со звучным названием рю де Франс, скоро получила известность в округе как вилла Нарышкин. Дочь Вера с мужем Нарышкиным, обитавшие постоянно в Брюсселе — Кирилл служил там в российской миссии, — тоже частенько наведывались в Биарриц…
Французы давно оценили курортное местечко в Нижних Пиренеях на берегу Бискайского залива. Здесь не было, разумеется, блеска и великолепия Ниццы и всего Лазурного побережья, но это искупалось иными достоинствами. Начиная с императрицы Евгении, супруги Наполеона III, многие отдавали предпочтение Биаррицу. Русская публика тоже облюбовала его пляжи, воздух, природу… Любителей острых ощущений вводило в соблазн казино, азартная Матильда Ивановна порой тоже была не прочь туда заглянуть. В игорных комнатах — бакара и маскотт, род рулетки. Танцевальные вечера. Изредка концерты заезжих артистов. И до Байонны с ее развлечениями рукой подать… Жуиры, как правило, стекались в Биарриц ранней осенью, так что сентябрь — октябрь, до самого празднества основных местных жителей басков, почитали здесь русским сезоном. Даже церковь построили на щедрые русские деньги, прелестную, православную. А в летнюю пору здесь было сонно, спокойно, тихо, жару смиряли дожди и морские ветры.
После лихорадочного Петербурга последних месяцев, со всеми его встрясками, судорожными передрягами, туманами, насморком и моросящим дождем, одно это уже благодатно действовало, как лекарство. А к тому еще утренние морские купания, Гран–пляж на северной стороне, спускаясь к которому по извилистым аллеям смакуешь душистый настой сосновой хвои и цветников…
Мальчишка возится не песчаной отмели под надзором Матильды Ивановны. Здесь море почти всегда неспокойно, и баски–беньеры, купальщики, за небольшую плату оберегают барахтающихся в волнах клиентов. Кто предпочитает тихую воду, тому лучше пройтись на юг вдоль кромки ее под нависшими над головой скалами до Вье–Пера. Там залив глубже и нет волны. А крутой берег — Берег Басков — уходит вдаль, в Пиренеи, до самой Испании…
Словом, в полном равновесии духа, восстановленном уже через несколько дней по приезде, Витте смог почти что бесстрастно оценивать российскую обстановку. Вопреки видимой, в особенности вблизи, разнородности, отсюда, издалека, в череде происходящих событий, как ни странно, яснее обнаруживались подспудные связи.
Впрочем, и прежде утверждал не колеблясь: роспуск Второй Думы и последовавший переворот имеют целью получить наконец послушную Третью. Достаточно ознакомиться с новым выборным положением. На четыреххвостке, оглашенной после 17 октября, — всеобщее, прямое, равное, тайное голосование — оно ставило крест. Какое уж тут народное представительство, когда единственный голос помещика равен чуть не тремстам голосов крестьян и пяти с лишним сотням — рабочих… Одно это придавало Думе позу «Чего изволите?»! Голос масс разве мог быть в такой Думе услышан!..
Так вот, чтобы общество восприняло возврат к самовластию как насущную необходимость, требовались предварительные события, которых в реальности не происходило.
Волны смуты, революции, противоборства усмирило не только оружие, полагал Сергей Юльевич. Не одна винтовка–трехлинейка образца 1891 года. Но, в не меньшей степени, честная четыреххвостка образца 1905–го… Ну а волны если где еще и бурлили, то в законном парламентском русле… Власть надумала это русло перегородить, и, пожалуйста, вот вам заговор. Поужаснее, пострашнее! В результате — правительственное сообщение: о преступных сообществах, посягнувших на жизнь царя!.. и великого князя главнокомандующего!.. и Столыпина тоже!.. А вослед и другое: о раскрытии замысла членов Думы социал–демократов ниспровергнуть существующий государственный строй!! «Если Бога бы не было, его следовало выдумать!..»
В умиротворяющем своем далеке Сергей Юльевич лишний раз утверждался в справедливости собственных выводов: Столыпин воспользовался довольно‑таки туманными желаниями этих эсдеков, чтобы с помощью опытных поваров из Министерства внутренних дел обратить эти желания в умысел. Произвести тем самым на общество впечатление грозящей опасности. Как следует перепугать! Чтобы оно, наконец, безропотно переварило приготовленную ему пищу…
Как ни странно на первый взгляд, куда более скромное блюдо, а именно покушение на самого Сергея Юльевича, по его сведениям, входило в то же меню. И готовилось теми же самыми поварами. Правда, данные, какими он располагал, большей частью были отрывочны, как ни старался хотя бы в копиях раздобыть документы неповоротливого следствия, или, вернее сказать, следствий, — ведь попытка взорвать его дом в январе, убийство Казанцева и подготовка к майскому покушению выяснялись разными следователями. Следователи‑то разные, расторопность их одинакова… Из того, что все‑таки удалось разузнать, по крохам, по зернышку выклевывая изо всех кормушек, — где правдой, где по знакомству, а когда и по–российски за мзду, — возникала при всей мозаичности впечатляющая картина. Черносотенец, агент охранного отделения, маскируясь под социалиста–анархиста, готовил убийство руками всамделишных социалистов–анархистов. Ну, казалось бы, много ли значила опальная персона графа Витте по сравнению с самим государем или даже великим князем?.. Но нет! Коварство замысла в том состояло, чтобы показать обществу — а оно, увидев, откуда ему грозит наибольшая нынче опасность, ужаснулось бы накануне преднамеренного переворота. Если уж отца конституции не пощадили сии кровожадные головорезы, то чего ожидать другим… Ergo: пока не поздно, пора немедленно наводить порядок!.. Твердой рукою!
Так, похоже, все увязывалось в тугой узел.
И одновременно на расстоянии, издалека, когда глаза не засыпает песчинками мелочей, явственнее виделась Сергею Юльевичу показавшаяся поначалу даже симпатичной столыпинская фигура.
17. Истинно русский граф Буксгевден
Между тем труп, найденный в лесочке у станции Ржевка, очень долго лежал неопознанным, хотя лицо убитого молодого человека вовсе не было обезображено до неузнаваемости.
В официальном протоколе значилось, будто «никаких данных, кои могли бы послужить указанием к обнаружению личности убитого, добыто не было», хотя и предъявляли его для опознания чуть ли не пяти тысячам человек… Не надоумила полицейских прозорливцев и найденная в кармане убитого записка с телефонными номерами, которую они тщательно переписали в свой протокол. Номера, к примеру, были такие: 1-28 — генер. губер.; 133-27 — Климович; 31-40 — Гофштэтер… Из них первый номер в пояснениях не нуждался, а принадлежность второго и третьего нетрудно было проверить, заглянувши в московскую телефонную книгу. Тогда, возможно, открылось бы, что убитый, по меньшей мере, вступал в разговоры с начальником охранного отделения и с чиновником Министерства двора, известным своими связями особого толка. (Последние, впрочем, в телефонной книге не отмечались.)
Однако не надоумила, не проверили, не открылось… Все это с трудом поддавалось объяснению, если бы не одно очевидное обстоятельство. Полицейские власти явно не хотели поднимать шума. Только это одно позволяло объяснить их поразительную недогадливость. Надо думать, у них на то имелись причины. Слишком много нежелательных для полиции фактов могло бы открыться какому‑нибудь чересчур дотошному следователю. Ну а так — не опознан, втихомолку похоронили, кого — неизвестно; все свои неприятные тайны унес, как говорится, с собой навсегда.
И по тем же или, по крайней мере, сходным причинам предпочел бы избежать ненужного шума граф Александр Анатольевич Буксгевден, чиновник по особым поручениям при московском генерал–губернаторе. Происходил граф из рода, когда‑то пришедшего с крестоносцами в Лифляндию. Его дальний предок был основателем Риги, немало родни, баронов и графов Буксгевденов, служило по разным ведомствам в Петербурге; благодаря одному из них породнились, через жену Петра Аркадьевича, со Столыпиными… Особо почитался граф Федор Федорович, фаворит Павла I, тогдашний петербургский генерал–губернатор, а позднее присоединитель Финляндии… Что до самого Александра Анатольевича, то он казался личностью малопримечательной. Так, во всяком случае, отозвался о нем прежний его патрон Дубасов, отвечая на расспросы Сергея Юльевича, впервые услыхавшего о московском графе в связи со всем этим следствием. Да и достатком сей Буксгевден похвастать не мог. Вечно был опутан долгами. Из квартиры на Новинском бульваре графа попросту выселили по причине неуплаты… Но с тех пор, после неприятности этой, минул всего год, а граф занял квартиру куда дороже на Никитском бульваре и завел прислуги семь человек. А когда случилось у него прибавление семейства — и какое: графиня преподнесла графу двойню, — восприемниками крестными у двойняшек согласились быть и супруги Климовичи, и сменивший Дубасова генерал–губернатор его высокопревосходительство Сергей Константинович Гершельман, и даже ее императорское высочество великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова убиенного великого князя Сергея Александровича, родная сестра царицы… Вот вам и неприметный чиновник! Достаточно было сделаться участником монархического движения, ветвившегося по Москве, чтобы оказаться тем самым под покровительством генерал–губернатора, весьма благоволившего к хоругвеносцам и им подобным… Того более, стал доверенным человеком при сношениях генерал–губернатора с начальством охранки, благодаря тому что доставлял всевозможные слухи о готовящихся выступлениях — преступлениях! — революционеров. В свой черед, как особо доверенному, ему препровождались оттуда разрешения разным лицам на право ношения револьверов. Посещал генерала Климовича запросто, сдружились домами, кумовьями стали с Евгением Константиновичем и его супругой. Для начальника охранной полиции, само собой, не составляло секрета, что у кума Александра Анатольевича под началом имеется частная, а вернее, неофициальная, охранительная дружина, которая берет на себя заботу о различных видных особах как из правительственных сфер, так и «Союза русского народа»; кстати, не единственная такая. Ведь в Москве еще в пятом году в ноябре, до восстания, появился отдел борьбы с анархией и революцией… Доверялись куму Александру Анатольевичу и куда более деликатные, нежели простая охрана, вещи. Было бы большой наивностью полагать, будто графский подручный по собственному своеволию затевал снятие пресловутого Иоллоса… И не только московский Буксгевден и петербургский доктор Дубровин при подобных действиях присутствовали за сценой. Телефон Климовича оказался в кармане Казанцева, надо думать, отнюдь не случайно…
Познакомился Шурка Казанцев с графом на собрании монархической партии минувшей зимой и сумел‑таки произвести необходимое впечатление. Это было в его манере. Порассказал о себе, и с избытком. О том, что для содействия власти вступает в революционные партии и вот–вот собирается в Питере раскрыть один заговор… Граф не захотел упустить столь деятельного помощника, стал и сам давать ему поручения подобного рода. И Казанцев не подводил, приносил весьма ценные сведения, каковыми граф затем усердно снабжал охранное отделение. И не только в Москве, в Петербурге также! Казанцев же в свой черед получал от графа рубликов по тридцать, а то и по сто на расходы либо в награду… Да и вообще сделался у графа, можно сказать, своим человеком, особенно после того, как обнаружил подпольный склад бомб. Петербургские связи графа за этот год упрочились, как никогда прежде. Довольно того, что, наезжая в столицу, теперь заглядывал обязательно к полковнику Герасимову Александру Васильевичу на Петербургскую сторону в охранное отделение, и градоначальник Лауниц Владимир Федорович[51] его почти как приятеля принимал… Кстати, именно Лаунииу обязан был петербургский «Союз русского народа» своим расцветом. Градоначальник не только вступил в него, но взял под покровительство, помог боевые дружины создать и снабдить их оружием. Вечерами передняя его большой квартиры на Гороховой, 2, полна была дружинников–боевиков. Он даже отказывался от полицейской охраны.
— Меня охраняют мои русские люди, — гордился перед графом Александром Анатольевичем, — настоящие русские люди, связанные с простым народом, хорошо знающие его настроения, думы, желания. Беда, что мы с ними мало считаемся, а они все знают лучше нас!..
Так высказывался о русских людях Буксгевдену (и разумеется, не ему одному) фон дер Лауниц, понимая, что тот в Москве передаст его слова Гершельману.
Александр Анатольевич знал, конечно, что питерский градоначальник далеко не единственный покровитель дубровинского «Союза». Однако в сближении Александра Анатольевича с доктором Дубровиным Лауниц сыграл немаловажную роль. Это он фактически благословил их совместные действия и по мере сил прикрывал их, начиная с убийства Герценштейна… Не в том ли заключалась причина его собственной гибели совсем недолго спустя, даром что, говорили, градоначальник стал носить панцирь не хуже боевика… От пули не уберег ни панцирь, ни «русские люди». Случилось это еще в правление Витте, и кое‑кто испуганно утверждал, что тут без его злодейства не обошлось…
Судебные следователи не тревожили ни Александра Ивановича Дубровина, ни графа Александра Анатольевича. Один раз, правда, вынуждены были допросить его как свидетеля по делу об убийстве Казанцева, тут уж просто некуда было деться… Высокопоставленные заступники, к счастью, еще оставались. И столичные связи Буксгевдена не оборвались после гибели Лауница. Равно как и московские связи Дубровина.
Как‑то раз они встретились на завтраке у градоначальника московского, Рейнбота. Гостей было много, однако это не помешало Дубровину вести себя совершенно свободно, прилюдно хвастаться, что имеет в Петербурге два склада оружия, о которых полиция знает, и к тому еще третий, которого полиции ни за что не найти. Разошедшись, еще объявил, что в его власти устраивать погромы! Нажмет, мол, одну кнопочку— погром в Киеве, нажмет другую — погром в Одессе…
Многие «союзники» утверждали — не громко, конечно, а перешёптываясь между собой, но до Александра Анатольевича докатилось, — что доктор, в особенности после царской к нему обращенной депеши, совсем закусил удила. Но на себе Буксгевден почему‑то этого не ощущал.
Так или иначе, в день назначенного и, увы, несостоявшегося взрыва в доме на Каменноостровском, 5, граф Александр Анатольевич изволили пребывать в Петербурге.
18. В Биаррице о Столыпине
Саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин занял пост министра внутренних дел в правительстве Горемыкина, сменившего Витте накануне открытия Думы. Она не пробурлила и трех месяцев, и на другой же день после ее разгона в кресло Горемыкина был усажен Столыпин. Сергей Юльевич публично высказывал свое этому одобрение, поскольку, со слов знакомых, почитал его за человека порядочного, либеральных воззрений. Все же, положа руку на сердце, испытывал‑таки чувство, близкое к ревности… Во власть опять не его, не графа Витте, призвали. Он ощущал себя наподобие генерала резерва, в постоянной готовности к спасению России — как было в Портсмуте или перед 17 октября… Только мало кому признался бы в этом.
Оратор школы русских губернских и земских собраний, новый первый министр обещал улучшить положение крестьян и инородцев, и полную веротерпимость, и расширение образования… Но — судите не по словам, а по делам его!.. С каждым месяцем Сергей Юльевич разочаровывался все более. Дела и слова никак не сходились, либерализм выветривался и на глазах таял. Говорит либеральные речи и, по наблюдению Сергея Юльевича, привечает «Союз русского народа»… Оседлав Манифест 17 октября, честный и решительный всадник погнал коня по обочине, далеко от законов, точно законы — это одна дорога, а исполнение их — другая, так что можно объезжать их по собственному усмотрению. На бумаге они стали существовать сами по себе, а жизнь пошла сама по себе, при нем так повелось…
Сергей Юльевич находился в Париже, когда террористы, именующие себя максималистами, обрядившись в полицейскую форму, взорвали дачу Столыпина на Аптекарском острове. Произошло это спустя всего месяц после возведения его в премьеры. Пострадали неповинные люди, среди них его бедные дети, сын и особенно дочь. Узнав про это, Сергей Юльевич тотчас отправил Петру Аркадьевичу сочувственную телеграмму… Покушение очень сильно повлияло на Столыпина, это многие отмечали. Знаменитые «столыпинские галстуки» и «столыпинские вагоны» появились, должно быть, не без воздействия этого. Сергею Юльевичу верно передавали, будто и сам он сего не оспаривал. Когда его упрекали в перемене образа мыслей, с какими приехал из Саратова в Петербург, признавался близким, что бомба на Аптекарском острове сделала его другим человеком. По–человечески это можно было понять, простить даже… но было ли такое позволительно государственному деятелю?!
Сергей Юльевич судил других строго, без снисхождения. Трудно было ему согласиться и с программой Столыпина по крестьянскому переустройству, этому капитальнейшему делу в крестьянской стране, начатому еще Александром II Освободителем и было продолженному Особым — виттевским— совещанием незадолго до несчастной войны, но, к сожалению, на полдороге не по своей воле оставленному… Доброжелатели, все эти патриоты собственных карманов, из своих, кстати ложно понятых, помещичьих интересов не позволили ему достичь цели, и кто лучше Сергея Юльевича представлял себе перипетии тогдашних баталий!.. Позднее, в бытность премьером, он попытался к этому делу вернуться, предложив подробнейшую программу дальнейших действий, но на практике в отведенный ему краткий срок ничего не успел. Теперь же по его, Витте, следам за это с присущей ему энергией взялся Столыпин, используя труды виттевского совещания и, на взгляд Сергея Юльевича, порядком коверкая их. Введением принудительного, не по добровольному согласию, выхода крестьян из общины принципиально перекроил весь проект, задался целью путем разрушения, уничтожения общины насильственно насаждатьчастную собственность (зато и помещичьи земли умно предусматривая не трогать)…
Логику его действий Сергей Юльевич так толковал. Чем больше станет в стране частных собственников, тем больше народу будет заинтересовано в защите собственности и, стало быть, в спокойствии. Соображение, на оценку Сергея Юльевича, полицейское. И притом, заметьте, ни малейших поползновений к уравнению в гражданских правах!.. В итоге спешная и необдуманная реформа не к успокоению грозила подвинуть, а к хаосу, к нарождению из крестьян пролетариев числом миллионы и миллионы… Полицейская голова, по всему судя, не в состоянии была такое предположить…
Не подобное ли оригинальное мыслительное устройство, заподозрил Сергей Юльевич, побудило в свое время саратовского губернатора ничтоже сумняшеся, со свойственной ему отвагой принять министерство с делами высшей полиции, от чего сам Сергей Юльевич, возглавив Совет Министров, наотрёз отказался?.. Он тогда ведь во всеуслышание заявлял, что не может занимать сей пост именно ввиду незнакомства с секретною полицейскою службой!.. Ах, Сергей Юльевич, Сергей Юльевич! Заявлять‑то вы заявляли, нет спору, только некому было вам в далеке вашем европейском напомнить (да едва ли кто б и решился из знавших… разумеется, кроме вас самого), как стремились к сему портфелю еще во времена Горемыкина, Плеве, Святополк–Мирского, наконец… Или впрямь запамятовали, ваше сиятельство?!
Нет, пожалуй, не память в данном случае его подвела, вообще он не жаловался на память. Не сумел Сергей Юльевич подавить обиду, досадуя, что Столыпину удалось то, что так долго не удавалось ему самому и на что, в конце концов, в бурное время недостало у него безрассудной отваги…
Но что верно, то верно. Возглавляемая первым министром полиция чуть ли не рядом усаживается в высокое кресло, подминая под себя даже судебную власть. Что Сергей Юльевич ныне вынужден познавать на собственной шкуре, столкнувшись со следствием волей–неволей. Дело о покушении прекращено «по причине смерти одного обвиняемого и неразыскания других»! Убийство же просто попытались замять. Да как на грех убийца сам объявился. Пришлось‑таки судебно–полицейской улите трогаться с места… едет… Когда‑то будет?!
В один прекрасный, как, впрочем, и большинство других в Биаррице, день, на пляже, на северном, где песок и волны, к Сергею Юльевичу неожиданно подошел (а точнее, колобком подкатился) один из его «лейб» — Руманов, из Питера прямо. Подобные неожиданности здесь случались не так уж и редко; эта, пожалуй, была из приятных.
Руманов застал его полулежащим в шезлонге за чтением родимого румановского «Русского слова».
— Как поживаете, Сергей Юльевич, как здоровье? Я вижу, не забываете нас, грешных!
— Что вы, что вы! Жду от вас питерских новостей!
Он попытался из шезлонга подняться, но Колобок его удержал:
— Так вы же их знаете из газет!
— Это верно, на третий, на четвертый день узнаю…
Своей привычке Сергей Юльевич не изменял, где бы ни находился, газеты исправно пересылали ему.
- …Да кто лучше вашего брата знает, что жизнь всегда шире газет…
— На это нечего возразить. Тем более щель между ними растет и растет… То ли ширится жизнь, то ли зажимают печать.
— А на ваш взгляд, что именно происходит?
— Петр Аркадьич, они на глазах свирепеют…
Вставлять между прочим громкие имена, словно речь о добрых знакомых, в этом был журналистский шик, Сергей Юльевич прощал своим «лейбам» безобидную слабость. Тем паче так вот язвительно сдобренную этим ядовитым «они».
— От них все бабье в восторге, — откликнулся он вполне в тон, прозрачно намекая на дворцовую камарилью, — они и держатся в юбках! — И довольно похоже передразнил (газетчик догадался кого): — «Они замирили… они успокоили!..»
— На самом‑то деле и в нынешний год что ни неделя, то выстрелы. Или взрывы. Слава Богу, не все достигают цели… Бог спас государя, великого князя, Столыпина, наконец, но несколько губернаторов убиты — в Александрополе, Пятигорске, Пензе, и начальники тюрем, а уж офицеров и полицейских трудно счесть… Но печатать про это ни–ни! И о многом другом тоже… Никакой отсебятины, господа!..
— Знаете ли, мон шер, перед самым отъездом я заглянул к Коковцову на Елагин остров, на дачу, — в свою очередь пустился откровенничать Сергей Юльевич. — Он как раз разговаривал по телефону о вчерашнем заседании Совета Министров и, окончив, объяснил мне, что Петр Аркадьич находит законы о печати, в мое время изданные, чересчур либеральными, требующими изменений. И предложил предоставить губернаторам и градоначальникам штрафовать газеты по усмотрению…
— Не понравится какая статейка, тотчас высший чин вызывает градоначальника, и редактору — штраф, — поддакнул Руманов, — а то и упечь могут!., даже такса установилась. Не желаешь платить пять сотен, садись‑ка на месяц. За тысячу — на полтора… А Худекова из «Петербургской газеты» за статью о заговоре на государя на три тысячи наказали, а не заплатит — на три месяца пожалте в кутузку! И подобные газетные новости — что ни день… Не поверите, князь Ухтомский попал[52]!
— А вот я, если помните, начал с того, что уже назавтра после 17 октября собрал к себе петербургских редакторов, и тогдашние мои пожелания показались многим стеснительны! Ну а нынче‑то, полагаю, о них как об идеале вздыхаете, при действительном произволе столыпинских распоряжений!
— Кое для кого делаются исключения, — не желал остановиться Руманов. — Вам любезный Дубровин пример. Привлекли сего доктора за погромные публикации особой пахучести— через пять дней прекратили дело! Первый случай такой расторопности…
Самодержавный, полицейский и политиканствующий, сановный, полный нечистоты Петербург, словно грязная пена, настигал их обоих, накрывал с головою на благословенном Атлантическом берегу и, казалось, совсем уж погреб под своею скверной, как вдруг мальчишка подбежал, что твой ангел, и потянул деда в иной мир, на песчаную отмель, чтобы вместе заняться серьезным делом — возводить из песка крепостные стены, окруженные рвами. Дед покорно поплелся, только в знак извинения развел руками и у самой кромки воды принялся вычерпывать море игрушечным детским ведерком и подносить воду к стройке, нелепый и неожиданно добрый, со стороны напоминая верблюда.
Словоохотливый же питерский его «лейб» тут же встретил другого знакомого и спросил, а слышал ли тот анекдотец, пришедший ему не без повода, про верблюда и лошадь.
— Что‑то не припоминаю, — признался знакомый, заулыбавшись заранее. — И разумеется, попросил: — Расскажите, милейший!..
Милейший Руманов уговаривать себя не заставил:
— Встретила лошадь верблюда и спрашивает: «Верблюд, а верблюд, отчего у тебя спина кривая?» Подумал верблюд, подумал, сплюнул и ответил вопросом на вопрос, совсем как в Одессе: «А что, по–твоему, у меня прямое?!»
19. Письмо петербургскому прокурору
В день убийства Казанцева за вещами, им оставленными в меблированных комнатах на углу Невского и Литейного, являлся, якобы по его поручению, если не Вася–маленький, то, по меньшей мере, кто‑то, на него очень похожий. Когда об этом стало известно полицейскому ведомству, оно волей–неволей вынуждено было приступить к розыскам того человека. Кто такой Вася–маленький, это открыли проворно. Оказался он проживающим в окрестностях Петербурга, в деревне Волынкино, крестьянином Смоленской губернии, Юхновского уезда, Покровской волости Василием Дмитриевым Федоровым. И однако, хотя имя и звание его были без особых хлопот установлены, сам он как в воду канул. Ни газетные статьи, ни эсеровские прокламации не помогли полиции его обнаружить.
Между тем по ходу розысков выяснилось, что вместе с Василием Федоровым в Москве, при кузнице у Казанцева, какое‑то время жил его родной брат, Федор; получил у брата пристанище, пока не приищет себе работу. Добрались до этого Федора Федорова, и он без каких‑либо запирательств охотно судебному следователю объяснил, куда делся брат Вася. Из объяснений его выходило, что не так‑то легко до Василия дотянуться, оттого как партийные товарищи, к которым Василий явился с повинной, переправили его в Финляндию еще прежде, чем в газетах появилась их прокламация, а он, Федор, ездил туда с братом; проживши в Выборге три недели, уж оттуда, из Выборга, брат Василий укатил в Германию, а Федор, вот он, вернулся.
Кое‑кто от такой новости испытал облегчение, и не только в полиции, упустившей добычу. Упорхнула птичка, и слава Богу!.. Да к тому и сожительница убитого Евдокия Илларионова, и помощник его Алексей Степанов, портняжка, успели за это время поразъехаться кто куда. Хоть закрывай наконец‑то надоевшее дело!..
И вдруг городская почта доставляет обклеенный заграничными марками толстый конверт: прокурору С. — Петербургского окружного суда лично, в собственные его руки. А в конверте — на нескольких листах от упорхнувшей птички привет, собственноручное заявление Василия Федорова!..
Прокурор вопреки обыкновению откладывать его в долгий ящик не стал. Однако, ознакомившись, испытал легкое разочарование. По сравнению с тем, что по горячему следу подозреваемый рассказал, открывшись партии социалистов–революционеров, ничего существенно нового его заявление прокурору, пожалуй, не содержало. Разве что события излагались более связно, более обстоятельно, без излишней горячности, с немаловажными, в случае серьезного расследования, подробностями. Сообщил о себе, к примеру, что в девятьсот шестом, в сентябре, выслан был в Смоленскую свою губернию за перевозку оружия для петербургской боевой дружины социал–демократов… Возвратясь же в Петербург нелегально, связи с партией потерял, и тогда‑то Семен Петров познакомил его с Казанцевым… Или, дальше, о том, что перед доставкой адских машин на Каменноостровский проспект к графу Витте получил от Казанцева точный план его дома и отправился туда с Казанцевым вместе намечать распорядок действий: где пройти, где пролезть, как на крышу взобраться…
А засим повторялся подробный рассказ, как вдвоем перебирались по крышам на дом графа Витте и как опускали в трубы снаряды, заведенные на девять часов утра. И как Казанцев их ждал в заранее условленном месте и, недовольный тем, что взрыва не получилось, предложил все же довести затеянное до конца, для чего сбросить сверху на снаряды две тяжелые чугунные болванки. Приехали с этими грузами на другое же утро… и узнали, что в доме — полиция…
И еще Федоров написал о том, что после постигшей их неудачи, этак дня через два, Казанцев ему объявил, что послал графу Витте письмо, потребовал пять тысяч рублей, если граф не желает нового взрыва. «Раз у нас сорвалось, сам пойми, не видать нам обещанной платы, — разъяснил он свой хитроумный расчет, — что же, мы‑то зазря, что ль, старались? Вот сам граф и пускай возмещает наши убытки! Знал я этих важных тузов, у всех у них души заячьи».
Однако и этот вроде как верный расчет дал осечку. Не повезет так не повезет. В указанное Казанцевым в письме место ни ответа, ни тысяч от графа Витте никто, как ни подкарауливали, не принес.
Но не тот человек был Шурка Казанцев, чтобы за здорово живешь отказаться от денег.
Накатал второе, еще более угрожающее письмо с требованием передать нужную сумму через посыльного, которого в такой‑то день и час будут ожидать на углу Троицкой и Михайловской улиц. И действительно, отправил туда в указанный день и час Васю… Тот, однако, еще издали заприметил что‑то неладное, подходя к условленному углу, что‑то вроде засады, и, конечно, прошагал мимо шпиков не задерживаясь, без заминки… Казанцев еще долго с горечью поминал упущенные Васей пять тысяч…
Ну а дальше в своем заявлении прокурору Василий Федоров излагал, как исподволь, постепенно, мало–помалу накапливались у него подозрения, что Казанцев замазывает глаза им с Петровым, выдает себя не за того, кем был на самом деле. Началось с убийства в Москве, когда убитый им, Федоровым, по указке Казанцева Иоллос оказался кадетом, а вовсе не изменником–максималистом, как тот уверял. Будто снова партия приговорила предателя к смерти; на сей раз, будто за то, что присвоил восемьдесят тысяч экспроприированных денег. Его имени Казанцев не называл, лишь сказал, где тот служит и где живет.
Проследивши обычный путь жертвы со службы домой, они наметили проходной двор, откуда стрелять и удобно бежать. Ждали, сидя в пивной, пока не появится этот господин с фельдфебельскими усами. Увидев, выскочили на улицу, Федоров его обогнал и от калитки проходного двора стал стрелять, выпустил четыре пули, а едва тот упал, бросился через проходной двор наутек, прыгнул на извозчика — и к Казанцеву. Кого застрелил, узнал у него на квартире из вечерней газеты. Народный представитель в Думе, левый! Казанцев, однако же, вывернулся и тут, отговорился тем, что, дескать, Иоллос переметнулся к кадетам после измены: «Ну и что же, что левый, когда предатель! Зато все на черносотенцев свалят!» Тогда Федоров стал с настойчивостью просить познакомить его с другими членами партии, но Казанцев и от этого уклонялся под предлогом особой конспиративности. Мол, партия еще не может довериться Василию до конца…
А вскорости случайно подслушанный разговор насторожил Василия еще больше. Казанцев говорил с товарищем, как и Василий, питерским и тоже вызванным им в Москву. Якобы вызванным с той целью, чтобы тайно внедрить его к черносотенцам в боевую дружину; так, во всяком случае, заявлял Казанцев. Они тогда все вместе сели на конку, и разговор показался Василию не шутя подозрительным.
Словом, так приключилось, что к моменту поездки в Питер для повторной попытки убить графа Витте он уже искал случая поквитаться с Казанцевым. Еще в Москве, перед самым отъездом получив от него по браунингу и по ножу на известное дело, столковались на этот счет с Семеном Петровым. И когда встретились в Питере на вокзале, Федоров Казанцеву предложил словно бы для верности поупражняться в стрельбе — как когда‑то в Москве за Тверскою заставой. А для этого, мол, всего лучше нанять лодку и выйти в море, с чужих глаз долой. Надо думать, в увлечении предстоявшим событием никакой опасности Казанцев тут для себя не почуял, но из‑за нехватки времени с предложением не согласился. Потому‑де, что уже завтра, в субботу, необходимо исполнить постановление партии, кто знает, представится ли еще такая возможность, чтобы Витте поехал на заседание в Государственный совет…
Тогда условились встретиться, чтобы вместе начинять бомбы. А поскольку Семен Петров не явился, то он, Федоров, решил действовать самостоятельно, в одиночку…
И в заявлении прокурору, присланном из‑за границы, описал в подробностях свои действия:
Как доехали вдвоем с Казанцевым по Ириновской ветке до местности Пороховые;
как пошли вдоль рельсов от станции Ржевка и потом свернули направо, в чащу;
как в лесу Казанцев занялся снаряжением бомб; и как он, Федоров, его приканчивал ножом и прикончил…
Дочитав до конца заявление, первое, о чем прокурор подумал: ничего в принципе нового он из него не извлек. Но картина расправы стояла перед глазами, хотя видит Бог, что по роду службы можно было к зрелищам подобным привыкнуть… Первое, что после этого прокурор сделал, — повертел в руках, осмотрел конверт, в каковом заявление поступило, и почтовые на нем штемпели с указанием даты и места отправки. Ну и ну, доставлено прямиком из Парижа!.. А затем, откинувшись в кресле, его превосходительство распустил воротник и, тем самым хоть ненадолго освободясь от служебных своих обязанностей, ощутил себя с облегчением на минуту–другую обыкновенным частным лицом. И первое, о чем в данной роли себя спросил: а зачем вообще недоумку этому понадобилось с таким заявлением к нему обращаться?..
Вывезли дурью голову в безопасную заграницу, хочешь, думай тайком — проворонили, получилась промашка, хочешь, думай — полиция попустила, дала время скрыться, нужна ей лишняя головная боль раскапывать нечистое дело!.. Казалось бы, пей, гуляй себе в удовольствие, лучше нет на свете для этого места!.. Ан нет, похоже, дурень и в Париже не угомонился.
Само собой, прокурор не мог знать того, как метался Вася–маленький по Европе по очень простой причине: его мучила совесть. И не столь оттого, что порешил Шурку Казанцева, разбойничка, сколь за кадета неповинного — Иоллоса… царствие ему небесное!.. Но за Шурку… за Шурку тоже. Иуда, Каин, а все живой человек. Откуда было знать прокурору, как в истерике кинется Вася Федоров к эмигрантам, к издателю Бурцеву, до такой степени душа жаждала понимания. И справедливости. Да еще и деньжат на дорогу домой… Но, будучи по должности искушен в человеческих слабостях, и притом не лучшего свойства, прокурор, распустив воротник, догадался о чем‑то именно в этаком роде: разглядел в простодушном убийце натуру истинно русскую. Застрелил, зарубил, зарезал, а дальше подавай ему справедливость, нет житья без покаяния, без суда, без прощения на родной стороне.
Тьфу!
Прокурор подобрался, застегнул, как положено, вицмундир на все пуговицы. Получив такое официальное заявление, он был вынужден открыть следствие независимо от собственного желания — или нежелания. Так вдобавок к делам о найденных в доме графа Витте снарядах и об убийстве мещанина Казанцева завелось еще одно следственное дело — о Василии Федорове, обвиняемом в убийстве Казанцева и покушении на жизнь графа Витте.
20. Мемуары козла искупления
«…Когда мне приходилось при докладе говорить: таково общественное мнение, то государь иногда с сердцем говорил: «А мне какое дело до общественного мнения?!»
Государь совершенно справедливо считал, что общественное мнение — это мнение «интеллигентов»… Раз за столом кто‑то произнес слово «интеллигент», на что государь заметил: «Как мне противно это слово», — добавив, вероятно, саркастически, что следует приказать Академии наук вычеркнуть это слово из русского словаря.
Государю внушали, что за него весь народ, вся неинтеллигенция…»
Откинувшись в кресле, Сергей Юльевич с отвращением посмотрел на вороньи каракули, вылетевшие из‑под его пера на только что перед тем чистый лист бумаги. Он и сам с трудом разбирал несуразный свой почерк, а сколько намучились е этим другие!.. — начиная с гимназических учителей. Одно это его «л», частенько смахивавшее на «в» или даже на лодку под парусом… Орфография тоже бывала… своеобразна. За то, что его приняли в университет, он должен по гроб жизни быть благодарен директору кишиневской гимназии… ну и собственным математическим талантам, которые тот оценил и вывел хорошие баллы по прочим предметам…
Переведя дух, он все же продолжил:
«…Если бы государь после Портсмутского мира сделал широкую крестьянскую реформу в духе Александра II, дал известные вольности, давно уж назревшие, то не потребовалось бы 17 октября. Общий закон таков, что народ требует экономических и социальных реформ. Когда правительство систематически в этом отказывает, то он приходит к убеждению, что его желания не могут быть удовлетворены данным режимом, тогда назревают политические требования как средство для экономических и социальных преобразований. Если правительство мудро не регулирует этого течения, а тем паче если начинает творить безумие (японская война), то разражается революция…»
Сергей Юльевич поднялся и зашагал по комнате. Так‑то было куда привычнее. Для одного присеста написано более чем достаточно. Что‑что, а уж усидчивость к его талантам касательства не имела. Все бесчисленные и объемистые записки по службе, статьи и книги составляли по его шпаргалкам другие, он их даже не диктовал, он свободно изливал в разговоре мысли, а уж обработать, оформить, грамотно их передать — это оставлял на долю сотрудников или же своих «лейб»… Что он умел, и сие достоинство сознавал и в себе ценил, так это подбирать подчиненных. Последний помощник делопроизводителя в его министерстве имел высшее образование, а жалованье простого чиновника не уступало вице–губернаторскому…
Однако же вот дожил до необходимости собственноручно марать бумагу. Толчком к тому послужила гурьевская работа, которую он прихватил с собой в Биарриц, чтобы обмозговать на досуге.
С тем, что люди, развязавшие японскую войну, этим самым развязали и революцию, с распространенным таким мнением он не спорил. Но притом категорически отвергал измышления недругов, будто главный виновник последовавших событий не кто иной, как он сам. Труд Гурьева на убедительных фактах доказывал его правоту. Но Гурьев свое изложение полученных от Сергея Юльевича шпаргалок довел лишь до разрыва с Японией, как, собственно, и хотел тогда Сергей Юльевич. Теперь же он пришел к выводу, что не стоит ограничивать себя этим. Кто‑то мудро заметил, что история есть политика, обращенная в прошлое. Для себя Сергей Юльевич перефразировал бы, пожалуй: история — это прошлое, обращаемое к политике… По такой‑то причине и решил оглянуться в бывшее, обозреть по–своему если не великое множество происшедших у него на глазах событий, то хотя бы какую‑то часть их, невзирая на то, что ни единого документа здесь не имел под руками. Положился на память.
Возвращаясь с моря на дневную сиесту (на языке местных жителей так назывался перерыв работ в жаркие часы дня), он скрывался у себя в комнате хоть на пять, на десять минут, их хватало, чтобы покрыть каракулями очередной лист бумаги. Незаметно, лист за листом, набралась за сезон довольно‑таки пухлая папка: мемуар, начиная с поездки в Париж после отставки из Министерства финансов и до возвращения в Петербург из Портсмута; почти связное изложение обнимало два года и даже более, с лета девятьсот третьего до осени девятьсот пятого, — время бурных событий. Трагедия в Порт–Артуре, гибель Плеве, «весна улыбок» Святополк–Мирского… Девятое января, Цусима, мирные переговоры… Европа и Петербург в сентябре пятого года.
Написанного Сергей Юльевич не перечитывал и потому отчетливо себе представлял, что оно может быть не слишком‑то складно. Но в правдивости и точности сомнений не допускал, мог разве ошибиться в каких‑нибудь именах или второстепенных датах.
В Брюсселе, куда осенью, как и предполагалось заранее, они с Матильдой Ивановной отвезли к родителям внука, Сергей Юльевич сделал приписку к своим бумагам. О том, как они появились на свет. И закончил обращенной к наследникам неожиданной просьбой.
Может быть, вглядевшись в свое прошлое, на что раньше не имел никогда ни времени, ни, признаться, охоты, ощутил груз собственных лет, увы, уже немалый, а может быть, и так, что по возвращении домой, в Петербург, готов был ко всяким неприятным сюрпризам, от которых до сих пор его хранила судьба… да кто же мог поручиться, что это будет продолжаться и впредь! А вернее всего, брал в расчет и то и другое, когда попросил своих наследников напечатать его записки, — причем при печатании дозволялось, где представится нужным, исправить слог, однако же сути изложения не касаясь.
С собой в Россию он решил написанное не везти, а оставил у зятя в Брюсселе, одним этим поступком дав оценку происходящему дома. Но обещал продолжение — с оговоркою, правда, — если окажется исполнимым…
И еще приписал, куда‑то в середку:
«…Камарилье государя всегда нужны козлы искупления, на которых спускают свору полубешеных псов в случае неудачи политической охоты.
После 17 октября таким козлом оказался я…»
21. Подальше от следствия
Едва следствие в Москве все‑таки зашевелилось (хотя, надо признать, еле–еле), граф Александр Анатольевич Буксгевден решил из осторожности на всякий случай оградить от возможных допросов кое–каких не очень‑то надежных людишек. В первую очередь доверенного помощника Казанцева — Алексея Степанова. Да и сожительницу его, Евдокию, тоже. Алексей и прежде казался на язык невоздержным, ну а женщина… кто же мог за женщину поручиться.
Алексею Степанову, при длинном его языке, слишком уж многое было известно. Начать хотя бы с того, что это его, Алексея, привел к Казанцеву Вася–маленький, Федоров, взамен арестованного Семена Петрова, помочь при закладке адских машин на Каменноостровском. Вместе с ними обоими снаряжал их у Васи в доме на Березовом острове, у них же, в Волынкино. Если быть точнее, то у Васиной матери, тетки Натальи; потому что сам Вася значился тогда из Питера высланным, так что проживал с матерью нелегально. Место в самом деле укромное, на острове всего‑то два дома. А брата Васиного Шурка Казанцев отослал подальше, за водкой.
Покончив с работой, все чин по чину, крепко выпили, особливо те двое, Казанцев и Вася, пока Леха отправился к себе в сарай за веревками. Он принес веревки под утро, и спросонья тетка Наталья, удивившись, спросила, зачем их столько. Трубочистом буду, засмеялся Леха, пойду трубы чистить… Про все про это, так же как про дальнейшее: как по крышам лазили и спускали машины в трубы — Леха часто любил вспоминать, тем охотнее под пьяную лавочку.
А потом, ближе к масленой, Казанцев принялся уговаривать Васю с Лехой вместе с ним поехать в Москву, и они согласились. А зачем, сказать честно, Леха сам не мог толком постигнуть. Безработными были, в карманах пусто, ну а Шурка сказал, что будут жить за его счет. Вот и все объяснение. А что надо какого‑то негодяя прихлопнуть, черносотенца, по словам Шурки, про это он уже им в Москве рассказал.
Там в Москве дьявол Шурка дал обоим по револьверу системы браунинг и стал водить их за Тверскую заставу учить стрелять. Велел целиться в дерево. Куда лучше Лехиного получалось у Васи. Вот за меткость Казанцев его на убийство и выбрал. У тебя, говорит, верный глаз, не то что у Лехи. Но в тот день, когда сделали дело, он на рынок повез их обоих. Купил Васе пиджак и ботинки и брюки Лехе, потому как его были вовсе дрянные.
Но еще до этого, до поездки в Москву убивать, Леха выполнил другое секретное поручение, в Москве тоже. Тот раз Казанцев велел ехать вместе с каким‑то разыскиваемым полицией, как сказал, партийным товарищем для его охраны. И Леха все в аккурат исполнил, передал того нелегального в Москве с рук на руки по указанному Казанцевым адресу, точь–в-точь, безо всякой оплошки.
Когда Казанцев отлучился в Питер в последний раз и там, сперва думали, задержался, Леха стал заходить к Александру Анатольевичу, графу, относительно перевозки казанцевской кузни и по другим делам. А потом скатал в Питер. И оттуда привез брошенный Шуркою чемодан Евдокии. А она, убедившись, что ее Казанцева уже не дождешься, собрала по квартире кучу склянок с какою‑то жижей, полный чемодан этот и еще в сумку осталось, отослала все с Лехой к графу.
— Ты вот, Леха, все носишь, носишь, все передаешь, исполняешь, а понятия, чай, не имеешь, кто такой этот граф! — проговорила в сердцах.
— Как это, — чуть было не обиделся Леха, — как это так не имею? Интересное дело! Граф, почитай, у них главный максималист!
— «Максимали–ист»! — передразнила Леху сквозь слезы, не выплакалась еще.
Она смотрела на него с сожалением:
— Он, черт, погубитель Шуры, смотри, и тебя погубит! Держался бы ты, Леша, от него подальше… Шурка все делал, как он укажет. И этого убил, как его, ну Вася‑то щелкнул…
— Иоллоса? — подсказал Леха.
— Его самого, Иоллоса, и адские бомбы, какие вы в трубы графу Витте закладывали!.. Всё, всё!
— Так ты бы пошла заявила!
— Боюсь, Леша, Бог с ним совсем, боюсь я его, окаянного!.. А то бы, глядишь, такие тузы полетели, на которых никто бы и в жизнь не подумал!..
После этого разговора совсем недолго спустя — понятно, по совету графа Александра Анатольевича — Евдокия с квартиры Шуркиной съехала, да и вообще, видно, укатила из Москвы вовсе. В какие края, про то Лехе неизвестно осталось. Она с ним даже проститься не заглянула. А может, конечно, в запарке не застала на месте… Он и сам‑то особо не задержался. С чужим паспортом на графские деньги отправился наспех куда глаза глядят… в Рязань, в Тулу…
А про графа Буксгевдена он, по делу, ничего от нее нового не услыхал. И, при всей своей говорливости, ни графу, ни ей не открыл, что виделся в Питере с Васей уже после смерти Казанцева. И Вася по дружбе рассказал все, как было… И как ему боевую жилу на шее перерубил полученным от него же намедни ножом. И как перед тем Казанцев подговаривал убить графа Витте даже и в том случае, если их покушение снова по какой‑либо причине сорвется…
22. И дальше и выше
Сергей Юльевич Витте вернулся из‑за границы перед самым открытием столыпинской Думы, не выбранной, а подобранной, как он говорил. Поинтересовался успехами домашних Шерлоков Холмсов в занимающем его деле. Без труда уяснил, что если таковые успехи и были, то скрывались от постороннего взгляда самым тщательным образом. Впрочем, как он мог согласиться с теми, кто считал его, Витте, взгляд в данном случае посторонним?!
Он решил обратиться по этому поводу к прокурору судебной палаты. Прокурор Камышанский, по всему судя, становился при Столыпине фигурой заметной. Приобрел твердую репутацию в петербургской газетной и литературной среде как душитель печати, это лишний раз нашло подтверждение в разговорах Руманова в Биаррице. А незадолго до возвращения Сергея Юльевича разлетелась молва, будто в новом кабинете Столыпина прокурора прочат в министры. Благодаря все тем же газетам эта весть докатилась и до Биаррица. Наконец сообщили о новых слухах. Если верить, на Камышанского готовилось покушение, из‑за этого прокурор отменил приемы и обычные объяснения с просителями.
Но Сергея Юльевича останавливало другое. Со дня на день ожидался процесс социал–демократической фракции Второй Думы, по тому самому делу о заговоре, что дало толчок столыпинскому перевороту. Толки о покушении не иначе связаны с этим. Прокурор Камышанский должен был выступать обвинителем в довольно‑таки сомнительном, на оценку Сергея Юльевича, процессе.
Скорее всего, именно по этой причине провели процесс при закрытых дверях. По проникшим в печать сведениям, прокурор говорил до крайности резко, заявив, что в России социалисты не политическая партия вовсе, а шайка, стремящаяся к ниспровержению существующего строя. И карьеры этим себе не испортил, нужного приговора добился. Недавние народные представители надолго отправились в места не столь отдаленные, кто на каторгу, кто на поселение…
Пришлось Сергею Юльевичу повременить, пока страсти хоть немного улягутся, прежде чем приглашать к себе неистового прокурора. Да, именно так, позвал Петра Константиновича к себе для беседы. Их связывали между собой в какой‑то мере особые отношения. Дело в том, что своей карьерой прокурор был во многом обязан Сергею Юльевичу, оба до сих пор не забыли, что не кто иной, как Витте, в свою бытность у власти настоял на назначении молодого сравнительно Камышанского, невзирая на то что знал, какого он направления мыслей. «Лишь бы только в точности исполнял законы и не боялся решительных мер», — заявил тогда в связи с этим Сергей Юльевич. И в последнем уж во всяком случае не ошибся.
Они могли позволить себе вести друг с другом разговор вполне откровенный.
Сергей Юльевич в выражениях не стеснялся:
— Согласитесь, Петр Константинович, следствие ведется до крайности безобразно. Объяснить это можно только одним: не желают раскрыть преступления!..
Желтолицый, издерганный прокурор перед прежним своим благодетелем не лукавствовал:
— Вы, ваше сиятельство, совершенно правы. Но иначе мы поступать не можем.
— Это кто же такие «мы»? Вы кого имеете в виду?
— Прокуратуру и следователей, конечно. Для нас сразу, с первых шагов, стало ясно: чтобы до конца довести это дело, надо тронуть таких столпов… таких вновь явившихся спасителей России, как, к примеру, доктор Дубровин!.. А кто же, ваше сиятельство, нам это позволит?! — И сам же на риторический свой вопрос ответил: — Никто. Никогда!
— Но почему же, уважаемый Петр Константинович?
— Как‑то даже неловко объясняться с вами по этому поводу… С человеком вашего, Сергей Юльевич, опыта… Но — скажу вам, пожалуйста! Потому что если мы этих лиц арестуем и произведем у них обыски, как полагается, то, скорее всего, обнаружим такое, что придется идти и дальше и выше!.. Вот и крутимся на одном месте, замазываем картину… А что еще прикажете делать?! Между нами я могу сказать точно, по какому пути двигаться, чтобы найти виновных!..
— От кого же сие зависит, голубчик, выбрать в данном деле правильный путь?
— Пусть хотя бы министр юстиции позволит, чтобы мы не стеснялись и могли в случае надобности арестовать того же Дубровина и с ним иже… А поскольку, ваше сиятельство, они, без сомнения, выдадут лиц куда более важных и высоко стоящих, — чтобы мы могли после этого не останавливаться, а идти смело дальше. И за это не подвергнемся экзекуции!..
23. Три года бега на месте
Министр юстиции Иван Григорьевич Щегловитов заслужил себе прозвище Ванька Каин[53], за глаза его вечно так величали. Ванька Каин принадлежал к нередкому в среде бюрократов типу перекрасившихся за последние годы. Был без удержу красным, а стал аспидно–черным… Это он в угоду Столыпину подмял под себя правосудие, независимую судебную власть, так что трудно стало определить, где тут суд, где полиция. Это главным образом и мешало Сергею Юльевичу воспользоваться прокурорским советом, хотя следствие по–прежнему стояло как вкопанное.
Предел терпению наступил, когда с трибуны Государственной думы без обиняков, открытым, что называется, текстом ему бросили обвинение в симуляции, повторяя дурно пахнущую сплетню двухлетней, без малого, давности, какую пустило дубровинское «Русское знамя» и его подпевалы. Между прочим, в их ряд затесался (это вскрылось впоследствии) и следователь, всерьез допустивший, что бомбы могли быть (как он записал в протоколе) «подложены с комнаты»… А с думской трибуны не постеснялся сие огласить богатый степной помещик из Новороссии, известный своими связями с черносотенной сворой и, более того, наверняка ее содержавший. Сергей Юльевич предпочел бы раз навсегда позабыть его имя, когда бы он не сформулировал ничтоже сумняшеся, в чем главная вина графа Витте перед русским народом. От лица народа эта публика вообще приноровилась вещать.
…Они тогда как раз только что возвратились домой после очередного пребывания за границей. Это лето выдалось мало сказать неудачным. И всегда‑то Матильда Ивановна не отличалась завидным здоровьем, а последнее время прихварывать стала частенько. Принимала лекарства, лечилась на водах в Кисингене у немцев, у французов — в Виши. А теперь пришлось обратиться к хирургическому светилу. Операцию сделали в Швейцарии, в Берне. И хотя все прошло более или менее благополучно, Сергею Юльевичу этим летом было не до отвлеченных занятий…
И вот — домашний сюрприз.
В Думе прели над законопроектом об изменении крестьянского землевладения. Полемизируя с Милюковым — большим якобы виттистом, чем сам Витте, член Думы по фамилии Келеповский уделил Сергею Юльевичу особенное внимание. Отнюдь не ограничившись тем, что воскресил давнюю выдумку, пустился в куда более пространные рассуждения об аграрном проекте Витте как прямой причине последовавшей затем революции. Не дворянство подводило крестьян под расстрелы, возглашал херсонский землевладелец, а те, кто заставил их смотреть на этот проект принудительного отчуждения как на нечто возможное, осуществимое!..Но, по счастью, государь император удалил опасного графа и… вошел‑де в единение с народом!..
Умри, а лучше не скажешь!
Сергей Юльевич, однако, не сразу обратил внимание на сей логический перл, поистине символ веры крепостника. Настолько взбешен был пакостным личным выпадом. В конце концов даже предвзятое следствие исключило напрочь подобную версию. Да кому об этом было известно за дверьми полицейского ведомства!.. Припомнив совет Камышанского, только тут Сергей Юльевич порешил обратиться к господину министру юстиции, тому самому, кстати, на место которого прочили прокурора, да, похоже, без достаточных для того оснований…
Но другого пути Сергей Юльевич больше не видел, чтобы стронуть следствие с места. Ни слова, разумеется, не сказав про разговор с Камышанским, заявил Ваньке Каину, что ведется оно таким образом, дабы ни в коем случае не обнаружилось то, что происходило в действительности. В ответ министр отговорился недостаточным знанием сего казуса; обещал затребовать дело к себе. В том, что он лицемерит и лжет, Сергей Юльевич ни минуты не сомневался по той хотя бы причине, что давным–давно знал, как отнесся господин министр к покушению. Многих членов Государственного совета оно тогда возмутило, в кулуарах этого не скрывали, а его высокопревосходительство, усмехнувшись, на это изволил заметить, что, возможно, все подстроено лицами, живущими в доме у Витте… и, нельзя исключить, с его ведома даже. Так что, в сущности, херсонский помещик всего лишь с опозданием повторил министерско–полицейскую версию… Нет, Сергей Юльевич не питал иллюзий относительно того, как будет встречен министром.
Тот, однако, потребовал все же от прокурора записку по делу. Камышанский такую записку подал, на сей раз без отлагательств. Копию же с нее, снятую, разумеется, приватно, переслал по знакомству Витте. Там было обозначено прямо, где и как отыскать виновных… Усилия Сергея Юльевича не пропали, казалось, даром. Хоть и нехотя, дело все‑таки возвратили на доследование. И без малого два года спустя после злополучного происшествия на Каменноостровском тот же самый следователь по важнейшим делам, с необычным именем и фамилией Цезарь Иванович Обух–Вошатынский, приступил к повторным осмотрам, измерениям и допросам.
Облик этого Цезаря настолько же не соответствовал его должности и занятиям, насколько своим соответствовал желчный, яростный прокурор Камышанский, его начальник. Вместе они составляли полярную пару. Обходительный, медоречивый Цезарь был плешив, экспансивен, даже вертляв, и, когда бы не это последнее свойство, его можно было принять за лечащего врача. Он участливо выслушивал показания Сергея Юльевича и записывал их в протоколы допросов, как в лечебнице записывают сведения о больном в скорбный лист.
…Как предупреждал его не возвращаться из‑за границы всюду принятый князь Андроников. И о тех предостережениях, что последовали по возвращении, — от некоего дубровинского «союзника», которого он принял за шантажиста, и от черниговского предводителя, члена Думы; добрый его знакомый положительно утверждал, что покушение на него готовит «Союз русского народа», приложил даже фотокарточки предполагаемых злоумышленников… А также и о том, как отменили заседание Государственного совета под влиянием слухов о повторно готовящемся на него покушении, и о переданном ему Иваном Павловичем Шиповым совете известного Лопухина отнестись к этим слухам с полнейшей серьезностью.
И, судя по тому, что каждое из показаний Сергея Юльевича докучливый этот Цезарь посчитал необходимым проверить, можно было подумать, что дело наконец‑то сдвинулось с места. Спустя почти что два года после событий тогдашний министр внутренних дел подтвердил, что заседание Государственного совета пришлось действительно отменить из‑за подготовлявшегося в самом зале террористического акта; а бывший министр финансов, со своей стороны, рассказал о визите и предупреждении Лопухина. И словоохотливый князь Михаил Андроников поведал о своих телеграммах графу Витте в Париж после разговоров у градоначальника Лауница, что в графе Витте причина всех бедствий, постигших Россию, и что возможны покушения на его жизнь. «Градоначальник на мои расспросы сказал мне, — Андроников хорошо запомнил, — что возмущение против Витте усиливается и покушения вполне могут быть, а он, дескать, не в силах предотвратить их…» И на выяснение всего этого следователю хватило каких‑то нескольких дней!..
Прослышав, очевидно, о возобновлении следствия, явился к Обух–Вошатынскому на Литейный, 4, и бывший наперсник Дубровина, секретарь его Пруссаков. Они с ним успели рассориться в пух и прах, и, возможно в отместку, секретарь пришел рассказать все, что знал, без утайки: и про старания свои раздобыть план дома, и про опередивший события дубровинский черновик; про скандал при расплате с боевиками, чему невольным свидетелем стал; наконец, про фальшивые корреспонденции в «Русском знамени» от вымышленного «графа Беера» из Гельсингфорса. А вдобавок еще поведал о недавней своей попытке довести все это непосредственно до сведения графа Витте. Прочитал газетный отчет о выступлении Келеповского в Думе и, возмущенный, отправился на Каменноостровский, 5. Доложил о себе, — правда, назвавшись опять же чужим именем, но не был принят…
И Сергей Юльевич тоже кое‑что добавил к собственным своим показаниям. Наиболее важное — об упорных слухах и утверждениях многих лиц, что существовала несомненная связь покушения на него с убийствами Герценштейна и Иоллоса. И с убийством Казанцева также. Ввиду этого настоятельно требовал привлечь к следствию Василия Федорова, убившего Иоллоса и Казанцева.
— Подозреваемого в убийствах, — как бы извиняясь, поправлял его следователь.
Впрочем, объявившийся во Франции Федоров досконально описал в парижской «Матэн» обстоятельства дела, в подробностях еще больших, чем в письме к прокурору. Сергей Юльевич стал настаивать перед министром юстиции, чтобы добились наконец от французских властей его выдачи.
Но покамест Федоров был по–прежнему далеко. И на первый случай следователь Цезарь Иванович ограничился вызовом на допрос его брата и матери. Ничего себе первый случай! Это два‑то года спустя!..
Существовало, однако, помимо Федорова еще другое лицо, на которое несомненно указывали все улики, доводы, документы, свидетели, оно здравствовало притом куда ближе Парижа, несравненно доступнее, на расстоянии, так сказать, вытянутой руки. И лицом этим был не кто иной, как доктор Дубровин. По–прежнему неприкасаемый доктор Дубровин, ибо следствие долго не решалось дотронуться до него, точно в нем самом заключалась бомба, точно это одно угрожало взрывом.
Да, должно быть, так на самом деле и было…
В конце концов, все‑таки не избежавши допроса, Дубровин какую бы то ни было свою причастность к этому делу категорически и наотрез отрицал; ну а следователю только и оставалось, что принять сие к сведению… да занести в протокол.
После длительных проволочек, оттяжек, заминок и выдачи Василия Федорова отважились‑таки потребовать от французов. Их правительство отвечало на это отказом, поскольку сочло, что речь идет о политическом преступлении. А согласно международному праву политических преступников не принято выдавать… Находясь летом в Париже, Сергей Юльевич попытался выяснить подоплеку такого отказа. Нюх политика ему подсказал: могли бы французы поступить по–другому. Разумеется, нюх его не подвел. Влиятельные знакомые признавались под рукой, тет–а-тет, что, конечно, выдали бы этого русского как простого уголовника без разговоров, со всеми его потрохами, — хотя бы в силу уважения к графу Витте. Осложнялось же дело тем, что, официально требуя его выдачи, русские власти устами своих посланцев на словах доверительно к этому добавляли, что правительство предпочло бы, чтобы это его требование не исполнялось.
Короче, и повторное расследование застряло на том, с чего началось.
Ну а в общей сложности эта морока, вся эта хитроумно запутанная полицейская канитель тянулась ни много ни мало три года, до тех пор, пока следователь по важнейшим делам не вынес окончательного постановления: за необнаружением лиц, покушавшихся на убийство графа С. Ю. Витте, а также за смертью руководителя их Казанцева производство по данному делу прекратить.
Часть четвертая ДЕЛО № 3 О ВЕСЬМА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ПОКУШЕНИИ ГРАФА ВИТТЕ С. Ю. НА ВЛАСТЬ
1. Сейф и склеп
имой в Петербурге он пытался продолжить начатые летом заметки. Но что‑то постоянно мешало, отвлекало, не пускало к письменному столу. А усядется, так долго не усидит… Лишь историю Манифеста 17 октября успел более или менее связно изложить за всю зиму, благо под руками на сей счет имел Справку, ранее подготовленную для камарильи. И еще кипу черновых материалов. Он, конечно, не сумел ограничить себя простой передачей фактов, увлекся. Самые эти факты, так памятные ему, в сумме были мало кому известны. И весьма, весьма примечательны, как же было удержать себя от оценок? От рассуждений? От злодневных акцентов?!
«…Я узнал, что государя уговорили издать Манифест потому, что дали идею, что я хочу быть президентом Всероссийской республики… — записывал не без сарказма, — и то, что государь мог действовать под влиянием подобных буффонад, наглядно показывает, каким образом Россия упала в бездну несчастий… Государь был совсем растерян, иначе, при его политических вкусах, конечно, он не пошел бы на конституцию…
…Если бы не было 17 октября, то, конечно, оно в конце концов произошло бы, но при значительно больших несчастьях, крови и крушениях…
…Лучше было отрезать, хотя не совсем ровно и поспешно, нежели пилить тупою пилою, находящейся в руке ничтожного, а потому бесчувственного оператора, тело русского народа…»
Но порой вдруг спохватывался при мысли, что внезапно нагрянут, застанут врасплох, смогут прочесть недреманным оком, порывался себя уберечь от несчастного случая суждениями вроде того, что:
«…Сила царя в своего рода таинстве — секрете, недоступном познанию людей, наследии — наследственности… Любя Россию, я ежедневно молю Бога о благополучии императора, ибо покуда Россия не найдет себе мирную пристань в мировой жизни, покуда все расшатано, она держится только тем, что Николай II есть наследственный законный наш царь, т. е. царь милостью Божьей, иначе говоря, природный наш царь. В этом его сила, и в этой силе дай Бог, чтобы Россия скорее нашла свое равновесие…»
Или:
«…У императора, несомненно, сердце весьма хорошее, доброе, и если в последние годы проявлялись иные черты его характера, то это произошло оттого, что императору пришлось многое испытать; может быть, в некоторых из сих испытаний он сам несколько виноват, потому что доверился несоответственным лицам, но тем не менее сделал он это, думая, что поступает хорошо…»
И все же однажды подбил итог, свел, так сказать, политическое сальдо… Впрочем, нет, это в бухгалтерии, в финансовом деле итог знаменует собой конец, сумму цифр, слагаемое результатов, — в политике его подчас видно сразу, заранее, априори, прежде всяческих мелочей. Этот дан был в первое же биаррицкое лето:
«…Все, что делалось в последние годы, в том числе и ведение войны, была ребяческая игра, часто науськиваемая самыми дурными инстинктами. Все, что мы пережили, не образумило того, кого это прежде всего должно было образумить… игра ведется и теперь, и ох как дурно она может кончиться!..»
И — в скобках: «…сие писано 13 августа нашего стиля 1907 г.».
Против обыкновения, на сей раз написанное перечел. И почувствовал себя молодцом, как в давние молодые года, когда был очень прост и говорил что думал… Но, конечно, затем эту часть, так же как и другие, опасаясь обыска дома, он оставил там, где писал, — за границей.
Петербургские же заметки — с глаз долой, от греха подальше упрятал в банковский сейф…
Продвинуться в занятиях далее ему почти что не удавалось ни следующим летом, ни затем зимой в Петербурге. Он даже вдруг объяснил на бумаге, посреди поспешных набросков, те причины, что мешают сосредоточиться на работе: болезнь Матильды Ивановны и собственная апатия…
«…Моей жене делали операцию в Берне. Писать ничего не мог. Выезжаю в Петербург. Не знаю, удастся ли там продолжить…»
Разумеется, не удалось.
И на сей раз петербургская лихорадка подхватила, завертела его с первых дней. Сначала вздорное обвинение с думской трибуны, будто сам подстроил покушение на себя. Потом — этим вызванная схватка с судебным ведомством, которому пришлось‑таки пробудиться от спячки… Да и куча других хлопот, каковые он, не оправдывая себя, что отвлекся от мемуаров, назовет вскоре мелкими… В особенности по сравнению с тем, что захватывало его все сильнее, с этими начатыми словно бы невзначай, от нечего делать, заметками. Что тут скрывать, они занимали все более места — и времени — в его жизни.
Он однажды, помнится, поучал одного из своих «лейб», бросившего ему — печатно — упрек, что политика его двусмысленна, двоезначна, и когда! — после 17 октября! Он старался тогда втолковать упрямцу, что одно дело судить–рядить о событиях с точки зрения будущего, для истории, и совсем другое — в сегодняшних видах. Историческая и сейчасная, сиюминутная, — сплошь да рядом это две совершенно разные правды…
А теперь вот и сам не в силах ни одной из двух поступиться. Погружаясь в прошедшее, в то же время не упускает из виду того, что так жгуче сегодня. Когда все же приходится выбирать между этими двумя правдами, он, конечно, на стороне сегодняшней, жгучей… Пусть бросит в него камень политический лицемер. Он же прямо‑таки на нее в мемуарных своих заметках нацелен, как бы противореча себе самому, — но оставаясь именно благодаря этому многозначным… И тем временем, как до ушей его долетают слухи, будто у властей предержащих есть намерение тем ли, иным ли путем выудить у графа Витте некие собранные им взрывчатые бумаги, а в газетах, пока еще иностранных, даже пишут об обыске, якобы вот–вот грозящем ему, Сергей Юльевич находит возможность сии противоречия разрешить!.. Для чего хочет воспользоваться своими никем не читанными заметками… Грозным тайным оружием! Он намерен мобилизовать с этой целью литературный «гарем». И пустить с его помощью и прикрытием в политический оборот скрываемые с превеликим тщанием мемуары. Сделать их секретом полишинеля… Все же банковский сейф — не могильный склеп, можно распахнуть для всеобщего обозрения этот ящик Пандоры!.. Тогда пусть их у него отнимают… Ежели отыщут, конечно. Сейф не склеп, он куда надежнее склепа.
2. С двумя правдами
Еще до очередного своего отъезда Сергей Юльевич заказал — для затравки, на первую пробу… не суть важно кому, скажем так: одному из «лейб» — обработать, привести в связный вид материалы осенней смуты пятого года, когда люди, а в первую очередь молодежь, пребывали, на его оценку, в революционном недоумении, отчего бросались то к гимну «Боже, царя храни», то, в огромном большинстве случаев, к русской «Марсельезе». По его же, именно в этом сюжете содержался ключ к последовавшим событиям. И отчетливо видна была его, графа Витте, роль, вот что важно.
Как уславливались, к возвращению в Петербург литературный заказ был исполнен. И, едва воротясь, получив его от этого «лейбы», Сергей Юльевич зовет на Каменноостровский к себе… другого.
— Я поручил писание этой работы одному господину, дал подлинные документы, но, по чести, не очень доволен, как он справился со своею задачей, — говорит он, пока слушатель в задумчивости перевертывает страницы. — Не могли бы ли вы, — называет он по имени–отчеству «лейбу», опять не суть важно какого, ибо к подобному способу прибегает отнюдь не впервые, — не взялись ли бы вы, мой сударь, со вниманием прочитать это? С тем чтоб высказать свои замечания?..
Разговор между ними по существу дела происходит спустя несколько дней; «лейба» одолел унесенную с собой рукопись, озаглавленную длинно и скучно: «С. Ю. Витте и Совет рабочих депутатов». И теперь говорит решительно, сообразуясь с исторической правдой:
— Разрешите мне быть вполне откровенным, ведь я пережил все те дни в Петербурге. Тогдашний Совет, Сергей Юльевич, был для общества выше государственной власти!
— Если допустить, что вы правы, я не должен был терпеть такого Совета, — возразил Сергей Юльевич. — Но, мон шер, вы судите по одному Петербургу, тогда как в моей власти находилась Россия!
— Но правительство не смогло даже предотвратить забастовок! Ни электрической, ни трамвайной, ни железнодорожной… Оно словно попало в подчинение к Совету!
— Нет, нет. — Сергей Юльевич помотал головой и принялся расхаживать от Долгоруких к особам. — Нет, не судите с узенькой, обывательской точки, вы пошире взгляните, тогда увидите, что власть Совета не выходила за городскую черту. Да и каковы были результаты их забастовок? Временные неудобства, не более…
— А в обществе преобладало сознание, что их власть, власть рабочих организаций, возвысилась над государственной! — упрямился собеседник.
Тут Сергей Юльевич резко остановился возле окна. Указал на мчавшийся по проспекту — очень кстати — автомобиль:
— Видите, как летит! И того гляди передавит всех, кто ему подвернется!.. Нужно ли разрушать из‑за этого само авто и не правильнее ли переменить шофера? Ну, быть может, еще поставить улучшенные тормоза, ввести его скорость в определенные рамки… С Советом рабочих я так именно и поступил!
Проводив взглядом взлетевший на мост над Невой столь удачно послуживший примером автомобиль, отошел от окна и продолжил:
— Надо было сохранить машину представительства! Действия же ее постепенно, но твердо вводить в норму — в рамки благоразумия и порядка. Я это делал.
Как всегда, когда увлекался, выпаливал залпами фразу за фразой:
— Мне было известно все, что происходит в Совете, и в случае необходимости я не остановился бы перед крайними мерами.
— Я призван был спасать просто безвыходное политическое положение!
— Я не мог враждовать с окрепшим представительством общественных групп, взбудораженное море надо было прежде всего ввести в берега!..
Не греша против исторической правды, Сергей Юльевич тут же сблизил ее со злодневной:
— Вот почему ваш взгляд недостаточно, э–э, обоснован, а он не единичен, не исключителен, знаю.
— Я же выжидал, я ждал безрассудных поступков, чтобы уже в полном праве прекратить деятельность Совета!..
— Слава Богу, это теперь позади, Россия прошла через бури, — слукавил Сергей Юльевич ради правды сиюминутной, — и движется по пути, начертанному 17 октября!..
Уловил ли новый исполнитель заказа то, чем, видимо, в какой‑то степени пренебрег прежний? Эти недвусмысленные наставления сиятельного заказчика, подкрепленные просьбой без опаски вычеркивать все, что покажется ему неверным?.. Во всяком случае, принялся за работу.
Отняла она месяца три, не менее, прежде чем удовлетворила запросам. Произошло же это не раньше, чем было сказано без обиняков о спасительных мерах, предпринятых Витте для выхода из положения поистине безвыходного, в каком правительство очутилось. Причины, приведшие к этому, также потребовалось назвать напрямую — полицейскую политику Плеве, и в первую очередь несчастную войну с Японией, противником коих не раз выступал Сергей Юльевич. Особый раздел посвящен был «тактике кабинета графа Витте»; использование розни между хозяевами и рабочими — ее важнейшая часть, равно как выявление сходства интересов у либеральных кругов с правительством. Словом, вероятный читатель, точно рыба на леске, подтягивался к мысли, ясной как день: это Витте — спаситель престола от революции!..
Это Витте! А вы отдаляете его от себя, вы — отталкиваете его!!
Обе Виттевы правды, таким образом, обнажались предельно, и одна изо всех сил подкрепляла другую…
3. Наступление «лейб»
В стороне от обширных наступательных планов не остался ни Александр Николаевич Гурьев, ни верный Колышко[54], эта как бы старшая в «гареме» жена, ни старая скромница Морской фон Штейн, ни новая наперсница Глинский, редактор журнала «Исторический вестник»[55], где подвизался Морской.
Борис Борисович Глинский стал подарком судьбы для Сергея Юльевича, что граф оценил уже при первом знакомстве, отвечая журналисту на вопросы. Задавал же их тот о временах Александра III, поскольку, занявшись историей революционного движения, ощутил недостаток сведений той эпохи, и в особенности экономической ее стороны. Слово за слово… и, добравшись до последующих событий, Сергей Юльевич упомянул кое‑что из собственного архива. Для начала — об интересовавшей Глинского личности, о Хрусталеве–Носаре, главе Совета рабочих в октябре девятьсот пятого, том самом, коего арестовал… Дальше — больше. В результате журналист, как наткнувшийся на добычу охотник, отложил свою тему ради виттевских материалов, в опасении, как бы граф Сергей Юльевич при его настойчивости не пристроил их куда‑то еще… Для Сергея же Юльевича литератор с именем, историк, публицист, просветитель, деятель многочисленных обществ, союзов со своим журналом стал находкой… в качестве рупора: журнал консервативного направления держался в стороне от жгучих проблем. А все вместе служило удобным прикрытием для публикации, как всегда у Сергея Юльевича, двояко нацеленных текстов, получаемых от него под условием: без огласки имени автора!.. Попавшие к нему в руки драгоценные материалы Глинский с превеликой готовностью помещал под своим именем.
Из многостраничных его статей непременно следовало, как прав, как предусмотрителен и дальновиден был С. Ю. Витте на всех, без исключения, исторических перепутьях от начала трений с Японией до составления основных законов — по меньшей мере, пока находился у власти. Между строк же читалось: его, безупречного, надо к власти вернуть!
В свой черед получил предложение Гурьев: возразить генералу Куропаткину на его отчет о японской войне. Не суть важно, что генеральский отчет был составлен давно, он страдал несомненными слабостями. Сергей Юльевич решил напомнить об этом ныне, поскольку бесславный командующий позволил себе примкнуть к его хулителям, к тем, кто отвергал заключенный им в Портсмуте мир потому, дескать, что российская армия в тот момент якобы уже готова была продолжить — и победно продолжить — войну!..
— Намереваетесь, Сергей Юльевич, напечатать это под псевдонимом? — напрямик поинтересовался Опытное Перо.
— Это имеет для вас существенное значение? — со своей стороны спросил Витте, предпочитавший в качестве псевдонимов пользоваться именами — или псевдонимами — своих «лейб».
— Думаю, да — и весьма. Куропаткин исходит из утверждения, что он вослед государю был против войны. В таком случае верноподданному графу Витте следовало бы опровергнуть его с тех позиций, что войны не хотели, прежде всех, государь и граф!.. — И, подумав, добавил не без ухмылки: — Как, собственно, и было в действительности.
Не миновал острой темы и верный Колышко — в целой серии статей под интригующим заголовком «Кто непосредственный виновник нашей войны с Японией?» и за подписью Радомир. Псевдонимов у Колышки имелось хоть отбавляй, никого это не удивляло, как и ответ Радомира на поставленный в заголовке вопрос.
Газетными выступлениями Колышко, впрочем, по своему обыкновению, ограничиваться не стал. Последнее время Безудержное Перо отдавал предпочтение драматическому жанру. Но если даримых им книг — этюдов, очерков и тем паче романов — Сергей Юльевич откровеннейше не читал (подобно, впрочем, произведениям родимой своей сестрицы), то театральными спектаклями манкировать не удавалось, хотя бы по той причине, что Матильда Ивановна была завзятая театралка. Да, признаться, и в жизни самого Сергея Юльевича театр играл не последнюю роль… Словом, когда сочинение Колышки увидело сцену, Сергей Юльевич с супругою вместе посетил спектакль в суворинском Малом театре. И досидел до конца представления.
4. «Большой человек»
Премьера Колышкиной пиески наделала‑таки шуму — сперва в Петербурге, а потом, если верить газетам, то и в Москве. Общество, выведенное на сцену, состояло из бюрократов, разного пошиба воротил, дам света и полусвета, опутанных — и опутывающих — густой сетью интриг. Рецензенты либеральных мастей захлебывались в восторгах: только новые политические условия дали пьесе возможность увидеть свет рампы! До сих пор, мол, русская сцена таких не знавала!.. Программка же предусмотрительно растолковывала, что действие происходит в последней четверти прошлого века. Невзирая… или, напротив, взирая на это, зал примерно того же, что на сцене, состава — премьерная публика девятьсот девятого года — живо откликался на представляемое лицедейство. Точно гляделся в зеркало, в котором сшибаются две России: старая, дореформенная, с деловою новой.
«Деловых людей теперь возят по Петербургу, как прежде теноров, — замечал персонаж и на вопросы о сих теноровых преемниках показывал пальцем на шишку из банка: — Вот господин «Купить, продать, надуть»… А вон от того, говорят, керосином воняет».
И многие в публике готовы были повторить вслед за артистами то же — за этим или за тою, что, изображая старуху княгиню, сотрясалась от возмущения: «Прежде‑то деньги были средством, а нынче — цель. Нынче горничная — на бирже играет! Вы народ развращаете, душу его опустошили… С пустым брюхом он тысячи лет живет, а с пустой душой не прожить и десятка!..»
…«Большой человек» Ишимов, занимающий весьма крупный пост, предложил некий кардинальный проект, вокруг него и плетутся интриги — в игорном полусветском салоне, на великосветском балу и даже у самой госпожи Ишимовой в будуаре.
А в череде посетителей служебного кабинета один спрашивает Ишимова, почему, имея такую власть, он не друзей наживает, а врагов?
Он Синяя Борода, он душу дьяволу продал, он вампир, он масон, нашептывают про него.
Кому‑то он отказал в субсидиях, кого‑то лишил ссуды: «Казна — не ссудная касса». Его проклинают, ему грозят… Ему предлагают миллионную взятку, а когда он не берет, посредник, коего он в приятелях держит, расценив это на свой лад, заявляет: «Нет, ты не по карману России!..»
«Чтобы здание выстроить, надо заложить фундамент», — он в этом уверен. Но задается вопросом: а где опора? И в минуту слабости признается жене, что рыл фундамент, а вырыл… яму. «Люди попадают в нее и меня проклянут». А небезгрешная молодая супруга напоминает ему, что высокий его пост — лишь гастроль!..В самом деле, слух о его отставке уже расползается по Петербургу.
Дельцы предлагают сделку, чтобы его спасти. Дюпон готов поднять бурю в западной прессе, банкир Вайсенштейн — уронить биржевые бумаги: «Этим крахом я спасаю не только вас, но и финансы Европы»… Звучит впечатляюще. Но «большой человек» не согласен, опасаясь, что государственный кредит пострадает. «Пусть обманывают Россию бессоновы — они убогие…»
Это главный его недруг — Бессонов (уж не статс–секретарь Безобразов[56] ли под псевдонимом, зловещая комета японской войны?..). Последний акт — их открытая схватка. И ничем не прикрытая публицистика.
«… Бессонов. Нужно пожертвовать экономическим благополучием ради героического подъема, гражданственностью — ради государственности. Дух предков, создавших великое государство, вытесняется материальными заботами. Забудем узкую партийность, навеянную теоретиками экономических принципов, подражателями гнилого Запада. Проявим патриотизм!
Ишимов. Вы за голод, невежество, бесправие и… движение вперед?!
Бессонов. А вы за деньги, проценты, полуобразование, полусвободу, полукультуру и… ожидание иностранных благодеяний?!
Ишимов. Значит, реформы — застой, а взамен — «героическое движение»?
Бессонов. Нигде опыты материальной эмансипации не проходили даром. И могут завершиться пробуждением в человеке зверя… реформы материального быта не успокаивают, а волнуют народ, часть его уже потеряла историческое направление русской жизни. Надо встряхнуть народный дух в сторону национального идеала. Надо сделать выбор. Политическая экономия — наука, а патриотизм — религия!
Ишимов. Вы патриоты, а я космополит! Упрек в недостатке патриотизма — излюбленный вами конек. Вы знаете историю России, а я — нет! Не ново. Всякий раз, когда реформатор заносит нож над отгнившим органом русского быта, Россию обсыпает патриотизмом, как сыпью. Так было при Петре, при Екатерине, при Александре II, даже при Годунове. В родной грязи вы видите специфически русское, а я — варварское. Нищета, невежество, пьянство — результаты дурного управления. Но в России был не один Малюта. Было и новгородское вече! Народ, он мирный, он любит красоту, чистоту, порядок. Это вы хотите пробудить в нем героизм. Гунны, персы, татары тоже были героическими народами. А я хочу содрать корку грязи, привить культуру… Я потрясаю устои — ради прогресса. Иногда, чтобы двинуться вперед, необходимо рвануть назад (ну не железнодорожный ли довод?!). Ваш же патриотизм — сектантский, религия государственности — религиозное изуверство!..
Бессонов. Лучше суеверие, чем безверие!..»
Последний резон выдавал скорее отчаяние побежденного, нежели сдачу позиций. Но тут в схватку многоглаголящих спорщиков вмешивается миротворец — старый князь.
«Это все то же, что было, — вздыхает он, умудренный жизнью, — Рассорятся бояре и обвиняют друг друга в измене… Лучше давайте вместе искать правду, ради будущего России — помиритесь!»
Под занавес откуда ни возьмись является другой старый князь, вестник сфер, с известием, что проект Ишимова утвержден. И что он остается!..
«Большой человек» — так пиеска и называлась — принимает общие поздравления.
Счастливый конец.
Из театра публика расходилась, терзаемая противоречивыми впечатлениями. Одни не скрывали возбуждения, другие, как это бывает, отмалчивались в задумчивости. А кто‑то громко возмущался услышанным — и увиденным.
В зеркале…
Автор пьесы ожидал от Сергея Юльевича похвалы и, может быть, благодарностей даже, когда заехал на Каменноостровский после спектакля. Как‑никак это шумное появление «Большого человека» на театральных подмостках не могло, если вдуматься, не поспособствовать столь желанному для Сергея Юльевича возвращению на общественную авансцену.
Вопреки ожиданиям, граф встретил довольного успехом «лейбу» неприветливо, хмурясь.
— У меня к вам покорнейшая просьба, мон шер. Не затруднитесь, пожалуйста, сообщить в газеты, что ваш «Большой человек» не имеет к графу Витте ни малейшего отношения.
Колышко опешил:
— Чем же вы недовольны? В городе злые языки утверждают, что за эту пьесу я с вас миллион получил!..
— Я ничего, — отвечал на это Сергей Юльевич. — Но Матильда Ивановна! Она у вас в пьесе, сударь, — «темного происхождения»… А ведь это, знаете ли, совершеннейшая неправда! Ее отец был учителем английского языка!..
5. Темное происхождение
Матильда Ивановна облилась слезами, когда Московский Художественный театр привез в Петербург чеховские «Три сестры», настолько щемяще все это растревожило собственное… то, чего предпочла бы не вспоминать. Провинциальный город. Три сестры. Гарнизон. И это — вечно: «В Москву! В Москву!» Их новгородский круг был, правда, отчасти иной, нежели у чеховских героинь, и клич был не этот, а — «Отсюда! Отсюда!». Но до последнего занавеса не отнимала Матильда Ивановна платочка от глаз. Завзятая театралка, она ни одной премьеры или гастроли старалась не пропустить, а редко когда испытывала подобное потрясение.
…С молчаливого родительского одобрения все три — не чеховские три сестры — крестились в старинной запущенной церкви… «Отсюда» — для них значило не только из постылой провинции, из теснимого иудейства прочь. Родители перебрались из черты оседлости в светлые пореформенные времена, для них губернский Новгород был пределом желаний. Дети же, вопреки тому, что в порядках многое поворачивало на прежнее, мечтали о жизни столичной… Так что стоило заезжему чиновнику петербургскому предложить с ним пойти под венец, старшая из сестер раздумывала недолго. Две другие от души за нее порадовались… да муженек оказался на поверку порядочное дрянцо. Не один год промучилась с ним, прежде чем судьба вознаградила ее встречей с Сергеем Юльевичем… Ну а сестры с городом распрощались не скоро, хотя тоже в девицах не засиделись. И, по местным меркам, повыходили удачно, за приметных в губернии женихов. Женя — за инженера, заведовавшего дистанцией на железной дороге. За известного всему городу земского доктора — Вера (правда, доктор Григорий Лазаревич был по паспорту Гирш Лейзер…). Лишь спустя много лет, словно бы в осуществление девичьей мечты, удалось благодаря Сергею Юльевичу вызволить обеих сестер в Петербург…
А сама Матильда Ивановна очень скоро пожалела о переезде. Вырваться‑то вырвалась, да с замужеством явно поторопилась… Опомнилась, было уже поздно. В люльке гукала дочка. Когда бы не это, ни за что не осталась бы со своим то ли коллежским асессором, то ли секретарем. Петербургский чиновничий быт оказался совсем не по ней. А к тому же асессор… то ли секретарь попивал и в картишки поигрывал и ей каждую копейку высчитывал. Лишь одним выделялся из вицмундирного своего мирка — сановною теткой, супругой придворного генерала. По праздникам, а нередко и просто по воскресеньям наносили их превосходительствам родственные визиты. В генеральском доме и познакомились с министром Витте.
Потом Сергей Юльевич ей признавался, что она произвела на него впечатление еще раньше, — однажды в театре он увидел ее в ложе и долго, почти до неприличия долго, лорнировал, в каждом антракте, но, увы, она не обратила на это внимания… На самом‑то деле очень даже обратила, его фигура слишком выделялась из публики… и даже разузнавала, кто он, этот представительный господин.
Встречаясь с супругами Лисаневич, нетрудно было заметить… вернее, трудно было не заметить, что муж ведет себя невозможным образом и что их семейное счастье совершенно разрушено. При всем желании скрыть это Матильде Ивановне не удавалось. Вдовец, Сергей Юльевич решился. Стал уговаривать ее разойтись с мужем… выходить за него!..
Это было похоже на сказку — Золушка на королевском балу, с тою разницей, что у нашей Золушки дочь… Принц конечно же знал об этом.
— Сергей Юльевич, милый вы мой, — в ответ на его предложение возразила она, — да известно ли вам, из какой я среды?
— Какое это имеет значение?! — воскликнул принц.
Признаться, она не поверила, что он не лукавит. А он
был искренен с нею. Объяснение нашлось позже: он рос на Кавказе, учился в Одессе, где разные веры и разные нации в ту давнюю пору еще прекрасно уживались между собой. А ей, умудренной, только и оставалось, что пожимать плечами. Да что говорить… Где те счеты, чтобы на них сосчитать, скольких стоила женитьба на ней Сергею Юльевичу хлопот…
Развод с Лисаневичем, обратившийся едва ли не в торг, показался не более чем пустяком, хотя и досадным, после того как он — министр — по причине такой женитьбы сделал царю заявление об отставке. Положение свое, карьеру, можно сказать, суть жизни бросал он к ногам любимой своей разводки… Могла ли женщина устоять перед этим безрассудным рыцарем–великаном?! Не какая‑то была наивная барышня, чтобы этого не оценить, опытом довольно Господь надоумил!.. На ее счастье, отставка не была принята, а то бы взяла Матильда Ивановна еще один грех на душу… Но дальше‑то, дальше… На каждом шагу подстерегало обоих напоминание о темном прошлом!
Какие‑то неясные толки вились вокруг ее имени и до нее долетали; какие‑то нашептывания, наговоры. Госпоже министерше полагалось быть представленной ко двору. Разносилось, что чуть ли не сама государыня не желает с ней знаться. Будто бы из Новгорода докатились до высочайшего слуха гарнизонные сплетни… Будто бы новоиспеченная министерша танцевала и пела там в офицерском собрании едва ли не неглиже, а потом господа офицеры отвозили ее в санях, завернутою в шинель… Было? Может, в юности что и было, да, казалось, быльем поросло… Да и где, как не в офицерском собрании, оставалось в Новгороде веселиться?.. От светского лицемерия с непривычки тошнило. На себя бы, сиятельные, обернулись. Но то, что прощалось в своем кругу, — выскочке ни за что, никогда. Да к тому же еще из этих… Уж такой‑то привкус Матильда Ивановна чувствовала нутром.
Теперь она догадывалась, кто мог распускать эти сплетни, живучие по сию пору. Минуло семнадцать лет, а женитьбы на Матильде Ивановне Сергею Юльевичу не простили. Новгородской дивизией в ее годы командовал генерал Раух. Теперь генерал Раух–сын, не последняя скрипка в яхт–клубе, приближенный к великому князю, опекает дубровинскую «черную сотню»… Нападки на еврейку жену задевали Сергея Юльевича куда сильнее, нежели ее саму. Она им не удивлялась. Она привыкла. А вот за него всякий раз было больно. Не могла притерпеться, что из‑за нее на нем словно Каинова печать. Что бы он ни делал, все приписывалось воздействию зловредных ее козней. И она терзала себя, что испортила ему жизнь. Он же ни единым словом не попрекнул ее никогда… Угрозы, покушения… все это не могло, конечно, Матильду Ивановну не пугать. Случалось, угрожали не только ему, но и ей, даже дочери с внуком! Но головы она при том не теряла. И это Сергей Юльевич в ней очень ценил.
6. Дуэль на перьях
В тот самый момент, когда следователь по важнейшим делам принимал свое соломоново решение, граф Сергей Юльевич оказался втянут в довольно‑таки непривлекательную историю. С легкой руки Гурьева, то есть, конечно, напротив, с нелегкой его руки, данная генералу Куропаткину отповедь кончилась вызовом Сергея Юльевича на… дуэль. В двадцатом‑то веке!
Знакомство их было давнее, еще времен турецкой войны, когда «юго–западный железнодорожник» занимался перевозками войск, а капитан Куропаткин служил под началом у Скобелева[57]. (Скобелев, тогда еще полковник, их, помнится, и познакомил — получилось случайно: Витте подвез по пути офицеров в своем служебном вагоне.) Много позже один мудрый человек отозвался о Куропаткине как об умном офицере, и храбром, и что сделает большую карьеру… но душа у него штабного писаря. Характеристику генерал оправдал с блеском, действуя в Маньчжурии против японцев, хотя, ясно, не мог о ней и подозревать.
Накануне отъезда Куропаткин провел вечер у Витте. Обсуждал положение на Дальнем Востоке, делился собственными своими намерениями…
На прощание сказал:
— Сергей Юльевич, вы могли бы мне дать хороший совет, что делать.
— Я бы мог, — согласился Сергей Юльевич, — только вы меня не послушаете.
— Но почему же?! — вскинулся генерал. — Вы же знаете, как я ценю ваше мнение…
— Вы с кем едете? — спросил Сергей Юльевич.
— Со своим будущим штабом.
— Вы можете этим господам доверять?
— Разумеется, и вполне.
Тогда Витте сказал:
— Приехав в Мукден, я бы на вашем месте так поступил. Послал к главнокомандующему своих офицеров, приказав его взять под стражу. Ваш престиж в войсках по прежней боевой службе позволяет на это решиться… Затем посадил бы адмирала Алексеева[58] в поезд, на котором приехал, и отправил его в Петербург. И телеграфировал государю, что для успешного исполнения того громадного дела, которое вы, ваше величество, на меня возложили, я счел необходимым поступить таким возмутительным образом, ибо без этого успешное ведение войны невозможно… за подобную дерзость я заслуживаю расстрела, однако же ради пользы родины прошу великодушно простить.
— Всегда вы, Сергей Юльевич, шутите, — замахал генерал руками, — я же вас серьезно спросил!..
— Нет, Алексей Николаевич, я не шучу, — сказал Витте. — Я убежден, что со дня вашего приезда наступит в армии двоевластие и станет причиной всех будущих неудач.
— А вы правы, — с неожиданной горечью произнес Куропаткин.
Но, конечно, приехавши в действующую армию, даже частью ничего не исполнил. А в итоге несогласованность генеральских планов, не удалось осуществить ни один; доведенная до абсурда разноголосица привела лишь к отступлениям, систематическим и позорным. Когда же Петербург наконец сместил Алексеева, оказалось, что уже слишком поздно…
Так вот и получилось, что необходимая, как сказал Куропаткину всесильный министр Плеве, для удержания революции маленькая победоносная война обернулась на деле кровопролитием, постыдно кончилась поражением, к революции привела…
А когда министр отставной с превеликими трудностями заключил в Портсмуте мирный договор, отнюдь не победоносные генералы, и не в последнюю очередь Куропаткин, подняли крик. Они расправили плечи и замахали после драки руками: ну и что из того, что нас били, все равно мы могли победить, когда бы Витте не подписывал мира! В том все зло, а то бы мы показали макакам!
Их хвастливый крик был охотно подхвачен всеми, кто натравливал на Японию.
Вообще‑то неожиданности в сих напраслинах было мало… Еще только отправляясь в Портсмут, Витте представлял, что в любом случае угодит под огонь, подпишет мир или нет. Подписал — значит отнял у горе–вояк победу, не подписал — значит бросил на произвол судьбы!.. Но что станут попрекать за кощееву скаредность при подготовке к войне, такое, признаться, в голову не приходило. И кто! Куропаткин, навязывавшийся в друзья…
В Николаевской инженерной академии приближенный к бравому Куропаткину генерал, не смущаясь присутствием Витте, заявил в публичном докладе[59], что причиной слабости Порт–Артура была, оказывается, «диктатура металла» — понимай: министра финансов, не дававшего достаточно денег. Сергей Юльевич не смолчал. С документами в руках, с цифрами, благодаря изысканиям Гурьева подготовленный к подобному диспуту, с той же кафедры укладывал оппонентов на обе лопатки. Мог, конечно, еще припомнить визит Куропаткина перед самым отбытием на Восток; счел за лучшее не касаться их частной беседы. И остального хватало, чтобы уличить докладчика–генерала, а значит, и самого Куропаткина в неточностях на всяком шагу, а равно и в умолчаниях, и если углов не скруглять (а Сергей Юльевич не стал этого делать), то просто в передергивании фактов, в шулерстве.
Карточные термины вошли с известных пор в моду, сама политика, по мнению Сергея Юльевича, стала часто смахивать на азартные игры… Едва ли не главный из игроков заявлял не однажды, что делает ставку на то‑то. Например, в крестьянском законе он сделал «ставку на сильного». Как тут было не вспомянуть секрета полишинеля про Столыпина–старшего… Петра Аркадьевича батюшка, известный в свою пору бонвиван и игрок, даже имение свое, говорили, выиграл за ломберным столиком!..
Так вот, после сказанного Сергеем Юльевичем карта Куропаткина была бита!
Генеральские честь и достоинство, столь высоко поднятые на сопках Маньчжурии, оказались задеты и до такой степени уязвлены, что ретивое взыграло: последовало послание оскорбленного к обидчику в самых лучших традициях с вызовом на дуэль.
Сергея Юльевича не часто заботило, как он выглядит со стороны. Ознакомившись с сим документом, он точно наяву вдруг вообразил себе оперу «Евгений Онегин» и как сходятся они с генералом к барьеру, точно Ленский с Онегиным, с той лишь разницей, что Ленскому этому от роду и Онегину этому седьмой десяток пошел… смех и грех.
Между тем генерал, за поруганную якобы честь вступившийся с горячностью безусого корнета, по всей видимости, отнюдь не шутил. Отнес на собственный счет сказанные графом слова о великих полководцах, как Суворов и Кутузов, которые‑де обладали гражданским мужеством переносить превратности судьбы без оборота вины на других, и просил графа назначить секундантов, со своей стороны поручив тому самому злополучному генералу–до–кладчику обговорить условия поединка. Тот, опять же согласно традициям, похлопотал о свидании, Витте принял его у себя, заранее, впрочем, предупредив, что в своем выступлении вовсе не имел в виду Куропаткина, и выказав удивление по поводу его поступка. Напрашивался, правда, сам собою вопрос, в кого же в таком случае граф метил… Впрочем, имя‑то не названо было; не прозвучал и вопрос. Убедившись, однако, что все это не дурной анекдот, Сергей Юльевич, не слишком сведущий в подобных, давно, казалось, отошедших обычаях, позвонил приятелю, барину и жуиру. Спросил совета.
Приятель отнесся к происшествию без особенного веселья.
— Вызов надо принять, — сказал он, — а затем, разумеется, уладить миром. В противном случае насмешек не оберешься.
И пришлось обидчику вступить в переписку с обиженным, избегая при этом столь рискованных терминов, как секундант и дуэль, а изъясняясь на языке привычном, по поводу переговоров через уполномоченных на то лиц. Вследствие чего двое уполномоченных повели дебаты под протокол с двумя секундантами по главной проблеме: было нанесено оскорбление или не было, и в зависимости от этого надлежит ли графу принести свои извинения или достаточно лишь выразить сожаление о случившемся… О, эти споры об отдельных словах и оборотах речи, взаимные уступки и компромиссы и выработка текста сообщения для печати… Ей–богу, в Портсмуте обстояло проще. Более чем взрослые люди в генеральских чинах, с одной стороны, и не меньших рангов — с другой, совещались не один день, покуда прямо‑таки на дипломатическом уровне не составили письменное соглашение, в котором договаривающиеся стороны сочли недоразумение вполне законченным. В чем с сознанием, выполненного долга и подписались в четыре руки.
А недолгое время спустя порешил было потребовать сатисфакции от Сергея Юльевича, правда по поводу совершенно иному, его высокопревосходительство председатель Совета Министров Столыпин.
7. «День Азефа»
Переписка со Столыпиным, ничего подобного поначалу не предвещавшая, началась много раньше вследствие обиды Сергея Юльевича на черносотенную газету.
…День 11 февраля девятьсот девятого года запомнился главным образом как «день Азефа». Того самого провокатора и террориста, Агента с большой буквы, вскормленного, можно сказать, с руки Рачковским и не слишком благородно с ним под конец обошедшегося. (Да и способен ли монстр поступить с кем‑нибудь благородно?!) Его имя до тех пор мало кто знал даже в тесной сыскной среде. И вдруг в одночасье из населенной безымянными призраками непроглядной мглы полицейского и революционного подполья этот призрак оказался выброшен под софиты на политическую авансцену. В тот день в Государственной думе председатель Совета Министров и министр внутренних дел Столыпин отвечал на запрос депутатов по делу Азефа. Его тайное имя и секретное дело получили огласку еще месяцем раньше, так что мгновенное превращение неприметного червячка в ослепительную, на сей раз чудовищностью своей, бабочку случилось тогда, в январе, и бурление в пораженном метаморфозою обществе целый месяц сотрясало печать, пока не достигло думской трибуны.
Тогда, в канун Нового года, цека эсеров объявил ко всеобщему сведению, что было прекрасно известно тому же Рачковскому, а именно: один из революционных столпов — агент полицейской службы и провокатор.
(И вместе с тем снова имя Рачковского — который раз — выплыло из небытия.)
На первых порах, впрочем, в печати пробормотали об этом событии невнятно и глухо. Появились, мол, за границей, а затем и в русских газетах известия, что агенты полиции причастны к организации некоторых террористических актов, как‑то: против великого князя Сергея Александровича, министров Сипягина, Плеве, других. Так вот, официальное осведомительное бюро объявляет означенные известия безусловно вымышленными.
Читатели, впрочем, не хуже газетчиков догадались, что дыма без огня не бывает.
Полыхнуло через несколько дней, когда арестовали Лопухина, отставного директора департамента полиции. И тотчас печать захлебнулась от заметок, сообщений, статей о некоем инженере Азефе, члене «тайного общества, именующегося партией социалистов–революционеров», сообщавшем полиции о преступных замыслах «означенной группы» и ею разоблаченном… с помощью Алексея Александровича Лопухина.
Уж тут огонь разметало, как будто от взрыва. На третий день после ареста Лопухина последовали запросы в Государственной думе к министру внутренних дел (а может быть, сам арест был заблаговременным ответом на готовящиеся в думе запросы): известно ли министру, что состоящий на жалованье у департамента полиции агент состоял одновременно членом цека, одним из руководителей боевой организации партии эсеров и, находясь в сношениях с фактическим руководителем политического сыска Рачковским, участвовал в организации крупных террористических актов?.. Известно ли министру, что это органическая часть деятельности политической полиции?! Какие меры приняты министром для привлечения в судебном порядке Рачковского, Азефа и прочих полицейских чинов? Какие он меры намерен принять к прекращению со стороны агентов правительства руководства террористическими действиями и участия в их совершении?.. Как всегда в Думе, не обошлось без обильных прений, однако же спустя две недели, того самого 11 февраля, Столыпин поднялся на трибуну с ответом.
Оратор отменный, признанный мастер либеральных речей, перво–наперво попенял оппозиции, что она стремится поставить правительство в невыгодное положение, возведя на него напраслину в таком «весьма несложном» деле; после чего пустился в рассуждения по поводу самих понятий «провокация», «провокатор». Не тот провокатор, кто доносит полиции, осведомляет власти, провокатор лишь тот, кто при этом подстрекает на преступление, толкает к нему, участвует в нем. Ну а далее, шаг за шагом разбирая азефовскую биографию, его карьеру, или, вернее, карьеры, революционную и полицейскую, одна другой параллельные, выводил заключение, из геометрии элементарно знакомое: параллели не пересекаются. Разъяснив отношение этого агента к службе розыска, а в конкретности к Рачковскому и Лопухину, отклонил причастность его к убийству предшественника своего Плеве, и к убийству великого князя Сергея Александровича, и ко множеству других покушений; доказательством чему служили неизменные алиби Азефа, отсутствие его на местах преступлений. Министр выгораживал не террориста, он спасал репутацию государственной службы. И с деланным пафосом заверял, что преступную провокацию правительство не терпит и никогда не потерпит!.. И весьма сожалел, что идти к политическим целям в наше время приходится между бомбой и браунингом… И выражал восхищение тем, как высоко у полиции развито чувство чести и верности присяге и долгу.
Его высокопревосходительство, казалось, мало чем рисковал: пресловутый Азеф, слава Богу, предусмотрительно скрылся — от партийных товарищей, едва узнал об их приговоре… но ведь в то же самое время, в своей параллельной карьере, — и от преследования по суду, о чем так хлопотали наивные думские краснобаи. И слава Богу, и слава Богу! А то в случае, когда бы параллельные линии вопреки геометрии пересеклись, в этой точке пересечения могло бы раскрыться такое!..
Зато полицейский деятель, не суть важно, что отставной, вступивший открыто в сношения с террористами, предавший им служебные тайны и с треском посаженный под арест, достоин был всяческого поношения. За предательство, за государственную измену!.. И это, между прочим, благоприятствовало тому, чтобы переключить на него внимание взбудораженного скандальным происшествием общества…
И все‑таки громким делом Лопухина не удалось заглушить вопиющее дело Азефа. Имя окаянного инженера не сходило с печатных страниц. Как обычно, по–своему отметило «день Азефа» дубровинское «Русское знамя». Перепечатало из московского своего подголоска пространную статью.
«Граф Витте и провокация» — называлась статья…
Уже сообщая об аресте Лопухина, с редкостной прытью связала эта газетка Витте с Азефом, поместив по соседству статейку с обличением «социал–убийц» и восхвалением героя Азефа, выданного негодяем Лопухиным… Сопровождалось все это плачем над российской судьбою, если такой Лопухин мог возглавлять полицию, а граф Витте — управление государством! Безымянный автор наконец‑то теперь прозрел, отчего это бомба разорвала в клочки бедного Плеве, именно когда вез государю бумаги, уличающие Витте в измене!..
Сию мысль с любострастием развивала статья, перепечатанная в дубровинском органе. Совсем с другими запросами следовало бы выступать русской Думе! Почему правительство не принимается за действительного провокатора, создавшего и Лопухиных, и всю жидовскую революцию?! И автор (на сей раз поставивший подпись) замешивал дальше любезное ему варево: одна женитьба на еврейке давала, мол, основание подозревать тогдашнего денежного временщика в сношениях с революционным еврейством. Но… директором полиции был Лопухин, очарованный этой еврейкой. А разыскания Плеве привели его к гибели… В подтверждение приводилось свидетельство давней поры о влиянии коварной Матильды Ивановны на простодушного Лопухина, что придавало особый вкус блюду: ее, обольстительницы, сестра, вернувшись в Киев от столичной родни, хвасталась знакомством с Лопухиным, совместными катаниями на тройках и ужинами с его участием, и что он совершенно околдован сестрою, она делает из него все, что хочет!..
Одного газетного номера показалось мало, чтобы посмаковать эту пишу. Последовало продолжение с обвинениями злодея Витте во всех смертных грехах, в роковом влиянии на дела государства, на финансы, промышленность, сельское хозяйство. И пассаж заключительный, на десерт. Одурачив русское общество, развязав смуту, этот «кумир прогрессивного лагеря» предательски настоял на Манифесте 17 октября!..
Отвечать на черносотенный бред, пускаться в какие‑либо объяснения по сему поводу Сергей Юльевич посчитал бы ниже собственного достоинства. Когда бы не грязные выпады против жены. Именно потому, не откладывая, он переправил зловонное сочинение председателю Совета Министров. Потребовал спросить с клеветников–злопыхателей–пасквилянтов по всей строгости.
Ответ Столыпина, присланный без задержки, по случайному ли совпадению или со смыслом, был помечен все тем же днем 11 февраля… какое, казалось бы, это имеет значение? Почему‑то представлялось интересным, прежде ли выступления в Думе по деду Азефа или после, из Думы возвратясь в министерство, отписал ему Петр Аркадьевич… Не связать же одно с другим было решительно невозможно.
Ответ его высокопревосходительства гласил:
«…Немедленно по прочтении присланной Вами статьи я приказал обсудить, какие возможно принять меры против газет, напечатавших статью… Обвинение может быть возбуждено лишь в порядке частного обвинения…»
А далее: «…жалею, что не могу оказать… прошу принять уверения…» — и тому подобное. Иными словами: оскорбился — добивался бы справедливости самостоятельно…
— Газеты изо дня в день штрафуются, часто без повода, — в сердцах сказал, прочитав, Сергей Юльевич Матильде Ивановне. — Попробовала бы газета чем‑либо задеть его двоюродную племянницу! Сейчас получила бы возмездие!..
И с этими словами сложил столыпинское письмо в соответствующую папку.
8. Вокруг графини
Как будто бы за сестрою Женей не водилось этакой дамской невоздержности языка… Когда Сергей Юльевич прочитал Матильде Ивановне остро пахнущую статейку, то место, где, со слов сестры, говорится, как коварная Матильда Ивановна совершенно подчинила себе несчастного Лопухина, просто невозможно было себе представить, что Женя хвасталась этим. А вот надо же! Сколько лет минуло — и отозвалось, и связалось, по обыкновению, с их проклятою кровью.
Выйдя от Сергея Юльевича, графиня подняла телефонную трубку.
— Прошу вас, барышня, двести двадцать восемь, два нуля… Послушай, Женя, вы еще жили в Киеве, ты к нам приезжала, Лопухина Алексея Александровича помнишь, конечно?
Теперь они жили — перейти только Троицкий мост, однако перезванивались гораздо чаще, чем виделись.
— Да, я слышала, он арестован, какой ужас! Ведь настоящий аристократ, ты согласна со мной, Манюша? — затрещала в трубку Евгения Ивановна, не уловив в словах сестры горечи.
— Скажи, когда это было?
— Это важно? Я думаю, в девятьсот втором… Сергей Юльевич еще имел министерство…
— Вот послушай, что пишут о нашем знакомстве…
И Матильда Ивановна прочитала по телефону то место.
— Какая гадость! Тебе не хочется помыть после этого руки? — спросила, выслушав, Евгения Ивановна.
— Сережа, — сказала Матильда Ивановна, — возмущен и пишет Столыпину.
— Пустое, — сказала Евгения Ивановна, — стоит ли обращать внимание?!
Сестры дружили всю жизнь. С третьей сестрой, Верой, разумеется, тоже, но особенно тесно между собой. Далеко друг от друга жили или, как теперь, рядом, не имело большого значения. Изнурительные переговоры с Лисаневичем, первым мужем Матильды, вела Женя и в Петербурге, когда добивались согласия на развод, и в Москве — на усыновление Сергеем Юльевичем ребенка. И когда его предупредили о покушении, а он наотрез отказался остаться дома, Матильда тут же кинулась звонить Жене. И маскарад с экипажем они придумали вместе…
Была Матильда Ивановна такою женщиной, какой была. Не всех же наградил Господь степенностью и строгостью нрава, что ж тут делать… До сих пор не прочь и потанцевать, и попеть, и одеться — бабушка — в модном парижском салоне, и в драгоценных побрякушках покрасоваться от ювелиров с рю де ля Пэ… В Петербурге, случалось, шляпку выберет или еще что, мимоходом велев счет Сергею Юльевичу послать… догадываясь, что не каждый лавочник на это решится… А в казино в Биаррице в рулетку иной раз заигрывалась до утра и не пропускала громкой петербургской премьеры… Свет набрасывался на сплетни о ней, как голодный на хлеб.
Куда гарнизонным кумушкам было до изысканных дам! Их язычки молотили без передышки Бог знает что… А Матильде Ивановне, что уж греха таить, всегда так хотелось поблистать на светском балу!.. — о придворном в молодости не могла и мечтать… Бывало, еще сановная тетка первого мужа описывала придворные балы с каким‑то наслаждением даже. Самый главный из них, запоминала племянница, открывавший сезон, устраивался в Зимнем дворце, в Николаевском зале.
— Сколько же гостей на нем было? — интересовалась с замиранием сердца.
— До трех тысяч, голубушка, до трех тысяч! Только представь себе морозный январский вечер, девятый час. На площади, у Александровского столпа, полыхают костры, а дворец просто залит светом; кареты подкатывают одна за другой. Меха, горностаи, головы не покрыты, замужние дамы являются в диадемах, а барышни с цветами в прическах.
— Все поднимаются по мраморной Лестнице, — не переводя дыхания,, продолжала тетка, — на кавалерах белые мундиры и красные, белые ментики с бобровой опушкой, бешметы кавказских князей… Дамы в платьях со шлейфом и большим декольте, с бриллиантовым шифром или портретом на левой стороне, на корсаже… Ожерелья, колье, кольца, браслеты, цепи… Жемчуга, бриллианты, рубины, сапфиры…
…Но знаешь, слишком новое и дорогое платье выдает выскочку. Голубая кровь не нуждается в последней модели!..
А бедная родственница знай только кивала, чтобы назавтра, проводив в департамент мужа, нацепить свои жалкие побрякушки и, вертясь перед мутным зеркалом, даром что уже старуха, едва ли не тридцатилетняя, ощутить себя во дворце в ту минуту, когда, как тетка рассказывала, под звуки полонеза арапы — придворные негры в больших тюрбанах — распахивают перед их величествами двери Малахитового зала.
- …После полонеза начинается вальс…
Матильда в каком‑то оцепенении пыталась представить себе всю эту невообразимую роскошь… но в вальсе и там, во дворце, не могли бы ее не заметить, в том она не испытывала сомнений!..
А после мазурки их величества переходят в зал, где накрыты столы. Их стол — на возвышении, как на сцене… Государь сам не ужинает, обходит приглашенных, присаживается сказать слово…
Завершается бал котильоном, и высочайшие особы удаляются, прощаясь на пороге Малахитового зала со свитой.
Ах!..
И вдруг неожиданно то, о чем и мечтать не смела, оказалось по мановению перста Божьего доступным, близким!..
Увы! В скором времени ей пришлось убедиться, что Сергей Юльевич тяготится дворцовою мишурой. А ведь там составлялись карьеры!..
— Ну и пусть их! — кривился. — Поздно мне подвертываться на глаза к вершителям судеб…
Почти с отвращением влезал поневоле в парадный вицмундир при звездах во дни высочайших выходов, на коих был обязан по рангу присутствовать и, более того, участвовать в торжественном шествии с придворными дамами, сенаторами, хлыщами свитскими наравне… Одно, говорил, спасение было. В ожидании, когда закончится церковная служба, выйти на черную лестницу подымить папироской. Даже и великие князья туда порой ускользали. Там можно было и побеседовать всласть, но только, по традиции, не о делах, не о службе…
Едва ли не со слезами на глазах она потом выслушивала, как он томился во время всех этих величественных церемоний… куда было рассказам Сергея Юльевича до живописаний прежней сановной тетки.
Когда Матильда Ивановна, случится, упрекнет его в этом, он лишь снисходительно улыбнется:
— А она не говорила ли, часом, как эта благородная знать разносит во время бала буфет? Разок бы тебе посмотреть, как разряженная толпа кидается, точно по команде, к столам, опрокидывая вазы с фруктами и с цветами… как к расшитым мундирам прилипают торты, а шляпы наполняются яблоками и грушами… как плавают пирожки в лужах разлитого шоколада. Впечатляющее, доложу тебе, зрелище! Одно спасение — танцы, за это время вышколенные лакеи успевают хоть немного прибраться… Ты еще не довольно узнала людей, моя милая! Человечью породу…
Но не так‑то было легко Матильду Ивановну уговорить… Ах, ее бы туда, уж там бы растормошила сушеного бюрократа Сергея Юльевича! И не его одного!.. Только путь ей заказан… Далеко ее унесло от давнишних гарнизонных увеселений, и вот дверь захлопнули перед носом. Она, видите ли, недостаточно порядочная, чтобы быть принятой во дворце! И все из‑за этой немки, истерички, коронованной интриганки! Развратники великие князья — пожалуйста. И великих княгинь, как любвеобильная Мария Павловна[60], просим!.. Ну что ж, нет так нет. Она им ответит по–своему. Ах, ее отказываются приглашать во дворец? Ах, не желают принимать в великосветских салонах? Она заведет собственный! Как мотыльки на огонь, станут слетаться туда их напыщенные мужья. В белом доме на Каменноостровском, там будет весело, вкусно, обильно, хмельно… пусть потом ославят хозяйку дома как львицу веселящегося Петербурга, что ж, к себе привораживать — это у нее получалось. Интимный царя и царицы наперсник, князь Котик Оболенский, сделался ее другом и впал а немилость, но ее не оставил, Матильда Ивановна могла втайне торжествовать… Она умела и оттолкнуть от себя, если нужно… Жуир, сердцеед Скальковский, писатель, путешественник, сановник, делец, которому она предпочла когда‑то Сергея Юльевича, долго не желал примириться с этим. К подобным щелчкам не привык… Директор горного департамента — это от него «керосином воняло» — печатал статьи под псевдонимом Балетоман, о нем ехидно писали, что горный сей инженер знаменит сочинениями о возвышенностях балерин. Это он, похоже, и свел счеты с Матильдой Ивановной, издав за границей тот безымянный памфлет, который Сергею Юльевичу пришлось потом вылавливать у берлинских книгопродавцев. (Нельзя исключить, впрочем, что авторство принадлежало зловредному Циону, и в таком случае, стало быть, мщение предназначалось не Матильде Ивановне вовсе, а Сергею Юльевичу самому.)
Обремененный делами, вечно занятый, Сергей Юльевич далеко не всегда мог присутствовать на салонных приемах. Лишь нет–нет да и появится среди гостей, отовсюду заметный, чтобы перекинуться словечком–другим то с тем, то с этим, и вскоре опять исчезнет… Оставлял, впрочем, все дела, когда Матильда Ивановна пела романсы под аккомпанемент дочери…
А в иных обстоятельствах нуждался в ней, точно шустрый ребенок, за которым требуется глаз да глаз. На парадном обеде увлечется собственными речами, жестикулируя, станет размахивать какой‑нибудь ножкой цыплячьей, а замолчав, обнаружит, что и положить косточку некуда, тарелки убрали. В таком случае он недолго думал, как поступить, швырял объедки под стол и продолжал беседу как ни в чем не бывало. Он повсюду вел себя так, как удобней… пока не заметит взгляда жены, следившей за этикетом. В этом, в точности как в одежде или в домашнем убранстве, на нее целиком полагался.
Да и в более важных вещах тоже.
Придет вечером на ее половину, рухнет в кресло без сил. Послушает, глаза прикрывая, как пыхтит на маленьком столике самовар, а в углу на ковре похрапывает старый сеттер Арапка, и начнет почти по–ребячески жаловаться на усталость и непонимание… С ней, с Матильдой, ему легчало.
Порой он просил ее выполнить что‑то, чего самому, из каких‑либо видов, не с руки было делать. То ли предъявлялось не очень удобным. Она справлялась с деликатными поручениями… по финансовой части также! И когда после Портсмута Сергей Юльевич рассчитывал на место посла в Берлине, Матильда Ивановна как будто бы от себя написала туда Мендельсону, чтобы поддержал перед кайзером эту идею… И по просьбе Сергея Юльевича даже ездила однажды к Гришке Распутину, изобразив одну из тех дам, коих старец любвеобильный принимал без разбору. На Гороховую к нему подкатила вечером на извозчике; опустив густую вуаль, сунула три рубля швейцару, чтобы провел черным ходом…
После стольких лет супружеской жизни сохранилось то между ними, что желают, по обычаю, на свадьбах молодоженам: совет да любовь. И по этой очевидной причине не скончалась, лишь крепла с годами благодарность друг к другу, в свою очередь укреплявшая их союз… у нее же к нему благодарность еще, конечно, за то, что к дочери, как не каждый родной отец, относился.
Так чему же тут удивляться, что любую попытку оскорбить его Матильду Ивановну или унизить Сергей Юльевич принимал к сердцу, переживал с болезненной остротой, от кого бы такое ни исходило…
А несчастного Лопухина, пострадавшего от своей честности, было жаль ото всей души… о чем и поставила Матильда Ивановна без утайки в известность сестру Женю по телефону.
Только что же с этим можно было теперь поделать…
9. Хвост вертит псом
То была не первая попытка упечь его за решетку. Алексей Александрович верно знал: о предании его суду Петр Аркадьевич озаботился много ранее, за огласку письма, посланного по поводу полицейских листовок, подстрекавших к погромам. Однако не получилось.
А ведь сразу же после назначения министром посвятил Петра Аркадьевича на правах былой дружбы в важные ведомственные секреты. И в подробности печатания листовок. И в историю Азефа… Услышанное, казалось, возмутило Столыпина, заявил, что с подобными действиями покончит решительно.
Через несколько дней после их разговора Лопухину пришлось уехать по делам за границу. Тогда, летом девятьсот шестого, в Германии ему попался на глаза газетный отчет: объяснения министра внутренних дел в Думе. Все настолько противоречило сказанному в разговоре, что послал, из Мюнхена кажется, Петру Аркадьевичу письмо, вновь напомнил факты, собранные еще по поручению Витте.
Их попросту отмели…
Служить правосудию было традицией рода Лопухиных. Заседал в суде брат, дядя в окружном суде председательствовал. Много лет прослужив прокурором, слыл блюстителем законности сам… Теперь вот задумал вступить в сословие присяжных поверенных. Старался возобновить прежние, налаживал новые связи в адвокатских кругах. Обращение его к Столыпину не было для этих кругов тайной. И когда адвокаты по делу Петербургского Совета рабочих, надеясь таким образом смягчить приговор, попросили у него текст письма, он его передал. В суде письмо не позволили огласить — хотя бы по одному этому оно оказалось в центре внимания… и попало в печать.
Публично уличенный в сокрытии, нет, в извращении правды, Столыпин, уже председатель Совета Министров, пришел в ярость. В добавление к остальному его упрекали в бессилии перед полицией и жандармерией, у коих он якобы оказался в руках! И на что, интересно, надеялся, публикуя все это, наглец Лопухин?! Уж не на давнюю ли детскую дружбу?
Верно, знались с младых ногтей, принадлежа к одному кругу. Кузены Лопухиных — князья Трубецкие, кузены Столыпиных — князья Оболенские… Но дружбы‑то как раз и не было никогда: старше двумя годами, Петя Столыпин взирал на Алекса Лопухина свысока и этого не скрывал. Так что со временем легко разошлись, хотя, само собой, оставались на «ты»…
В полицейском ведомстве аристократ Лопухин, разумеется, выглядел белой вороной. Каким образом он, блюститель законности, попал на песью государеву службу?! Благодарить следовало министра внутренних дел. Ибо Плеве, не кто иной, пригласил прокурора–законника возглавить полицию. Прельстил его, можно сказать. Тем, что принял его условие, непременное: ввести полицейскую деятельность в рамки общероссийских законов.
После гибели Александра II неукоснительно действовало положение об охране, согласно коему законы существовали сами по себе, полиция же сама по себе. «Не моя вина, — писал Столыпину Лопухин, — что условие не было выполнено». Он лишь «вынужден был служить посильно ослаблению приносимого этим зла». Да к чему, впрочем, были милостивому государю Петру Аркадьевичу подобные признания человека, публично — публично! — уличавшего его во вранье, разве как и в том, что он, первый министр Российской империи, сделался как бы игрушкой в руках злоумышленных своих подчиненных! Еще бы с глазу на глаз!.. Но пуще всего боятся у нас в России выносить сор из избы.
В этом Лопухин лишний раз на себе убедился, едва вступивши на новое поприще, когда по итогам расследования кровавого погрома в Кишиневе представил доклад. А увидев его в опубликованном виде, попросту не узнал, настолько весь он был обесцвечен, стерт, смазан… Это, однако, не помешало белой вороне приобрести во мнении сфер стойкий красный оттенок. Мало того что жидам потрафлял; послаблял и рабочим, допускал, чтобы сходились, чтобы рассуждали, сходясь… Небезызвестный Зубатов, тот ведь был его правой рукой! Разве все это либеральничанье могло довести до добра?! Плеве своим ставленником сделался недоволен, однако расстаться с ним не успел. Судьбу Лопухина решило Девятое января и последовавшее за тем вскоре убийство великого князя Сергея Александровича. Сам Трепов ворвался тогда к Лопухину в кабинет и обозвал его в лоб убийцей. И тут же был вытребован из отставки Петр Иванович Рачковский…
Без малого год спустя вернувшийся к власти Витте неожиданно пригласил Лопухина к себе на квартиру, во флигель Зимнего, — побеседовать о еврейском вопросе в качестве его знатока, ввиду, как пояснил тогда Сергей, Юльевич, необходимости заграничного займа, а также успокоения в России.
Признаться, он относился к Лопухину с осторожностью, считал его человеком Плеве. Примешивалось, наверно, и личное — объяснимая давней ревностью неприязнь. Правда, она не помешала ему в свое время весьма рискованно откровенничать с конкурентом, когда тот пытался выспросить у него, а не связана ли его, Сергея Юльевича, неожиданная отставка со столь же загадочной отставкой (и ссылкой!) сослуживца Зубатова… не просто сослуживца — помощника…
Что ж, и Алексей Александрович не питал расположения к Сергею Юльевичу — тоже с давней поры. Из‑за нашумевшего мамонтовского дела. Не будучи еще с Витте знаком, прокурор Лопухин мог только диву даваться, с какой вольностью обращался с законом могущественный министр финансов.
При разговорах в Зимнем Сергей Юльевич в первый раз услышал от Лопухина, что существует под крышею ведомства полицейский аппарат для погромной агитации, И, ошеломленный, попросил Алексея Александровича разобраться с вопиющим делом… и, право, никто бы лучше его не выполнил трудного поручения!.. Однако ни это, ни даже то, что через год предупредил о готовящемся покушении, не примирило его с сим господином. Огласка скандала с полицейской типографией вызвала осуждение бюрократа: разглашать вещи, известные вам вследствие служебного положения… И новая выходка несчастного Лопухина, что привела к арестованию и суду, случилась, по мнению Сергея Юльевича, не на пустом месте. Так чему же, господа, удивляться, если за это ухватился Столыпин. Не тот был нрав у Петра Аркадьевича, чтобы простить кому бы то ни было публичное унижение.
Едва только участие Лопухина в разоблачении агента–террориста Азефа стало известно, известно притом с несомненностью — от него самого: сообщил об этом в новом своем письме к милостивому государю Петру Аркадьевичу, — судебно–полицейская бюрократическая машина была запущена полным ходом. Алексей Александрович ведал, что говорил, утверждая, что в России законы одно, полиция же — совершенно другое… Она и нагрянула с обыском на квартиру к бывшему своему главе и без излишних церемоний переселила его на другой берег Невы.
В «Кресты».
Незадолго до ареста Петр Аркадьевич изволил принять Лопухина.
— Как ты мог! Как ты смел поступать таким образом, Алексей Александрович! — восклицал премьер, этим «ты» давая понять, что прежнего не забывает, но в то же время именем–отчеством определяя нынешнюю между ними дистанцию, — Ведь ты свой долг преступил!
— В чем же ты меня обвиняешь, Петр Аркадьевич? Или, по–твоему, в порядке вещей, когда чины полиции врываются без приглашения в частный дом? И еще угрожают?!
— Не о них речь, о тебе, — жестко возразил Столыпин, — Ты находишься в сношениях с преступным сообществом! А возможно, даже участвуешь в его действиях?! Ты предал лицо, известное тебе по твоей прежней службе и принесшее немалую пользу отечеству!
— Хорошо, допускаю: необходимо иметь агентов, осведомителей в преступных обществах. Но агент, который преступление осуществляет и даже направляет, подстрекает к нему, он опасен! Опасен вдвойне, нет, по многажды! Провокатор никому не приносит пользы, а один только, Петр Аркадьевич, вред! Пойми, он действует по выбору своего шефа, какой‑нибудь столоначальник решает судьбу министра! Статский советник сваливает правительство!.. Такой негодяй может даже действовать и по собственному усмотрению!.. Служа, я этого не знал, Петр Аркадьевич, я понял это, только уйдя в отставку!..
— А того ты не понял, что совершил государственное преступление?!
— Неужели ты не осознаешь опасности подобной двойной игры? Я уже не говорю о ее беззаконности… Было время — опричники украшали себя песьими головами… Когда верные псы государевы виляют хвостом пред своим господином, это, кажется нам, в порядке вещей. Что ж, допустим. Пес вертит хвостом, на то он и пес. Но ежели хвост начинает вертеть псом, все летит вверх тормашками — справедливость, власть, государство!
— Уволь меня от выслушивания аллегорий, вижу, нам не сговориться друг с другом, — подытожил их встречу Столыпин. — А жаль.
И пригрозил напоследок:
— Придется тебе действительно пенять на себя!
Они не подали друг другу руки. Оба знали, что это последний их разговор.
…Лопухин подтвердил подозрения в провокаторской роли Азефа при встрече со знакомым своим Бурцевым, издателем журнала «Былое». Ему случалось заглядывать в редакцию к Бурцеву тогда, когда искал возможности вступить на адвокатское поприще (и параллельно — в кадетскую партию), в обоих случаях ему отказали — по формальной, но, увы, непреложной причине: как полицейскому чиновнику в прошлом. Не слишком‑то привечали его и в «Былом»… Казалось, могли бы и заинтересоваться его проектами решительных реформ в полиции, но, белая ворона, он был чужаком тем и оставался чужаком этим. Но вот понадобилось его свидетельство на затеянном эсерами партийном суде чести. Два слова, оброненные Лопухиным при случайной как будто бы (на деле же подстроенной) встрече, решили исход их суда. Алексей же Александрович за эти два слова очутился в «Крестах» в ожидании своего суда.
Его обвинили в государственном преступлении — не только сгоряча, как Столыпин, в утомительно многословном прокурорском заключении также, — по статье, которая карает за принадлежность к преступному тайному сообществу, ставившему своей целью учинение государственного переворота в России. Даже судьям Особого присутствия Правительствующего Сената едва ли могло быть неясно, что принадлежности никакой не было, было лишь подтверждение перед участниками этого общества отвратительной двойной роли их сочлена…
Подсудимый, однако, не обольщался. Ему ли, опытному законнику, обольщаться, если знаком закона даже в древности, в Риме, в колыбели права, служила фасция, ликторский пук, — он, конечно, знал, что это такое: прутья с топором посредине. Так у нас и подавно знакомства с подобными атрибутами в его положении не избежать.
Со свидетельскими показаниями на суде выступали такие чины, как охранник Герасимов, за заслуги произведенный к тому времени в генералы, и опальный Зубатов. И бывший товарищ министра внутренних дел; и отставной министр. Вызван был и Петр Иванович Рачковский, но, однако же, не воспользовался предоставившейся (не исключено, что последней) возможностью показаться на свет. По обыкновению своему, предпочел отсиживаться в тени. За сценой. Показания представил в письменном виде и на суд не явился. Да с какой стати ему было являться, когда годы службы в полиции Лопухина — это годы его отставки?.. И наоборот. Так сложилось, скорее всего, случайно. А могло бы и по веской причине. Эти два полицейских начальника были в принципе несовместимы друг с другом.
Приговор огласили на третий день. Понапрасну сверкал красноречием, безошибочно на юридических несуразностях ловил обвинителя адвокат. Как и было заранее сговорено в кабинете министра внутренних дел, суд Особого присутствия постановил: подсудимый принял участие… выдав… тайну… за каковое деяние… каторгою без срока… Но, учитывая… обстоятельства… на срок пять лет.
Сие значило, что Алексею Александровичу Лопухину предстоит путешествие по этапу в Сибирь. Правда, каторжники цивилизованного XX века не брели, как встарь, под кандальный звон окаянным Владимирским трактом, а по Великой Сибирской магистрали тряслись в арестантских, забранных решетками вагонах, нареченных в народе «столыпиными».
И покатил однажды лопухинский «столыпин» — по проложенному Витте пути…
10. Самодержавие наоборот
Незадолго до того как вынести окончательное — соломоново — постановление о прекращении якобы зашедшего, в тупик следствия и испытывая, должно быть, неловкость перед Сергеем Юльевичем за столь неуклюжее и, более того, преднамеренное ведение дела к указанному тупику, следователь по важнейшим делам (легко было сбиться, который по счету) поделился с ним еще одним доказательством причастности известного ведомства к покушениям на него.
При последней их встрече показал фотографический снимок какой‑то записки.
— Не та ли это, что вы отправили в департамент полиции?
Сергей Юльевич без труда узнал цидульку с требованием от него пяти тысяч.
— Она самая, где вы ее достали?
— Случайно… Искал почерк одного агента и обратился в полицейский архив, пока рылся в шкафу, подумал, а не посмотреть ли заодно букву «к», почерк известного вам Казанцева, и нашел на его фамилию вот эту бумажку; для проверки еще спросил заведующего архивом, чей это почерк. Он ответил: того самого агента охранного отделения, которого убил возле Пороховых Федоров…
Не иначе, следователя мучила совесть. Когда Сергей Юльевич попросил разрешения, перефотографировать для себя записку, он не стал возражать.
Так собранные Сергеем Юльевичем следственные материалы пополнились еще одним верным свидетельством. Пускай само по себе оно не содержало особых открытий, оно стало той гирькой, что перевесила чашу. Получив в скором времени уведомление — официально — о прекращении дела, Сергей Юльевич пригласил к себе известного в Петербурге судебного деятеля.
— Вот, Виктор Евгеньевич, трехтомное дело о покушении на вашего покорного слугу, — усадив в своем кабинете» протянул ему пухлые папки с бумагами. — Не примете ли на себя труд ознакомиться, чтобы изложить оценку всему, мою и вашу… быть может, на имя некоего высокопоставленного лица…
Свои пожелания Сергей Юльевич растолковал при новом, через несколько дней, разговоре:
— Теперь, когда вы убедились в полноте предлагаемых материалов, было бы, как мне кажется, целесообразно доказать на их основании, что…
И он принялся, по обыкновению своему, расхаживать большим маятником от Долгоруких к особам и назад к Долгоруким, мимо сидевшего в кресле юриста Рейнбота, оттачивая, шлифуя на ходу мысли и залпами выпуская их в слушателя, как привык это делать перед чиновниками Министерства финансов, и перед «лейбами» литературного «гарема», и перед прочими «перьями Витте»:
- …доказать, что безобразие поведения в данном случае правительственных властей как судебных, так и административных указывает на то, что свести это дело к нулю стремилось высшее правительство!..
- …что необходимо принять меры к пресечению террористической и антиконституционной деятельности тайных организаций, служащих одинаково и правительству, и политическим партиям!..
- …организаций, руководимых лицами, состоящими на государственной службе, и снабжаемых темными деньгами!.. и этим избавить государственных деятелей от того тяжкого положения, в какое поставлен был граф Витте… я то есть, — поправился Сергей Юльевич, имея в виду, что все это будет сказано от его имени.
Еще несколько вечеров провели они вместе над многословными черновиками, выправляя принятую систему доказательств и в некоторых местах стиль, прежде чем Сергей Юльевич одобрил текст окончательно, с объяснением, почему он, граф Витте, не может с покорностью молчаливо расписаться в разносной книге судебного следователя в получении извещения о прекращении дела…
— Не думали же они, в конце концов, что Витте послушно проглотит пилюлю!..
- …и почему правительство, руководимое желанием блага России, не может не принять мер к искоренению тех порядков, при которых преступники будут пользоваться безнаказанностью…
- …а если думали, то жестоко ошиблись!
- …а также почему провокация тайного агента Казанцева, да и все покушение имело целью возбудить общество против левых политических партий накануне роспуска Второй Думы…
Они занесли эти объяснения в текст черным по белому, и только тогда Рейнбот, юрист, поинтересовался у Сергея Юльевича, в чей же адрес он намерен направить послание.
И, довольный сделанным, Сергей Юльевич отчеканил:
— Его высокопревосходительству господину председателю Совета Министров и министру внутренних дел!
Он, в отличие от несчастного Лопухина, никогда не удостаивался чести быть на «ты» со Столыпиным, соответственно в переписке с ним, особливо на первых порах, держался куда осмотрительнее. А поэтому, прежде чем отправлять письмо по назначению, решил еще выяснить мнение по сему поводу у юристов высшей авторитетности, передал его копии вместе с тремя следственными томами по отдельности четырем лицам — членам Государственного совета.
Их отзывы содержали куда меньше эмоций, чем, к примеру, у князя Алексея Оболенского. Но все четверо не сговариваясь признали: в части фактической и с точки зрения законности все изложено совершенно правильно, правда, стиль как бы несколько ядовит, но сие уж проблема личная, Сергея Юльевича…
Князю же Алексею Дмитриевичу, в изумлении от прочитанного, пришли на память умопомрачительные романы Эмиля Габорио и даже сказки «Тысячи и одной ночи», настолько все показалось невероятным… когда бы не документы! Не склонный к резкостям князь все‑таки усомнился, что следователи на сей раз действовали менее энергично, чем в случаях многих политических убийств, остававшихся нераскрытыми…
Напротив, Кони, Анатолий Федорович, согласился с Сергеем Юльевичем[61], что следствие явно страдало близорукостью, и предвзятой, каковая и помешала разглядеть виновность других лиц, иного общественного положения.
— Конечно, — заметил Анатолий Федорович, — смерть одного обвиняемого и невыдача другого давали формальный повод прекратить следствие… Но я бы посоветовал требовать переисследования дела кем‑то из независимых юристов!..
Что же до самого адресата…
Встретясь с Витте в Государственном совете, Столыпин подошел к нему со словами:
— Ваше письмо, граф, меня крайне встревожило.
— В моем распоряжении, Петр Аркадьевич, документы, — ответил на это Витте. — Они, безусловно, подтверждают все, сказанное в письме… А прежде чем отправить его, я ознакомил с ним первоклассных законоведов. В их числе столь компетентное лицо, как граф Пален[62]!..
— Но ведь Пален — старик, выживший из ума! — не сдержался премьер. И на тех же повышенных тонах продолжал: — Из письма вашего вытекает одно из двух: то ли вы считаете меня идиотом, то ли находите, что я тоже замешан в покушении на вашу жизнь. Скажите прямо, какое из этих предположений, на ваш взгляд, вернее?!
Сергей Юльевич усмехнулся:
— Уж избавьте меня, Петр Аркадьевич, от столь щекотливого выбора.
Не скоро к нему поступило ответное письмо от Столыпина. Минуло более полугода. Сергей Юльевич успел пожить за границей, там вернулся к своим мемуарным заметкам и на сей раз в немалой степени их продвинул.
В июле на французском курорте Виши он посетовал: собирался продолжать в Петербурге, но оказалось невыполнимым из‑за того, что никак нельзя быть уверенным, что заметки его не попадут в руки либерального столыпинского правительства. И отметил: «При нынешнем quasi–конституционном режиме нет ничего невозможного…»
Он высказывался в таком духе все чаще и резче, в особенности за границей. Его отношение к Столыпину менялось по мере того, как сам Столыпин менялся… В этом, в сущности, не было ничего исключительного. После пятого года стало модным менять убеждения, держа нос по ветру!.. А ведь на первых порах его возвышение к власти посчитал за удачу. Но что ни месяц, разочаровывался все сильнее…
«…Если когда‑нибудь будет издан сборник речей Столыпина, — записал в Биаррице, — то всякий читатель подумает: «Какой либеральный государственный деятель»… Никто столько не казнил, никто не произвольничал так, как он, никто не оплевал так закон, не уничтожал хотя видимость правосудия, и все сопровождая самыми либеральными речами и жестами. Поистине чистейший фразер…»
И другой раз отметил нечто в этом же роде, разве что иными словами. И третий…
Хлестко написал ему в Биарриц Коковцов, старый сотрудник Сергея Юльевича и столыпинский министр финансов: «Ныне процветает полное неприкосновенное самодержавие, но только самодержавие наоборот… самодержцем является не государь император, а его премьер–министр».
Ответа от самодержца наоборот Сергей Юльевич удостоился наконец‑то, когда вернулся домой. Неубедительно и бесцеремонно (он это так расценил) отвергались там его доводы и с наглостью утверждалось, что «общее освещение» дела с его стороны якобы повторяет известную прокламацию эсеров по поводу убийства Казанцева!
Сергей Юльевич в свой черед за словом в карман не полез. Опираясь на имеющиеся в деле факты, обвинил следователей в преднамеренной небрежности и пристрастности, не говоря о медлительности; их повадки означил ехидным словечком рукавоспустие. И лукаво выдвинул допущение, что Столыпину, скорее всего, докладывали дело неполно… да и неточно, тем самым как бы упрекнул в том, в чем не так уж давно упрекал теперешний, по его милости, каторжник Лопухин: в неведении, что творится под властью…
Ни в коем разе не идиот, не соучастник, нет, нечто среднее — попуститель.
Еще прямее высказался в мемуарах: «…В моем архиве среди массы бумаг о покушении на меня есть все дело и другие несомненные документы, в том числе замечательная переписка со Столыпиным. Эта переписка дает мне нравственное право назвать его большим политическим…»
Тут Сергей Юльевич замешкался все же. Что‑то помешало заключить словом, буквально напрашивающимся по смыслу. Предпочел выразительное многоточие, кому надо, поймет…
«Кто может вместить, да вместит».
11. Поединок премьеров
В кулуарах Мариинского дворца граф Витте беседовал с профессором уголовного права Таганцевым.
Разговаривают мирно друг с другом два члена Государственного совета, что ж тут особенного, равно как и в том, что к ним подошел только–только выступивший на заседании председатель Совета Министров. Обменялся рукопожатием с профессором, протянул руку графу.
Сергей Юльевич от протянутой руки отвернулся.
Не тот был у Петра Аркадьевича нрав, чтобы безропотно снести оскорбление… За ним держалась репутация дуэлянта, да положение мешало поступить по собственной воле. Иначе бы, со своей этой славой, ни часу не мешкал!.. Кому случалось видеть, как пишет Петр Аркадьевич или подписывает бумаги, тот не мог не заметить, что, держа перо в правой руке, он двигает его с помощью левой. Молва утверждала, что это — последствие ранения на дуэли. Рассказывалась романтическая история про студента, женившегося на невесте старшего брата после гибели его от руки князя Ш. И за брата отомстившего, отделавшись увечной рукой. Да зачем ходить далеко… Получивши от Петра Аркадьевича вызов, думцу Родичеву, известному острослову, не так уж давно довелось извиняться за столыпинский галстух…
Но Родичев Родичевым, граф Витте — иной коленкор. Пришлось Петру Аркадьевичу за высочайшим дозволением обратиться. Говорили, что царь своего премьер–министра увещевал: помилуйте, Петр Аркадьевич! Два солидных государственных мужа, как мальчишки, на пистолетах…
И при всей своей вежливости, не удержав усмешки, будто спросил:
— Или, может быть, вы бы выбрали шпагу?!
Сергею Юльевичу эти придворные сплетни проливали, признаться, бальзам на сердце. Взаимная их со Столыпиным неприязнь достигла кипения. Их поединок проводил не на шпагах. Но, в отличие от не состоявшегося с Куропаткиным, без сомнения, происходил. Длился. Его главной ареной сделалась трибуна Государственного совета… Что ни утверждал бы действующий премьер–министр, отставной неизменно выставлял на то возражения. И даже недоброжелатели (коих нажил Сергей Юльевич пруд пруди) вынуждены были отдавать ему должное: возражения почти всегда убедительные.
Петр Аркадьевич оступился на второстепенном, казалось бы, деле.
Срок «самодержавию наоборот» был отмерен, как ни странно, уже тогда, когда в кругу бюрократов сознали, что оно существует. В камарилье, разумеется, тоже… Чтобы ждать перемены ветра, можно было вспомнить про пугало «президента Всероссийской республики»; те же, в сущности, силы обрядили им в свое время Сергея Юльевича. Государя было нетрудно против него настроить… Чужой воли с собой рядом «слабый деспот» не переносил.
…Обсуждали проект столыпинского министерства о введении земства в западных губерниях, цель была умалить представительство влиятельных в тех краях польских дворян в пользу русских. Граф Витте, само собой, выступил против… Не против усиления русского представительства, упаси Бог, но против предложенного способа этого усиления. Хитроумной системе земских выборов, при которой места помещиков–поляков заняли бы помещики–русские, граф противоположил права русских крестьян, обитающих в тех краях миллионов. При справедливом выборном законе именно их представители могли потеснить польских дворян.
— Но правительство наше, — заявил граф с трибуны, — испытывает к крестьянам еще большее недоверие, чем к полякам.
И с чувством заговорил о крестьянстве: знал его хорошо еще в пору железнодорожной своей деятельности. Чуть было не процитировал «Железную дорогу» Некрасова, да вовремя спохватился… А потом в ответ на упреки не стал отрицать, что земство служит ограничению самодержавия. И если в пользу народа — он, Витте, за это! А если же в пользу кучки, то против.
На стороне сильных он не выступал никогда, заявил Сергей Юльевич (и слушатели поняли без труда, в кого он при этом метит…), а всегда и до гроба — на стороне слабых, потому что слабые в России — это народ, тогда как сильные — лишь незначительное меньшинство.
— И вот, — подытожил, — на западных землях хотят создать олигархию!.. В то время как русское крестьянство, подобно быку, потом–кровью орошало здесь историческую ниву. Но прилетела назойливая муха, посидела у быка на рогах, а теперь заявляет: «И мы пахали!»
Когда большинством голосов Государственный совет высказался против столыпинской мухи, Сергей Юльевич испытал мгновение торжества от ораторского своего дара. Жив курилка! — пусть последнее время все больше щелкал пером… Ну а «самодержец наоборот» в сердцах подал прошение об отставке.
Но — горячность горячностью — к этому все же присовокупил, что при некоторых условиях мог бы взять свою просьбу обратно… Этими его условиями государь, однако, даже не поинтересовался, из чего в сферах вывели заключение, что отставку Столыпина, по размышлении, его величество примет… Это сразу же нервически подхватили газеты.
Давно не случалось, чтобы граф Сергей Юльевич настолько оказался в центре внимания. Его поздравляли с одержанным в поединке верхом, а иные прыткие головы уже готовы были приветствовать, возврат к кормилу правления… так сказать, третье пришествие. «Немало говорили сегодня в Таврическом дворце и о графе Витте, — с интересом читал он, к примеру, в «Русских ведомостях», — отмечают целый ряд характерных симптомов, говорящих о том, что к нему снова начинает возвращаться расположение некоторой часта сфер…»
На таком‑то радужном фоне — отклик верного «лейбы» Колышко, взволнованного «замечательной речью». «Из большого государственного человека вы переродились в большого общественного деятеля, — писал ему автор пьесы «Большой человек», — Перейдите Рубикон, открыто причислите себя к оппозиции!» На сей раз многоликий обладатель доброго десятка псевдонимов изображал собой либерала, убеждал не растрачивать силы и дарования, «паровым молотом не давить орехи»!.. Дескать, продолжать дело 17 октября возможно только из рядов общества, он же, Витте, обезврежен, пока принадлежит к бюрократии. Порвав с ролью опального сановника, возвратясь в ряды общества, из которых выдвинулся, Сергей Юльевич мог бы стать настоящим парламентским… нет, народным вождем и трибуном!.. Вот, оказывается, во что верил верный Колышко и верит!
…Верный‑то он, разумеется, верный, годами испытан, да при чтении его послания мелькнула у Сергея Юльевича, помимо воли мелькнула злосчастная мыслишка из тех, какими, казалось, заражен самый воздух столыпинского Петербурга. Он тут же ее отбросил, но царапина от нее осталась, подзуживала: а нет ли и здесь примеси дурной провокации?!
Ничьих наивных призывов он все равно не услышал бы… В политических этих танцах не забывал, по бессмертному выражению Лорис–Меликова, держать такт в голове, и если все‑таки его провоцировали, то тщетно. Он не поддался… Как, впрочем, не выиграл и премьерского поединка.
Царь уступил камарилье, испуганной возможным уходом Столыпина из‑за якобы грозящего вследствие того развала. Все его условий были приняты, шантаж, увы, удался, Столыпин остался и торжествовал… довольно‑таки скоро выяснилось: самому себе на погибель…
В разгар этих событий получил от него Сергей Юльевич новый ответ по своему судебному делу. Новый и, похоже, бесповоротный. Об отказе в просьбе сие дело пересмотреть коротко сообщал от лица Совета Министров председатель совета и также о том, что государю благоугодно было самому этим делом заняться, и его величество собственноручно начертать изволил, что не усматривает неправильности в действиях ни администрации, ни полиции, ни юстиции и просит переписку эту считать поконченной…
То была, к сожалению, в эту зиму не последняя неудача. Всегда неприятное для южанина время года на сей раз привело к обострению хронической хвори, уложило не на шутку в постель. Ох уж эта выматывающая боль от воспаления среднего уха!..
Когда она поутихла, один из навестивших больного «лейб» завел разговор о его мемуарах. Тема неизменно вызывала у них у всех интерес.
Так вот, этот круглый живчик Руманов сказал:
— Вам сейчас, конечно, тяжело писать за столом, но говорите вы уже совершенно без напряжения… Почему бы не воспользоваться услугами стенографистки? Будете диктовать сколько сможете… Да вообще, мне кажется, Сергей Юльевич, вы в беседе несравненно свободнее себя чувствуете, нежели за столом… Так я вам стенографистку пришлю?
— О, это идэя! — совсем по–одесски воскликнул Сергей Юльевич.
И, даже еще не начав выходить из дому после болезни, зашагал по своему кабинету, повествуя фальцетом о собственном прошлом весьма милой даме, успевавшей покрывать лист за листом только ей понятными закорючками со скоростью молниеносной. Она владела искусством писать поистине так же быстро, как говорят… Нет худа без добра, дело двинулось, тем более что в Петербурге Сергей Юльевич взял за правило не касаться современных обстоятельств, вспоминал совершенно безобидные вещи — детство, отрочество на Кавказе, родственников и предков, начиная чуть ли не с князя Михаила Черниговского, тифлисскую гимназию и Новороссийский университет в Одессе, из первых выпускников его был… Наконец отнюдь не бедную событиями службу на Одесской железной дороге, каковую предпочел профессорству по математике… Почти никогда не жалел о том своем выборе, главном в жизни, разве только совсем недавно в Париже сильно екнуло сердце: в витрине книжного магазина наткнулся на собственную математическую диссертацию, изданную по–французски — «Le Comte Witte Mathématicien. Paris, 1908»… Тут же, разумеется, приобрел для своей библиотеки.
Восстанавливая начало жизни, он увлекся, впервые, может быть, просто так, без расчета, и удивляясь тому, сколько, казалось бы, навсегда позабытых подробностей и мелочей сохраняется в памяти, сколько необыкновенных людей. Одна феерическая кузина Блаватская[63] чего стоила! А бабушка Фадеева и дядя Фадеев… Или, скажем, одесский Барон Икс, Иеремия российского юга!..
И все же нет–нет, а, прервав хронологию, спутав плавное течение событий, в повествование врывались современные обстоятельства… Тот же Столыпин отравлял удовольствие…
— В те годы расправа с журналистами, — в пояснение памятного эпизода диктовал, к примеру, Сергей Юльевич, — была такая же, какая практикуется ныне, в столыпинские времена…
…При случае, к месту, он занес в мемуары и замечание по поводу переписки о судебном своем деле, точнее, по поводу окончания переписки: «…резолюция его величества, очевидно, написана по желанию Столыпина…»
В чем, в чем, а уж в этом у Сергея Юльевича сомнения быть не могло, даром что в то же самое время происшедшая стычка между двумя премьерами, отставным и пока ещедействующим, явно доставила удовольствие государю. Верные люди передавали: не без злой радости он преподносил приближенным, как Столыпин получил нос!..
12. Конец в антракте
И все‑таки волей Всевышнего — а возможно, не только его — в конце концов поединок премьеров завершился не в пользу Петра Аркадьевича.
В это лето Сергей Юльевич приехал в свой Биарриц после серьезного хирургического лечения у франкфуртских профессоров, еще не вполне оправившись от операций. Там ждало его довольно‑таки странное письмо, доставленное не обыкновенною почтой, а через оказию. Объяснение сему содержалось в приписке: письмо, мол, послано за границей, что позволяет избежать эзоповского языка… В самом деле, автор письма высказывался определеннее некуда.
Автор этот, журналист и издатель, полулитератор, полуделец, из давнишних знакомцев Сергея Юльевича, никогда, впрочем, не принадлежал к числу его «лейб». Слишком мало доверия внушал, чтобы прибегнуть к его услугам. Путь Сазонова был из ряда вон, даже при общепринятом дрейфе слева направо.
Чуть не от Желябова в молодости, через крайне левую газету «Россия», при его редакторстве закрытую за известный фельетон «Господа Обмановы»[64], — к Дубровину, к «черной сотне», а теперь и к придворному старцу… За тот свой фельетон писатель Амфитеатров угодил в сибирскую ссылку и бежал за границу, а Георгий Сазонов как ни в чем не бывало принимает Распутина у себя на квартире — при наездах в столицу старец останавливается у него!..
Так вот, господин этот самый сообщил Сергею Юльевичу в письме, что Распутину, дескать, думается, пора главного прикащика рассчитать, а взамен предположен нижегородский губернатор, Хвостов[65]; но ввиду его молодости хорошо бы власть разделить: он пусть станет министром внутренних дел, председательство же поручить лицу, умудренному опытом и достигшему великого авторитета. И хотя он тут не решился назвать прямо Сергея Юльевича, смысл прозрачен, а тон развязен: «не ломайте без пользы головы, которую некоторые чудаки находят не бездарной»… Под конец же — поклоны от Гриши Сергею Юльевичу и графине, «старец молится и за вас»…
(Заодно, между прочим пользуясь случаем, закинул, прохвост, удочку и об том, а не посодействует ли ему Сергей Юльевич в основании новой газеты…)
Что же следовало из бесстыжей игры на разладице его со Столыпиным? Не требовалось опыта Сергея Юльевича, чтобы понять: похоже, песенка Столыпина спета, а набравшее силу еще более черное окружение государя продвигает к власти своего человека… Одного из самых больших безобразников столыпинских лет. Но, однако же, на первых порах нуждается в ширме.
В те же дни в Биаррице Сергея Юльевича посетил англичанин из «Дейли телеграф», тоже старый знакомый, еще с портсмутских пор, месяцами живущий в России. Без Столыпина какой мог идти теперь разговор между ними. Но в ответ на резкости Сергея Юльевича мистер Диллон не удержался, напомнил, как когда‑то он восхищался восходящим светилом, его честностью, мужеством… Сергей Юльевич спорить не стал, лишь сказал с раздражением, что сейчас Столыпину грозит катастрофа!..
И прибавил к этому, не вдаваясь в детали:
— В сложившихся обстоятельствах, чтобы так утверждать, совершенно нет надобности быть пророком!
Шельмецу же Сазонову он отправил ответ, смысл которого сводился к тому, что, его письмо прочитавши, он остался в недоумении, кто из них сумасшедший. Те ли, кто предложил ему, Витте, подобную вещь, или он, кому считают возможным такую вещь предлагать…
А потом двух недель не прошло, как вписал в мемуары: «…Вчера в Киеве тяжко ранен Столыпин. Таким образом, открывается 3–е действие после 17 октября. Первое действие — мое министерство, второе — столыпинское…»
При известии о кончине Петра Аркадьевича, получив и еще кое–какие сведения, с печальным событием связанные, на письме Сазонова, было отложенном для архива, пометил: «Столыпин погиб через две недели, Хвостов был вызван к царю в Ливадию».
Театральная фраза о трех действиях на первый взгляд выглядела неуместно при таких обстоятельствах. Однако же, если вдуматься, она сорвалась с пера; не случайно.
Сергей Юльевич вдумался. Дал себе труд.
Покойный вообще питал слабость к громким словам, к театральным жестам.
«Не запугаете!» — кинул он с думской трибуны после первого на него покушения.
«Сначала успокоение, потом реформы» — это тоже его лозунг.
«Вам нужны великие потрясения, нам — великая Россия!» — наотмашь стеганул оппонентов.
Сообразно своей натуре он и погиб в исключительной обстановке: в театре, на парадном спектакле, в присутствии государя и сонма сановников.
Его застрелили в антракте между вторым и третьим действиями — не только той исторической драмы, какую описывал в мемуарах Сергей Юльевич, но просто оперы, данной в тот губительный для Столыпина вечер (то была «Сказка о царе Салтане»).
Поднявшись со своего кресла в первом ряду, он стоял перед опустевшим партером в вольной позе спиною к оркестру. Опершись о барьер рукою, беседовал со знакомыми. Вдруг послышались два хлопка… два выстрела револьверных, и, успев еще все понять, и перекреститься, и перекрестить царскую ложу рядом, председатель Совета Министров стал медленно оседать на пол…
Подумать только, это произошло в том самом зале, где за тридцать лет перед этим молодой Витте услыхал о злодейском убийстве Александра II!.. И вот на открытие памятника ему, царю–освободителю, в честь пятидесятилетия освобождения съехалась в Киев вся знать, августейшее семейство и сферы… Холодок пробегал по коже. Как все связано, Господи, в этом мире…
Террорист, однако, выбрал момент, когда царь с семейством удалился из ложи. Было ли случайностью это? В отдаленном своем Биаррице граф набрасывался на полученные из России газеты. Их переполняли подробности.
Узнавая эти мелкие частности большого события, Сергей Юльевич так ясно представлял себе зал, столь знакомый, словно все случилось у него на глазах… Тем более у него на глазах в самом деле произошло почти то же — сколько лет, а в памяти ожило… Министра внутренних дел Сипягина застрелили, правда, не в зале, как министра внутренних дел Столыпина, а у самых дверей зала, и не в театре, а во дворце, но почерк, почерк убийцы был совершенно такой же!
…Вдруг из рядов поднялся неизвестный во фраке и, приблизившись, выхватил браунинг, прикрытый театральной программкой… (Убийца Сипягина — в офицерском мундире — прикрывал свой браунинг пакетом.)
…От мгновенной смерти спас крест, ударив в который пуля изменила направление…
…Задержанный на месте едва вырван из рук публики, пытавшейся учинить самосуд…
…Перевезен в хирургическую лечебницу…
…Назвался помощником присяжного поверенного Богровым…
…Рана считается смертельной…
…Мордко Гершович Богров, член революционного Совета в разгар студенческих беспорядков, одновременно был агентом–сотрудником Киевского охранного отделения…
…Исключен из адвокатского сословия…
…Действовал по поручению комитета социал–революционеров, явился к начальнику охранного отделения и сообщил о прибытии из Петербурга двоих террористов с целью убить Столыпина…
…Выдал многих серьезных политических преступников, что позволило относиться к нему с доверием, подполковник Кулябко поручил Богрову охрану Столыпина…
Телеграфная проволока работала беспрерывно:
…Богров будет предан военному суду…
…В свое время Столыпин сказал в Государственной думе, что так называемыми «сотрудниками» можно пользоваться только для получения сведений о замыслах революционеров, каким образом после этого Богров мог очутиться в театре в роли охранника?..
…Революционеры якобы стали его подозревать и предложили на выбор либо убить премьера и тем доказать вздорность подозрений, либо самому быть убитым за сношения с охранкой…
…В парламентских кругах готовят запросы правительству. Клеточников ли он, Дегаев, Азеф?..
…Здоровье Столыпина с каждой минутой ухудшается…
…Петр Аркадьевич тихо скончался…
…Еврейское население Киева в панике…
…Высочайший рескрипт при отъезде из Киева…
…Погребение П. А. Столыпина…
…Государь император повелеть соизволил произвести расследование действий Киевского охранного отделения…
…Заседание суда продолжалось три часа…
…К смертной казни через повешение…
…Кассации не подал…
…Исполнение приговора — на Лысой горе…
…Правые добились разрешения присутствовать при казни, чтобы убедиться, что Богров действительно будет казнен…
До чего же знакомый развернулся сюжет в этом новом умопомрачительном «романе Габорио», вдали от российских бурь думалось Сергею Юльевичу на берегу обманчиво ласкового в бархатный сезон Бискайского залива; увлекательнейшая в самом деле загадка: кто в действительности этот новый Дегаев, новый Азеф и Казанцев — революционер он или охранник… либо то и другое?! Вдруг отчетливо вспомнился давний разговор с несчастным Лопухиным, тогда еще, впрочем, находившимся в силе: у нас в руках полиции — жизнь любого… Так что разве могла привести к разгадке высочайше назначенная ревизия и к тому же порученная недавнему директору полицейского ведомства, кстати хорошо Сергею Юльевичу известному… До каких глубин этот Трусевич мог докопаться? До вины киевской охранки, чей начальник уже отставлен? До преступного небрежения полицейского начальства вообще?
И стоило ли удивляться при этом, что государь отправился, пока его первый министр лежал при смерти, в Чернигов поклониться мощам, а вернувшись — несчастный испустил уже дух, — не дожидаясь похорон, отбыл, как заранее намечалось, в Крым… Зная характер царя, Сергей Юльевич не удивился ничуть. Не говоря уже о многом ином, царь, конечно, никогда не простил бы Столыпину ну хотя бы его хитроумных ходов с отставкой, несмотря на то что условия тогда принял и отставку вернул. Он еще перед выездом в Киев (как Сергею Юльевичу донесли) предупредил, что готовит премьеру новое назначение. Какова же, спрашивается, была цель кровавой развязки, ежели уход Столыпина был так и так предрешен?!
Поудобнее расположившись под навесом в шезлонге, Сергей Юльевич убеждал своих русских знакомцев на пляже, что в трагедии прежде всего виноват сам Столыпин, ибо разве не он был главою российской полиции? Всех он там и назначил, все ему были подчинены, так что тот, кто винит в происшедшем полицию, винит, в сущности, покойника самого…
— Поговаривают под рукой, что уже есть стремление замять дело — да, да, это тоже! — помешать освещению его во всей полноте, будто бы приняты в этом смысле уже шаги!..
В продолжение своих рассуждений прибегая к прозрачному эзоповскому языку, он высказывался в том смысле, что во всяком доме, в особенности когда нет в нем современных приспособлений для очистки нужных мест, этим занимаются специальные лица, и без них, увы, обойтись невозможно… Не при Петре Аркадьевиче так повелось — в том беда, и его и наша, что при нем эти лица заняли кресла рядом с министром!..
13. В исторической раме
Занавес третьего действия поднялся, едва опустили занавес второго.
В Киево–Печерской лавре не успели еще предать земле убиенного, а уж третье действие открывалось пересудами о возможном составе правительства, и не было разноголосицы в том, что Столыпина в кресле премьера сменит министр финансов Коковцов.
…Первое действие — революционная драма. Второе — убийственная трагикомедия. Чего можно было ждать от третьего?.:
Министр финансов примерялся к премьерскому креслу давно. Когда Столыпин было демонстративно подал в отставку, в витринах на Морской уже красовался портрет Коковцова, председателя Совета Министров — Так именно и подписано было… Но красовался портрет недолго, царь тогда передумал и Столыпина удержал. На сей раз еще до отбытия из Киева в Крым государь объявил назначение Коковцова.
Напрасно многие думали, что новый премьер обнаружит свое особое направление, Сергей Юльевич находился в полной уверенности, что такого не будет. Вернувшись в конце декабря в Петербург, лишний раз убедился в своей правоте.
При первом же разговоре с Коковцовым, когда тот приехал к нему в Ливадию, царь сказал о Столыпине (так, во всяком случае, передавали верные люди):
— Он меня заслонил.
Понимать можно было по–разному, от чего заслонил: то ли от выстрела террориста, то ли… то ли вообще. От России… Это было предупреждение Коковцову, Сергей Юльевич в смысле сказанного не сомневался.
Он соскучился по петербургским диктовкам. Этим летом и осенью многие обстоятельства тормозили работу над мемуарами. В Биаррице (до покушения на Столыпина) удалось лишь по памяти восстановить ряд событий пятого года: забастовки, беспорядки, карательные экспедиции. Он там не преминул отметить, что в России трудно про это писать — ввиду столыпинского режима. А собираясь к отъезду (уже после событий), обронил между прочим, что нет уверенности, удастся ли продолжать в Петербурге.
«…Увидим…»
Зато теперь принялся наверстывать, с того места, на каком остановился весной. Все же почувствовал себя посвободнее, нежели прежде, в своих повествованиях стенографистке. И даже добрался до настоящего времени, до Коковцова — премьер–министра. «…Тип чиновника, проведшего всю жизнь в бумажной петербургской работе, в чиновничьих интригах и угодничестве, с крайне узким умом… представляющего собою пузырь, наполненный петербургским чиновничьим самолюбием и самообольщением…»
Он его не щадит… С какой стати?!
Сам же этакого типа вытащил, но, вместо того чтобы каяться, пожалуй, даже гордится, что премьер — его прежний помощник; этой странной на первый взгляд логике есть свое объяснение. Столыпинская политика без Столыпина мало–помалу оживляет никогда не умиравшую в нем надежду на возвращение к власти, и. не как‑нибудь, а спасителем — в третий раз!.. На собственное третье пришествие — в третьем действии; пусть не сразу, не с первых картин и явлений… Граф готовит почву к назревающему поединку и заранее ее удобряет, даром что царское «заслонил» не в меньшей степени, чем к Столыпину, относится и к нему. История, один из творцов которой он сам, как прежде, послужит ему перегноем…
Однако об осторожности по–прежнему не резон забывать:
«…В Петербурге даже в моем положении нельзя быть уверенным, что в один прекрасный день под тем или другим предлогом не придут и не заберут все. Тогда наживешь большие неприятности, и совершенно бесцельно, так как в таком случае, конечно, никто и никогда не прочтет то, что я писал…»
Потому‑то в петербургских диктовках серьезный пробел — все полгода его собственного премьерства, пик, вершина его карьеры… по крайней мере, до этих пор. Он прекрасно это сознает и не хочет оставить пропущенное без разъяснений: «…Я прерываю свои рассказы за время с конца сентября 1905 г. до конца апреля 1906 г. Ход событий до 17 октября и затем мое министерство составляют предмет моих личных записей… рассказы эти и более точны, и более откровенны… Записи эти хранятся в должном месте…»
Даже в собственной вилле в Биаррице он не рискует их оставлять: должное место — банковский сейф…
Он, пожалуй, уже может себе позволить отвлечься от ближней цели, почва к схватке подготовлена впрок… Впрочем, как издавна у него повелось, один пишем, а два в уме. Как‑никак в событиях во времена его министерства ему принадлежала не последняя роль… о чем очень не вредно кое–кому и напомнить, чтобы, не дай Бог, не начали забывать!.. Не пора ли задуматься, Сергей Юльевич, над просвещением публики, приспособивши к делу кого‑то из «лейб»?
До времен Коковцова он добрался в петербургских диктовках к марту.
В Биаррице 5 октября написал: «…Если дальше буду писать, то касаясь более современных обстоятельств, которых я не касался, потому что считал это невозможным…»
По его разумению, тема собственной жизни — в той исторической раме, в какую вставила ее судьба, — эта тема далеко еще не исчерпана, не завершена.
14. Третье действие — фарс пигмеев
Погруженный будто бы в частную жизнь, он внимательно следил за политической сценой. До поры до времени наблюдал за третьим действием как бы из ложи. На глазах искушенного зрителя разворачивалась любопытная сшибка, Скупердяй, крохобор, казначей и мытарь, чинодрал петербургский — это одна сторона. А другая — сибирский шаман, юродивый, Божий старец и бабий угодник, неуемная темная сила.
Арифметик — и мистик. Бюрократ — и авантюрист. Коковцов — и Распутин.
Не так‑то много воды утекло после возвышения Коковцова, еще у него с августейшим семейством не кончился, можно сказать, медовый месяц, а уж новый премьер — разумеется, совершенно резонно — потребовал от государя ни много ни мало как удалить Распутина из Петербурга!.. Противная сторона не смолчала, огрызнулась в ответ, тут без князя Вово Мещерского не обошлось, с его верхним чутьем и словоохотливым «Гражданином». Разнюхали, будто Распутин беспрестанно твердит в Царском Селе, что, дескать, пора прикрыть царские кабаки, потому как негоже царю торговать водкой, народ спаивать, старец, мол, это зло на себе испытал!.. Такова была, по видимости, завязка; поначалу вроде бы досталось и Витте, признанному отцу винополии той поры, когда был не зрителем, а солистом.
…Плохой же он был бы министр финансов, когда пренебрег бы интересом казны! Однако, по чести, императору Александру III виделось не менее важным ограничить народное пьянство, поставить его под надсмотр… то‑то Александр Николаевич Гурьев любил вставить к месту анекдотец о распрях акцизного и податного директоров: надо было ухитриться так мужика напоить, чтобы при том не раздеть до последней рубахи, и это была вечная проблема баланса. Коковцов же с его педантизмом, скупостью, в постоянной опаске, что денег не хватит, все поставил на службу фиску. И обдирал мужика до нитки, и спаивал в бесчисленных кабаках. Как туг было не вспомнить того же Гурьева, давней его статьи, за которую злой язык поплатился, ввернувши, что Коковцов на министерском посту своего рода кухарка за повара… Святее самого Папы, он по сей день наполнял казну пьяным бюджетом!.. Разношерстная коалиция сплотилась против него, не одни Распутин с Мещерским… В такой‑то благоприятный момент Сергей Юльевич решился свою зрительскую ложу покинуть.
У него есть возможность подать об этом сигнал. Не случайно с известных пор в духовниках у него олонецкий епископ Варнава, почитаемый им за святого. На столе в кабинете занял место владыкин подарочек — маленький складень с полуграмотной надписью, и теперь Сергей Юльевич демонстрирует его гостям наряду с портретами предков и царских особ и прочими историческими примечательностями.
Ни для кого не составляла секрета близость грамотея–епископа к такому же грамотею–старцу. Сергей Юльевич исповедался с покаянием: грешен, владыка, аз есмь грешен, винополия мой грех, но вот ныне сознал правоту старца и иных поборников трезвости… и сигнал его был услышан.
Все тот же шельмец Сазонов привез к нему на Каменноостровский Гришу.
Единственный состоялся у них разговор, но он состоялся!
— Мы тебе, понимаем, не ровня, ты, Виття, умнеющий, — юродствовал, по обыкновению, старец, а глазами, как гвоздями, колод, — так сказал бы буквоеду Кокоше, грех великий опаивать народ честной, Господь не простит!..
Сергей Юльевич сам порой был не прочь прикинуться простачком, придуриться, подделаться «под народ».
— Вот те истинный крест, Гришуня, так и вмажу, и то, мил человек, что заставь дурака Богу молиться… ты заметь, у кабатчика энтого лоб‑то в шишках!..
Не так уж давно, каких‑то два года, он почел себя оскорбленным этим шельмецом Сазоновым с его (а вернее, с распутинским) предложением, обстоятельства переменились с тех пор. И теперь Сергей Юльевич готов взять сторону шайкиради приближения к собственной цели. Разве не в том заключена суть политики как искусства, чтобы действовать применительно к обстоятельствам?!
Расстались довольные друг другом, даром что Сергей Юльевич объявил Распутину напрямик, что им более встречаться не следует, во избежание кривотолков и подозрений.
Ослабление Коковцова есть лишь шаг в направлении к цели… Своротить ему шею и занять его место? Нет, расчет Сергея Юльевича на новое пришествие не столь очевиден. Ибо это‑то он понимает: пускай первое даже удастся, все равно им желаемого не случится, если Только–Только в обстоятельствах, подобных кризису японской войны или октябрю девятьсот пятого, такое может произойти — на краю катастрофы. Тогда останется призвать спасителя, Витте. В расчете Сергея Юльевича комбинация не в один ход. Похитрее интрига, чем против Плеве когда‑то, но, поскольку после смещения Коковцова возведут во власть шайку, — катастрофа себя ждать не заставит! Что же, в личных видах ставить на кон судьбы России, он на это готов?! В личных — нет, никогда, потому что уверен: никому из возможных соперников не под силу справиться с ее бедами лучше, нежели графу Витте! Коковцов, Горемыкин… конкуренты бездарны, бесцветны, мелки…
Тем временем старец Григорий добился в Ливадии обещания от царя отправить ненавистного Кокошу в отставку, Сергею Юльевичу доложили об этом. И что царь на иконе поклялся. Для политика было бы непростительной глупостью восстать против обстоятельств. Свой первый удар он наносит там, где авторитет его несомненен: у нас частные железные дороги строятся на казенные деньги, занимаемые у французов под правительственные гарантии на условиях, не выгодных нам!.. И к тому же, пока не начнется строительство, наши частные банки крутятэти деньги в биржевых спекуляциях! Как обделывают такие дела, «старому железнодорожнику» известно не понаслышке… Кстати, он целую главу мемуаров посвятил «железнодорожным королям». Когда‑то именно он, министр финансов Витте, скрутил голову концессионной гидре. Тогда как нынешний министр, он же премьер, опять открывает двери коррупции!..
Другой удар, чувствительный тоже, — брошюра об истории достопамятного займа шестого года. Финансовое положение было спасено этим займом, он уберег страну от банкротства в результате несчастной войны и смутных месяцев революции. Опять Сергей Юльевич бросает в наступление своих «лейб». Испытанный метод.
И опять продиктованное стенографистке весьма и весьма пригодилось.
Один пишем, а два — в уме…
«…Когда мне уже было невтерпеж от реакционных выступлений против 17 октября и я начал заговаривать, не отпустят ли меня, то прямо говорили, что, покуда не окончится дело займа, это невозможно…»
О, этот крупнейший международный заем с участием банкирских домов Парижа, Лондона, Амстердама, Вены, даже уже недружественного Берлина! Он стал венцом многофигурной финансово–политической, просто‑таки шахматной игры, и сколько изобретательности потребовалось от Витте, чтобы обойти все препоны, ловушки, осложнения!.. Дело кончилось подписанием контракта в Париже представителем возглавляемого им правительства. Эту чисто техническую задачу выполнил тогда Коковцов; ныне он, видите ли, претендует на первую роль!..
Брошюру под грифом «конфиденциально» Сергей Юльевич разослал под Новый, 1914 год вместе с новогодними поздравлениями многим влиятельным лицам. А первый из сорока экземпляров — самому государю. И притом пояснил, что брошюру составлял по причине, что история займа упоминается постоянно «в официальных речах и газетных интервью с припискою авторства сего займа не его настоящему автору» (кому именно? — читай: Коковцову).
А еще до того, до рассылки брошюры, и, выражаясь математически, параллельно с публикациями в газетах против железнодорожной политики — в суворинском «Новом времени», в «Биржевке», — произнес запальчивую, по обыкновению, речь в Государственном совете.
За спасение народа от кабака.
Однажды государь верно подметил (еще благоволил к нему), что Витте гипнотизер. Как заговорит в заседании, сейчас большинство, даже из его ненавистников, берет его сторону…
— Министерство финансов, — заявил с горячностью бывший министр, — извратило благодетельную реформу. У императора Александра III, чью волю министр Витте лишь старательно исполнял, иного стремления не было, кроме спасения народа от пьянства; мысли не допускалось, чтобы казна пухла, а народ нищал! Развращался!.. А потом все пошло прахом. Все повели к тому, чтобы увеличить позорные доходы казны. Подумать только: водка дает у нас треть бюджета! Я бью тревогу направо и налево, но все глухи кругом; остается на весь мир закричать «караул!».
И он крикнул‑таки «караул!» на весь Мариинский дворец нестерпимым своим фальцетом.
А тем временем по Петербургу расползлись пересуды, будто старец едва ли не каждый день, под нажимом своих компаньонов во главе с князем Вово, ездит в Царское Село пугать царя небесными карами, если он не исполнит клятву, данную на иконе… Не секрет был; что царь, подобно царице, со Святым Чертом нередко вместе молился.
Словом, Сергей Юльевич и сам не знал, сыграло ли роль его собственное красноречие; важно было, что своего он добился, — так же как остальные…
Да к просчету его, вместо того чтобы отдать власть полоумной шайке, высочайше предпочли возвратить безразличного ко всему, но зато послушного, многоопытного Горемыку.
В третьем действии вожделенного Сергеем Юльевичем третьего пришествия, таким образом, не состоялось.
Таким образом, если первое действие на исторической сцене начиналось как революционная драма, а второе превратилось в кровавую трагикомедию, третье вовсе стало фарсом пигмеев…
15. Запах пороха… и интриг
И он не удержался в стороне от этого фарса.
Не первым лицом, не протагонистом. Одним из многих. А ведь привык возвышаться над окружением в своей крутой карьере. Быть Гулливером среди лилипутов. Но, облепленный ими, вовремя не сумел отряхнуть их с себя, с их поезда спрыгнуть, к чему однажды призвал верный «лейб» Колышко; остаться непобежденным. Проницательного ума — недостало. Оттого, может быть, что для него это было непросто: сойти с «поезда», — это значило сойти с рельсов… на седьмом‑то десятке!
Точно за поручни убегающего вагона, стал цепляться за власть, суетиться, интриговать — и мельчал, «старый железнодорожник», мельчал на ходу, мельчал… Чуть не до слияния с фоном. И едва ли задумывался над этим, не страдая склонностью к рефлексии. Просто, опираясь на опыт, не на умозрения вовсе, хладнокровно считал, математик, что может выполнять работу лучше, нежели кто бы то ни было, с Плеве, со Столыпина начиная, не говоря уже о прочих иных… И возможно, в этом неуязвимом расчете как раз и заключался его главный просчет. Не желали господа лилипуты, чтобы их заслонял Гулливер!.. Не желали принять спасение из больших его рук. Не желали, и все тут!
Впрочем, можно искать объяснение и в дурмане, исходящем от власти, в гипнотическом действии на того, кто однажды уже побывал на ее вершине. Это как проказа: подхватив, не избавишься до конца дней, так и будешь в себе носить, от нее нет лекарства… А раз так* не в уме вовсе дело, в чем‑то более мощном, чему и название сразу не подобрать. Уж не мистическая ли сила прикоснулась к Сергею Юльевичу? Не преподал ли ему урок проходимец старец, черт святой, конокрад и разбойник, пробы некуда ставить, шаман таежный, гений власти., в некоем царстве возымевший ее такую, о какой человек разумный не смей и мечтать?!
Нет и нет. Как со всяким другим, с этим чертом по пути оказалось, лишь пока совпадали на перегоне маршруты…
Катастрофа, на которой он строил свои расчеты, не разразилась. Надвигалась другая.
…Человеком разумным окрестил его, кстати, сам старец, удостоился в ответ на одобрение попыток Распутина отвратить надвигающуюся войну. Получил ответную похвалу в «Петербургской газете»: Витте говорит очень разумно потому, мол, что сам разумный…
Говорит же он, и не раз, повторяя, что Россия к войне не готова; помимо прочего, по части финансов.
Запах пороха уже явственно ощущался в Европе.
В этой предгрозовой атмосфере все сплетенные хитро интриги, вся та прежняя суета возле власти — что, казалось бы, значат?! И однако же, в петербургских кругах верхним нюхом учуивали: в правительстве предстоят перемены, намекали, в частности, что премьер Горемыкин вознамерился будто бы Министерство иностранных дел предложить графу Витте… Уж не сам ли граф подогревает те слухи?.. Такое ведь тоже не исключали в петербургских кругах… Но когда бы эти толки в действительности оправдались и российскую дипломатию на пороге рокового европейского лета девятьсот четырнадцатого года в самом деле возглавил он, Витте, с его весом в Европе и прочными германскими связями, то кто еще знает, как могли бы повернуться события!..
Проповедник этой «идэи» на страницах «Русского слова», вездесущий «лейба» Руманов навестил Сергея Юльевича в Биаррице.
В те недели почти любой разговор рано или поздно переводило на военные рельсы. Круглощекий газетный волк заикнулся было о возможных выгодах от войны для России.
Сергей Юльевич в лице изменился.
— Сколько платите за ботинки? — вдруг спросил ни с того ни с сего.
— Эти стоили десять рублей, — оторопел от неожиданности «лейба».
— Вот станете не десять платить, а двадцать или пятьдесят, — тогда поймете, что такое война… И золотая монета небось в кармане найдется? Так всмотритесь, запомните: больше не увидите из‑за войны!..
Ему представлялось, что ничто не склоняет к миру убедительнее, чем цифры.
Негодовал:
— Эти горе–вояки, они нас уговаривают опять, как бывало: признайте, ненадолго, только на время войны, что дважды два будет пять. Нет, милейшие, стоит только это признать, так после войны дважды два окажутся сапогами всмятку!..
Война несла угрозу всему, что он делал, что создавал, что сколачивал в жизни.
Он резким движением достал из кармана часы, щелкнул крышкой и заторопился, как в Петербурге, бывало:
— Извините, но мне пора! Внук меня по часам отпускает…
До сапог всмятку, равно как и до портфеля министра, ему, однако, не суждено оказалось дожить.
Объявление войны, которой он так опасался, застало Сергея Юльевича вместе с Матильдой Ивановной и с внуком на немецком курорте под Франкфуртом. Там на водах он бывал постоянно. По «виттевской» тропинке гулял с любознательным внуком, в жару отдыхал на террасе под пологом небольшого шатра. К экселенцу так привыкли, как к своему… Не промедли он, не покинь Германию сразу же, неизвестно, как сложилось бы все в дальнейшем. Тотчас после отъезда (ему потом рассказали) на квартиру явились с обыском… Впрочем, до поспешного своего бегства он успел заявить корреспонденту «Русского слова», что в войне Европа себя обескровит и разорит, европейское золото уплывет за море, а Россия первая очутится под колесом истории…
Без особых препятствий проводив семью в Биарриц (благо Франкфурт от французской границы недалеко), Сергей Юльевич заторопился домой. Но до дома оказалось уже достаточно сложно добраться. Через Германию путь был отрезан. Окольным маршрутом пришлось почти две недели тащиться — через Италию, оттуда морем: Константинополь, Одесса… Турки пока еще придерживались нейтралитета, проливы, к счастью, оставались открыты.
Экспансивные одессисты, те, понятно, не обделили вниманием земляка. И каждый считал долгом таки узнать мнение Сергея Юльевича за войну.
— Враг жесток и силен, — отвечал он им неизменно, — но нет сомнений, что мы победим.
Сомнения одолевали его по поводу этой глупейшей для России войны. Она вполне могла кончиться революцией, сначала, он думал, в Германии, а потом и опять у нас… Но сомнения свои и опасения оставил до Петербурга, до бесед с немногими теми, кому мог вполне доверять.
Столица встретила воспаленною атмосферой барабанного боя. Собственно, Петербурга уже не стало, чуть не двести лет простоял и сменил в одночасье имя с чужого немецкого на патриотическое свое. Впрочем, если кто и ждал в Петрограде возвращения Сергея Юльевича, то в первую очередь добросовестный «лейба» Морской фон Штейн с очередной, подготовленной к осеннему его приезду рукописью, целою книгой.
Речь на сей раз шла о поенной мощи России. Еще в мирное время это было задумано в продолжение прежних споров — разбор великодержавных амбиций, выразителем коих выступал бедоносныйгенерал Куропаткин, критика серьезная, с историческим обозрением, со сравнением военных сил России и Западной Европы. Не мог при этом Сергей Юльевич обойти и такой важнейшей, по его разумению, стороны, как порождаемые подготовкою войн финансовые проблемы. Печальный опыт японской войны предостерегал от разорения в войне, еще более страшной.
16. Гадания здравого смысла
Он начал с того, что сказал Морскому фон Штейну:
— Необходимо дополнить рукопись современной главой.
Сколько помнил себя, вечно слышал разговоры о близкой войне с Германией; по меньшей мере с тех пор, как окончил университетский курс.
В мемуарах он записал, вернее, продиктовал стенографистке (пару лет примерно тому): «…между тем, слава Богу, этой войны до сих пор нет, и если мы будем вести разумную политику, то еще долго не будет…»
— Я бы назвал главу, скажем, так, — говорил он «лейбе», расхаживая перед ним взад–вперед по кабинету на Каменноостровском, — скажем, так: «Предположения…», нет, лучше: «Гадания о ныне разыгрывающейся мировой войне…» Не возражаете, Владимир Иванович?
Появись сие гадание вовремя, и тогда услышал бы его кто, он не знал. Теперь оно, увы, опоздало. Разумной политики так и не привелось дождаться… и, собственно, от кого?..
Владимир Иванович не возражал. Усаженный за виттевский стол, прилежно, словно студент за профессором, строчил по бумаге, едва поспевая. Стенографией не владел…
— Существовало мнение, — говорил на ходу Сергей Юльевич, — будто разумное приготовление к войне при разумной политике служит гарантией к тому, чтобы война не разразилась. Произойдет как бы взаимное страхование от войны. Развитие милитаризма, как видим, вопреки этому привело к катастрофе, потому как современное вооружение требует таких денег, что мир — вооруженный мир — истощает государства, и война уже кажется облегчением, желанной развязкой.
…Он всегда держался мирных решений, всем известно, был даже главным тормозом воинствующего направления. В свое время в Японии поверили, что война неизбежна, только после того, как его удалили от дел. А Европа… Еще по пути из Портсмута, в Роминтене, самого кайзера убеждал, что в Европе можно избежать столкновения, заключив континентальный союз. И тогда еще уверял его с доказательствами в руках, что это всех освободит от громадных затрат на оружие!..
Его лекция «лейбе» заняла не один день. Предмет не вынуждал к двоемыслию, позволял утверждать с чистым сердцем: он, Витте, отстаивал российские интересы, — в Желтороссии[66] в том числе, — в войнах торговых, таможенных, дипломатических, но ни разу — в кровопролитных; сколько мог, удерживал государя, покуда не был им удален… И на то несмотря, был впоследствии призван, чтобы заключить мир! Это же факты истории…
Тем не менее его ясное тяготение к миролюбию еще вовсе не означает, что граф Витте рад» мира не постоит за ценой, хотя, находись он теперь у власти, видит Бог, он сумел бы в интересах России и на сей раз договориться с кайзером, помирить кузена Ники с кузеном Вилли, даром что после встречи в Роминтене впал у того в немилость. Дело тут не в мнимом германофильстве, упреки его в этом беспочвенны и злоязычны, дело, разумеется, в здравом смысле. Для России выгодно было как можно долее отсрочить войну, когда не полностью ее исключить. Процветание наше — в мирном развитии, в росте промышленности и торговли… Да и цели наши в войне, в отличие и от союзников и от врагов, неясны, здравый смысл затуманен громкими словами об идеалах! Вся беда, что не можем, как всегда, без этого обойтись: сербы!.. югославяне!.. Здравый смысл подсказал бы, пожалуй, только занять Проливы, да и то при условии малых жертв… Для Германии же, при наличном соотношении сил, разгром попросту неизбежен, притом скорый разгром! Чем не почва для успешных переговоров?..
Закавыка, что кузены поссорились?.. Он готов стать русским делегатом на мирной конференции, едва придет для нее момент! Чем момент этот раньше наступит, тем лучше, с точки зрения здравого смысла, без исключений, для всех — современная война даже победителей разорит, не говоря уж о побежденных. Ведь от прежних войн она отличается в корне…
Одно то, что под ружье ставятся чуть не все молодые мужчины, одно это меняет всю военную тактику, да и психологию тоже. Друг на друга ополчаются целые нации! А технические усовершенствования совершили переворот в самих средствах войны… даже рядом с русско–турецкой, что велась еще нормальными средствами. И, увлекшись — знай записывай, Штейн, поспевай, — принялся перечислять: велосипеды, автомобили, блиндированные поезда, полевой телеграф и телефон, бездымный, не выдающий неприятеля порох, фотографирование позиций… Ради усиления военных воздействий человеческий ум изобретает неустанно, опасаться надо даже подоблачных сфер, и оттуда грозит истребление разрывными снарядами, ниспадающими с небес! Так какие же нервы потребуются, чтобы все это вынести! А какие огромные деньги сжирает смертоносная эта промышленность, причем тяжесть расходов несет главным образом бедный класс. Масса населения отрывается от производительного труда, и, даже пока не лилась кровь, понапрасну проливался пот, нарушалась спокойная жизнь, увеличивались бедность, болезни, смертность…
Он, по сути, приводил те же доводы здравого смысла, что в простейшем виде изложил тому же Руманову в предвоенном их разговоре, — как влияет война на величину произведения дважды два или на цену ботинок. Но тогда, до войны — пусть недавно совсем, — к подобным резонам еще могли, хотя бы теоретически, прислушаться имущие власть. А теперь‑то кому это интересно?! Ревнителям истории разве что?.. Наряду, скажем, с такой величайшей «идэей», как замена всеобщего вооружения всеобщим же разоружением, — той, с которой носился в конце века железнодорожный король Блиох. Сергей Юльевич вполне отдавал себе в этом отчет, и оттого его лекции Штейну были явно пропитаны горечью. Будь он даже четырежды прав, все равно его едва ли услышат…
— Но где же гадания, Сергей Юльевич? — воспользовавшись паузой, рискнул вставить слово Штейн, — Где ваши предположения о ходе войны, о будущем ходе?!
Сергей Юльевич в ответ едва не вскипел:
— То есть как это где?! Или неизбежность разгрома немцев — это, по–вашему, не предположение? Или что война даже победителям — разорение?! К тому же боюсь, как бы она не затянулась. Допускаю, на целый год!.. Собственно, этого надо бояться не так нам, как кузену Вильгельму!
Тут‑то он и вспомнил Блиоха, когда еще развернувшего картину будущей европейской войны.
Картина эта, прописанная в подробностях, и подвигла старика Блиоха к хлопотам о всеобщем замирении. У Сергея Юльевича они не могли тогда не вызвать усмешки. Спасение Европы, спасение человечества! Не менее, как об этом пекся старик. Не позволял Сергею Юльевичу его здравый смысл ожидать практических результатов от этой величайшей «идэи»… как раз именно потому, что она чересчур велика!..
17. Миролюб Блиох
Воротила первой руки, оборотистый, деловой, практический человек, Иван Станиславович Блиох состояние себе сколотил буквально из ничего. Не он, впрочем, один, такая была пора. А как начинал Самуил Поляков, как — Губонин?! Говорили, что на первых шагах Блиох брал подряды на устройство какой‑нибудь станционной платформы, простой подрядчик–еврейчик, совершенно необразованный. Но оказался настолько умен, что, едва оперившись, уехал за границу учиться, слушал лекции в университетах. А вернувшись, удачно женился, приняв католичество по жене. Уже не платформы сооружал, а целые железные дороги. К тому времени, когда молодой Витте стал служить под его началом, Блиох возглавлял Общество Юго–Западных железных дорог, благодаря своим дорогам и банкам громадное имел состояние и влияние. У Сергея Юльевича этого не было ничего; однако спины он не гнул, потому железнодорожный король почитал его человеком надменным. Не жаловали друг друга. Сергей Юльевич, со своей колокольни, считал, что Блиох уж вовсе зазнался, делами перестал заниматься, а взамен себя повсюду поставил своих подопечных. Сам же погрузился в политику и в производство ученых трудов. Вот именно в производство, ибо, составив программу, писание поручал сотрудникам, различным писателям и специалистам, за хорошие, разумеется, деньги (и нередко из казенных субсидий).
Благодаря такой постановке дела Блиох оказался автором на удивление плодовитым, издал множество томов по истории русских железных дорог, и по истории финансов России и книги по экономике, статистике, сельскому хозяйству, не говоря уж об отдельных ученых статьях. Производство налажено было! (Этот опыт Блиоха впоследствии весьма Сергею Юльевичу пригодился, ему он, по сути, обязан собственным литературным «гаремом»…) При всем том далеко не все принимали солидные эти труды всерьез, Сергей Юльевич тут одинок не был. Как‑то раз у него на глазах Блиох преподнес тома своих сочинений в роскошнейших переплетах старику инженеру Кербедзу, у которого во времена оны начал мелким подрядчиком на Киево–Варшавской дороге. Старик его очень благодарил, но потом вдруг спросил: «А скажи, пожалуйста, Иван Станиславович, ты сам‑то прочел эти книги?»
Под старость Блиох увлекся проблемами будущих войн с их технической, политической, экономической стороны. Со свойственной ему настойчивостью разбирал он эти вопросы лет восемь последних, до самой смерти. На мыслях о необходимости всеобщего замирения буквально едва не свихнулся… Возомнивши себя чуть ли не спасителем человечества, свои взгляды всячески распространял, писал (вернее, ему писали) книги, ездил с лекциями за границу, устраивал различные конференции, выставки, говорили, создал музей войны и мира в Люцерне, в Швейцарии, и даже нашел дорожку к молодой императрице, дабы привлечь внимание государя ко всему этому… без большого, однако, казалось, успеха. Впрочем,, в том, что Россия в скором времени проявила почин мирной конференции государств[67], может быть, и аукнулись труды старика Блиоха… Правда, тогда Сергей Юльевич был убежден: толкает одержимого старика на столь бурную деятельность неутоленное желание прославиться. И ничто иное! Ибо к практическим результатам она не могла привести, задача была не менее трудной, нежели осуществить в реальности, скажем, высокие истины, проповеданные две тысячи лет тому сыном Божиим…
И только теперь, спустя годы, когда обстоятельства безумной войны заставили наконец‑то как следует ознакомиться с пятитомным творением покойного Ивана Станиславовича, сумел Сергей Юльевич оценить капитальный труд по достоинству, отдал должное предусмотрительности автора, основательности высказанных им предположений (не гаданий), и пускай пером водили другие руки, автором справедливость велела признать того, чья была голова! Теперь‑то Сергей Юльевич убедился в этом на собственном своем опыте.
Поразительных догадок было предостаточно в толстых книгах. Взять хотя бы оценки войны в Европе между двумя союзами государств с участием десяти миллионов комбатантов[68], или вероятности для Германии воевать на два фронта — против Франции и России, или же безнадежности ее положения в случае затяжки войны. Впрочем, едва ли это были просто догадки: старик перечитал массу разнообразнейших военных, политических, литературных произведений. Он не обходил стороной даже тактики и стратегии, обсуждая всевозможные планы армейских кампаний. Так он подбирался в своих изысканиях к отрицанию взгляда о неизбежности войн. Да, в истории их можно насчитать не менее тысячи, а спорам между народами не видно конца. Но не разумнее ли, задавался риторическим вопросом старик, для разрешения этих споров не к пушкам прибегать, не к оружию, как привыкли на протяжении многих столетий, а к суду по справедливости — в наш‑то цивилизованный век?! И с этою целью учредить международный суд!Развязывание войн это, во всяком случае, затруднит…
Не любил Сергей Юльевич даже самому себе сознаваться, что в чем‑то ошибся. Но слишком со многим у старика Блиоха готов был теперь согласиться и, более того, почерпнутое из его книг повторить. Он и повторял — прилежному «лейбе» Штейну… Похоже, что не тщеславие, или не только тщеславие, двигало стариком… И вот что пришло в голову: а уж не отмаливал ли старик перед смертью прежние собственные грехи, их, конечно, накопилось немало на долгом и отнюдь не крестном пути железнодорожного короля? Едва ли кто лучше Сергея Юльевича мог себе это представить…
И тут живо вспомнилось горячее, почти что как в детстве, чувство, с каким сам молился в портсмутской церкви в день заключения мира, торжественный тот молебен священнослужителей разных вер — православной, католической, протестантской, сообща возносивших благодарственные молитвы Господу нашему Иисусу Христу за ниспослание мира, выражая тем самым единение всех в признании великой заповеди «не убий»…
18. Военная осень
Все‑таки он всю жизнь был человеком действия.
Осенью, где‑то в середине октября, нагрянул с визитом в посольство Америки. Покуда его имя в этой стране не забыли.
Давно, еще в Портсмуте, убедился: дипломатический такт нелегко дается американцам (так же, впрочем, как ему самому). На Фурштадтской, близ Таврического дворца, поверенный в делах Чарльз Вильсон не смог скрыть удивления перед неожиданным посетителем:
— Чем могу служить вашему сиятельству?
— Ну зачем так торжественно? Я пришел обсудить с вами дело, дорогой Чарльз!
И под секретом как бы по–дружески сообщил, что получил предложение свыше отправиться возобновлять связи с Америкой, а в особенности по части финансов.
Эти связи были оборваны вот уже почти что три года, после отказа американцев от торгового договора. Поводом к тому послужили стеснения американских евреев в деловых поездках в Россию, но причины лежали глубже. Таким способом выражался протест вообще против притеснения в России евреев.
— Я на это предложение согласился, однако с условием, — продолжал Витте, — что мы примем ваши известные требования и вновь заключим договор… А также введем у себя законы для облегчения положения трудящихся классов…
Второй пункт, похоже, не слишком‑то озаботил американца, на первый же он с живостью возразил:
— Мы же держимся нейтралитета! Как мы можем оказывать помощь одной из воюющих стран?!
— Нейтралитет — прекрасная вещь, — не стал спорить Сергей Юльевич, — Когда бы это зависело от меня, мы бы его тоже держались. Но что вам мешает совместить с ним выгодный бизнес?
И, достаточно опытный в подобных торгах, к сказанной уступке добавил подачку(так и называл среди своих не раз испытанную эту тактику — уступкой–подачкой):
— Для начала условимся: сделка заключается с частными банками, а во–вторых, мы заем израсходуем весь в Америке, на покупку американской продукции. Разве это для ваших деловых людей плохой профит?![69]
…Расстались на том, что дипломат немедленно сообщит о предложении графа правительству в Вашингтон, и на прощание долго трясли руки друг другу.
В своей жажде вмешаться в события он, казалось, вновь обретал утраченное было дыхание, хотя поступки «человека разумного», парадокс, не всегда отвечали законам логики.
Со стороны, может статься, его поступки было трудно понять. И если предположить, что он не ошибался в подозрениях о неусыпном за ним надзоре (над мемуарами никак не удавалось забыть про это), то в известном ведомстве без надзирателей, надо думать, не обходились. Надо думать, непоследовательностью он загонял их в тупик, своими метаниями. Впрочем, едва ли в их обязанности входило размышлять над поведением поднадзорных; задумывались в инстанциях, что повыше… И в итоге, возможно, соглашались с суждениями, не очень‑то редкими, о виттевских фокусах, акробатике, хамелеонстве. Мол, не остановится ни перед чем ради возвращения к власти…
В самом деле, какую цель он, к примеру, преследовал, прощупывая почву для займа в Америке? Ответ единственный — усилить воюющую Россию. Но в то же самое время его письмо великому князю разошлось в списках по Петрограду под видом воззвания к… сепаратному миру!
Известно: кровопролитие не выбирает жертв. Удар пришелся и по царскому дому — погиб на фронте юный корнет, не первый, к несчастью, юный русский корнет, но этот был сыном великого князя Константина Константиновича, самого, должно быть, просвещенного в фамилии человека, поэта, президента Академии наук. В членах там состоял и Сергей Юльевич. Да простит его Бог! В надежде, до наивности неистребимой надежде быть услышанным на самом верху, он воспользовался скорбным случаем, чтобы высказаться против войны, которую, дескать, коварный Альбион готов вести до последней капли русской крови.
Написал в августейший дом об Альбионе, но не то же ли самое вправе был сказать про Париж, ведь его спасали от немцев тою же кровью!..
Военная кампания поначалу казалась успешной — не в Восточной Пруссии, так в Галиции несомненно: наступление, тысячи пленных, трофеи… так громче, музыка, играй победу!
Сергей Юльевич, однако, не поддался угару, кривился:
— На что нам Галиция с миллионом евреев, когда со своими не знаем, что делать?!
Неутомимый, окольным путем послал письмо и в Берлин, банкиру, давнему своему приятелю Мендельсону. Много лет их связывали не только финансовые интересы, встречались семьями, музицировали. Фамилия восходила к знаменитому композитору; ворочая миллионами, банкир не чуждался и высоких материй… так что Серж мог позволить себе не кривить душой с Эрни, как, впрочем, и Эрни с ним… вспомнить содействие Мендельсона многотрудному займу шестого года вопреки канцлеру и самому кайзеру, к которым банкир был достаточно близок.
Итак, он писал герру Эрнесту фон Мендельсону–Бартольди, главе банкирского дома «Мендельсон и К°», Берлин (не прямо, разумеется, а через Стокгольм): эта война — ад на земле, и, будь он, Витте, у власти, этого ада не было бы… Необходимо откровенное объяснение двух императоров, в завязывании переговоров могли бы помочь их фамильные связи. И торопил, предлагая конкретного кандидата мирить кузенов, торопил: нельзя дать войне затянуться!..
«…Принято решение, — сообщал он (уж не выдавая ли желаемое за действительное?), — когда наступит момент мирной конференции, просить меня участвовать в ней в качестве делегата…»
А пока‑то, в ожидании чаемых переговоров, что прикажете делать?.. Не сидеть же, в самом деле, сложа руки!
Пылкие «ревнители истории» в голову ему пришли не случайно.
Существовало такое Общество в Питере на Васильевском острове, имело целью изучение достопамятных событий… Между тем уже мало кто помнил, что в конце царствования Александра III по поручению императора Витте отправился на Дальний Север, на мурманский берег, для поисков не замерзающей круглый год гавани, которая подошла бы морской базе. Зависел от этого и выбор направления железной дороги на Север. Приближенные советовали устраивать базу в Либаве, на Балтике, но царь сомневался.
…Из Архангельска Сергей Юльевич со спутниками вышел на пароходе «Ломоносов» в Северное море и, обойдя побережье, выбрал место в Екатерининской гавани, в Кольской губе, от полярных льдов защищенной Гольфстримом. Оттуда, обогнув на обратном пути Скандинавию, вернулись к себе в Петербург; в первую же по возвращении пятницу, отведенный день для докладов, он доложил царю о результатах своей экспедиции и передал подготовленную на сей счет Записку — об удобствах прямого доступа в океан. Не замалчивал и минусы, неудобства: темень около полугола, отдаленность от обжитых местностей… Судьбе, к несчастью, было угодно, чтобы этот доклад оказался последним. Царь Александр почил в бозе… Но при первом же докладе молодому царю — Николай вдруг спросил об этой Записке. Он знал о ней от отца. И знал, что покойный император считал ее до такой степени важной, что готов был предпочесть Мурман Либаве. Да и сам вслед отцу склонялся к тому же. Понимал, что на Балтике флот легко мог быть противником заперт, а Либава в случае войны уподобилась бы Севастополю…
Спустя двадцать лет так именно и случилось! — поскольку под влиянием партизан[70]порта в Либаве, поставленных высоко, а также и соответственно характеру своему, государь свое мнение вскоре совершенно переменил. А Записке виттевской оставалось собирать пыль в архиве на полке, отпечатавшись в памяти главным образом тем, что была предметом последнего разговора со старым императором и первого — с новым… Но война решительно придала ей значение, показавши, чья правота!
Лишний раз публично заявить о себе, о своем провидческом даре — нет, такой возможности Сергей Юльевич не желал упустить!..
По другим поводам и раньше не упускал.
В том же прошлом году в «Русском слове» с его ведома Руманов напечатал статью о «Священной дружине» и, понятно, о роли, какую сыграл в ее основании Витте… Да и сам Сергей Юльевич там выступил с воспоминаниями (мемуары и на этот раз пригодились) — о крушении царского поезда, о котором заранее предупреждал «юго–западный железнодорожник». Четверть века минуло!.. Но заслуг своих Сергей Юльевич забвению не предавал…
С публикацией же Записки о Мурмане получилась осечка.
В «Историческом вестнике» ее собирался поместить Глинский. Подготовленная уже к печати, она была задержана военной цензурой. Граф Сергей Юльевич не смолчал, лично сам заявил протест морскому министру. Увы, это не спасло положения. Тогда‑то он и воспользовался возможностью ознакомить с данным докладом ревнителей истории на Васильевском острове.
Дабы все воочию убедились: Витте предвидел события за два десятилетия до того, как они совершились. И еще — что он издавна был озабочен укреплением военной мощи России!..
Если б кто‑то все же решился в ту пору Сергея Юльевича допросить, так задался бы вопросом, когда же, черт побери, он был откровенен: извлекая ли давний доклад из архива и закидывая удочку богатым американцам или же пробуя проложить маршрут к перемирию с немцами, к миру?..
И чему же, в конце концов, отдавал предпочтение — примирению или силе военной?.. Если б кто‑то из близких ему людей рискнул задать подобный вопрос, а он на него посчитал бы нужным ответить, то ответ мог быть, наверно, таким: и тому и другому— лишь на первый взгляд одно исключает другое! — что окажется достижимей для того, чтобы кровь прекратилась… Потому как с сильным куда сговорчивее партнеры, и ему ли было не знать об этом!
Нет, из крайности в крайность он не метался, ничуть, такова была тактика; очень опытный, ловкий политик, он привычно располагался сразу на нескольких стульях, сознавая, трезвая голова, что при этом и промахнуться недолго!..
И казалось, нет на него угомону.
19. «Не того убий, а другого»
Война между тем громыхала в Восточной Пруссии, она присутствовала в газетах, на вокзалах, в госпиталях… Но Петроград начала девятьсот пятнадцатого все же отстоял еще далеко от нее.
У здания окружного суда на Литейном, — поблизости от моста, — с Невы достает сырым ветром, — как обычно в дни громких процессов, толпился народ. Мерзопакостная по–петербургски… по–петроградски… по–питерски погода любопытствующих не отпугнула; однако внутрь пускали, точно в цирк, по билетам, проверяя к тому же их дважды — в дверях и при входе в зал. В отличие от цирка, и тот и другой кордон полицейский, и все‑таки в зале полно публики, встречающей шумно появление лиц известных — думцев Милюкова, Родичева, других…
— Витте! Витте приехал!..
Сергей Юльевич как член Государственного совета вошел через служебные двери, уселся, всем видимый, позади стола, предназначенного для судей, — на местах, отведенных чинам юстиции. Последнее время нечасто показывался на людях, оттого и шумок… Сбоку, будто бы в ложах, шелестела за спинами адвокатов на своих скамьях печать.
Главных действующих лиц сего представления ввели под стражей, человек десять. Первый ряд, лицом к судьям, заняли пятеро членов Думы, карликовая фракция социал–демократов в полном составе.
Чтобы граф Витте нарушил свое затворничество, на то требовались веские причины. Неприятие военных безумств привлекло его в этих людях, очутившихся на скамье подсудимых. Их арест тому, должно быть, месяца три незамеченным остаться не мог. Газеты поспешили оповестить о злодеях, которые ставили целью поколебать военную мощь России — «путем агитации против войны»… Он нуждался в них — не в союзниках, так хотя бы в попутчиках — на каком‑то отрезке маршрута, даже на одном перегоне… Пусть эсдеки! Был готов искать где угодно. Пусть сам дьявол!.. От победных генеральских реляций не менялось его убеждение в том, что не война, а мир в интересах России. Не пугался крамольного слова. Даже мир сепаратный. Лишь бы только завязались переговоры. Реалист, он готов был взвалить на себя эту ношу, тяжесть миссии миротворца, и нового Портсмута, и новых проклятий. Одного не терпел — сидеть сложа руки… Он внимательно всматривался в этих господ, на вопросы суда называвших себя рабочими.
Из Москвы, из Харькова, из Костромы… Двое думцев показались и вовсе ему не чужими — железнодорожники. В респектабельных сюртуках они мало походили на людей своего класса… во всяком случае, какими их себе Сергей Юльевич представлял. Между тем в свои железнодорожные времена повидал их немало. Да и в памятном пятом году доводилось… Со своей агитацией исколесив чуть не половину России, господа в сюртуках, однако, в известной мере передавали настроение масс, это тоже не оставляло Сергея Юльевича равнодушным.
Длиннейший обвинительный акт занял часа полтора, не меньше. От однотонного чтения клонило ко сну. Еще в труде старика Блиоха, который Витте недавно одолевал, отмечено было, что социалисты противоборствуют милитаризму, — правда, в собственных видах. Эти люди отважились поступить в соответствии со своими воззрениями. И что интересно, доктрина, похоже, не лишила их здравомыслия. Ибо их выступление в Думе против военных кредитов (хоть проголосовали ногами) отнюдь не противоречило здравому смыслу. Скорее, напротив.
В вину им вменялась сходка в дачном флигельке под Питером, в Озерках (там ночью их и сцапали благополучно). Собрались обсудить некую резолюцию из семи пунктов, происхождение которой оставалось в их объяснениях довольно‑таки туманным. Но интерес, если не для суда, то, во всяком случае, для Сергея Юльевича, заключался не столько в происхождении преступных «пунктов» — отбитых, сказано было, на машинке через угольную бумагу, — сколько в их содержании. Там заявлено было, что суть европейской войны в борьбе за рынки и в грабеже чужих стран руками наемных рабов на пользу буржуазии. За поддержку своих правительств вожди европейских социалистов уличались в измене истинам. И не делалось различий между обеими группами наций в жестокостях и варварстве на войне. Можно было соглашаться с этим или не соглашаться, тем паче не обошлось у них без явных нелепиц, вроде того, что развал хозяйства идет на пользу буржуазии, но уж точно такие высказывания не стоили уголовного дела. Потому хотя бы, что не преступали рамок возглашенной 17 октября свободы слова! Так, по крайности, Сергею Юльевичу представлялось. Вот пропаганда поражения и необходимости повернуть оружие против своих правительств — это выглядело совсем по–другому. Прямая проповедь революции открыто нарушала закон да еще воскрешала словарь пятого года…
Прокурор, как водится, требовал строгой кары: эти люди хотели нанести удар в спину нашей доблестной армии, нашим героям, проливающим кровь на полях сражений!
В подобном случае даже римляне не обошлись бы, наверно, без своих фасций — без прутьев и топора, — Сергей Юльевич вспомнил символ в графском гербе… Подсудимые не признавали за собою вины, отнекивались, юлили. Даром слова да и грамотностью простой эти думцы не отличались и всегда‑то предпочитали держаться в тени речистого вожака, что внезапно из Думы исчез[71] (эта выходка мимо Сергея Юльевича не прошла, наделала шума). Зато их адвокат, тоже думец и оратор известный, Керенский, с прокурором схлестнулся. Он доказывал: взгляды этих людей не в крамольных «семи пунктах», каковых они и обсудить не успели, а в их заявлении на историческом заседании Думы!.. Да и в обществе, держащемся основ 17 октября, за взгляды не судят, а, напротив, именно суд гарантирует соблюдение законов без какого‑либо произвола!
— Так везде, где существует свобода!..
«Продолжали ли эти люди действовать против войны, чтобы повлиять на ее результаты?» — риторически вопрошал адвокат. И отвечал решительным «нет!». Невзирая на его красноречие, Петроградская судебная палата, понятно, с адвокатом не согласилась.
Признаться, Сергей Юльевич тоже.
Он испытывал разочарование от рутинного судебного спора…
Когда бы эта горсточка думцев, в согласии с принципами своими, не одобрив военных кредитов, ограничилась этим… Пусть не против выступила, однако не «за», это тоже при общем угаре изрядная смелость… Так нет же, не остановились на этом, их негнущаяся доктрина заводила все дальше, и случилось то, что бывало не раз: идеальничанью в угоду приходилось жертвовать здравым смыслом…
На вопрос, его занимавший, Сергей Юльевич, таким образом, ответ получил. Не напрасно все‑таки тратил время. Не столь мир, увы, привлекал к себе этих людей, сколь война, но — иная… Повернувши оружие!.. В ней на место великой заповеди «не убий» заступил бы призыв иной, иной лозунг: «Не того убий, а другого!»
20. Заказ на собственный некролог
— Я, знаете ли, за последнее время посмотрел во французских театрах не одно ревю[72]на злободневные темы, — едва только опустился занавес за Столыпиным, еще в Биаррице рассказывал Сергей Юльевич. — Когда на сцене похитители крадут Джоконду, оставляя после этого голую стену, то зрители огорчаются. Когда же взамен снятой вешают поддельную, с накрашенными ланитами и подведенными глазами, — в возмущении выходят из себя!.. Догадываетесь, к чему я клоню? У нас под флагом конституционного режима указали пределы императорской власти. Зато свою собственную довели до неограниченного произвола! Так вот, по мне, подобные прогрессисты сильно смахивают на фальшивую Джоконду. Их так называемый «обновленный строй» сохранил только труп 17 октября!.
Вообще о Манифесте 17 октября стали вспоминать большей частью к случаю, к красному дню, к очередной годовщине, — как вспоминают о событии, отошедшем в историю, о памятной дате…
Деятели разных направлений — и газеты различной направленности — откликались, разумеется, на разные голоса.
Когда‑то граф Витте писал во всеподданнейшем докладе накануне самого события: «…Россия переросла форму существующего строя и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы… Забота правительства — практическое водворение в жизнь главных стимулов, ибо начала правового порядка воплощаются, лишь поскольку население получает к ним привычку — гражданский навык…»
Четыре года спустя впечатляюще об этом сказал верный «лейба» Колышко: «Добрую половину населения пришлось так же насильственно загонять в купель гражданственности, как тысячу лет назад киевлян в Днепр. Но политическое язычество будет еще веками жить в народе…»
Разноголосицу реплик разносило, как правило, раз в году, в октябре.
«…Витте сделал громадную ошибку, настояв на конституции. Русский народ еще в полудиком состоянии, Россия не может управляться народовластием, а только императором, абсолютным и неограниченным…»
«…Манифест 17 октября отрезает вчера от сегодня, прошедшее от будущего. Надо ли было спешить с этой исторической операцией, или сделать ее более осторожно, более антисептически…»
«…Все это наделал человек, который думает только о себе и своей славе. Дал конституцию и, подобно Герострату, возбудил во всей России пожар, чтобы лично прославиться…»
«…Конституция застала Россию расползающейся — расово, политически, этически, экономически… Нам дали элементы свободы — но не свободу. При старом абсолютизме «глас народа» хоть редко, но был слышнее…»
И так далее и так далее…
Сергей Юльевич порой возражал (чаше под рукой, в мемуарах), как, к примеру, в тот раз, когда воскликнул (на бумаге) в сердцах, что лучше было отрезать, пускай поспешно, пускай не совсем ровно, нежели пилить тупою, кривою пилою, да к тому же водимой рукой ничтожного, а потому бесчувственного оператора!..
В Биаррице же, помнится, толковал кому‑то (а он возьми да и запиши):
— Реформы не доведены до конца, их испортили, искромсали. Это — как прервать хирургическую операцию посредине. Отрезанные наросты не пришьешь обратно, они гноятся и кровоточат и могут убить организм…
Уже не в медицинских, в технических терминах внушал все тому же Колышко железнодорожник:
— Бывает, на фабрике поставят новый паровик или насос, а старый сохраняют на всякий случай. И работает — старый. Так и у нас. Огромную старую разлаженную машину решили заменить, да вдруг заштопали… Но прежде аппарат действовал неустанно и равномерно, а теперь судорожно, скачками…
В остальные месяцы года и даже дни октября, до шестнадцатого и после восемнадцатого числа, о Манифесте, даровавшем незыблемые основы гражданской свободы, с каждым годом вспоминали все реже.
Но вот в чрезвычайной ситуации — начала всеевропейской войны, едва царь объявил о созыве распущенной на каникулы Думы, среди членов ее забродила идея: обратиться к власти, потребовать — ради объединения народа, — чтобы осуществила наконец (или хотя бы подтвердила), обещанные 17 октября реформы.
(«Неразрешенные в свое время вопросы внутренней жизни, — разъясняло «Русское слово», — ожили с новой силой в тылу боевого фронта и открыли старые раны…»)
Сергей Юльевич об этом узнал позднее, в то время еще не вернулся из‑за границы, равно как о том, что принадлежала мысль члену Думы из левых, молодому присяжному поверенному Керенскому, уже известному думскими своими речами (убедился в его искусстве на процессе депутатов–эсдеков).
…С предложением левых государя ознакомил председатель Думы Родзянко. Едва взглянув на бумагу и ни слова не говоря, Николай отодвинул ее к краю стола… Это было в его духе и ничего доброго не предвещало, кому–кому, а уж графу Витте не требовалось объяснять, что сие означает. Говоря откровенно (что как раз несвойственно государю), его величество предпочел бы стереть из памяти, изъять, вычеркнуть им самим дарованный Манифест из российской истории… как, быть может, наиболее опасное за время царствования покушение на корону!..
В мрачные минуты, признаться, Сергей Юльевич был и сам к тому близок. А такие выпадали последнее время нередко, в особенности по ночам, когда мучит бессонница… Он фундамент нового российского здания возводил на благоразумии большинства — и ошибся!.. На это рассчитывал и этого не нашел… Его и сожрали, как дикари соплеменника, который неосмотрительно оступился… Значит, нет благоразумного большинства!.. Значит, с Манифестом поторопились!
С другой стороны, возражал он себе, ворочаясь с боку на бок в широкой постели, надо было спасать положение. В тот опасный, в тот грозовой момент Манифест сыграл роль громоотвода. Но разве одним тем себя исчерпал? И Сергей Юльевич спохватывался: нет, он не был ошибкой. Ход развития цивилизованных стран… человечества!.. — если что перво–наперво подтверждает, так это верность конституционных основ. Даже движение поездов по железной дороге упорядочено благодаря расписанию, без него — крушения, хаос!..
И в минуты светлые душевного равновесия он почитал 17 октября за вершину всей своей жизни, ослепительную вершину!
Последнее время, соответственно возрасту, он задумывался над прошлым все чаще. В его годы и в его положении, в одиночестве, это было, наверно, естественно, размышляя о жизни, итожить… Подбивать, так сказать, сальдо. Написание мемуаров подготовило к этому.
Кстати, записал в них однажды нечто вроде того, что в конце концов убежден: раз прогудел над Россией набат 17 октября, не заглушат его ни хитрости политические, ни даже военный грохот… Под руками, к сожалению, не было текста, рассованного по тайникам… Но и без того видел ясно: в том вопрос, совершится ли все спокойно, разумно или прольется потоками кровь. Оставалось лишь Бога молить, чтобы бескровно и мирно…
И еще там присутствовала дорогая ему мысль, не раз проверенная на опыте. С давних пор, с валютной реформы: преобразования в России необходимо проводить быстро, спешно — в противном случае они тормозятся…
Неприветливым зимним питерским утром как‑то раз заехал к нему его «лейба», недавно прирученный, Глинский.
Он застал его шагающим по кабинету в сапогах и в кашне, словно только что с улицы или, напротив, собрался уезжать.
Не успев поздороваться, Сергей Юльевич вдруг сказал, как бы в продолжение какого‑то давно длящегося разговора:
— Верьте, немало в русской жизни исчезнет, а 17 октября останется. Размышления утверждают меня в этом…
Он все еще с кем‑то спорил, повторяя это не раз, и многим.
— Я не задержал вас? — разглядевши его наряд, учтиво спросил посетитель.
Известно было: по утрам Сергей Юльевич совершает прогулки в автомобиле на острова. Заезжает в часовню Спасителя помолиться. Одиночество угнетало его. Автомобиль замещал друзей. Полюбил с ветерком прокатиться, пробуждая окрестность петушиным криком клаксона. Впрочем, самобеглые эти кареты, быстрокаты и многоместки, давно перестали пугать горожан. Вот когда в свое время великий князь Дмитрий Константинович и барон Фредерикс, удалые кавалеристы оба, чуть не первыми в Петербурге оседлали свои авто, то‑то, помнится, было от их «серполетов» фурору… и дыму!.. Ну а нынче на это мода, уж и дамы соперничать стали в отделке своих колясок. Так что же говорить о Европе! Замечательное путешествие до войны успел предпринять Сергей Юльевич через всю Францию из Германии, из‑под Франкфурта, в Биарриц… С той поры настольною книгой сделался у него «Курс автомобилизма» инженера Н. Г. Кузнецова, так что «старый железнодорожник» стал прилично‑таки разбираться не в одних кулисах да буксах, но во всех этих дифференциалах–карбюраторах тоже…
— Я расстроен, — попросту, по–стариковски, объяснил он навестившему его Глинскому, — в Александро–Невскую лавру ездил, на кладбище… выбирал себе место…
— Полноте, Сергей Юльевич, что с вами?.. Подобные помышления… от кого угодно ожидал, только уж не от вас!..
— У меня предчувствие, что недолго осталось… Я в предчувствия верю. Если станете писать некролог, — вдруг продолжил совершенно практическим тоном (как литературный заказ дает, мог подумать тут про себя «лейба»), — не забудьте, каким я хотел бы видеть свой памятник. Простой черный крест на таком же черном подножии, и на нем слова: «Граф Витте. 17 октября 1905 года». И пожалуй, текст Манифеста… а? Как по–вашему? Или лучше — моей объяснительной Записки к нему… Ей–богу, она важней самого Манифеста!.. В ней — ключ к пониманию всего!
Резко затормозил посреди кабинета, как запнулся, и по памяти на выдержку процитировал:
— «Задача сводится к устроению правового порядка… Начала правового порядка воплощаются, лишь поскольку население получает гражданский навык…»
И, огромный, нескладный, завышагивал себе дальше.
21. «С загробным молением…»
…На кладбище ездил, выбирал себе место, как это было не похоже на прежнего Витте!.. А сам, сам он, Сергей Юльевич, разве был на себя похож в широченном, болтающемся, как на вешалке, сюртуке и пальто? За последние месяц–два потерял в весе два пуда…
Доктора, впрочем, успокаивали, начиная с Шапирова, пичкали снадобьями, уверяли, что хирургии вмешиваться покамест нужды нет. А он, соглашаясь с ними и делая вид, что верит, вот эдак наведался в Лавру… А несколько дней спустя слег в постель с обострением вечной своей простудной болезни.
Его просквозило, должно быть, в судном зале на процессе большевиков–социал–демократов, ослабленный организм оказался не в силах справиться с очередной инфлюэнцей. Воспалилось среднее ухо, воспаление перекинулось к мозговой оболочке… Слег — и больше уже не встал… Дурное предчувствие не обмануло.
Последние свои дни он провел на большом кожаном диване среди портретов в излюбленном кабинете. Вниз из спальни на втором этаже его, на всякий случай, перевели подальше от внука. Доктора, начиная с Шапирова, не советовали допускать мальчика к деду во избежание инфекции, и они переписывались друг с другом, пока дел не впал в забытье. Внук сообщал «его сиятельству графу» о школьных успехах и напоминал о причитающихся ему за это двадцати копейках в неделю. Дед хвалил за успехи и находил силы ответить, что графиня Матильда Ивановна выполнит принятые им на себя финансовые обязательства…
Если не считать записочек к внуку, то последнее свое письмо Сергей Юльевич адресовал государю, распорядившись, чтобы передали после смерти.
Письмо без даты подписано было: «Ваш бывший всегда и во все времена верный слуга граф Витте — ныне Ваш богомолец».
«…Припадаю к стопам Вашим с загробным молением… Историки, возвеличивая Ваши деяния, упомянут о Ваших сотрудниках, в числе коих был Витте, которого, в воздаяние заслуг его, Вы возвели в графское достоинство. Передайте, всемилостивейший государь, мой графский титул любимейшему внуку моему Льву Кирилловичу Нарышкину: пусть он именуется Нарышкин граф Витте… За такую милость буду постоянно молить на том свете Всевышнего о благополучии Вашем и Ваших близких…»
Просьба не тронула государева сердца… Быть может, и оттого, что в перечне великих свершений его царствования проситель в особенности подчеркнул: чего уж русские люди никогда не забудут, так это того, что император Николай II призвал народ свой к совместным законодательным трудам. «…Это ваша бессмертная заслуга перед русским народом и человечеством…»
Тут царь, конечно, уразумел, что речь — о 17 октября; и о заслугах не столь его, помазанника Божья, сколь ненавистного ему Витте…
Ненавистного в такой мере, что и кончина верноподданного слуги, раба Божья графа не опечалила, а, скорее, напротив… Узнавши про то при отбытии из Питера к действующим войскам, испытал нечто подобное облегчению, тому чувству, с каким отправил когда‑то этого несносного человека в отставку, по поводу коей, как говорили, у него невольно вырвалось «уф–ф». Теперь, не без связи с отставкою вечной, православный царь отписал с дороги венценосной супруге, что в сердце у него истинно пасхальный мир. И не в смерти ли Витте одна из причин сего спокойствия на душе?..
Повторил — иными словами — монарх свое «уф–ф»…
От кончины Витте до кончины российской монархии оставалось ровно два года.
КОММЕНТАРИИ
ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ КОКИН по образованию инженер. Родился в Москве. Выступал в печати как прозаик и очеркист, автор рассказов, очерков, повестей на современные и исторические темы, а также научно–популярной литературы и научной фантастики. Выпустил сборник стихов. Всего вышло более десяти книг Льва Кокина, его произведения печатались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Огонек», «Смена», «Наука и жизнь» и других. Член Союза писателей с 1970 г.
Историческим сюжетам посвящены книги «Юность академиков» (о послереволюционной питерской школе ученых–физиков), «Час будущего» (в центре которой — судьба молодой последовательницы Чернышевского, участницы Парижской коммуны, «именовавшей себя», как записали в парижской полиции, Елизаветой Дмитриевой), «Зову живых» — о петрашевцах и Петрашевском, основателе знаменитого кружка, вместе с Достоевским стоявшем на эшафоте и называвшем себя первым русским адвокатом, — о нем говорили, что в стране бесправия он помешался на праве.
Роман «Покушения, или Золотая матильда» издается впервые.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1849 год
17 июня — в семье члена Совета кавказского наместника в г. Тифлисе родился Сергей Юльевич Витте.
1870 год
Окончил физико–математический факультет Новороссийского университета г. Одессы.
1879 год
С. Ю. Витте занимает должность начальника эксплуатационного отдела при правлении Юго–западных железных дорог.
1886-1888 годы
С. Ю. Витте — управляющий Юго–западных железных дорог.
1892 год
30 августа — С. Ю. Витте поручено управление Министерством финансов.
1895 год
Витте — инициатор введения винной монополии в государственном масштабе, что позволило значительно увеличить доходы в бюджет.
1902 год
Под председательством С. Ю. Витте проходит работа «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности», которое разработало основные положения аграрной реформы.
1903 год
16 августа — С. Ю. Витте отставлен с поста министра финансов.
1905 год
23 августа — С. Ю. Витте, возглавляя русскую делегацию, подписывает в Портсмуте перемирие с Японией.
25 сентября — С. Ю. Витте дарован титул графа.
2 октября — С. Ю. Витте назначен на пост Председателя Совета Министров России.
9 октября — на аудиенции у государя Витте изложил свою программу гражданских свобод в России, что фактически стало основой для царского Манифеста 17 октября.
1906 год
апрель— отставка С. Ю. Витте.
1912 год
С. Ю. Витте издает книгу «По поводу национализма», работает над «Воспоминаниями».
1915 год
28 февраля — кончина С. Ю. Витте.
1
великолепного Николая Фигнера. — Николай Николаевич Фигнер (1857-1918), певец, драматический тенор. Пел в Мариинском театре в Петербурге. Прославился исполнением партии Германна в опере Чайковского «Пиковая дама».
(обратно)2
Оболенский А. Д. (1847-1917) — князь, сенатор, член Госсовета. В 1905-1906 гг. — обер–прокурор Синода. Один из ближайших сотрудников графа Витте при разработке законопроектов.
(обратно)3
Оболенский Николай Дмитриевич (ум. 1912) — князь, флигель–адъютант Александра III, позже управляющий кабинетом Николая II. Автор первого варианта Манифеста 17 октября.
(обратно)4
Вуич Николай Иванович — управляющий делами Комитета Министров, сенатор.
(обратно)5
…на условиях, о каких проигравшая войну сторона не могла и мечтать. — По условиям Портсмутского мира Россия вместо огромной контрибуции платила Японии только за содержание русских пленных, уступала южную часть Сахалина при условии безвозмездного возврата северной и обязалась не возводить на острове укреплений и не препятствовать мореплаванию по Лаперузову проливу.
(обратно)6
…Сольский Дмитрий Мартынович (1833-1910) — граф, статс–секретарь, председатель департамента гос. экономики Госсовета. Возглавлял комиссию по разработке закона о новых парламентских учреждениях, председатель Комитета финансов.
(обратно)7
Рондисты — писари, специалисты по переписке особо важных бумаг (манифестов, рескриптов, грамот). Такие бумаги переписывались только от руки — «рондо». Манифест Витте стал первой бумагой такого рода, отпечатанной на машинке.
(обратно)8
Рачковский Петр Иванович (1853-1911) — заведующий заграничной агентурой департамента полиции в Париже, позже заведующий политической частью департамента Министерства внутренних дел.
(обратно)9
… его обнаружили у скончавшегося в берлинской больнице главного русского анархиста в Европе. — Имеется в виду один из основателей партии эсеров М. Р. Гоц (1866-1906), представитель Боевой организации за границей.
(обратно)10
…от князя Мики Андроникова. — Михаил Михайлович Андроников (1875-1919), князь, чиновник по особым поручениям при обер–прокуроре Синода, принадлежал к распутинскому кружку.
(обратно)11
…разгром под Мукденом, а цусимского позора еще не случилось. — Мукденский бой был несомненным поражением русской армии. Потери составили 89 500 человек, свыше четверти состава, русским пришлось отступить на полтораста верст. В ходе цусимского морского сражения был практически уничтожен дальневосточный флот России — Владивостока достигли только крейсер «Алмаз» и два миноносца.
(обратно)12
«Союз русского народа», дубровинский — Александр Иванович Дубровин (1855-1918) — основатель «Союза русского народа», издатель черносотенной газеты «Русское знамя».
(обратно)13
…своему дяде Фадееву. — Брат матери С. Ю. Витте, генерал–майор Ростислав Андреевич Фадеев (1824-1883), известен как военный публицист и историк, автор книг о вооруженных силах России, восточном вопросе, Кавказской войне. Придерживался панславистских взглядов.
(обратно)14
…узнал о некоем человеке, который потерпел неудачу при попытке взорвать царский поезд Александра II . — Имеется в виду народоволец Л. Н. Гартман (1850-1908), один из организаторов взрыва царского поезда в 1879 г.
(обратно)15
…известный Клеточников — народоволец Клеточников Николай Васильевич (1846-1908) по поручению партии «Народная воля» служил в Третьем отделении. Был арестован и приговорен к вечной каторге. Умер в Петропавловской крепости.
(обратно)16
Богатый, роскошный пир.
(обратно)17
…суда в Париже над Дрейфусом. — В 1894 г. офицер французского Генерального штаба А. Дрейфус был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие веских доказательств, суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Особую пикантность процессу придавал тот факт, что подследственный Дрейфус был евреем. В 1899 г. Дрейфус был помилован.
(обратно)18
…под давлением Бисмарка. — Отто фон Шенхаузен Бисмарк (1815-1898) — первый рейхсканцлер Германской империи. Осуществлял объединение страны на милитаристской основе. Организатор Тройственного союза против Франции и России, он, тем не менее, считал войну с Россией не полезной для Германии.
(обратно)19
…сотрудничал с «Новым временем» у Суворина. — Александр Сергеевич Суворин (1843-1912) — русский журналист, издатель сначала «Нового времени», затем «Исторического вестника». Начав свой творческий путь как соратник Н. Г. Чернышевского, впоследствии Суворин стал рупором официальной власти.
(обратно)20
Обещание вознаграждений, посулы.
(обратно)21
…предстояло стянуть Россию, точно обручами … — Важнейшей задачей российской промышленности было расширение сети железных дорог. В бытность Витте на посту министра финансов протяженность железнодорожных линий выросла с 29 до 54 тыс. верст. Дороги делились на казенные и частные. Частных инвесторов Витте старался привлекать на участки, где ожидалась быстрая окупаемость строительства. Из государственной казны были профинансированы азиатская часть Великого Сибирского пути, а также Московско–Виндавская и Рязанско–Уральская железные дороги. Другим новшеством Витте было уменьшение платы за проезд, что увеличило приток пассажиров и прибавило доходов казне.
(обратно)22
…попал в министры после страшного голодного года. — В 1891 г. в России случился неурожайный год, что вызвало голод в Казанской, Самарской, Уфимской, Воронежской, Пензенской, Тамбовской губерниях. Несмотря на принимаемые правительством меры по выводу из кризиса сельского хозяйства центра России, неурожаи повторились в 1897, 1898, 1901 гг., правда с меньшими последствиями.
(обратно)23
…почтеннейший Бунге. — Николай Христианович Бунге (1823-1895) — известный экономист, академик Петербургской Академии наук, министр финансов, председатель Комитета Министров.
(обратно)24
…с профессором Ковалевским. — Максим Максимович Ковалевский, юрист, профессор госправа в Московском университете, член Первой Государственной думы, входил в состав прогрессивной группы «левых». Один из инициаторов судебной реформы. Издатель журнала «Вестник Европы».
(обратно)25
…мог судить о ней по «Молоховцу». — Речь идет о неоднократно переиздававшейся поваренной книге «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (автор — Е. И. Молоховец).
(обратно)26
…спросил еще мнение Победоносцева. — Константин Петрович Победоносцев (1827-1907) — обер–прокурор Синода, преподаватель права. Обучал законоведению Александра II. Находясь на позициях монархического традиционализма, он боролся пером и словом с разъедавшим русское общество нигилизмом.
(обратно)27
…чуть не с Лориса начиная. — Михаил Тариелович Лорис–Меликов (1825-1888) — граф, государственный деятель. Руководитель военных действий на Кавказе (1877-1878). Впоследствии занимал пост министра внутренних дел. Сочетал репрессии против революционеров с уступками либералам.
(обратно)28
Так это слово, шутя, произносил С. Ю. Витте. ( Примеч. ред.)
(обратно)29
…за обедом у князя Вово Мещерского. — Владимир Петрович Мещерский (1838-1914) — князь, издатель и редактор газеты «Гражданин».
(обратно)30
…что в самом деле не военный, а анархист. — Убийство Д. С. Сипягина совершил социалист–революционер Балмашев.
(обратно)31
Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925) — генерал от инфантерии, начальник Закаспийской области, военный министр (1898-1904), главнокомандующий русской армией в войне с Японией. В 1916 г. в связи с волнениями в Туркестане назначен туркестанским генерал–губернатором. В апреле 1917 г. арестован. Освобожден Временным правительством. Дни свои окончил в родовом имении в Псковской губернии.
(обратно)32
Зубатов Сергей Васильевич (1864-1917) — жандармский полковник, начальник Московского охранного отделения и Особого отдела департамента полиции. Создатель послушных рабочих организаций, которые получили название «зубатовщина». Одна из таких организаций выросла впоследствии в «Общество русских фабричных и заводских рабочих», которым руководил Гапон. После 9 января 1905 г. «зубатовщина» была ликвидирована.
(обратно)33
Содержание.
(обратно)34
…примкнул министр… юстиции Муравьев. — Николай Валерьянович Муравьев (1850-1908) — министр юстиции, посол в Риме. Снискал известность в ходе процесса над «червонными валетами». Автор книг по юриспруденции. При нем завершена судебная реформа 1864 г.
(обратно)35
Сергей Александрович мне верно сказал. — Речь идет о великом князе, сыне императора Александра II. Будучи московским генерал–губернатором, он был убит террористом эсером Каляевым 4 февраля 1905 г. Известен своими твердыми монархическими убеждениями, всячески поддерживал Зубатова.
(обратно)36
…знаменитый граф Муравьев–Амурский. — Николай Николаевич Муравьев, государственный деятель. Будучи губернатором Тульской губернии, первый поднял вопрос об освобождении крестьян. Он был назначен генерал–губернатором Восточной Сибири, где отстаивал интересы России, создавая на новых землях в устье Амура русские поселения. В г. Хабаровске ему воздвигнут памятник.
(обратно)37
…царь готовился обвенчаться со своею морганатическою женой. — Княгиня Юрьевская Екатерина Михайловна, урожденная Долгорукая (1849-1922) — тайная жена императора Александра II, родила от него троих детей — сына Георгия (1872), дочерей Ольгу (1873) и Екатерину (1878).
(обратно)38
То, что, в сущности, не является секретом.
(обратно)39
…трехкратное обращение американского президента. — Президент Рузвельт принимал деятельное участие в русско–японских переговорах. Им был придуман компромисс, по которому Россия и Япония могли бы сойтись на солидной контрибуции. Но Николай II в отношении контрибуции оставался непреклонен, и договор все‑таки был заключен на выгодных для России условиях.
(обратно)40
Титул императора Японии.
(обратно)41
Его величество счел за благо показать характер. — По версии историка С. С. Ольденбурга, Николай II не считал успех на переговорах в Портсмуте целиком заслугой С. Ю. Витте. Более того, во время переговоров Витте посылал в Петербург телеграммы о необходимости дальнейших уступок, которые вызвали недовольство государя.
(обратно)42
…с его мистическими недугами. — «Великий князь был тронут, как вся порода людей, занимающаяся и верующая в столоверчение и тому подобное шарлатанство», — пишет в своих мемуарах С. Ю. Витте, говоря о «мистических» недугах, какими страдало августейшее семейство, начиная с государыни Александры Федоровны.
(обратно)43
У Технологического института 18 октября толпа пыталась освободить студентов, задержанных в здании института в связи со взрывом бомбы, брошенной в казачий патруль. Семеновский полк под командованием полковника Г. А. Мина энергичными мерами рассеял нападавших. Жертв было немного, но инцидент получил в печати громкий резонанс.
(обратно)44
Члены организации «Союз русского народа».
(обратно)45
Состоящий при монархе, придворный. Здесь: оплачиваемый помощник, наймит.
(обратно)46
…со знаменитым Бароном Иксом. — Под псевдонимом Барон Икс выступал в печати Семен Титович Герцо–Виноградский (1844-1903).
(обратно)47
Фраза была сказана министром внутренних дел в кабинете Витте Петром Николаевичем Дурново.
(обратно)48
Штабс–капитан Дегаев поставил на этих расчетах кровавую точку. — Судейкин был убит на квартире Дегаева 16 декабря 1883 г. при его участии.
(обратно)49
…полицейского агента в среде социалистов–революционеров. — Речь идет об Е. Ф. Азефе (1869-1918). Азеф был одним из лидеров партии эсеров, провокатор, секретный сотрудник департамента полиции с 1892 г. В 1908 г. был разоблачен и приговорен ЦК партии эсеров к смерти, но сумел скрыться. Умер в Берлине.
(обратно)50
Один из них ведал Особым отделом… другой же, в прошлом москвич, сменил в Саратове доверенного человека Столыпина. — Расследование вели жандармские офицеры А. Т. Васильев и А. П. Мартынов.
(обратно)51
Фон дер Лауниц Владимир Федорович (1855-1906) — генерал–майор, тамбовский губернатор, санкт–петербургский градоначальник. Убит эсерами в декабре 1906 года.
(обратно)52
…князь Ухтомский попал! — Издатель газеты «Санкт–Петербургские ведомости» князь Ухтомский в сентябре 1907 г. отказался уплатить штраф в 1000 р., вследствие чего получил предупреждение, что будет подвергнут аресту.
(обратно)53
Министр юстиции Щегловитов заслужил себе прозвище Ванька Каин. — Иван Григорьевич Щегловитов (1861-1918) занимал пост министра юстиции в 1906-1915 гг., был председателем Госсовета. Упомянутое автором прозвище получил в определенных кругах за организацию нескольких громких процессов, таких как дело Бейлиса, которые способствовали разжиганию антисемитизма.
(обратно)54
Колышко Иосиф Иосифович (1861-1938) — чиновник и финансист, писатель, драматург; был известным журналистом. Умер в эмиграции.
(обратно)55
Глинский, редактор … — Борис Борисович Глинский (1888-1906), писатель, публицист. Работал в «Историческом вестнике», автор статей историко–публицистического характера. Затем был издателем–редактором «Северного вестника».
(обратно)56
Статс–секретарь Безобразов. — Александр Михайлович Безобразов, гос. деятель, его считают одним из виновников войны с Японией. Возглавляя «Русское лесопромышленное общество», настаивал на аннексии территорий в бассейне реки Ялы. Пользуясь поддержкой В. К. Плеве, подталкивал государя к началу военных действий против японцев. В 1905 г. вышел в отставку с сохранением звания.
(обратно)57
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882) — блестящий русский военачальник, генерал от инфантерии. Участвовал в завоевании Средней Азии (Хивинский поход, Ахалтекинская экспедиция, миссия в Коканде). Отличился в русско–турецкой войне, одержал победы под Плевной и при Шипке.
(обратно)58
Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918) — военачальник, генерал–адъютант. В японскую войну командовал 3–й Маньчжурской армией. В Первую мировую войну — начальник штаба Юго–западного фронта. Позже — один из главных руководителей белого движения.
(обратно)59
…генерал, не смущаясь присутствием Витте, заявил в публичном докладе … — С упомянутым докладом в Инженерной академии выступил генерал–лейтенант Величко (9 февраля 1910 г.).
(обратно)60
Любвеобильная Мария Павловна — жена брата Александра III, великого князя Владимира Александровича, который командовал гвардией и Санкт–Петербургским военным округом, отличалась (и это не составляло секрета) весьма свободным поведением.
(обратно)61
Кони согласился с Сергеем Юльевичем … — Анатолий Федорович Кони (1809-1879), юрист и общественный деятель, обер–прокурор Сената; выдающийся оратор. Вынес оправдательный приговор В. Засулич. Автор книг по юриспруденции.
(обратно)62
…столь компетентное лицо, как граф Пален!.. — Константин Иванович Пален (1833-1912) — министр юстиции (1867-1878 гг.). Сторонник монархизма.
(обратно)63
…феерическая кузина Блаватская … — Елена Петровна Блаватская (1831-1891), писательница, философ. Путешествовала по Тибету и Индии. Под влиянием индуистской философии основала «Теософическое общество» в Нью–Йорке. Автор мистической доктрины, сочетавшей элементы буддизма, оккультизма и неортодоксального христианства.
(обратно)64
…закрытую за известный фельетон «Господа Обмановы». — В фельетоне А. В. Амфитеатрова под господами Обмановыми подразумевались Романовы, т.е. царствующее семейство.
(обратно)65
…а взамен предположен …Хвостов … — Александр Николаевич Хвостов (1872-1918), гос. деятель, член 4–й Думы. До 1916 г. занимал пост министра внутренних дел. Подпав под влияние «распутинской легенды», Хвостов готовил убийство Распутина. Однако заговор был раскрыт, и Хвостов уволен от должности.
(обратно)66
Желтороссией в определенно настроенных воинственных кругах неофициально именовалась захваченная российскими войсками часть Маньчжурии (северо–восточного Китая), через которую прошла сооруженная в 1897-1903 гг. Китайская Восточная железная дорога (КВЖД), соединившая по прямой Сибирскую магистраль с Владивостоком.
(обратно)67
…Россия в скором времени проявила почин мирной конференции … — Речь идет о Гаагской мирной конференции (1899). На ней Россия выступила с предложением «ограничения военного бюджета и вооружений». Участники — Австро–Венгрия, Англия, Германия, Россия, Румыния, Италия, Франция и Швеция. Принятые международные акты не потеряли актуальности и по сей день.
(обратно)68
Участники военных действий.
(обратно)69
Выгода.
(обратно)70
Сторонники, приверженцы.
(обратно)71
…думцы предпочитали держаться в тени речистого вожака, что внезапно из Думы исчез. — Речь идет о лидере социал–демократической фракции 4–й Думы Романе Малиновском, разоблаченном как полицейский агент–провокатор. В мае 1914 г. он ушел из Думы, а также был уволен из полиции. В 1918 г. расстрелян.
(обратно)72
Спектакль.
(обратно)




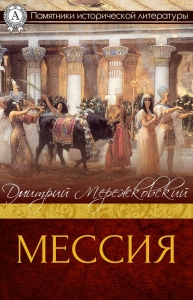


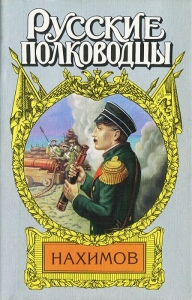

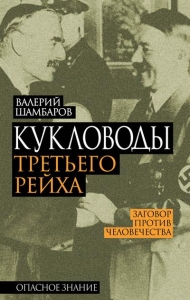
Комментарии к книге «Витте. Покушения, или Золотая Матильда», Лев Михайлович Кокин
Всего 0 комментариев