Станислав Десятсков Генерал-фельдмаршал Голицын
Михаил Михайлович Голицын 1675–1730
Большая советская энциклопедия
Москва, 1972. Том 7.
Голицын Михаил Михайлович (1.11.1675–10.12.1730, Москва), князь, государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1725), брат Д. М. Голицына.
Военную службу начал в 1687 году барабанщиком в Семеновском полку, в 1694 году произведен в прапорщики. Участвовал в Азовских походах (1695–1696), подавлении стрелецкого восстания (1698), Северной войне (1700–1721). В 1702 году руководил штурмом Нотебурга, в 1708 году одержал победу над шведами при с. Добром и отличился в бою при Лесной. В Полтавском сражении 1709 года командовал гвардией, затем вместе с А. Д. Меншиковым руководил преследованием отступавших шведских войск до их капитуляции у Переволочни. В 1710 году участвовал в осаде Выборга, в 1711 году — в Прутском походе, с 1714 года командовал войсками в Южной Финляндии, где нанес шведам поражение при Наппо. Участвовал в Гангутском морском сражении. В 1720 году, командуя отрядом гребных судов, одержал победу в Гренгамском морском бою.
С 1721 года командовал войсками в Петербурге, с 1723 года — на Украине. С сентября 1728 года — президент Военной коллегии, сенатор, член Верховного тайного совета. Участвовал в составлении «Кондиций» императрице Анне Ивановне. В 1730 году был уволен в отставку и вскоре умер.
Станислав Десятсков Генерал-фельдмаршал Голицын
Вечный мир с Речью Посполитой
Не успел декабрьский день рассветиться, как тут же зачах в сумерках: над черепичными крышами Львова пошел мерзлый дождь вперемежку с ледяной снежной крупой.
— В такую непогоду хороший хозяин и собаку из дома не выпускает, а мы вот тащись в путь по государевой службе! — ворчал седобородый дьяк Чемоданов, зябко кутаясь в теплую доху. Восседавший напротив него в полумраке кареты рослый румянощекий молодец из тех, о которых молвят: кровь с молоком! — только снисходительно улыбнулся на воркотню старого дьяка. Ему и в непогоду было жарко: собачья шуба полурасстегнута, высокая боярская шапка сдвинута на затылок — и из-под нее выглядывал новомодный французский парик с завитыми буклями.
— Ты лучше скажи, Василий Лукич, подпишет сегодня король Ян подтвердительную грамоту о вечном мире или нет? — Голос у молодого боярина был раскатистый, звучный, но дрожал в нем благородный металл, выдавая прямодушие и открытость нрава его обладателя.
— Как не подтвердить крулю договор с нами, коли крымский хан по весне со всей ордой может подо Львов заявиться? Сами видели, батюшка, как круль Ян сей град укрепит и по сему случаю со всем польским двором сюда из Варшавы перебрался? — желчно заметил дьяк. И добавил не без лукавства: — Да и мы, чай, боярин, недаром тут третий месяц сидим. Я канцлеру и коронным гетманам одних соболей на многие тысячи передарил! И дело ведомое: паны и особливо паненки по тем собольим мехам с ума сходят! — И нежданно старик сверкнул глазами: — Впрочем, тебе, Борис Петрович, насчет паненок поболе моего известно!
Молодой Шереметев улыбнулся в ответ и не без самодовольства погладил Длинные русые усы, заведенные по польскому обычаю.
«И в самом деле, как горяча была в постели придворная фрейлина королевы Кристиночка! Куда моей Авдотье! И дернул меня черт жениться в семнадцать годков. А все батюшкина злая воля».
Впрочем, на своего покойного батюшку Петра Васильевича Шереметева Большого сынок зла не таил. Отец дал ему не только славное имя Шереметевых, но и глядел далеко вперед: еще когда сидел воеводой в Киеве, послал своего Бориску учиться латыни в Киево-Могилянскую коллегию, а латынь в те годы была международным языком — языком ученых и дипломатов. И когда весной 1686 года явилось в Москву польское посольство для переговоров о вечном мире и союзе супротив неверных — турок и крымских татар, — наверху сразу вспомнили о молодом ученом боярине и приказали Борису Петровичу быть на сих переговорах «в ответе» вместе с «царственныя и малые государевы печати сберегателем» фаворитом правительницы Софьи[1] князем Василием Голицыным[2].
Переговоры шли нелегкие, поскольку польские послы хотя всей душой готовы были заключить с Москвой союз супротив неверных, но долго упрямились с передачей Киева в вечное владение московских государей. Ведь после битв из-за Украины между Москвой и Речью Посполитой в 1667 году в сельце Андрусове был заключен не мир, а токмо перемирие — так поляки упрямо не хотели отдавать Киев, хотя он и был занят московским войском. И вот теперь, в 1686 году, им в Москве сказали твердо: или вечный мир, по которому Киев оставался за Россией, или никакого союза против турецкого султана и его вассала крымского хана.
Польские послы, изрядно пошумев, в конце концов гордыню сломили, здраво рассудив, что в Киеве все одно давным-давно уже стоит русский гарнизон, а турки и татары грозят меж тем сиюминутно коронным владениям, и на вечный мир я признание Киева за московитами согласились, лишь бы получить помощь России против крымцев.
Но стоило послам уехать из Москвы, как по всей Речи Посполитой поднялся великий шум против подтверждения договора о вечном мире с Москвой. Подтвердительную грамоту должен был еще подписать король Ян Собесский, но то ли из-за шума, поднятого магнатами и шляхтой, то ли из других расчетов король Ян подтвердить грамоту о вечном мире не спешил. Потому в ставку короля-воина из Москвы и было отправлено посольство во главе с Борисом Петровичем Шереметевым.
— Батюшка Шереметев Большой сидел многие годы воеводой в Киеве, и польское панство Шереметевых давно знает, сам Борис воспитывался в киевском коллегиуме и ведает не только латынь, но и по-польски хорошо болтает! Словом, по всем статьям наш посол! — твердо сказала правительница Софья своему фавориту Голицыну.
— Опять же, — добавила она доверительно, улыбаясь в свои заметные черные усики, — при дворе старого круля Яна всем вертит его молодая женка Марыся и ее фрейлины, ну а Борис Петрович-молодец видный! — И, притянув к себе горячей рукой лапушку Васеньку, прошептала жарко: — С тобой-то Бориску никак не сравнить, вот тебя я никакой Марыське не отдам!
Так на кремлевских верхах Бориса Петровича и определили срочным послом в Речь Посполитую. В Посольском же приказе ему наказали: «…а как подпишет король Ян грамоту о вечном мире, ехать тебе, боярин, с тем известием еще доле, к императору Леопольду в Вену. И сказать цезарю, что по следующей весне мы всем войском идем на Крым».
Так Борис Петрович с посольским дьяком Чемодановым осенью 1686 года и оказался в славном городе Львове, по-польски именующемся Львувом, по-немецки — Лембергом, а по-казацки Львывом.
Город стоял на перекрестке торговых путей с Черного моря на Балтику, с Восточной Европы в Западную, из владений турецкого султана в земли императора Священной Римской империи германской нации и делена запад во владения христианнейшего короля Франции, Венецианской республики и Римского Палы.
И уже оттого население Львова было самое смешанное: рядом с важными дородными панами в расшитых жупанах вскидывали свои чубы запорожские казаки в широченных шароварах, юркие армянские купцы торговали рядом со смирными евреями, а бежавшие от преследований «короля-солнца» Людовика XIV[3] французские гугеноты зазывали в свои модные лавки, где можно было купить товары последней парижской моды.
К этим-то модным лавкам и льнули прекрасные паненки, и самая прелестная из них, по мнению молодого Шереметева, любимая фрейлина королевы Марии Казимиры Кристиночка. Для нее у Бориса Петровича ни в чем не было отказа — амур! Впрочем, Он знал, что Королева обожала свою фрейлину за ее чисто французский задор, веселый нрав и безупречный политес. И, главное, Кристиночка была парижанкой по крови, волей судьбы занесенной семьей гугенотов в Польшу. Ведь и сама королева Марыся по происхождению была дочерью французского дворянина и приехала когда-то в Польшу из Парижа в свите Марии Гонзаго, будущей жены короля Владислава. В Варшаве молоденькая француженка быстро расправила крылышки: сперва поймала в свои сети богатейшего магната Польши гетмана Замойского и стала гетманшей Марией Казимирой Замойской, а после кончины старого мужа обратила внимание на давно воздыхавшего по ней мелкопоместного шляхтича, но удачливого воина Яна Собесского. После женитьбы Мария Казимира на всю жизнь для знаменитого полководца стала милой Марысенькой. И честолюбие пани Марыси на сей раз было удовлетворено сполна — ее Ян Собесский стал королем Речи Посполитой, а она королевой.
«И не стал бы мой дурень королем, не сумей я перессорить на сейме всех знатных польских магнатов: Потоцких и Любомирских, Сапег и Радзивиллов! Да опять же турки захватили всю Подолию, угрожали Кракову и Варшаве, вот и пришлось сейму кликнуть королем знаменитого воина! — улыбнулась про себя пани Марыся. — Ведь король-то мой только на поле брани король, а в делах высокой политики он всегда моему совету послушен. Вот и сейчас от меня зависит — впустить ли этого необычного московита в боярской шапке и французском парике в кабинет Яна или не впустить!»
Королева не без удовольствия оглядела рослого, представительного Шереметева, ловко согнувшегося перед ней в изысканном версальском поклоне. По-женски позавидовала своей любимице Кристиночке: «А москаль-то и впрямь хорош! Впрочем, какой он москаль! Прежние послы-московиты уставят тупо брады и бьются за каждую буковку в многочисленных титулах своего государя. А сей московит даже по одежде — в золоченом версальском кафтане, длинном парике с буклями а-ля Картроз — словно не из Москвы к нам заявился, а прискакал прямо из Версаля. И по-польски так и сыплет, да и за картами умеет ловко перехватить ручку и поцеловать так, что жар в щеки бросается!»
Королева прикрыла глаза, усмехнулась — за одну осень московский посол проиграл ей в карты тысячи злотых! И проигрыши те были не случайными, а со значением! Но, как всякая игра, она рано или поздно имеет конец.
Мария Казимира важно протянула Борису Петровичу руку для поцелуя. Затем указала на потайную дверцу в кабинет короля и доверительно шепнула:
— Идите, mon cher, король вас ждет!
Ян Собесский, впрочем, поджидал русского посла с большим раздражением. Уже третий месяц после вручения верительных грамот этот московит маячит при дворе и в делах своих куда преуспел — втерся в доверие к Марысочке, одарил всех фрейлин и гетманов соболями, и даже гайдуков и тех не забыл. А Марысочке подарил роскошные горностаевые меха и объяснил, что горностай, мол, символ высшей власти. И Марысочка, невинная душа, горностай от посла приняла, не ведая, что москаль он и есть москаль — без должного расчета ничего не сделает! А расчет у московита простой: вырвать ратификацию короля под договором о вечном мире и заставить Польшу навсегда примириться с потерей Киева. И как это Марысочка не поймет — не расположение Собесских нужно русскому послу, а Киев, Киев, золотой Киев! Правда, у Марыси и коронных гетманов есть и политичный и военный резон: татарские орды стоят у Перекопа, турками взят Каменец-Подольск, а от Подолии до Львова рукой подать!
И, как всегда, большие магнаты в трудный час разбежались по своим замкам, и с королем осталась только мелкая шляхта, под которой не лихие скакуны, а древние одры, так что с легкоконными татарами этому воинству не справиться.
Собесский вздохнул, вспомнил последний разговор с Марысей.
— Киев уже тридцать лет как не наш, да и видел ли ты, Ян, Киев? — спросила этой ночью женушка.
— Видел только однажды, в детстве! — признался Ян, вспомнив, словно сквозь туман, позолоченные главы киевских храмов.
— Да ведь детство-то давно прошло, а татарская орда вот-вот и под стены Львова прискачет и нашу фамильную местность Янов разорят! — нашептывала Марыся ночью.
И о том же твердил пан канцлер утром. И доводы эти Ян Собесский разумом понимал, но сердцем — нет, сердцем не хотел расставаться с Киевом.
— Даже Болеслав Храбрый хотя и взял Киев с помощью князя-изменника, Святополка Окаянного, но возвернул его законному владельцу Ярославу Мудрому! — блеснула за утренним кофе Марысенька знанием истории.
— Сколь учена моя женушка! — восхищенно взглянул Ян на свою Марысеньку. — И откуда у нее эти исторические познания? — Знал бы он, что Борис Петрович много ночей твердил о том Кристиночке, а та передавала сии исторические аллегории своей госпоже.
Болеслав Храбрый был, конечно, любимым героем в польской истории для храбреца Собесского, но куда более важным оказалось для него утреннее сообщение гонцов с границы — орды крымцев идут на Галичину, а турки тем временем снова грозят Вене. И только выступление Москвы остановит крымского хана!
— Ну что ж, коль даже Болеслав Храбрый уступил Киев Ярославу Мудрому, уступлю и я сей златоглавый град московитам» плачу горько, но уступаю! — тяжело поднялся Собесский из-за лакированного кофейного столика, доставленного Марысе прямо из Парижа. И сказал канцлеру зло: — Зови своего Шереметева — дам решающую аудиенцию.
Когда Борис Петрович вплыл в королевский кабинет, Ян Собесский стоял у окна и грустно взирал на оголенный пустой сад.
Вынырнувший из тени канцлер почтительно доложил:
— К вам русский посол, ваше величество!
Седовласый витязь величественно повернулся к Шереметеву. Держался по виду грозно, но на седой ус скатывалась предательская слеза. Король Ян смахнул слезу не скрывая. И грамоту о вечном мире между Польшей и Москвой подписал твердой рукой. Канцлер тут же приложил к ней гербовую печать Речи Посполитой. Борис Петрович склонил голову в благодарственном поклоне и почтительно сообщил Собесскому:
— Пришла последняя почта из Москвы, государь. Наш канцлер князь Василий Голицын сообщает, что великие цари Иван и Петр и правительница Софья объявили уже нынче поход на Крым.
— И кто же Поведет войско? — оживился Собесский.
— Сам князь Василий и поведет… — Шереметев едва не пожал плечами, поелику о полководческих дарованиях Софьиного фаворита в Москве никому не было ведомо.
— Передай мой совет князю: пусть держится в походе Днепра. По себе ведаю, без воды идти сухой степью на Крым — гиблое дело! — Как настоящий воин, Собесский сразу начертал удобный путь для московской рати на Крым.
Совет знаменитого полководца Борис Петрович в Москве доверительно сообщил князю Василию. Но Голицын горделиво отмахнулся: «У меня свой план, боярин!» И летом 1687 года повел московское войско напрямую через голую степь, где и попал на жаркие июньские пожары. Но Борис Петрович, щедро награжденный правительством Софьи за ратификацию вечного мира, — пожалованный ближним боярином и наместником вятским, — в этом первом Крымском походе не участвовал.
В Богородском
На светлых берегах реки Пахры высились боярские хоромы князей Голицыных, братьев Дмитрия, Михаилы и Михаилы же Меньшого, поставленные еще их отцом, великим боярином и воеводой курским князем Михаилом. Андреевичем Голицыным вскоре после второго Чигиринского похода.
Дом был срублен, по старинному обычаю, из неохватных дубовых бревен, на четыре сказа, но парадные горницы были обиты уже на новый манер французскими обоями и украшены расписными шпалерами, а широкие деревянные столы вдоль стен украшены турецкими и персидскими коврами, доставшимися боярину из турецкого обоза, захваченного под Чигирином. Однако по-прежнему в одном углу горницы теплились лампады, а в другом высилась русская печь, расписанная смелой рукой деревенского маляра цветами, единорогами и грифонами лазурными и червлеными красками. В тот вечер под Рождество 1688 года печь жарко дышала и в комнатах было так жарко, что трехлетний карапуз Мишка бегал из угла в угол босой, в одной рубахе и все норовил выскочить в сени, но путь ему преграждала статная и веселая красавица кормилица Аграфена, которая, расставив руки, отгоняла его от дверей и шумела яко на цыпленка: кыш! кыш!
В столовой комнате под надзором самой княгиня Софья суетилась ключница Матрена и дворовые девки. То и дело бухали двери в стылых сенях — на стол из поварни несли холодные блюда: толстые домашние колбасы, гусей, обложенных мочеными яблоками, вареных кур, астраханскую осетрину и холмогорскую семужку. Двое дворовых не без торжества поставили на стол две кадушечки: одну с янтарной красной, другую с черной паюсной икрой. И рыбу и икру доставил с московского подворья Голицыных боярский приказчик Иван Алсуфьев по приказу Дмитрия Михайловича Голицына, который после кончины отца стал ныне старшим в семье.
— Да точно ли Дмитрий сказал тебе, что будет к Рождеству? — в какой уже раз переспрашивала княгиня Софья приказчика глухим голосом, прерываемым болезненным кашлем. После родов Миши Меньшого, а особливо после кончины мужа княгиня часто хворала, а ведь на нее свалилось все немалое хозяйство (помимо Богородского, Голицыным принадлежало и Архангельское под Москвой, Знаменское под Пензой и целая слобода под Курском). Старшому-то сынку не до хозяйства — все на царской службе спину гнет. И добро, коль получил чин царского стольника, так и служи царям за столом в Кремле, так нет, зачем-то увязался в Крымский поход. Как же, двоюродный братец князь Василий Васильевич в походе том был главным воеводой и к молодому родственнику вельми ласков. Вот Митя и попался на удочку, после похода царской милостью его все одно обошли.
Княгиня задышала шумно грудью, прошла в комнату средненького сына Миши Старшого и ахнула: сынок встретил матушку барабанным боем.
Комнатка Миши — что оружейная палата, тут и сабельки, и прапорцы, и протазаны, — и не игрушечные: звон пистоли огромные, седельные да ружья охотничьи, впору на медведя идти! Оставил то оружие братцу князь Дмитрий, отправляясь в Крымский поход.
Да еще учил на прощание: «Ежели со мной что случится в походе, ты, Михаил, будешь старшой в роде и, в случае чего, должен защитить и матушку и сестриц от лихих людей».
Мишка и впрямь этим летом научился стрелять и из ружья, и из мушкетона, и из пистолей, а учил его однорукий офицер из немцев Иоганн Везинер. Привез того офицера в дом еще покойный муж-воевода: вместе, мол, с Иоганном под Чигирином бились, там и отрубил турок немцу левую руку. И куда теперь однорукому офицеру деваться? Покойный Михаил Андреевич и приставил немца к сыновьям: учить немецкому языку (русскому-то и местный дьячок, слава тебе господи, и Митю и Мишу выучил). Но немец, который за десять лет службы у Голицыных превратился из Иоганна в Ивана Ивановича, в усадьбе прославился не столько как учитель, сколько как мастер гнать добрую водку и настаивать наливки: сливовицу и вишневку, смородинную и рябиновку. Вот и сейчас на столе штофчики и чарки расставляет — жаль, добрый мужик, а ведь сопьется совсем! — княгиня жалостливо покачала головой.
В это время дверь из холодных сеней отворилась, и сторож Савелий хриплым, простуженным басом оповестил: «Едут! Вдут!»
Княгиня накинула на голову шаль и выплыла на крыльцо встречать старшего сына. А князь Дмитрий уже бросил Савелию шубу и в одном офицерском мундире, перепрыгивая через ступеньки, взбежал на высокое крыльцо, крепко поцеловал матушку.
Княгиня уронила голову на крепкое плечо сына, хотела было спросить, отчего это он не в нарядной форме царского стольника, а в немецком платье, но слезы застилали глаза.
— И зачем ты, матушка, слезы льешь? Радуйся, что из крымских степей сынов твой ноги живым унес, не слег под Перекопом! — громко и басовито прогудел важный боярин, что поднялся на крыльцо следом за князем Дмитрием.
«Батюшки, да что же это я? Ведь боярин-то сам Борис Алексеевич Голицын, а я хлеб-соль не поднесла!» — мелькнуло у княгини Софьи. Да спасибо Матрене, вынырнула из-за спины, передала в руки княгине поднос с караваем теплого домашнего хлеба и сольницу. Хозяйка низко поклонилась гостю и поднесла, а боярин важно отломил кусок хлеба, посолил, пожевал, затем сам поклонился княгине.
— Проходи, Борис Алексеевич, в палаты, устал, чать, с дороги! — У княгини даже голос подобрел. По правде сказать, Ванька-приказчик толком и не разобрал в Москве, какой из бояр Голицыных в гости пожалует: Василий Васильевич или Борис Алексеевич. Первого княгиня недолюбливала за спесь и чванство — подумаешь, у правительницы Софьи в фаворитах ходит! Борис Алексеевич, тот другой человек — и с покойным мужем в походы ходил, и Митю учил уму-разуму. Такому гостю княгиня всегда была рада, а Борис Алексеевич чувствовал себя в доме своего покойного друга и родственника своим человеком. Потому сказал без церемоний:
— Хорошо бы нам, княгинюшка, с дороги баньку принять!
— Да натоплена банька то, боярин, еще с полудня пар держим! — весело подал голос ключник Ермолаич, в обязанности которого вменялось следить за всеми постройками на широком боярском подворье: поварней и конюшней, хлевом и овином, ледниками и разными кладовыми. Но любимым развлечением ключника была банька: срубленная на славу, крытая тесом, уставленная скамьями из липы, так что липовый настой стоял уже в предбаннике. А внутри клубами вился густой пар, пропахший имбирным квасом и березовыми вениками.
Боярин, не боясь жара, возлег на верхней полке и подавал оттуда команды:
— Ермолаич, плесни еще кваску на каменку, а ты, Мишутка, огрей меня веничком!
Мишка рад стараться, бил боярина веничком изо всей мочи, но старый Голицын только покряхтывал в изнеможении.
Князь Дмитрий и Иоганн давно уже сидели в предбаннике в чистом исподнем белье и лили домашние взвары, когда из облаков пара выплыл толстым брюхом вперед боярин, а за ним красные, яко раки, Ермолаич и Мишутка.
— Ублажил ты меня сегодня, ублажил, Ермолаич! — Боярин, отдуваясь, уселся на скамью, закутавшись в чистую простыню.
— Ты, Борис Алексеевич, сейчас вылитый римский сенатор в тоге! — рассмеялся князь Дмитрий.
— Что ж! — согласился боярин. — Ведь и я латинские книги читывал, Знаю, любили римляне бани, случалось, полдня в оных проводили. Но термы те были каменные, ад наши, русские, с веничком и духовитей и слаще. Братец-то твой молодшенький так уж веничком постарался, размял все мои косточки! — Борис Алексеевич ласково потрепал мокрые кудри младшего Голицына и добавил: — А рука-то у тебя, Миша, уже силой наливается, по своей спине чую.
— Да мне уже тринадцатый год пошел, скоро вместе с братцем в поход на крымцев пойду! — выкрикнул Мишутка, но, увидев, как недовольно нахмурился старшой брат, добавил с горячностью, глядя прямо в глаза боярину: — Все одно пойду! Князь Василий Васильевич, главный воевода, ведь не только Дмитрию, но и мне двоюродным братцем приходится, чаю, возьмет меня в поход!
— Ишь какой горячий! Да ты, чаю, еще и барабанную солдатскую науку не прошел, а уже в поход рвешься? Как, Иоганн, ведает наш князюшка барабанную науку? — Борис Алексеевич знал немца еще по Чигиринским походам и своим старым наездам в Богородское и боле всего ценил его за умение знать цветные водки, до коих и сам был охоч.
— Что ж, князь Борис, из нашего вьюноши знатный воин выйдет: на коне ездит что твой татарин, стреляет и из лука и из пистолей, а этим летом я его и мушкетерской науке обучил: биться на шпагах и попадать в цель из мушкетона за сто шагов! — Немец говорил прямо, без лукавства.
— Да я ведь тебя, Иоганн, не для того к мальцу приставил, чтоб пальбе учить, а дабы вокабулы немецкие познать! — рассердился Дмитрий Михайлович, чувствовавший после кончины отца особую ответственность за младшего брата. И, обратясь к Мишутке, спросил гневно:
— Писать-читать по-немецки-то умеешь?
Мишутка уныло наклонил голову, но признался честно:
— Говорить говорю, — азбуку ведаю, но пишу плохо.
— Отчего ж так? — гневался братец. Но Мишутка еще ниже склонил голову — не мог же он выдать тайну учителя, что тот, как старый ландскнехт, ловко ставил свою подпись под жалованьем, но на письмо был туп.
— Да будет тебе, Дмитрий, экзамен в бане устраивать! — добродушно рассмеялся боярин. И, обратясь к испуганному немцу, молвил милостиво: — А не осталось ли у тебя, Иоганн, можжевеловой, коей ты в прошлый приезд потчевал?
— Есть и можжевеловая, и рябиновая, и клюквенная, и смородинная! — весело вмешался уже одетый ключник. — Да и стол уже давно накрыт, матушка княгиня велела звать разговеться.
— И то правда, Ермолаич! Ведь ныне Рождество, пора и разговеться, и кутью попробовать! — согласился боярин, и вскоре все уже скрипели валенками по узкой тропинке, ведущей к боярским хоромам меж высоких сугробов.
Мишутка по чину шел последним. Выглянувший в это время из-за туч месяц озарил своим сиянием заиндевевший дом, который показался отроку неким сказочным дивом. И тревожная мысль, что скоро он и впрямь покинет этот дом и расстанется и с маменькой, и с сестрами, и с немцем-ученым, и с верным Ермолаичем, так его поразила, что он даже задержался на минуту, пока звонкие голоса с крыльца и оклик старшего брата не заставили его побежать вприпрыжку навстречу рождественскому празднику.
Рождественскую службу отстояли в маленькой домашней церковке. Стояли чинно: в первом ряду — княгиня, боярин и князь Дмитрий, позади Миша с сестрами Александрой и Евдокией, за ними приказчик и ключник с ключницей, дале у входа вся дворовая челядь. Служил отец Афанасий, священник старенький, с седой бородкой, приглашен был в домашнюю церковку покойным хозяином, когда еще токмо поставили боярские хоромы в Богородском.
После молебна князь Дмитрий и княгиня одаряли дворню рождественскими подарками, а Борис Алексеевич — взял Мишу под локоток и сказал весело:
— А ну, молодец, покажи мне твою оружейную палату! Мне о твоем баловстве княгинюшка уже жаловалась!
Увидев развешанное по стенам оружие: сабельки и топорики, Борис Алексеевич хмыкнул — да это же все детское баловство.
Миша перемигнулся с подошедшим немцем и смело заявил:
— Да у меня все настоящее оружие по приказу маменьки в потайной чулан перед вашим приездом попрятали! Но мы с Иоганном тот чуланчик знаем!
— А ну тащите сюда весь арсенал! — весело рассмеялся Борис Алексеевич и скоро рассматривал уже кривую, блестящую острым лезвием турецкую сабельку — ятаган. И молвил в раздумье: — Подумать только, Миша, а ведь это та самая сабелька, которую твой батя еще в первом Чигиринском походе с турецкого паши снял. Турка-то Михаил Андреевич уложил из пистоля, вот и достался ему в трофей сей ятаган. Я тогда еще молодым стольником плечо к плечу с твоим отцом против турок бился и трофей этот хорошо помню! — Боярин с грустью покачал головой и внимательно взглянул на Мишу. Тот стоял перед ним, вытянувшись во фрунт: в одной руке мушкетон, в другой — стрелецкий бердыш, сбоку офицерская шпага, у ног большой турецкий барабан.
— Э, да ты и впрямь аника-воин! — развеселился боярин, любуясь на столь грозную фигуру младшенького Голицына. И, как бы между прочим, предложил: — А ну-ка вдарь в барабан, покажи свое мастерство.
Миша долго не заставлял себя упрашивать: через минуту взлетели барабанные палочки и лихо отыграли зарю, отбой и атаку! Громкий барабанный бой заглушил все еще тихо тренькающий в церковке колокол.
На этот шум двери в комнату распахнулись, и на пороге выросла разгневанная княгиня.
— Как ты посмел без моего спросу снова эту проклятую трещотку из чулана вытащить! — напустилась она на сына.
— Да ты не горячись, княгинюшка, не горячись! — заступился за Мишу Борис Алексеевич. — Молодцу-то двенадцать дет еще осенью стукнуло, так что самое время отдавать его в барабанную науку.
— Это куда же ты, Борис Алексеевич, моего братца отдать хочешь? — с мнимым равнодушием поинтересовался неслышно подошедший князь Дмитрий.
— Сам, поди, ведаешь! — ухмыльнулся боярин в черные усы, на польский манер ниспадавшие к подбородку (бороду боярин, опять же на польский манер, брил). — Сам ведаешь, князюшка, нынче состою я при дворе молодого царя Петра Алексеевича, а для него набирают в Семеновской слободе второй полк потешных. Записать туда Мишу сейчас в барабанщики, глянь, с годами и офицерский чин получит, да и у царя на виду будет.
— Да что это за царь, одно название! — вырвалось у князя Дмитрия.
— Все вы, кто вокруг фаворита Васьки вьетеся, в царя Петра не верите. Только, боюсь, еще обожгут и фаворит, и его метресска-правительница Софья свои крылышки, а Петру быть настоящим царем! — усмехнулся боярин.
— Да что это вы еще за праздничный стол не сели, вина-браги не попробовали, а уже о таких высоких материях разговоры ведете?! — спохватилась княгиня и, как хозяйка, решительно приказала: — А ну-ка, господа воины, все за стол, не то, чую, у Матрены в поварне уже поросенок с гречневой кашей подгорел.
Столовая палата была украшена стенописью с изображением трав, птиц и цветов. Но венцом палаты был праздничный стол, уставленный дичью — тетеревами и куропатками, зайцами в взваре, семгой и осетриной. По концам стола, как две мортиры, высились кадочки с красной и черной икрой. По-домашнему изготовлены были грибки — рыжики и белые. Рождественский гусь радовал глаз. Перед княгиней, сидевшей по правую руку от почетного гостя с дочерьми Сашей и Дуней, стояли фряжские вина: бастр красный, сект и мушкатель, ренское и церковное. Меды были свои, домашние: красные и белые, ягодные и яблочные, мед с гвоздикой, мед боярский, мед княжий, морсы — малиновый, черничный и брусничный.
Перед Борисом Алексеевичем, восседавшим во главе стола, высились штофы с водкой: двойной царской и чистой, как слеза, боярской, пестрели цветные, душистые: анисовая и можжевеловая, смородинная и рябиновая, красовались настойки на травах, пенилось пиво.
Старый боярин сразу вспомнил свою должность кравчего[4] и самолично налил княгине кубок ренского, отцу Афанасию водочки анисовой, себе двойной царской. Князю Дмитрию немец-умелец налил настоечки клюквенной, себе же водки самой простой, хлебной и оттого самой крепкой.
Сестрицы баловались медами и морсами, а сидевшему в конце стола Мише дали сбитень.
«Как маленькому налили!» — сердито подумал он, но виду не подал — хорошо еще, что в этом году маменька за большой стол пустила, а не держала в детской вместе с Мишуткой Меньшим. Да и боле всяких водок, вин и наливок интересовал его разговор во главе стола между боярином и старшим братом.
— Что же вы, однако, от одного пожарного смрада от Конских вод сразу назад в Россию завернули, даже ни одного татарина в степи не завидев? — с усмешкой пытал боярин Дмитрия Михайловича.
— А оттого и повернули, что убоялись наши воеводы лютого степного пожара, да и фураж с провиантом в поход забыли прихватить! — с горечью отвечал князь Дмитрий, у которого и сейчас перед глазами стояли солдаты войска Василия Голицына, которые под жгучими лучами бреди по выжженной степи, полуголодные, разномастно одетые, небритые и неумытые, выставив вперед брады, яко некие лесные лешие. И всем хотелось одного: пить! пить! А воды не было. Месяц, пока войско тащилось по степи от пограничной речки Самары до Конских вод, не выпало ни одного дождичка.
— Кто же степь-то зажег? Неужто казачки по приказу гетмана Самойловича, как о том твой Васька на всю Москву ныне трубит? — Борис Алексеевич рассорился со своим знаменитым родственником еще до похода, тогда же и перешел на службу в малый двор к царю Петру.
— Кто его знает, кто степь зажег, может, и гетманские черкесы. Они у нас в разъездах впереди сторожевого полка скакали. Ну а какие у них порядки — дело известное: на ночь обязательно костерки разожгут, а как напьются горилки, костерок и потушить забудут. А степь в такой зной, что порох, бросит казак искру с люльки — тут тебе и пожар. Так что, может, и без приказа гетманского пожар в степи могла учинить казацкая вольница. — Князь Дмитрий отодвинул сладкую клюквенную и налил себе крепкой боярской, выпил одним духом — полегчало.
Но Борис Алексеевич, который тоже не пропускал своей чарки, по-прежнему не отставал:
— Ну, хорошо, степь загорелась, а отчего вы без провианта в поход отправились? Иль у вас обоза не было? И кто это надумал — без съестных запасов в трехсотверстный поход идти? — Язвительности боярину было не занимать.
— Отчего же, обоз был великий, поначалу — в двадцать тысяч телег. Да, окромя боевых запасов, воеводы и начальные люди в обозах свои запасы и даже своих полюбовниц везли, — поморщился князь. — С провиантом же большой воевода и впрямь оплошку дал: выдали в Белгороде солдатам муки на два месяца вперед, чтобы сами себе хлеб пекли, да тащить-то на себе кули с мукой и мушкет с зарядами куда тяжело. Солдаты муку еще на Украине-то или проели, или разменяли на кур и сало. Вот и остались в степи без хлеба. Конечно, Василий Васильевич на купчишек надежду имел. В начале похода-то маркитантов и маркитанток было видимо-невидимо: навезли и колбас, и сала, и яиц, и другой снеди, но боле всего — водки. Но как начались пожары в степи, все эти квасники и бражники первыми и разбежались.
— А вообще много в походе нетчиков-то было? — с толком продолжал расспрашивать Борис Алексеевич. Недаром сам был при наборе войск и ведал, как многие дворянские недоросли скрываются в нетях, не являясь на царскую службу.
— Да уже в Белгороде, почитай, несколько тысяч на службу не явились. И добро бы поселенные солдаты или рейтары, так нет же — коренные дворяне! — разгорячился то ли от выпитого вина, то ли от печальных воспоминаний князь Дмитрий. — Бирючи[5] трижды поход объявляли, из Москвы грозный царский указ разослали, что отнимут у нетчиков их поместья, а все одно — в поход не спешили, а посланным гонцам ответствовали: «Дай бог Великим Государям служить, только бы сабель из ножен не вынимать!» А явятся: лошади — клячи худые, сабли тупые, сами безодежные, строю не обучены, иные и стрелять не умеют. В походе от них один шум и крик! Погрозятся прадедовскими саблями и укроются за пехоту. Вот тебе и все нынешнее дворянское ополчение.
— Да ты кушай, Митя, кушай, не то за разговором-то ничего не ешь! — Софья Матвеевна смотрела на своего старшего с тревогой: ишь похудел, ямочки на щеках исчезли, лицо стало костистое, суровое и — страшно признаться — совсем чужое. И Софья Матвеевна все подкладывала своему старшенькому и грибочков маринованных, и икорки, и осетринки — надо же, какие беды Митенька в том глупом походе претерпел.
Меж тем Ермолаич не без торжества доставил из поварни жареного поросенка с гречневой кашей.
— Ай да Матрена! Умеешь ты поросенка приготовить! — Борис Алексеевич самолично воткнул в поросенка охотничий нож. И, обратясь к князю Дмитрию, заметил не без насмешки: — Вот кого твоему большому воеводе в походе не хватало — вашей Матрены.
— Спасибо, батюшка свет боярин, за слово милостивое! — Матрена, стоявшая у дверей, поклонилась в пояс. Борис Алексеевич тоже поднялся, налил чарку царской водки, протянул ключнице, затем перехватил быстрый взгляд ключника-мужа, угостил и его, сердешного.
После поросенка все как-то осоловели. А меж тем из ледника доставили яблоки в патоке и в квасу, сливы и вишни соленые, груши и смоквы, финики и орехи грецкие.
Борис Алексеевич же потребовал, по старинному обычаю, щей кислых и хлебал долго, с удовольствием. Когда боярина отвели в опочивальню и поставили на столик квасу, зашедший перед сном пожелать спокойной ночи князь Дмитрий заговорщицки подмигнул ему и выставил к квасу еще и штоф беленькой, зная, что старый Голицын не зря имел при дворе чин кравчего.
Боярин улыбнулся довольно и пригласил Дмитрия Михайловича присесть на доверенный тайный разговор. Но токмо тайны не вышло — Мишутка лежал на печи за тонкой перегородкой и слушал всю беседу.
— Похоже, князюшка, ты не к тому берегу пристал, — гудел басом старый боярин. — Попомни, оберегатель-то царевнин, Васька, хотя и нашего корня, Голицыных, но лжив и двоедушен. Эвон как он с другом своим гетманом Самойловичем разделался, мол, по его приказу казачки степь подожгли! А все-то дело — надо было причину ратной неудачи найти, себя обелить, вот по навету гетманского лживого помощника Мазепы[6] и казнили гетмана. А у Мазепы, говорят, Васька еще и взяточку взял — бочонок червонных… Взял аль нет?! — Борис Алексеевич так пристально воззрился на князя Дмитрия, что у того в груди екнуло: «Ишь с чем подъезжает, старый хрыч, хочет и меня в интригу втравить!» Князь Дмитрий улыбнулся наружно, молвил с мнимым спокойствием:
— Того не ведаю. Я ведь у Василия Васильевича токмо по войсковым поручениям состою: приказ какой передать воеводам или поторопить с походом. Сам, поди, знаешь, как мы в Крым топали: впереди пехота, в середине строя — семьсот пушек, позади — обоз, а за ним — дворянская конница. Небывалое нигде построение, чтобы кавалерия позади пехоты тащилась. Вот и шли по десять верст в сутки. Месяц до Конских вод добирались, хотя ни одного татарина в степи не видели. И такой порядок учредил наш главный воевода — а ведь учен, латинские книги о походах Юлия Цезаря читал, иноземные воинские артикулы на русскую речь переводил. И все напрасно — не дал Господь Бог нашему князю Василию воинского таланта, боюсь, и во втором походе на Крым осрамится.
— Сие как пить дать, осрамится! И сколько еще войска русского уложит наш новоявленный Монтекукули[7]! — сердито засопел боярин. А потом молвил открыто: — Ты вот что, князюшка, пока не поздно — отчаливай с того ненадежного берега. Переходи в Преображенское к царю Петру. Я о тебе слово замолвлю, даст тебе царь под команду; роту преображенцев.
— Это все одно что из великого потешного войска в малое потешное записаться. Уволь, боярин, как знать, может, фортуна и к нам лицом обернется, возьмем Крым!
— Чтобы этот мздоимец и тайный иезуит Васька Крым взял? Да не быть тому николи — нашему Ваське все бы с бабами в постели воевать, а не в чистом поле с ворогом биться! А насчет потешных в Преображенском — это ты зря. Войско хотя и малое, но обучено иноземному строю добре. И учил его лучший наш генерал Петр Иванович Гордон.
— Да, Патрик Гордон воин бывалый, еще в Чигиринских походах отличился. Но ведь и он под командой князя Василия на Крым ходил, Сторожевой полк вел самолично. А у царя Петра он так, на побывке служит! — отбивался князь Дмитрий. Но про себя думал: а ведь и впрямь после Крымского похода Патрик Гордон из Преображенского не вылазил, а к чему бы сие?
И, словно угадав его мысли, боярин опять загудел, как В боевую трубу:
— Потешное войско, говоришь? А ведаешь ли ты, что царь Петр в новом году рядом с Преображенским уже второй полк заводит — Семеновский! И солдат для того полка дал Патрик Гордон из своего Бутырского — лучшего полка иноземного строя. А два полка — сие уже бригада. Так, кажется, пишет ваш Монтекукули?
Но Дмитрий Михайлович только головой покачал:
— Что ваша потешная бригада, если у князя Василия стотысячное войско. Да и новый гетман Мазепа выставит пятьдесят тысяч казаков. Силища! Кто ведает, может, и одолеет крымцев?! Так что уволь пока, боярин, среди робяток Петровых разве что Мишка наш служить может.
И тут дверь в опочивальню вдруг распахнулась, и Миша, как есть, в одной исподней рубахе бросился в ноги боярину, проговорил высоким, ломающимся голосом:
— Запиши меня в семеновцы, батюшка Борис Алексеевич, сам слышал, как на барабане я воинскую дробь отбиваю.
— Так ты подслушивал нас? А вот я тебя ремнем! — докипел князь Дмитрий.
— Помилуй, братец, ведь через эту стенку на печке все слышно! — оправдывался Мишутка.
— Да ты еще дитя, дитятко! — вмешался в перепалку братцев боярин. И повелел властно: — А ну марш обратно на печку.
Но когда недовольный малец вышел, Борис Алексеевич нагнулся к князю Дмитрию и уронил веско:
— Устами младенца глаголет истина! Сам сделай расклад, князюшка: победит князь Петр — тебе враз припомнят, что ходил у Васьки в доверенных лицах. И я тут тебе не помощник. А вот коли братец твой и впрямь в семеновцы запишется — всей твоей фамилии честь и слава от нового государя.
— Что ж, может, ты и прав, боярин, только мать-то Мишутку из дома, чаю, не отпустит, — задумчиво произнес князь Дмитрий.
— Ну, это я на себя возьму! — благодушно молвил боярин. — Для начала-то я Мишутку в свой московский дом возьму. Пусть вместе с моим младшим Алешкой латынь зубрит. А летом я обоих и отвезу в Преображенское.
Так оно и сбылось. Софья Матвеевна, правда, поначалу горячо было воспротивилась, но затем заплакала и согласилась, вспомнила, что и старший Митенька в доме Бориса Алексеевича учил латинскую грамоту. Что поделаешь, новые времена настают!
И через месяц после отъезда боярина потянулся из Богородского княжеский обоз. В широких санях, укрытый медвежьей полостью, рядом со старшим братцем возлежал и Миша, а в ногах у него, уложенный тайком от мамаши, лежал турецкий барабан, которого и в Москве не сыскать.
Патрик Гордон и Павел Менезий
Солдатские полки иноземного строя, составлявшие главную силу русской армии, уже при царе Алексее Михайловиче представляли собой, по существу, поселенное войско, поскольку после очередного похода солдаты, рейтары и драгуны распускались по своим деревням и снова превращались в крестьян-пахарей. Их полагалось, правда, ежегодно собирать на осенние сборы, где офицеры, в большинстве своем иноземцы, учили бы их месяц, другой линейному строю, но у правительства очень часто не хватало денег на проведение таких сборов, да и солдаты-пахари неохотно отрывались от своего хозяйства и часто, отговариваясь болезнью, неурожаем или пожаром, не являлись на сборы, оказываясь в нетях. Посему меж походами никакого регулярного обучения поселенного войска не было и на войне этим лапотным воинам приходилось учиться заново.
— Правда, после Чигиринских походов правительство завело один постоянный регулярный полк, размещенный в Бутырской солдатской слободе, в окрестностях Москвы. Солдаты Бутырского полка жили в ротных казармах, под строгим надзором офицеров и регулярно обучались строю, стрельбе и рукопашному бою, стояли на Москве и в самом Кремле в караулах и были разбиты сперва на три, а затем и на шесть батальонов, носили сапоги, а не лапти и были одеты в одинаковое мундирное платье.
Командовал, уже при царевне Софье, этим полком отличившийся еще под Чигирином генерал-шотландец Патрик Гордон, по-русски — Петр Иванович.
Происхождением Гордоны были из той части шотландской аристократии, которая после окончательной победы протестантов при Кромвеле[8] отъехала из страны и рассеялась по всей Европе. Эти кавалеры служили своей шпагой многим европейским государям, переходя из армии в армию, из одного войска в другое с легкостью необыкновенной, соизмеряясь с тем, где больше платили и где легче было сделать военную карьеру. Среди них был и Патрик Гордон, послуживший и у шведского короля Карла X, и у его противника, короля Речи Посполитой, Яна Казимира. — Но у шведов было много своих отличных офицеров, и там воинский карьер Патрику Гордону не светил (а молодой поручик был честолюбив), а у поляков, хотя он и получил от Яна Казимира чин ротмистра, войско было самое безалаберное и с жалованьем обычно запаздывали.
— Вот почему когда русский посланник в Польше, ловкий и сметливый Замятия Леонтьев предложил двум молодым шотландцам, Патрику Гордону и его другу Павлу Менезию, перейти в 1661 году на русскую службу, где им светили и генеральские звания, и большое жалованье, оба охотно согласились и отправились в далекую Россию.
В Москве остановились в Немецкой слободе — Кукуе, где проживали иноземцы: купцы, офицеры, врачи, мастера-умельцы и мастера-шулера, потому как здесь оседали не токмо профессионалы, но и та накипь Европы, которой и деваться уже боле было некуда, разве что в Америку плыть. Но Гордон и Менезий не были какой-то шушерой, оба имели офицерские патенты, так что царь Алексей Михайлович допустил их к своей руке, и 9 сентября 1661 года Гордон был зачислен на службу майором, а Менезий — капитаном. Но затем ловкий Менезий, недаром окончивший в свое время школу иезуитов на севере Франции в Дуэ и знавший много европейских языков, перешел в Посольский приказ, ездил в 1674 году по поручению главы приказа боярина Матвеева в Берлин, Вену, Венецию и Рим, где даже добился аудиенции у Римского Папы Климента X и вскоре по возвращении, не свершив никаких воинских подвигов, получил чин генерал-майора.
Патрик Гордон тем временем по-прежнему тянул военную лямку и, только отличившись во втором Чигиринском походе в 1678 году, тоже достиг генеральского звания.
Тем временем в Англии произошла реставрация Стюартов, а вступивший на престол в 1685 году Яков II[9] вообще готовил восстановление католицизма, о чем сообщали Гордону и его шотландские родственники, с которыми он вел переписку.
И Гордон начал было проситься с русской службы — ведь один из его родственников стал губернатором Эдинбурга, да и сам Гордон во время своего отпуска побывал в Англии и Шотландии и лично представился королю Якову.
Но по возвращении в Россию оказалось, что об отставке нечего и мыслить: готовился первый Крымский поход и большой воевода князь Василий Васильевич Голицын наотрез отказался отпустить опытного генерала.
И Патрик Гордон со своими бутырцами пошел во главе Сторожевого полка на Крым. Неудача похода, прерванного даже не неприятелем, а степным пожаром, вызвала у Гордона потерю последнего доверия к воинским талантам великого воеводы князя Василия. При встрече со своим другом Менезием Гордон сказал с горечью:
— Сбор полков объявили не в срок, с походом запоздали, вот и угодили на июньскую жару, когда степь и сама по себе самовозгореться могла!
— Выходит, Самойлович и его казаки вины за пожар не имеют и в неудаче повинен сам князь Василий? — переспросил Менезий своего прямодушного друга.
— Само собой, во всем виноват сам князь Василий. Я предлагал ему спускаться вдоль Днепра, тогда бы у нас была бы и вода и фураж, но воевода упрямо полез в самое пекло. Ну а как поспешает Наше войско лапотное, сам ведаешь! — сурово отрубил старый воин. Павел Менезий, как опытный царедворец, только вздохнул на прямоту друга — ведь князь Василий по-прежнему был в фаворе у правительницы Софьи.
— А ведаешь, что царевна в своем утешительном письмеце князю Василию написала? — спросил он не без насмешки.
— Я в ее чернильницу не заглядывал, — пожал плечами старый солдат.
— Зато у меня есть копия того письмеца, — усмехнулся генерал-иезуит. — Вот слушай!
Менезий извлек голубой листок и прочитал с явным сарказмом излияния правительницы:
— «Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! Подай тебе, Господи, и впредь врагов побеждать! А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься, тогда поверю, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего!»
— Какие там победы над неприятелем?! — воскликнул Гордон. — Ведь мы в походе не только турок, но и татар крымских не видали. Только при отступлении появились татарские разъезды и многих наших отставших солдат в полон взяли!
— Ты, Патрик, обо всем этом помалкивай, — участливо посоветовал Менезий. — Ведь у нашей правительницы, пока вы по степи ходили, и второй фаворит объявился — Федор Шакловитый. И это тебе не обходительный и вельможный князь Василий. Федька ныне не только Стрелецким приказом, но всем Розыском сыскным ведает.
— Да это какой-то сумасшедший дом! — взорвался Гордон.
— Погоди, есть и из сумасшедшего дома выход. — Менезий задумчиво посмотрел из мелкозастекленного голландского окна на чистенькие улочки Немецкой слободы. Здесь все так аккуратно, ровненько — не верится, что рядом гудит грязная, неумытая огромная Москва.
— Какой там выход? — приступил Гордон к своему изворотливому другу.
— А такой, что, служа Софье и князю Василию, надобно ненароком послужить и царю Петру Алексеевичу. — Менезий посмотрел с лукавством и продолжал: — Царь Петр-то подрос, а в его потешном полку опытных офицеров раз-два, и обчелся. Вот ты и съезди в Преображенское. Поставишь Преображенский полк на ноги, тебе зачтется. А еще лучше, коли дашь царю роту-другую бутырцев. Они царю и другой полк устроят в Семеновской слободе. Я о том и с царем Петром, и с его матушкой Натальей-Кирилловной Нарышкиной, и с его первым советником боярином Борисом Алексеевичем Голицыным уже переговорил.
— А как же правительница, неужто согласится? — удивился Гордон.
— Отчего же не согласится — согласится! Для нее ведь потешные так, ребятки, что в войну играют. И того, дура, не Понимает, что ребятки-то растут, да и самому царю Петру в этом году шестнадцатый стукнет! Ну а там посмотрим, кто кого! — Менезий даже пальцами щелкнул от предвкушения такого оборота дел. Ведь он всегда был близок к Нарышкиным, а малолетнего царя Петра сам учил воинским потехам.
— Что ж, новый поход в Крым в этом году отложен, так что время у меня найдется и для Преображенского, — задумчиво сказал Гордон. — И об учреждении Семеновского полка подумаю, есть у меня на примете два капитана — шотландец Чамберс и швейцарец Лефорт. К семеновцам я их и определю, ежели, само собой, правительница разрешит.
К удивлению Патрика Гордона, Софья разрешила, и в 1688 году он обучал уже два полка — Преображенский и Семеновский, устроив их на тот же регулярный строй, что и Бутырский.
В Семеновском полку
В Москве все благие помыслы боярина Бориса, как он будет учить наукам своего малолетка Алексея вместе с Мишей Голицыным, развеялись яко дым; захватили дела в Боярской думе и Казанском приказе, которым ведал Борис Алексеевич, и по делам того приказа мотался он частенько в Казань, где чинил суд и расправу чуть ли не по всей Волге и Каме. Дел у боярина было невпроворот, и вышло так, что с малолетками стал заниматься князь Дмитрий Михайлович. Князь не токмо учил, но и сам вспоминал латинские вокабулы, с интересом переводил с мальцами книгу Юлия Цезаря о галльской войне, походах славного римского воителя в Британию, Бельгию и Германию.
Времени у князя Дмитрия вдоволь — ведь большой воевода, вернувшись в Москву, распустил на отдых всех бывших при нем стольников и прочих думных людей, и старший братец засиживался временами с младшим до полуночи, учил Мишутку не только латыни, но и немецкому письму.
А по весне, вернувшись из своей очередной поездки в Казань, старый боярин устроил экзамен малолеткам, вызвав их вместе с князем Дмитрием в Преображенское. В этом загородном дворце у боярина Бориса Алексеевича, как царского кравчего, были свои покои.
Рядом с боярином восседали красивая женщина в богатом платье, с собольей накидкой на плечах и высоченный вьюноша с прекрасными темными волосами до плеч. Чувствовалось, что ему было не до сладкозвучной латыни Цицерона и Вергилия, а хотелось выскочить из полутемной горницы в залитый майским солнцем двор, откуда долетали звуки солдатских флейт и гобоев. Наконец он не выдержал, прервал латинскую речь Алексея и Мишки и спросил глухо, баском:
— Ну а кроме латыни что еще ведаете?
— Ведаю немецкую грамоту, — смутился Алексей перед властным взглядом.
— Ну а ты что, тоже в Посольский приказ служить собрался? — обратился долговязый вьюноша к Михаилу.
И Михаил вдруг понял, что этот долговязый, перед которым все как-то робели, и есть молодой царь, и еще понял, что робеть тут не надо.
— В Посольском приказе пусть князь Василий сидит, а Я сюда в полк на учение и службу солдатскую явился! — объявил он ломким, но решительным голосом.
Молодой царь довольно рассмеялся — ничто его не могло так расположить, как ревность к солдатской службе. Но, поскольку тут шел экзамен, спросил не без насмешки, воззрившись с высоты своего роста на маленького Голицына:
— Да что ты умеешь, малец?
— Умею стрелять из ружья, из пищали и из мушкетона, — бить в цель из пистоли, фехтовать на шпагах и еще… — тут Михаил как бы смутился, — играть на барабане!
Все заулыбались, кроме Петра, который крикнул баском по-начальственному в открытую дверь:
— Эй, Бухвостов, неси сюда мой барабан!
— Боже мой, да угомонись же ты, Петруша, нельзя в барабан бить в царских покоях! — поднялась с места красавица в соболях (потом уже старший братец объяснил, что то была мать Петра, царица Наталья Кирилловна).
— Хорошо, матушка, — с видимой покорностью склонил голову Петр, но затем лукаво добавил: — А мы во двор выйдем, там малец и ударит в барабан.
Во дворе толпились потешные в зеленых мундирах, и, когда Бухвостов вынес барабан, Михаил привычно взял палочки и ударил сперва побудку, затем сбор, пробил к атаке и завершил вечерней зорькой.
— Молодец! Ай да молодец! — Тяжелая царская длань легла на плечо Михаила. — Что, Петр Иванович, берем молодца в полк?
— Отчего не взять, Петр Алексеевич! — Важный сухопарый генерал-иноземец с ласковой насмешкой посмотрел на раскрасневшегося Михаила. — У нас в Семеновском полку как раз барабанщиков не хватает, туда и запишем!
— Так-то, чадо! — Царь снова надавил на плечо Михаила. — Да ты не скучай, я хотя и царь, а тоже с барабанной науки начинал. И, глянь, уже до первого бомбардира дослужился!
Но Михаил и не думал скучать. На другой же день он отправился в Семеновскую слободу, где Патрик Гордон и записал его во второй потешный полк, будущий второй полк петровской гвардии, названный вскоре по своему расположению Семеновским. И, отбивая барабанную дробь на Семеновском плацу, Михаил Голицын еще не ведал, что придет час, и будет он бессменным командиром семеновцев.
Семеновский полк создавался по образцу первого полка петровской гвардии — Преображенского, токмо мундирное платье было отлично от преображенцев — голубое, а не красное.
На площади Семеновской слободы уже к концу года красовалась двухэтажная полковая изба, которую окружали длинные одноэтажные ранние казармы. Все постройки были деревянные, и токмо заложенная тогда же полковая церковь должна была быть каменной. В казармах жил солдатский молодняк, но поскольку в новый полк были переданы две сотни старослужащих солдат из Бутырского полка генерала Гордона, многие из которых были женаты, то вскоре за казармами появились и десятки малых домишек, в которых жили эти солдаты с семьями. Из старослужащих солдат-бутырцев и назначили в основном сержантов для нового полка молодого царя. В полковой избе размещался не токмо полковой штаб, но и полковые запасы амуниции и оружия, в другом крыле находилась полковая лавка и кабинет лекаря, а на втором этаже были квартиры тех офицеров, которые не имели своего жилья в Москве или в Немецкой слободе. Здесь же проживал и сам полковник Чамберс, еще один шотландец, назначенный командовать полком по рекомендации все того же Патрика Гордона.
Чамберс был опытный ландскнехт, послуживший и в имперской армии цезаря Леопольда, и в наемных полках польского короля Яна Собесского.
В 1683 году он защищал Вену от турок и принимал участие в битве под имперской столицей. Тучный, багроволицый, он, с утра уже подкрепленный чаркой доброй водки, которую открыл для себя только в России, бодро распоряжался в солдатских экзерцициях на полковом плацу.
Солдат, набранных в основном из охочих московских дворянских недорослей, обучали ходить строем в линию тремя и шестью шеренгами, вздваивать ряды, привинчивать и отмыкать багинеты — штыки. Особенно трудным было учение огневому бою, для которого роты выводили на стрельбище, расположенное на лугу за слободой. Тут знай поспевай, коли не хочешь получить пулю в затылок. А чего стоило приготовить к выстрелу кремневый мушкет. Заряжали мушкет с дула посредством шомпола, по 16-ти командам, начиная с команд «открой полку», «сыпь порох на полку», «закрой полку», «мушкет влево», «приклад на землю», «вынимай патрон», «скуси патрон». Михайло поначалу все удивлялся своему сержанту Ефиму Малофееву, как тот не сбивался со счета, пока не кричал высоким голосом: «Взводи курок! Стреляй!»
Он даже спросил как-то об этом Малофеича (так солдаты звали сержанта своего взвода), когда столпились вокруг него солдаты на перекуре. Табачным зельем баловались тогда токмо офицеры-иноземцы да казаки на Дону, в Запорожском войске и гетманщине. В остальном московском войске, как и вообще на Москве, курить табак запрещалось Православной Церковью, объявившей табак дьявольской травой. Но в потешных полках курить разрешалось с ведома самого царя, который привык к табачной трубке, посещая Немецкую слободу.
Малофеевич же объяснял своим желторотым слушателям, что курить он стал еще со второго Чигиринского похода, где отбили они как-то у турок целую фуру с табаком.
— Как я все команды огневые запомнил, спрашиваешь? — Сержант разговаривал с молодым княжичем с какой-то особой почтительностью. — А как не запомнишь, княжич, коли ты стоишь в дозоре Сторожевого полка, а на тебя скачет дикий татарин и вопит, и арканом размахивает. Тут так — или ты его с коня свалишь, или он тебе веревку на шею и уведет в плен, а в Крыму продаст на какую-нибудь галеру-каторгу. Нет, тут и команды никакой не надо, руки сами все сделают! Ну да ладно, княжич, ты меня спрашиваешь, теперь я спрошу: а ведаешь, кто под Чигирином был первым воеводой Сторожевого полка?!
Михайло на вопрос сержанта покраснел, поелику еще от Иоганна знал, что первым воеводой в том полку был его отец Михаил Андреевич Голицын.
— Вижу, что помнишь своего батю, но того не знаешь, что орлом летал тогда боярин перед своим полком, а вторым воеводой при нем был Петр Иванович Гордон — он за второй Чигирин и генерала получил, потому как пробились мы к городу и всех наших людей из крепостцы вывели. Добрые были воеводы, о солдате всегда заботу имели!
«Так вот отчего Малофеич обо мне такую заботу имеет, ведь ни Шаховского, ни Белосельского и не думает звать княжичами, а меня в память о бате, знать, величает!» — подумал Михайло.
Сержант и впрямь опекал молодого Голицына, и к августу Михайло не токмо знал строй, но и бил из мушкета лучше всех сотоварищей.
— Первый стрелок во взводе, господин капитан! — доложил Малофеевич ротному, толстому и вялому австрийцу, прибывшему вместе с Чамберсом из имперских краев. Впрочем, австриец по-русски мог только, как и сам господин полковник, мастерски материться, потому с ним обычно был щупленький переводчик.
Но сегодня переводчик то ли запоздал, то ли заболел, и капитан Шарп пребывал в великом затруднении. «Кто знать немецки?!» — вынужден он был обратиться к строю солдат. И здесь Михайло опять был первым.
— Э, да ты, Голицын, не токмо лучший стрелок, но и толмач добрый!
Михайло сразу и не узнал спрыгнувшего с коня царя. Петр был без мундира, в белой рубашке и матросских голландских пузырчатых штанах, загорелый до черноты. Все это лето царь был или на солдатских учениях, или ходил по рекам Москве и Яузе на небольшом ботике вместе с корабельным мастером Франции Тиммерманом.
— Вот, господин полковник, а ты все жалуешься, что к тебе из Посольского приказа толмачей не шлют! — Петр весело повернулся к поспешившему приветствовать царя полковнику Чамберсу. — Михайло барабанщик добрый, и стрелок отличный, и по-немецки так шпарит, что даже твой венец его понимает. — Царь добродушно ткнул пальцем в толстое брюхо Шарпа.
— Ваше величество, позвольте мне его к себе в толмачи определить, хватит парню в барабаны бить! — весело подхватил Чамберс.
— А что, пожалуй, и хватит! Быть тебе с осени, Голицын, при полковом штабе! — согласился Петр и спросил: — А кто же тебя немецкой речи-то выучил?
— Да в усадьбе, нашей, в Богородском, наставник был немец, а потом братец, князь Дмитрий, всю зиму немецкому и латыни учил! — бодро отрапортовал государю Михайло.
— А что же братец-то твой к нам в Преображенское не заглядывает? Мне ученые люди потребны!
И на этот царский вопрос Михайло ляпнул без всякой задней мысли:
— Да он в поход на Крым с князем Василием вдругорядь идет, весь в сборах!
— Весь в сборах, говоришь? А не думаешь ли ты, малец, что князь Василий со всем своим воинством от Крыма вдругорядь побежит?! — Царь смотрел так строго, что Михайло потупил глаза, молвил в растерянности:
— Того не ведаю…
— Не ведаешь, значит? Да ты не кручинься, думаю, и сама сестрица-правительница того не ведает. — Петр вскочил на лошадь и помчался вдоль солдатского строя. Но Михайло слышал, как стоявший сзади царя Чамберс вдруг сказал по-русски: «Для фаворита ретирада — лучшая ограда!» Царь громко рассмеялся на эту шутку и повторил: «Для Васьки ретирада — лучшая ограда?»
А Михайло понял вдруг, что с царем надо говорить осторожно. Впрочем, на другой день по приказу Чамберса Михайлу Голицына все равно перевели в штаб толмачом.
Второй Крымский поход
В Грановитой кремлевской палате было сумрачно, даже яркие лучи летнего солнца с трудом пробивались сквозь узкие окна. «Не палата, а погреб, — с раздражением подумала царевна Софья, — токмо боярам моим и в собольих шубах не жарко! А впрочем, умели строить и при прежних царях — летом в палате прохладно, зимой тепло! Токмо сумрак, сумрак!» Правительница оторвалась от своих наблюдений за устройством Грановитой палаты, снова стала слушать напевную речь любимца. Голос у князя Василия был такой медоточивый, что царевне захотелось вдруг прямо здесь поцеловать любезного друга в сладкие уста. С удовольствием оглядела роскошную фигуру любимца. Князь Василий не прел в шубе, как толстяк Ванька Троекуров, а явился в Думу (неслыханное дело) в польском нарядном цветном платье — должно, спешил с переговоров с французским посланцем Невилем, вот и не успел переодеться. И как шел Васеньке цветной — гетманский кунтуш — подарок нового малороссийского гетмана Мазепы. Только вот одно плохо — патриарх Иоаким так и зыркает, недоволен, видать, что Голицын не надел боярскую шубу, отступил от обычая. Да здесь не до поцелуев с милым — ишь как вслед за патриархом и бояре вприщур поглядывают на щегольской польский наряд Голицына, а кравчий Бориска нахально посмеивается в усы. Прискакал сейчас из Преображенского и объявил перед советом, что царь Петр дело знает, обучает своих солдат и потому явиться в Думу не сможет.
«Тоже мне полководец выявился — собрал толпу конюхов и бегает со своим потешным войском по подмосковным лугам, народ смешит! — Царевна брезгливо поморщилась. Потом подумала не без тревоги: — Ну а как подрастут у братца его конюхи и впрямь станут солдатами! Какое ни есть, а все войско: два полка! — И тут же порешила: — Надобно сказать Шакловитому, чтобы с Оружейного двора боле не передавал в Преображенское мортирцы и мушкетоны. Нам и самим они не для потехи, а для нового похода на Крым потребны. А то, что поход будет, дело у нас с князем Василием решенное. И не потому, что константинопольский патриарх Досифей слезные грамотки шлет да и цесарцы с ляхами о союзных обязательствах через послов каждый день талдычат. Нет, здесь большее! Нужна, ох нужна и мне и всем Милославским победа князя Василия. Будет Крым наш, и в Москве все недруги притихнут, и змеиное гнездо в Преображенском шипеть перестанет».
Правительница с высоты трона столь сурово воззрилась на Бориса Алексеевича, что тот сразу перестал улыбаться.
Между тем князь Василий зачитывал уже не слезную жалобу Досифея на турок, а послание валахского[10] господаря Щербана Кантакузина. Выходило, что он в случае нового выступления России супротив турок и татар выставит в помощь целое войско в 70 тысяч. Да и патриарх Досифей клянется поднять на Балканах целую христианскую православную рать сербов, болгар и греков.
Как Софья и ожидала (грамотки-то с Балкан она с князем Василием прочла еще перед советом), Боярская дума при этих добрых вестях сразу же оживилась. Куда делась боярская лень, даже толстяк Троекуров готов был к походу. А патриарх Иоаким, тот даже жезлом об пол ударил, точно узрел уже бегущих в страхе перед русским воинством басурман. Один только ближний боярин, князь Яков Никитич Одоевский заметил робко, что Крым-то от Балкан далеконько и меж ними Черное море лежит. А кораблей у нас нет!
— Какие там корабли, боярин! — прервал его Троекуров. — Мы в Крым на лошадках через степь прискачем!
— Да ведь однажды уже скакали?! — с нежданной смелостью возразил Яков Никитич.
От гнева правительница даже побагровела, поднялась, молвила жестко:
— Походу быть! И ты, князь Василий, снова поведешь войска! Так братец? — обратилась она к родному братцу царю Ивану. Сказала громко, потому как братец был не только подслеповат, но и глуховат.
На грозный вопрос правительницы он послушно закивал головой.
— Вот и славно! — успокоилась Софья. И, обращаясь к боярам, сказала уже без гнева, мудро, по-государски, как и полагалось правительнице: — А дабы не попало войско вновь на степные пожары, приговорите, бояре, объявить о походе всем ратным людям уже в сентябре, дабы в феврале все войско собрать в Белгороде. Тебе же, князь Одоевский, в Аптекарском приказе, как в прошлый раз, не мешкать, а самому со всеми своими медикусами в поход собираться!
— Ох и сильна правительница! — громко, так, чтобы слышала Софья, восхитился Иван Троекуров, а затем прошептал на ухо сидевшему рядом с ним старому князю Прозоровскому: — Поспешай, князь, приговорить поход-то! Не то как бы она всех нас в Белгород не отправила!
Старший из бояр не медлил, встал и пропел дребезжащим голосом:
— Спасать надобно единоверцев, бояре. Согласен с государыней-правительницей: походу быть!
На том Боярская дума и порешила. А в 1688 году по всем городам объявили поход на Крым.
На сей раз в Москве к походу готовились с великим тщанием. Чтобы предупредить летний зной, безводие и степные пожары, решили выступить ранней весной.
В сентябре бирючи прокричали и с высокого кремлевского крыльца, и повеем городам и весям России, дабы все ратные люди к февралю поспешали в лагерь под Белгород. В крепостце Богородской, что устроена была на границе гетманщины, собрали большие запасы муки и пороха. Все ратные люди получили по 9 алтын денег, чтобы не оголодать. Снова в лагерь под Белгородом слетелся разношерстный люд: шинкари — частники и квасники, пирожники и сбитенщики, чернозубые пропитые девки и развеселые молодцы с гетманщины. Лагерь гудел и ширился, веселился и матерился, пока воеводы в большом шатре князя Василия обсуждали план похода.
Казачьи старшины предлагали спуститься вниз по Днепру: тогда пушки, припасы и пехоту можно было по-грузить в челны, а конница бы шла берегом. Но у Запорожья кипели пороги, и хотя бывалые казаки говорили, что те пороги можно было обойти, перетащив челны по суше, однако князь Василий сразу усомнился:
— Хорошо, обойдем пороги, а что дале? В низовьях-то Днепра стоят турецкие крепости Очаков и Кизеркеман, и упрется войско прямо в очаковские твердыни. Нет, то негоже! — не согласился Голицын с Мазепой и его старшиной. После ухода казаков князь доверительно разъяснил своим воеводам и стольникам, сопровождавшим его в поход: — Ведаете, отчего Мазепа нас под Очаков вести хотел? Запорожцам выход в Черное море потребен яко воздух, дабы турецкие берега удобно грабить. И гетман в том свою долю имеет, а мы получим под Очаковом не малую войну с Крымом, а большую войну со всей Османской империей! Так-то!
— Не понимаю, разве мы не с турком воюем? — удивленно выпучил глаза Ванька Бутурлин, здоровенный ражий стольник, родом из старой боярской фамилии.
Князь Василий только усмехнулся в усы и разъяснил бестолковому: крымский хан при дворе султана Мехмета, по слухам, не в большой чести: первым убег со своей ордой в битве с цезарцами. Потому турки хану не помогут, но, как лазутчики донесли, султан снова вызвал крымцев на Дунай. Посему война в Крыму будет малая.
— И я так рассуждаю: как узнаём, что хан перешел Днепр и ушел на Дунай, нам идти прямо через степь к Перекопу. В мае какие пожары в степи, Петр Иванович? Пойдем по весенней прохладе и не так, как в прошлый поход, а для скорости шестью колоннами! — По всему было видно, что большой воевода давно обдумал этот план и от него не отступится.
Все-таки опытный Гордон предложил, словно вбивая гвозди в план Голицына, свои добавления: во-первых, устраивать через каждые четыре перехода опорные форты с надлежащими гарнизонами; во-вторых, казакам держать на Днепре флотилию для содействия войску; и, в-третьих, изготовить понтоны, которые везти бы за Большим полком.
— К чему это нам крепости в степи? — искренне удивился молодой и беспечный боярин Шеин, второй воевода при Гордоне в Сторожевом полку.
— Береженого Бог бережет, Алексей Семенович, — терпеливо, как дитяти, разъяснил старый воин Шеину. — А вдруг опять ретирада случится? Тут при отходе форты нам и помогут против татарских наездов. Да и оставленные в фортах припасы ой как нам в случае ретирады помогут!
— Что это ты, Петр Иванович, все на ретираду-то напираешь? Мы еще и до Крыма не дошли, а ты уже среди фортов, яко заяц среди кустов, собрался прятаться? — В голосе Голицына звучал явный гнев. — И опять же, зачем флотилия на Днепре, ежели мы за двести верст от Днепра у Перекопа стоять будем?
— А вдруг, княже, не ровен час, хан с Дунаю повернется и пойдет к Крыму. Вот флотилия и перекроет ему переправу через Днепр.
— Да коли хан повернется, то через Днепр он переправу иметь будет под прикрытием очаковских пушек, и никакая флотилия нам тут не поможет! — спесиво вздернул голову Шеин. Молодой боярин был страшно недоволен, что в Сторожевом полку он не первый, а второй воевода, и рад был уколоть генерала.
— Думаю, хана султан с Дуная ни за что не отпустит, а форты строить одна морока, да и времени займет уйму! — прервал спор Голицын. — Пойдем скоро, через неделю-другую дойдем до Перекопа и возьмем крепость с налета!
Только когда все собрались уже расходиться, большой воевода вдруг спохватился и спросил сумрачного Гордона:
— А понтоны-то тебе, Петр Иванович, понадобились зачем? Ведь в степи не речка, а ручейки, их, чаю, войско и в брод перейдет, не замочив штаны?
Ванька Бутурлин и Алешка Шеин на шутку своего главнокомандующего весело рассмеялись. Гордон вспыхнул было от гнева, но собрался, взял себя в руки и терпеливо разъяснил и большим и малым воеводам:
— Я не через речки понтоны хочу наводить, княже, а через Гнилое море — Сиваш. Там, как пленные татары сказывают, такие ветры гуляют, что иногда почти всю воду с Сиваша сгоняют. Вот через Сиваш войско, в обход Перекопа, может налегке переправиться, а затем и понтонный мост соорудить и перевести артиллерию и обоз.
Князь Василий был вынужден признать про себя, что сей замысел старого вояки имеет смысл, но от своего плана решил не отступать:
— Да ведь такую тяжесть, как понтонный мост, за собой тащить — значит, генерал, весь поход зарубить. И нечего нам Перекопа бояться. Те же лазутчики докладывали, что Перекоп — крепостца старая, укрепления обветшали, пушек все ничего. А у нас семьсот орудий. Да они одним залпом обрушат перекопский вал. Верю, пойдем через степь со скоростью, возьмем Перекоп! — С тем князь Василий и распустил совет.
А вскоре пришло известие, что крымский хан уже в Буджаке и удаляется на Дунай, на соединение с турками. Путь на Крым был свободен, и многочисленное московское воинство выступило в поход. Поначалу шли скоро шестью колоннами. Рассыпавшись по зеленой степи, весело гарцевала дворянская конница. Правда, гарцевали, как заметил князь Дмитрий, летавший по приказу большого воеводы с фланга на фланг, только сами дворяне на добрых конях, а их холопы, как правило, сидели на неважных лошадках. И совсем уже на клячах восседали 30 тысяч рейтар и копейщиков-мужиков из поселенного войска. Уходя в поход, мужики ехали на тех же рабочих клячах, на которых пахали землю.
— Как бы легкоконные татары не опрокинули это лапотное воинство? — поделился своей тревогой князь Дмитрий с другими стольниками.
— Какие там татары? Хан-то к Дунаю ушел! — рассмеялся известный хохотун и выпивоха Ванька Бутурлин.
— Да ведь силы-то крымцев нам в точности неведомы, наверняка часть орды хан у Перекопа оставил! — тем же вечером Дмитрий Михайлович высказал свои сомнения.
В этом походе старший Голицын часто призывал младшего в свой шатер.
«Князь Дмитрий братец хотя и двоюродный, но все одного голицынского корня. Такой не подведет!» — думал, должно быть, фаворит о Дмитрии Михайловиче.
И потом, беседовать с братцем было приятно, потому как учен и начитан он, почитай, не менее самого Василия Васильевича.
— Ты что же, Дмитрий, думаешь, мне мой воеводский чин глаза застил и я сам не вижу, что наша конница ни на что не годится, даже супротив легкоконных татар не устоит. Вся надежда у меня-тут на пушки и ружейный огонь — сие татарам не по зубам. А насчет того, что хая часть орды в степи оставил, ты, братец, пожалуй, прав — про то надобно спроведать. Скачи-ка поутру в Сторожевой полк, передай Гордону и Шеину, пусть вышлют казаков в разъезды с тем, чтобы взять в степи хотя бы одного татарина в плен! — С тем великий воевода и отпустил своего братца-стольника.
И на рассвете князь Дмитрий с полусотней казачков-донцев скакал по нарядной майской степи, с ее буйным весенним цветением. Трава уже вымахала почти в полный рост, недавно прошли дожди, и пожары еще не случались. Войско действительно шло пока по прохладе.
В скачке обвевал свежий ветерок, прилетевший, должно быть, с Черного моря, холодил кожу. Дмитрий с удовольствием подставлял лицо нежданному свежему ветру. Что, казалось, лучше, чем скакать вот так в свои двадцать пять лет по нарядной степи, когда над тобой стоит высокое голубое небо и ты чувствуешь всю силу молодого тела? В походе князь Дмитрий загорел, окреп, и такими далекими казались сейчас все московские придворные козни и заботы.
В Сторожевой полк примчались, когда солдаты еще ели свою утреннюю похлебку.
Дмитрий Михайлович легко разыскал штаб Гордона и вскоре стоял уже перед генералом.
— Так большой воевода ждет «языка»? Что же, князь, могу его порадовать! Мои черкасы столкнулись вчера с татарским разъездом и взяли пленного. Сейчас Алексей Семенович с него допрос снимает. А впрочем, вот и сам второй воевода.
Шеин и впрямь был уже у генеральского шатра, но по-необычному встревожен и бледен. На Дмитрия Михайловича он даже внимания не обратил, сразу кинулся к генералу:
— Беда, Петр Иванович! Татарин на третьей пытке признался, что идет на нас старший сын ханский Нуреддин Калга со всей своей ордой. И войска у него будет тысяч тридцать. Что делать-то? — Шеин был в явной растерянности.
— Как что? — То что для Шеина было в новину, для Патрика Гордона было привычным делом. — Прикажи трубить боевую тревогу, строй каре, огороди его телегами, выставь пушки!
И скоро запели над лагерем горны, затрещали барабаны, солдаты бросали свои котелки и хватались за ружья, офицеры матерились, давая команды, из обоза тащили телеги и повозки, тысячи людей, казалось, бестолково суетились по всему лагерю.
Но не прошло и часа, как каре было построено, пушки выставлены, и, укрывшись в крепости из телег и повозок, Сторожевой полк изготовился встретить огнем неприятеля, который не заставил себя ждать.
Сначала на горизонте возникло облако, которое затем выросло в темную тучу, но то была не туча, а тридцатитысячная конница Нуреддина Канги; страшный вопль «Алла!» огласил все поле сражения, и тысячи стрел полетели в русский лагерь. Но прошли времена Батыя и Золотой Орды, когда не выдерживали бешеной атаки татарской конницы русские полки.
По знаку Гордона ударили картечью пушки, плюнули в лицо татарской конницы ружейные залпы, и завывающая орда отхлынула и словно растворилась, яко степное видение. И снова высоко сияло голубое небо, и пороховой дым все таял в его просторах.
— Слава богу, вовремя укрылись и отбились! — перекрестился Гордон, все сражение так и простоявший у своего шатра. — А ведь не построй мы каре, застигни они нас за завтраком, перебили бы всех, как это по-русски, как пить дать порубили! — За тридцать лет службы в России Патрик Гордон полюбил русские присказки.
— А вот казачки и еще двух пленников волокут! — развеселился Шеин, обратясь к Дмитрию Михайловичу, в котором он наконец признал родственника большого воеводы. — Этих татар забирай, князь Дмитрий, к нашему главному воеводе.
— А где же тот третий, с коего вы допрос чинили? — поинтересовался было Дмитрий Михайлович, но Шеин только рукой махнул:
— Сломался он, под пыткой, бедняга, умер! Да на что тебе, третий, я из него, ей-ей, все вытянул. Бери-ка лучше новых гололобых и вези их в Большой полк.
— И впрямь, князь, скачите назад к воеводе! Известите обо всем, что видели. И передайте ему мой совет: пусть немедля стягивает все колонны. Не то, чаю, Нуреддин Калга обойдет наше войско по степи и атакует с тыла! — напутствовал Гордон князя Дмитрия.
— Чушь старик городит. Твои пленные татары только что показали, что у Нуреддина Калги не тридцать тысяч, а и двадцати не наберется. А у нас между Сторожевым и Большим полком только у Бориса Петровича Шереметева тридцать тысяч дворянского ополчения в степи гарцуют. Чаю, не допустит Шереметев татар к нашей пехоте! — высокомерно бросил Василий Голицын, услышав от князя Дмитрия доводы Гордона.
— Да наши дворяне татарскую орду одними плетьми до моря прогонят! — поддержал большого воеводу присутствовавший при совете Бутурлин.
— Ох, не хвались, Иван, не хвались! Видел я сейчас холопские клячи! — вырвалось у Дмитрия Михайловича.
Большой воевода посмотрел на мрачное лицо родственника и неожиданно приказал своему любимцу Бутурлину:
— Ты вот что, Иван, бери-ка пять тысяч рейтар Тамбовского разряда и помоги Шереметеву. Береженого и Бог бережет!
Но и помощь рейтар не помогла дворянскому ополчению, когда из знойного степного марева вылетела татарская конница.
К ужасу Бориса Петровича, даже не только дворянские холопы, но и их хозяева, беспощадно настегивая своих аргамаков, ударились в бегство. Шереметев бросил в бой свой последний резерв: три тысячи драгун-белгородцев, обученных, им самолично огневому бою. Драгуны спешились, выстроились в линию и встретили татар дружным залпом. Орда поначалу рассыпалась, но тут же стала обтекать резерв Шереметева с флангов. Множество татарских стрел взвились над Черной долиной, покрытой пылью от тысяч копыт и затянутой пороховым дымом. Многие драгуны упали, остальные бросились к лошадям.
«Да где же Ванька Бутурлин, где его железные рейтары?» — с тоской подумал Борис Петрович. Но размышлять дале было недосуг. Татары уже зашли с тыла, и пришлось пробиваться через орду. Рослый и дородный боярин на здоровенном буланом жеребце сам повел, размахивая офицерским палашом как прадедовским мечом, своих драгун на прорыв. Сбил двух татар на низкорослых лошадках, третьего срубил палашом. Все-таки вырвались из злополучной Черной долины. И здесь с пригорка Борис Петрович узрел на горизонте удаляющееся пыльное облако. То поспешало от смерти дворянское ополчение, а впереди него неслись железные тамбовские рейтары.
Ванька Бутурлин как только узнал от первого беглеца, что на ополчение как снег на голову свалилась неисчислимая орда и Борис Петрович Шереметев то ли погиб, то ли попал в полон, немедля приказал рейтарам завернуть коней.
При гоньбе у него свалился с головы железный шлем, волосы растрепались, и так, громыхая рейтарскими доспехами, он тяжелым кулем и свалился перед шатром великого воеводы. Упал перед князем Василием в ноги и возопил страшно, как вопили и тысячи других беглецов:
— Все пропало, воевода! Сила у орды несчетная! И скоро орда здесь будет!
— Постой, а Борис Петрович Шереметев где?! — затопал ногами великий воевода.
Бутурлин поднялся с колен, блудливо потупил глаза, молвил глухо:
— Сказывают, в полон наш Борис Петрович сдался.
— Врет, собака! — гневно вырвалось у князя Дмитрия, оказавшегося свидетелем доноса. — Не мог боярин Шереметев в татарский полон пойти!
— В степи все случается! — как-то устало махнул рукой большой воевода и приказал своим посыльным: — Соединяйте пешие колонны, ставьте карею! А этих жеребцов, — он показал на Бутурлина и подходивших рейтар и дворян-ополченцев, — укройте в обозе, за телегами!
Так и случилось небывалое: конница шла не впереди пехоты, а укрылась за обозными телегами.
Одно порадовало: первым к огромному русскому каре подошла не орда, а драгуны Шереметева. Сам Борис Петрович сказал большому воеводе просто: с татарами биться можно, огневого боя орда боится!
А вечером слова боярина подтвердились. Когда конница Нуреддина Калги попыталась прорвать каре, навстречу ей ударили не только пехотные залпы, но полыхнули картечью сотни орудий. Вся степь была покрыта побитыми татарами. И ночью орда отступила и ушла в Крым. Но дворянское ополчение ее не преследовало, плелось за обозом. Огромное русское каре потихоньку потащилось к Перекопу.
* * *
Так нескладно, как воинство Василия Голицына, воевало только шляхетское ополчение Речи Посполитой. Польский король Ян Собесский был тяжело болен, а его коронные гетманы и маршалки так и не решились двинуться к Дунаю, хотя и могли рассчитывать на поддержку господаря Валахии.
Неудачно действовал и другой союзник России — Священная Римская империя германской нации. К тому же империя Габсбургов, ведя войну с турками, одновременно в союзе с Англией и Голландией ввязалась в новую войну с Людовиком XIV французским. Впрочем, скорее не империя, а «король-солнце» пошел шарить в немецких курятниках, как он презрительно именовал расколотую на триста кюрфюршеств, княжеств и вольных городов Германию.
В Париже король создал даже такой бесподобный юридический орган, как палата присоединений. Палата, составленная из историков и юристов, порылась в древних манускриптах и старых договорах и заявила, к примеру, что столица Эльзаса Страсбург на самом деле французский город Страсбур. И в 1684 году французские войска, внезапно, без объявления войны, заняли этот город на Рейне, пока германский гарнизон молился в соборе. Когда же император Леопольд I стал возражать, великий Людовик сам перешел Рейн, еще раз показав, что сила выше права. Габсбургам пришлось взять часть армий с Балкан и перебросить их на Рейн. Так что этот союзник России по Священной антитурецкой лиге был ослаблен.
Единственной страной, где диктатор Западной Европы Людовик XIV в те годы потерпел неудачу, была Англия. В 1688 году там произошла славная революция, изгнавшая из страны короля Якова II, католика и союзника Людовика. В следующем году штатгальтер Голландии король Вильгельм Оранский окончательно утвердился на английском престоле. Однако сторонники короля Якова — якобиты — все еще воевали против него в Ирландии.
Словом, пороховой дым затянул всю карту тогдашней Европы, и разобраться в этом дыму даже великому сберегателю царевой печати князю Василию Голицыну было нелегко.
Когда он добрался до Перекопа, то сам убедился, что перекопская фортеция ничтожна и может быть сметена огнем семисот русских орудий и пищалей. Но что дальше? Войдет он в сухую безводную крымскую степь, которую татары будут по-прежнему жечь! Дворянское ополчение легкоконных татар не догонит и фураж у них все одно не отобьет.
А, по слухам, с Дуная поспешает уже сам крымский хан со стотысячной конницей. Да и очаковский паша придет к нему на помощь со своими янычарами.
От союзных имперцев и полков никакой помощи ждать в нынешних условиях не приходится. И захлопнут все голицынское неуклюжее воинство, вдругорядь показывающее свою немощь, в Крыму, яко сельдей в бочку. Вот как размышлял, должно быть, князь Василий, когда решил Перекоп штурмом не брать, а повернуться в родные палестины. Среди воевод были, правда, аники-воины, вроде Ваньки Бутурлина, которые взывали к штурму, но Бутурлин-то от татар уже бегал с позором, а вот осторожные Патрик Гордон и Борис Шереметев против вторичного отступления голос не поднимали. И пропыленные солдаты Голицына снова побрели назад. Поворот этот был столь внезапен, что среди некоторых генералов и воевод сразу поползли слухи, что Нуреддин Калга ночью переслал тайно к шатру Голицына бочонок с залогом, дабы тот отступился от Крыма.
— Сам видел ночью этих гололобых, как они бочонок к Ваське Голицыну в шатер вкатили! Вышел ночью по малой нужде и углядел! — самодовольно рассказывал после третьей чарки Бутурлин.
— Это ты-то углядел? — жестоко усмехнулся князь Дмитрий. — Ты-то и в Черной долине углядел, как Шереметев в татарский полон скачет! — Дмитрий Михайлович встал из-за стола, за которым сидели офицеры штаба, и вышел из палатки.
— У него с Васькой-то одна порода — Голицыны. Подумаешь, Гедиминовичи! Да мы, Бутурлины, постарше их родом будем. И подожди, призовут еще нашего воеводу и всех его сродственников к ответу за крымский позор. Царь Петр призовет! И я это точно ведаю! — Бутурлин грозно оглядел побледневшие лица боевых сотоварищей.
Петр и Софья
Князь Дмитрий после второго Крымского похода, снова окончившегося великой конфузней, вместе с другими стольниками принял участие в торжественной встрече, устроенной правительницей Софьей в честь благополучного возвращения своего фаворита и его войска.
Царевна самолично встретила своего неудачливого полководца и его воевод у Серпуховских ворот. Здесь она жаловала воевод «к руке» и спрашивала их о здоровье. Но более всего заботилась она о здравии своего фаворита. С тревогой отметила, что Васенька хотя и был здрав, но скучен.
Двинулись к Кремлю. Впереди по пять и шесть человек в ряд шли полковники и стольники, капитаны и поручики. За ними гарцевали на конях ротмистры и хорунжие, московские дворяне и жильцы. Дворянское ополчение так и блестело при июльском солнце. Московские дворяне все уже побывали дома, принарядились и убрались. Поблескивали на солнце дедовские шеломы и кольчуги, сверкали сабельки. «Вид воинства грозен, да только видел, как бежало оно от легкокопытных татар в Черной долине!» — горько усмехнулся Дмитрий Михайлович, которому было поручено подравнивать ряды расходившихся ополченцев, дабы не съезжали с проезжей части, не давили» высыпавший на улицы столичный люд.
У Кремлевского дворца торжественное шествие встретил старшой из братьев-царей Иван Алексеевич, а у угла Грановитой палаты — патриарх Иоаким, отслуживший затем в Успенском соборе благодарственный молебен за счастливое возвращение. «Слышь, Дмитрий, патриарх-то не здравницу за победу возглашает, а поздравляет нас как странников с возвращением. И царя Петра на встрече нет… Сие — знак», — успел-таки шепнуть князю Дмитрию из-за спины Ванька Бутурлин. Этот уже с утра пропустил чарку, так и дыхнул перегаром. Но молвил верно — царь Петр крымских воителей не приветствовал.
«Да и с чем нас приветствовать? Второй раз прогулялись на Крым, уложили тысячи ратников да государеву казну потрясли. России В том никакой выгоды…» — с печалью размышлял Дмитрий Михайлович, когда после молебна вместе с другими воеводами и стальниками был зван наверх и жалован царем Иваном и правительницей «к руке».
Царь Иван смотрел на всех отсутствующим взглядом, словно витал где-то в облаках, а у царевны стояла в глазах тревога и женская ручка подрагивала — отметил про себя князь Дмитрий. За столом, который накрыли потом «служилым людям», один начальник Стрелецкого приказа Федька Шакловитый да пьяный Ванька Бутурлин веселились от души.
— Федька, конечно, рад, что благополучно вернулись из похода в Москву отборные стрелецкие полки, но того не ведает, что стрельцы в этих полках потеряли многих товарищей и на него, Федьку, ох злы! — усмехнулся сидевший за столом рядом с Дмитрием Михайловичем стольник и воевода Низового полка Дмитриев Мамонов. — Мой-то полк рядом со стрельцами шел, и я слышал их речи: «Послал, мол, нас Федька в поход, а сам у царевны, пока князь Василий полки ведет, под бочком на лебяжьем пуху косточки греет. Погоди, вернемся на Москву, мы ему те косточки переломаем!» — Мамонов с трудом подцепил соленый рыжик и с грустью, по-дружески, заключил: — А вообще-то скучно все, Митя!
А дальше вышло еще скучнее.
Хотя через четыре дня после торжественного въезда войска Софья и устроила между воеводами благодарственное молебствие в Новодевичьем монастыре по случаю победы, в Москве только посмеивались, ведая, что никакой великой победы у Перекопа не вышло.
Знали я то, что царь Петр отказался сначала утвердить заготовленный Софьей манифест о наградах и пожалованиях за Крымский поход.
Уговорил Петра подписать манифест его ближний боярин и кравчий князь Борис Алексеевич Голицын. Сидели в маленькой горенке в Преображенском. Мать Петра Наталья Кирилловна в креслах, боярин на простом табурете, а сам Петр примостился на подоконнике открытого окна, жевал яблоко.
«Хотя вырос и возмужал за это лето после бесконечных воинских учений с потешными, но ум-то у него зелен! — усмехнулся про себя хитрый царедворец, когда Петр снова отмахнулся от просьбы матери подписать наградной манифест.
— Да какую такую Васька Голицын викторию в Крыму одержал, ежели даже слабую перекопскую фортецию на штурм не взял! — горячился Петр, обращаясь не столько к матери, сколько к Борису Алексеевичу. — За что же этому горе-воеводе и его начальным людям награды жаловать? — Голос у Петра был резкий, высокий, еще юношеский голос, но чувствовались в нем уже басовитые мужские октавы. «Сильный будет царь!» — еще раз подумал князь Борис и снова поздравил себя с тем, что вовремя перешел на петровскую сторону.
Боярин улыбнулся, как бы поражаясь юношеской горячности, но заговорил степенно, по-государственному:
— Оно так, оконфузился Васька под Перекопом. Но простые-то ратники и воеводы разве в том повинны? А тебе, государь, станешь самодержцем, с этим войском дело иметь, другого у тебя пока нет! Не дашь наград воеводам, царевне Софье и ее фаворитам ой какой подарок сделаешь! Ведь тогда все начальные люди за ней пойдут.
— Верно говорит боярин, Петруша! — Матушка Наталья Кирилловна с нежностью посмотрела на свое ненаглядное чадо. Добавила: — Ты Бориса Алексеевича слушай, он жизнь знает! — Сама она в эти дни полностью положилась на своего боярина. Хоть и противного голицынского корня, да что поделать, ежели среда Нарышкиных скудоумна. Это она простым бабьим умом понимала и за своего советчика держалась крепко.
— Жизнь знает? — Петр выбросил яблоко в окошко, вскочил, стал мерить горенку широченными шагами. — Да ведаешь ли ты, Борис Алексеевич, что, будь я у Перекопа, я бы с одними своими потешными ту крепостцу взял? Потому как обучаю я свои полки новому строю.
— Может, и взял, государь! — улыбнулся Борис Алексеевич. — По только до Перекопа ведь дойти еще надо — через безводье, бездорожье, жару, татарские наезды пробиться! И простые воеводы и ратники, а не Ванька Голицын это сделали. И награду им дать нужно!
По Петр вдруг махнул рукой на своего советчика и показал в окно, где на лугу были выстроены преображенцы и семеновцы, спросил заветное:
— А что, ежели я с ними не в Крым, а на Москву двинусь? Москва-то рядом!
— Так-то оно так, Петр Алексеевич, но токмо у тебя шестьсот мальцов, а в Москве одних стрельцов двадцать тысяч да солдатские полки Гордона! — посуровел боярин. И добавил: — Из римской истории ведомо, что когда Юлий Цезарь перешел Рубикон и начал гражданскую войну, с ним были легионы ветеранов, и то ему понадобились годы, чтобы сломить Гая Помпея. А ты с мальчишками и конюхами на Москву идти вздумал. Да стрельцы, как один, против тебя встанут — ведь они свои дома защищать пойдут. И перебьют твоих мальцов в первый же день! Нет, тут иное потребно!
— Что же делать-то, научи, боярин! — тяжело вздохнула Наталья Кирилловна.
— А то и делать, что делают с неприятелем. Нельзя взять силою, надобно брать хитростью. В случае нужды не на Москву надобно идти, а в Троице-Сергееву лавру удалиться. Сама Софья семь лет назад, когда боролась с хованщиной, в том пример дала. В лавре тебя, государь, всегда укроют — патриарх Иоаким-то ревнитель старинного благочестия и не очень доволен порядками, заведенными ныне Софьей в Кремле на польский манер.
— А стрельцы? — Петр снова взгромоздился на подоконник, сердито грыз ногти. — Стрельцы-то меня, почитай, и в лавре достанут?
Борис Алексеевич в ответ на этот вопрос хитро прищурился, пощипал усики:
— А чего стрельцы? Стрельцы ныне не те, государь, что в мае 1682 года, когда встали дружно за Милославских против тебя и Нарышкиных. Единства меж ними нет, старшие таят зло на твою сестрицу за князя Хованского, а молодые? Да вот ко мне сейчас родственник, князь Дмитрий прискакал, повидаться с братцем Мишей, что у тебя в Семеновском полку служит.
— Мишка Голицын! Да это наш лучший барабанщик в Семеновском! — Лицо Петра просветлело, как всегда, когда он говорил о своих потешных.
— Так вот князь Дмитрий, его старший брат, ходил в Крымский поход. И сказывал мне, что в том походе молодые стрельцы, выбранные Федькой Шакловитым в поход, не малый урон в людях понесли и открыто грозились Федьке все кости переломать, как на Москве будут.
— Что-то не слышно о том пока! — глухо бросил Петр.
— Так ведь знака с твоей стороны, государь, нет! Уйдешь в Троицу, дашь знак, верю, многие стрельцы за тебя, а не за Софью встанут. Ну а солдатские полки? Что же, ты и их офицерам наградные не подпишешь?
— Ладно, давай бумагу! — с сердцем сказал Петр. — Но принять Ваську с его горе-воеводами и не подумаю. И не просите!
Так и вышло, манифест о наградах Петр все-таки подписал, но когда Василий Голицын с сотоварищи явились к нему в Преображенское благодарствовать, царь их не принял.
* * *
На зеленых лугах перед Преображенским князь Дмитрий застал воинское учение в самом разгаре. Потешные полки, семеновцы в синем мундирном платье, преображенцы в красном, стреляли шеренгами залпом, затем искусно сдваивали ряды и стреляли плутонгами — один ряд стрелял, затем падал и стрелял другой. Такой скорой стрельбы в старомосковских полках Голицын и не слышал.
Затем полки разошлись: семеновские отошли к лесу, а преображенцы построились в шесть шеренг и стали втыкать в дула фузей какие-то железки.
— Сие байонеты или багинеты, князь! Приспособление, введенное во французской армии военным министром Людовика XIV Лувуа. Немцы его переняли и называют штыком, — как знаток разъяснил князю Дмитрию генерал Гордон. Они вместе прибыли к Борису Голицыну, зазвавшему их на обед, и пока боярин беседовал в темной палате Преображенского с государем, генерал тоже решил посмотреть на экзерциции своих питомцев. Ведь Патрик Гордон, в промежутках между двумя Крымскими походами руководивший воинскими учениями потешных, а для формирования Семеновского полка передавший в него даже целую роту своих бутырцев, по праву мог считать себя военным наставником потешного воинства.
Но его истинным учредителем по праву мог считать себя только сам царь Петр.
— А вот государь-то уже стоит перед своими любимыми преображенцами! — отметил подъехавший к ним Борис Алексеевич. — Нет, чтобы откушать после совета, так отказался, поспешил в свое войско. Великим воином будет наш государь! — Хитрый боярин так нажал на слово наш, что было ясно, что там, в Москве, совсем иные цари. — Смотрит те, сейчас Петр Алексеевич поведет свой полк в атаку.
С холма, на котором стояли всадники, хорошо было видно, как подскакавший к строю преображенцев Петр выхватил шпагу и указал на выходивших из леса семеновцев. И точно: мерно забили атаку барабаны выскочивших впереди строя мальчишек-барабанщиков, и две линии стали сближаться по всем правилам линейной тактики.
— Петр Иванович, одолжите вашу подзорную трубу, хочу на братца своего взглянуть! — попросил князь Дмитрий.
— Гляди, гляди, подрос наш аника-воин, скоро с тебя ростом станет! — благодушно рассмеялся Борис Алексеевич.
И точно: впереди голубой волны семеновских мундиров князь Дмитрий ясно увидел знакомого долговязого подростка, выбивающего «атаку» так самозабвенно, словно идет в свою настоящую атаку на неприятеля.
— Вот Мишка, черт! Вырос-то как! — восхищенно вырвалось у Дмитрия Михайловича.
— На Преображенских лугах еще много воинов российских подрастет! — пророчески заключил умный боярин.
— Смотрите, сейчас будет штыковая атака! — призвал обоих Голицыных генерал.
И впрямь оба воинства, уставив вперед багинеты, бросились друг на друга. Но волны преображенцев и семеновцев не разбились, а прошли друг сквозь друга.
— Ловко! — восхитился князь Дмитрий. — Да, Петр Иванович, ведь при багинетах и копья солдатам не потребны? А мы-то с этими тяжеленными деревяшками до Перекопа тащились!
— И что же это ваш ученый воевода сию новинку хотя бы во вторую свою крымскую прогулку не прихватил? У него ведь вся государева казна в руках — мог бы у цесарцев багинеты купить! — резонно заметил Борис Алексеевич.
— Я говорил о багинетах князю Василию перед походом, но он отмахнулся! — с обидой проговорил Гордон.
— Таков он наш Василий! Ему бы все в амурах прохлаждаться. До дела же недосуг! — По сему язвительному замечанию боярина понятно было, как он не любил этого своего родственника.
— А вот нашему государю до всего есть дело, Петр Иванович. Поедем-ка ко мне, друга, на гостьбу, там за столом и о делах потолкуем. И государь там будет! Звон его войско-то уже к обеду по дороге пылит!
Боярин уже заворачивал лошадь, когда князь Дмитрий спохватился:
— Да мне с братом же поговорить надобно!
— Вот после обеда и поговорим. Вон где их палаточный лагерь разбит! — Боярин показал плетью на палатки, белевшие на лугу. — И никуда твой Мишка из них не уйдет! Он у тебя и впрямь прирожденный солдат! — Боярин, как всегда, говорил сентенциями.
* * *
Палата в Преображенском дворце, куда пригласил князь Борис Алексеевич своих дорогих гостей, совсем не походила на ту скромную каморку, где он только что совещался с царем Петром. Царица Наталья Кирилловна уступила своему советнику лучшие покои, ведая, что сие для дела, в коем решается и ее судьба, и судьба сына.
И многих именитых и нужных людей принимал в эти роскошные летние дни Борис Алексеевич. Были среди них и знатные бояре и окольничие, архимандриты и архиереи, богатые московские купцы гостиной сотни и стрелецкие полковники, пятисотники, а то и простые стрелецкие десятники.
Одни, как генерал Гордон сегодня, прибывали открыто, другие таились, входили с заднего крыльца.
Шла борьба за власть, канат перетягивали обе стороны — и партия Софьи, и партия Петра.
Припять генерала Гордона надобно было с особой почестью — ведь он командовал обоими выборными солдатскими полками иноземного строя, а в них 12 тысяч офицеров и солдат набиралось. Сила! Вторая сила после стрельцов!
Все это Борис Алексеевич подробно объяснил царице, и Наталья. Кирилловна постаралась, вспомнила, должно быть, старину, как принимала она гостей при покойном муже, царе Алексее Михайловиче! Голицын с удовольствием оглядел светлую столовую палату, убранную цветами, и роскошно сервированный стол, блестевший серебряной посудой (намять царице от мужа) и уставленный холодными старомосковскими яствами.
Стояли: розовая ветчина и заливные языки, аршинные колбасы и шейки грудные, соленые куриные желудочки и печень, свиные и говяжьи студни. Венчал же мясной стол целиком зажаренный молочный поросенок, набитый гречневой кашей. На рыбном же конце красовались: лососина с чесноком, стерлядь волжская и селедочка беломорская, краснела меж цветов семужка, выглядывала спинка белорыбицы, икорка блестела красная и черная. Запотели, поджидая дорогих гостей, графинчики с водочкой белою и темною, анисовой и можжевеловой, манили вина ренские и венгерские.
А к водочке были огурчики свежего просолу, цитроны и яблочки соленые.
К заливу стояли квасы яблочные, воды брусничные и малиновые.
— Постаралась матушка царица, ничего не скажешь. А попроси у нее липший грош на потешных, ни за что не даст! — сердито буркнул Петр, оглядывая столовую залу. — И для кого сие? — оглянул склонившихся в поклоне гостей. Уж не для Гордона или этих бояр седобородых — князей Троекурова и Прозоровского — старалась матушка? Ведь всем ведомо, что Иван Троекуров в большой чести у Софьи. Петр Прозоровский у брата Ивана в доверенных советниках обретается.
Но Борис Алексеевич уже подлетал к Петру, подталкивая Дмитрия: «Вот новый стольник твой, государь, родственник мой князь Дмитрий. Только что вернулся из Крымского похода».
— И что, много крымцев побил, стольник? — усмехнулся Петр.
Князь Дмитрий горделиво вздернул голову, но ответил тоже усмешливо: «Ни одного, государь!»
— Молодой человек крепко стоял со мной в одном строю, когда бились мы с Нуриддин Калгой, государь! — заступился Гордон за князя Дмитрия.
— Ну а коли бился, так скажи, чего боле всего опасаются в бою крымцы? — Петр внимательно смотрел на своего стольника сверху вниз, с высоты своего роста.
— Пушек, государь! — четко ответил Дмитрий.
— Вот это дело, стольник. Садись-ка ко мне поближе, расскажи о пушках. Я ведь сам первый бомбардир в своем полку. И ты, Петр Иванович, присаживайся, присаживайся рядом. Поговорим о вашем походе. И вы, бояре, садитесь. — И, увидев смущение Троекурова и Прозоровского, приказал: сидеть всем без чинов.
И получилось не только веселое застолье, но и разговор По делу.
Ну, конечно, и водочка развязала языки. Даже обычно сдержанный Гордон разошелся и говорил открыто, с сердцем:
— Я предлагал князю Василию в том походе отправить 50 тысяч украинских казаков вниз по Днепру к Очакову. Они бы не только блокировали эту турецкую крепость, но и помешали бы крымскому хану перейти через Днепр, ежели бы он воротился со своей ордой от Белграда. Не приняли мою позицию. Я предлагал при продвижении к Перекопу возвести четыре форта и оставить там запасы под прикрытием гарнизонов. Тогда не было бы потерь от татарской конницы в случае ретирады.
Не приняли и сие, и потери вышли немалые. Наконец, я предлагал сбить пушками — их ведь разного боя было почти семьсот — слабую перекопскую фортецию и войти в Крым. Пока бы еще хан доскакал от Белграда до Перекопа! Риск, конечно, был, но на войне без риска нельзя. Не приняли!
— А против Перекопа ни одна наша пушка так и не выстрелила — зря их к Крыму тащили, а потом многие в степи бросили! — с горечью добавил князь Дмитрий.
— Да, великий полководец наш Васенька! — насмешливо протянул Борис Алексеевич. Уж кто-кто, а он на своего родственника великий зуб имел.
— А может, и впрямь подкупил злодей нашего великого воеводу и были те две бочки с золотом, о которых по всей Москве слух идет? — осторожненько, прищурившись, вопросил, тряся седенькой бородкой, Петр Иванович Прозоровский. Ведал он Приказом большой казны, и кому как не ему было знать силу злата.
— Само собой были бочки! Только обманул гололобый Ваську — деньги-то в тех бочках были медные и только сверху златом покрытые! То-то, я думаю, рожа была у Васьки, когда он ту монету на зубок пробовал! Ха-ха-ха! — затрясся в хохоте могучий краснолицый Иван Троекуров.
«И здесь Бутурлин постарался…» — с досадой подумал было князь Дмитрий, а потом сообразил, что собравшиеся здесь вельможи съехались к Борису Алексеевичу не случайно — все они, хотя и по разным причинам, ненавидели царского фаворита.
Пожалуй, только у него одного не было никакой ненависти к слабому и безвольному воеводе. «Учен, но не воин!» Что ж, и сие бывает. Но как права поговорка: «Не в свои сани не садись!» Зла у него на своего родственника не было, но и то, что другой родственник, Борис Алексеевич определил Мишу в петровский лагерь, возражений не вызвало. Здесь, в Преображенском, князь Дмитрий вдруг сразу почувствовал, что в борьбе Петра с Софьей победит Петр.
И более всего он почувствовал это даже не за царским столом, а когда сидел вечером в лагере семеновцев, у солдатского костерка, разожженного Мишей, и свет костра выхватывал молодые безусые лица Мишиных товарищей, явившихся послушать офицера, недавно стоявшего у врат Крыма.
— Эх, не было нас там! — прервал Мишка рассказ старшего брата. — Мы бы ночью без всякого генеральского указа на перекопский вал бы взошли. А за нами и другие полки пошли бы. Взяли бы, други, Перекоп!
— Оно, конечно, взяли бы, взяли! — раздались дружные крики.
— Ну с новым царем у вас еще много впереди Перекопов будет! — весело заметил князь Дмитрий.
На другое же утро Дмитрий Михайлович стал стольником в Преображенском, а после скорой победы петровской партии был определен уже не Борисом Алексеевичем, а самим царем капитаном седьмой роты преображенцев.
Из Москвы под Азов
Апрельское небо над Москвой стояло в этот день высокое, ясное, без единого облачка. Так же и на душе у Петра стало спокойно и ясно — позади осталась утомительная сутолока, когда надо было загружать стоящие на Москве-реке струги провиантом и амуницией, следить за погрузкой многопудовых мортир и голландских пищалей. Погрузили на струги также шестнадцать тысяч пудов пороха и четырнадцать тысяч бомб. А господа генералы, любезный друг Франц Лефорт и Антоном Головин, еще жаловались, что многие струги дали течь и боеприпасы, мол, отмокнут и, может выйти, под Азов станут негодны. Петру самому приходилось жестоко лаяться с купцами и кормщиками, дабы вытаскивали грузы и спешно смолили заново давшие Течь суда, потом скакать на Пушечный двор и даже в далекий Переяславль-Залесский за новыми огнестрельными припасами.
Уже тогда Петру стало ясно, что настоящая война — это не веселые военные игры под Кожуховом, что война имеет свою оборотную деловую сторону и в тихой старозаветной Москве только он один, царь, может служить тем погонялой, чьи приказы все же рано или поздно исполняются. И вот наконец караван был снаряжен, и сотни стругов растянулись от Каменного моста вниз по Москве-реке и готовы были принять двадцать тысяч солдат Головина и Лефорта.
От Преображенского армия двинулась к погрузке прямо через центр Москвы. На Мясницкой было не протолкнуться от многотысячного московского люда, сбежавшегося взглянуть на красочное воинское шествие.
Возглавлял войско генерал Антоном Головин со своим двором и штабом. Впереди красовалась на резвых аргамаках генеральская свита в нарядных цветных кафтанах, за ней шестерка лошадей цугом тащила тяжелую генеральскую карету, по обе стороны которой вышагивали холопы Автонома Головина с острыми обнаженными шпагами. Впрочем, сам генерал шел за каретой пешком. Конечно, Автоном Михайлович предпочел бы ехать на лихом коне, но нельзя, поскольку следом за ним бомбардир Петр Михаилов, он же великий государь, изволил «идти пеш». А Головин прекрасно знал, что шагает за ним не какой-то там бомбардир, а сам царь, изволивший идти в поход инкогнито. И не мог же царь держаться за хвост генеральской кобылы. Так и пришлось Автоному Михайловичу из почтения к государю слезть с лихого вороного коня.
Долговязую фигуру царя, невзирая на его инкогнито, легко угадывали тысячи москвичей и зело дивились — ведь и батюшка Петра I — Алексей Михайлович Тишайший, и его братец царь Иван по улицам Москвы пешими николи не ходили и выходили пешими только на крестный ход. Сей же долговязый чертушка знай месит апрельскую грязь грубыми солдатскими ботфортами, как последний Преображенский гвардионец. Многие бабы про себя крестились и тайком отплевывались — то ли еще выкинет сей царь-воин! Ишь, каких львов в свой первый гвардейский полк набрал! В Преображенский полк и впрямь отбирали самых рослых детинушек, да и сам полковник, высоченный пруссак фон Менгден, в походе был похож на здоровенную мужицкую оглоблю. Впрочем, шедшие за полковником восемь рот вели капитаны, выбранные из родовой московской знати, и по росту являлись людьми самыми обыкновенными. А боярин князь Юрий Трубецкой и окольничий Тимофей Юшков поражали не столько ростом, сколько дородством.
Князь Дмитрий Голицын вел свою седьмую роту преображенцев грустен и сумрачен. Ему пришлось идти в поход, расставшись со своей обрученной невестой Дуней Одоевской. Свадьба с дочерью главы с Аптекарского приказа боярина князя Якова Никитича Одоевского была уже обговорена, когда грянул вдруг Азовский поход и свадьбу пришлось отложить.
«И дался государю сей поход. Ну, возьмем мы Азов, а ведь Азовское море, по сути, озеро, — мрачно размышлял князь Дмитрий. — Из Азовского моря выход в Черное только через Керченский пролив. А Керчь — крепость посильнее Азовской и тоже в руках турок. И после Азова надобно брать Керчь. Да и из Черного моря один выход — через проливы Босфор и Дарданеллы, а на Босфоре стоит столица всей Османской империи Стамбул, он же по-гречески Константинополь. И что же нам теперь, Стамбул брать? Для того ведь надобно всю османскую мощь сокрушить! А мощь сия куда как велика, и давно ли еще турки под имперской Веной стояли? Да и сейчас союзнички наши — имперцы, поляки и венециане не в силах османов за Дунай отогнать, а почитай пятнадцать лет как с турками воюют! И мы вслед влезли — мало нам крымских походов!»
Словом, на душе Дмитрия Михайловича было тревожно и беспокойно. И тревогой своей он поделился тем же вечером и со своим младшим братом Михаилом, когда тот явился к нему на струг со всей седьмой ротой.
Нов противность старшему братцу князь Михайло был весел в улыбчив. Еще бы, он впервой самолично нес знамя своего Семеновского полка, так что теперь он не рядовой прапорщик, а полковой знаменосец. Недаром сказал ему сам полковник семеновцев Иван Иванович Чамберс: «Кто несет впереди полковое знамя, тот и в сражении станет первым солдатом в полку!»
— Пьяница твой Чамберс, выпивоха, во всех московских кабаках известный! — сердито ответил князь Дмитрий.
— Ну и что из того, что чарочку лишнюю Чамберс иной раз пропустит! Сам государь, как тебе ведомо, с Бахусом дружен! — Михайло весело подмигнул старшему брату. — Зато англичанин наш — воин известный, бился в Британии за кораля Якова II против самого Вильгельма Оранского. Думаю, Чамберс и под Азовом не подведет! А возьмем Азов, там, глядишь, и Керчь и Константинополь нашими будут. Сам ведь мне рассказывал, яко вещий Олег приколол щит на врата Цареграда!
— Ну, еще посмотрим, похож ли наш царь на знаменитого Олега. Да и мы достойны ли древних русских воинов? — насмешливо оборвал князь Дмитрий младшего брата. И «просил уже совсем буднично: — Так ты, Миша, где сегодня ночуешь — на своем ли струге или дома на Покровке?
— Само собой, я вместе со своими семеновцами останусь! — Тут Михаил был непреклонен, уже тогда поражая своим солдатством.
Впрочем, князь Дмитрий и виду не подал, что огорчен был его упрямством. Молвил кратко:
— Вольному воля, а я все одно, хоть и на одну ночку, домой наведаюсь. Караван-то завтра, дай бог, в полдень вниз по Москве пойдет!
С тем братья и расстались.
Среди офицеров, пожелавших провести эту последнюю ночь в Москве, а не на судне, был и бомбардир Яков Янсен. Но если бы кто проследил тем вечером за ловким и пронырливым унтером-голландцем, то изрядно бы удивился. Янсен ведь сперва направился не в Немецкую слободу, где проживал, а в узкие закоулки Белого города. Впрочем, с какой уверенностью голландец держал свой путь, видно было, что ходил он здесь не единожды. Языков переулок перегораживал глухой амбар, но Янсен привычно отыскал потайную дверь и трижды постучал условным стуком. Глухая дверца сразу отворилась, и здоровенные безбородые сидельцы, а за ними и сам хозяин, по обличию и по речи не то грек, не то татарин, из тех купцов, что торговали в Москве южным товаром — оливковым маслом, сушеными финиками, легким кипрским вином и цитронами, явилися перед Яковом.
— Здрав будь, Солебас! — Янсен приветствовал купца по-русски.
Тот отвечал тоже по-русски, правда, с иным присвистом:
— Здрав будь, Яков Янсен! — После чего купец приказал сидельцам сразу закрыть дверцу и провел гостя в маленькую каморку, освещенную тусклым светом сальной свечки. Тут, как всякий купец, привыкший к крупным сделкам, Солебас прямо перешёл к делу: — Комендант Азова Муртоза-паша вельми доволен твоими письмами, мой господин. Теперь ясно, что русские только объявили новый поход на Крым, а сами собираются напасть на Азов! Муртоза-паша уже сообщил о сей новине великому везиру в Стамбул, и по морю сразу явилось в Азов много галер с янычарами.
— А где же моя награда, Солебас? — тоже напрямую, с чисто голландской невозмутимостью спросил Янсен. Купец усмехнулся, затем открыл потайной ларчик и небрежно бросил Янсену мешочек золотых.
— Здесь две тысячи гульденов, Яков, можешь не считать! И получишь еще столько же, если сообщишь мне, сколько войска царь Петр усадил сегодня на свои струги.
— Что ж, запомни хорошенько, Солебас: у генерала Автонома Головина семь тысяч солдат, но в его регламенте лучшие царские полки — Преображенский и Семеновский! У генерала Франца Лефорта тринадцать тысяч московских стрельцов, но только один солдатский полк. А у Патрика Гордона, что двинется под Азов в пешем строю, обученный им самолично Бутырский полк и полки Тамбовского разряда, всего девять тысяч солдат.
— А пушки? — прервал Солебас тягучую речь лазутчика.
— Что пушки?! — рассмеялся Янсен. — Ты, должно быть, забыл, Солебас, что я сам у царя состою первым пушкарем. Его величество при мне назначил на Азов двести одну пушку, тридцать тысяч пудов пороха и тридцать две тысячи семьсот гранат, ядер и бомб.
— Спасибо, друг Янсен, думаю, ты и сейчас не обманываешь меня. За то — вот еще подарок от Муртозы-паши… — И еще один маленький мешочек с гульденами перекочевал в широкий карман голландца. Янсен уже встал и собирался выйти, когда Солебас остановил его: — Есть еще приказ от самого великого везира к тебе, Яков Янсен: запоминай все, что увидишь или услышишь в этом походе! Особенно слова самого царя!
— Сие самое легкое! — рассмеялся Янсен. — Ведь его величество приказал разместить своего лучшего бомбардира на царском судне. Думаю, у молодого царя не будет от меня секретов! Он так еще доверчив, царь Петр Алексеевич.
— Нам сие на руку, Янсен. Но если ты вздрогнешь, что тебя раскроют, тот час перебегай к нам из русского лагеря. Тебя укроют стены Азова. Так, говорят, молвил сам великий султан. Ты еще послужишь нашей славе, Яков Янсен, — не без почтительности заключил Солебас.
Тем же вечером чернобородый купец и два его здоровенных сидельца скакали по широкому Муравскому шляху, что вел прямо в Крым. Товары свои он оставил в глухом амбаре в Москве.
Под Азовом
По карте путь от Царицына, что на Волге, до Паншина, городка на Дону, не более шестидесяти верст, но войска Автонома Головина и Франца Лефорта одолели короткую дорогу только за неделю. На все царское войско оказалось приготовлено токмо пятьсот лошадей, да и то верховых, и не было вовсе артиллерийских и обозных тяжеловозов, так что солдатам, которые полтора месяца надрывались на веслах, пришлось тащить на себе мортиры и пушки. Шли под пекущим степным солнцем, в безводье и бездорожье. Помогала им только молодая крепкая сила. С этой силой даже и песню по дороге можно было запеть: «Эх, раз, еще раз, взяли!..» — не раз слышали солдаты на Волге сию бурлацкую песню, а ныне и самим довелось ее завести!
Князь Михайло весь пропылился и перемазался, вытаскивая со своим взводом тяжеленнейшую стопудовую мортиру. Особенно трудно стало в конце перехода, когда пала последняя лошадь и солдатам на руках пришлось тащить мортиру. И все же добрели до тихого Дона.
Когда князь Дмитрий навестил Михайлу, тот уже умылся речной водой и был в отличнейшем настроении: подумать только, его солдаты с такой великаншей-мортирой справились! Он говорил уже — «мои солдаты», поскольку был с ними на тяжелейшей работе и мог теперь точно сказать, кто из них настоящая рабочая лошадка! А скоро ему предстоит увидеть, как поведут себя солдаты-семеновцы в деле.
— Верю, не подведут, не оконфузятся! — бодро говорил он старшему брату.
— А ты сам не боишься, Михайло, пульки — в лоб? — Дмитрий спросил брата как бы случайно, но сразу подумал, что его молодшенький братушка за делами не задумался еще о жизни и о смерти.
— Умирать-то никто, Дима, не хочет, но и бояться костлявую не стоит: все ведь от Бога. — Сидели братья вдвоем у разложенного небольшого костерка, над которым булькал котелок с ушицей, тихо сумерничали. — Впрочем, я не о себе, я о солдатах своих думаю — а вдруг убоятся, побегут, — смущенно улыбнулся Михайло.
— Эх, Мишутка, Мишутка! Хорошо, что ты о солдатах хлопочешь, за такими хлопотами ты и о костлявой забыл, значит, нынче она на тебя свой крест не ставит, — ласково вымолвил старший брат, но закончил уже строго, по-отцовски: — А под пульки ты, Мишка, все одно доброхотно не суйся, найдут они еще тебя, пульки, сами найдут.
Первая осада Азова
Когда русские увидели наяву укрепления Азова, и Петр и его генералы — Головин, Лефорт и Гордон сразу поняли, что все московские бредни о взятии крепости лихим наскоком одни пустые мечтания. Турки давно знали о предстоящем походе царя: крепостной вал, и без того высокий, был еще выше поднят, стена, болверки и замок подновлены, глубокий ров залит водой. Захваченный казаками купец-грек, плывший из Азова в Кафу, показал, что еще в мае приходил в Азов сильный турецкий флот и доставил Муртозе-паше подкрепление в две тысячи янычар.
— Теперь у Муртозы-паши без малого четыре тысячи крепких воинов, на стенах и на болверках стоят двести орудий, ров глубок, вал высок. Нам ничего не остается, как вести правильную осаду, по всем правилам французского маршала-фортификатора Вобана[11]! — твердо заявил на первом военном совете Патрик Гордон.
Лефорт и Головин, боле всех говорившие в Москве, что Азов, мол, возьмем наскоком, при виде мощных укреплений печально примолкли. Петр тоже согласился с Гордоном, и началась правильная осада.
Солдаты рыли апроши, устанавливали осадные пушки и мортиры на батареях, прикрывая их мешками с землей. Все это приходилось делать под жестоким огнем турецких орудий, и в апрошах то и дело раздавался крик: «Носилки!» Сотни солдат и стрельцов были убиты и ранены при обстреле. Но и русские апроши все ближе подходили к турецкому валу. Тогда турки стали делать вылазки — змеями подкрадывались по вечерам то к одному, то к другому русскому окопу и вырезали целые караулы. Тогда генералами было строжайше приказано: в караулах не спать, следить за неприятелем денно и нощно. Теперь назначали в караулы самых добрых офицеров. В Семеновском полку стоял в карауле и князь Михайло.
Впервые молодой прапорщик должен был столкнуться лицом к лицу с неприятелем. Но о смерти Михаил и не задумывался. Пристально всматривался в ночную тьму, прислушиваясь к ночным шорохам. И однажды явственно услышал, как к его апрошу ползет какой-то человек.
«Не иначе турок!»
Князь Михайло взвел курок у фузеи и крикнул звонко:
— Стой, кто идет?
Караульные солдаты тоже вскинули ружья. Еще минута — и раздался бы залп, но вдруг Михайло явственно разобрал пароль: «Москва! Москва!»
— Венеция, Венеция! — ответил Михайло и приказал солдатам не стрелять. В раскоп кулем свалился человек. По виду турок — в чалме и при ятагане, но по говору человек наш, славянский.
Князь Михайло самолично доставил перебежчика сперва к полковнику семеновцев Чамберсу, а затем повели его к генералу Автоному Головину. Генерал, позевывая, вышел из палатки — оторвали от сладкого сна, черти, но, узнав, что доставили к нему перебежчика, тотчас учинил турку допрос. Перебежчик отвечал толково, по-словенски. Выяснилось, что родом он венецианец, жил на захваченном турками острове Кандия, откуда часто ходил на своей фелюге в Далмацию, где и выучил родной словенский язык.
— И зовут меня Доменико Росси.
— Что ты делаешь в Азове? — грозно вопросил Головин.
— Муртоза-паша был когда-то турецким наместником на Кандии и ведал, что я не только купец, но и добрый инженер-фортификатор. Когда Муртозу назначили комендантом в Азов, он захватил и меня подновлять укрепления крепости. А ведь Венеция в союзе с Москвой воюет с турком, вот я и решил перебежать к вам!
— Так ты, выходит, знаешь в крепости все слабые места? — В проеме палатки выросла гигантская фигура царя.
Как ни странно, Росси сразу узнал Петра и ответил почтительно, но смело:
— Да, государь, я и перебежал к вам, чтобы сообщить все об укреплениях неверных.
— Постой, а откуда ты ведаешь, что я царь? — поразился Петр.
При свете фонаря было видно, как усмехнулся Росси:
— Да ведь перебежчик-то с вашей стороны, Якоб Янсен, первым делом показал туркам вас, царь-государь. И Муртоза-паша сразу вызвал своих лучших стрелков. «Убьем царя, — сказал турок, — гяуры сразу снимут осаду Азова».
— Вот, Автоном, какая сволочь Якушка, а ведь прямой мой был наставник в метании бомб! Так его, мать! — выругался Петр.
— Я тебе говорил, Петр Алексеевич, со смертью играешь! А турок прав, убьют тебя, все войско сразу в Москву повернет. Беречь твою царскую персону надобно! — принялся выговаривать Головин царю. — Ой как беречь!
— Да перестань ты языком молоть! — отмахнулся Петр от генерала. — А ты, Росси, завтра объедешь со мной крепость, покажешь все ее слабые места! — И спросил Чамберса: — Чей караул-то перебежчика достал?
— Прапороносца моего, Михаила Голицына! — важно заявил Чамберс. — Да вот он наш герой, сам в углу мнется.
— А, барабанщик! Ну что ж, толковый из тебя офицер вышел, токмо не застрелил перебежчика с перепугу-то! — Петр потрепал Михаилу по плечу. — Будешь и дале отличаться, я тебя не забуду. За царем служба не пропадёт!
На другое утро Петр с перебежчиком Росси объехал все азовские укрепления.
— Самая слабая стена в крепости со стороны реки» государь, — показал Росси. — Поставишь батарею за рекой, весь Азов батарейцам как на ладони виден будет. Пушки легко пробьют проломы в старой стене у реки. Азов ваш!
Петр согласно кивнул головой. На другой же день три тысячи солдат во главе с князем Яковом Федоровичем Долгоруким переплыли на казацких челнах Дон и принялись устанавливать на правой стороне реки сильную батарею против Азова. Непрестанная пушечная стрельба требовала все новых и новых ядер и пороха, а речным портом было только устье реки Койсуги, впадающей в Дон, в двадцати верстах от Азова. Там стояли сотни стругов с провиантом и боеприпасами, которые дале доставлялись в русский лагерь степными обозами. А в степи на обозы постоянно нападали татары-ногайцы. Вся ногайская орда прикочевала, казалось, с Кубани под Азов. Легче бы, конечно, перенести пристань с Койсуги поближе к самому лагерю, но мешали две крепости-каланчи, поставленные турками выше Азова по обоим берегам Дона. От каланчи к каланче были протянуты через Дон тяжелые цепи, и только легкие казацкие челны, и то при большой воде, проходили через сию преграду. Надобно было взять каланчи. На дело вызвались донские казаки. За добрую награду дружно сказали, что возьмут каланчи приступом. Казацкий войсковой старшина Фрол Минаев не без насмешки заявил царским генералам:
— Полсотни лет назад донские казаки сами Азов штурмом без всякой осады взяли, а возвернули крепость туркам токмо по повелению царя Михаила Федоровича. А зловредные каланчи-то мы и подавно возьмем.
Ночью казаки подползли поближе к каланчам, подтащили две пушки. А на рассвете, не обращая внимания на жестокий огонь турок, выбили ядрами железные двери и ворвались в первую каланчу, частью перебив, частью полонив весь гарнизон. С другой каланчи, увидев на верхушке русское знамя, турки ушли сами. Тяжелые цепи, перегораживавшие Дон, были сняты, и речной караван передвинулся теперь вниз по реке, к укреплению Новосергиевску, возведенному поблизости от русского лагеря. Припасы теперь шли в армию по воде беспрепятственно.
Столь легкий успех, добытый к тому же малой кровью, снова вдохновил генералов Лефорта и Головина на мысль о немедленном штурме. «Уж коли простые казаки турок побили, то и мы Азов штурмом возьмем!» — твердили они царю. Хитрецы Лефорт и Головин — у Петра тоже взыграло честолюбие, и он дал согласие на штурм крепости, несмотря на все возражения Патрика Гордона.
Штурмовать Азов порешили не всей армией, а только отрядами охотников, по полторы тысячи солдат от каждой дивизии. Каждому охотнику было обещано, независимо от того, удачен или не удачен будет штурм, по десяти рублей награды. Гордон требовал атаки всей армией, но ему указали, что каланчи-то взяли казаки-охотники. Многие солдаты, которым надоело на страшной жаре копать землю в апрошах, согласились пойти на штурм добровольно. Но в стрелецких полках охотников не хватало, и часть их назначили по приказу. Михаиле Голицын вызвался в охотники среди первых в Семеновском полку.
5 августа 1695 года взвились ракеты, и колонны с охотниками пошли в атаку. Но при отсутствии единого командующего пошли на штурм в разное время. Первой к турецкому валу подошла колонна Гордона, но, встреченная жестоким огнем турок, залегла перед рвом. Колонна Головина, в составе которой шли охотники из гвардейских полков, застряла в обгоревших пригородных садах. Многие попрятались за деревья. Тогда Михайло Голицын со знаменем в руках бросился в ров, за ним пошли и остальные гвардеонцы. Но турки нещадно палили из-за уцелевшего палисада, лили на русских раскаленную смолу, скатывали тяжелые камни. И эта атака захлебнулась. Колонна же Лефорта вообще запоздала и попала под столь жестокий обстрел, что потеряла добрую треть охотников и, не дойдя до вала, откатилась.
Штурм не удался, и к вечеру насчитали едва ли не тысячу убитых, коим уже не понадобилась никакая царская награда.
На совещании в царской палатке на другой день Лефорт и Головин первыми посоветовали царю снять осаду Азова. Скоро, мол, осень, начнутся дожди и бескормица и лучше отступить на винтер-квартиры.
Петр слушал своих генералов-наставников мрачно. Один только Гордон внушал надежду.
— Как, Петр Иванович, возьмем крепость? — обращался к нему царь.
— Если будем поступать по системе Вобана, подведем подкопы под вал, пробьем со стороны реки крепость, можно взять и в этом году! — заключил Гордон.
— Быть по сему! — решил Петр. — Беритесь за лопаты, господа генералы! — И снова начались работы в апрошах.
Случай со знаменем, поднятым молодым Голицыным, Петром был отмечен. Михаилу из прапорщиков произвели в поручики и дали в команду полуроту семеновцев.
— Будь у меня все такие офицеры, как молодой Голицын, уверен, взяли бы мы Азов, — сказал при этом царь Автоному Головину. Слова эти из штаба довели и до Михайлы. Тот был, само собой, вельми обрадован.
Подкопные работы продвигались, однако, медленно. Во-первых, погиб от турецкой пульки Доменико Росси, а руководивший подкопами старик Тиммерман взорвал один подкоп раньше времени, так что боле пострадали русские, нежели болверк. Турки со стен смеялись. Во-вторых, в сентябре и впрямь зарядили дожди, и апроши наполнились водою. Пришлось на время приостановить подкоп.
Но к середине сентября дожди прекратились, и подкоп под боковой болверк был окончен. На 25 сентября назначен был общий штурм крепости. На сей раз решили обойтись без охотников — на штурм шли все полки.
Утром громыхнул взрыв. Когда дым и пыль рассеялись, увидели, что правая стена болверка рухнула. У ставя вперед багинеты, туда и бросился Бутырский полк генерала Гордона. Солдаты взошли на болверк, началась резня.
Преображенцы и семеновцы шли на сей раз берегом и вышли к речной стене крепости. Пушки с батареи Якова Долгорукого, паля через Дон, пробили-таки в азовской стене два пролома. В ближайший пролом и бросились гвардейцы, на штурм дальнего пошли донские казаки, переправившиеся на челнах через Дон.
Петр с заречной батареи Долгорукого ясно видел, как гвардейцы и казаки овладели проломами и ворвались в приречные городские улочки Азова. Казалось, что падение крепости вот-вот случится. На батарее прекратили пальбу, дабы не попасть по своим.
Но случилось непредвиденное — стрельцы из полков Лефорта и Головина снова залегли перед валом и на штурм не пошли. А у Муртозы-паши в каменном замке был укрыт резерв — две тысячи отборных янычар, доставленных в Азов морем. Их турецкий комендант и бросил в контратаку против гвардейцев.
Янычары были лучшими из лучших в турецком войске. Их набирали, как правило, из малолеток христиан, обращали в мусульманство и с детства обучали быть безжалостными, искусно владеть холодным и огнестрельным оружием.
Отряд, брошенный Муртозой-пашой, был опытным, многократно сражался против австрийцев, венециан и поляков и везде побеждал.
— Вперед, Мустафа, бей их нещадно, загони гяуров в реку! — приказал комендант предводителю янычар. И, увлекаемые седобородым муфтием, призвавшим победить или погибнуть во славу Аллаха, янычары, прозванные сендергестами, или беспощадными, жестокой лавиной налетели на русских. Сперва они выбили бутырцев с углового болверка, а затем с фланга обрушились на преображенцев и семеновцев, грозя отрезать их от берега.
Другая часть янычар уже оттеснила казаков к реке. Казалось, обе лавины янычар сейчас сомкнутся и окружат гвардейцев в городе. Но здесь на пути янычар, несущихся с болверка, стал большой приречный караван-сарай, занятый полуротой семеновцев. Михайло Голицын, командовавший этим отрядом, разместил стрелков у каждого окна и поставил на крыше караван-сарая. Семеновцы встретили янычар столь дружным огнем, что даже сендергесты спрятались за развалинами зданий. Мустафа-бей сразу послал за пушками, чтобы выбить гяуров из караван-сарая. Этой остановкой воспользовались преображенцы и семеновцы и по сигналу полковых труб отошли к реке, а затем берегом, отстреливаясь на ходу от наседавших янычар, пробились к своим. Гарнизон караван-сарая отступал последним — из сотни солдат у Михаилы Голицына не осталось и половины.
Петр напрасно слал гонцов одного за другим к Лефорту и Головину — стрельцам свои головы были дороже царской награды и на штурм они не пошли. Да и какие они были солдаты — московские лавочники и мирные ремесленники! Уже к полудню штурм был отбит турками по всей линии. Царю и его генералам ничего не оставалось, как снять осаду.
Оставив осадную артиллерию с боеприпасами в Новосергиевском укреплении, полки потянулись на север. Снова пошли дожди, и солдаты брели по безлюдной степи, меся грязь по раскисшей дороге на Валуйки. Скоро кончился провиант, а сделать запасы оного генералы не позаботились — ведь они никак не думали, что придется отступать. Под Валуйками пошел первый снег, и здесь выяснилось, что не позаботились генералы и о теплой одежде. Тысячи солдат добрели до Валуек обмороженными, еще тысячи умерли по дороге от голода и холода.
Петр I помчался вперед на тульские заводы, обгоняя поредевшие полки. Царь знал, что надобно делать: ковать железо и строить флот! Один только успех окрылял молодого царя: Борис Петрович Шереметев взял на Днепре Кази-Кермень и еще три крепости. Значит, и турок бить было можно.
Кази-Кермень
Когда в январе 1695 года в Москве громогласно, с высокого крыльца объявили новый поход на Крым, назначенный командующим походом Борис Петрович Шереметев уже знал, что поход сей обманный, дабы намечен отвлечь турок и крымского хана от Азова. Туда, под Азов, шли лучшие регулярные полки — Преображенский и Семеновский, Бутырский и Лефортов, шли московские стрельцы и дворяне-царедворцы. В этом войске был и сам царь Петр Алексеевич.
Сообщили о походе Борису Петровичу на тайном военном совете в Преображенском, а не в Боярской думе, и присутствовали на том совете кроме Петра генералы из иноземцев Франц Лефорт и Патрик Гордон. По тому как молодой царь послушно внимал этим военным светилам, особенно Францу Лефорту, Шереметев понял, в чьих руках настоящая власть, и поспешно склонил голову.
Да и как не склонить — ведь молодого Шереметева положение было после падения царевны Софьи самое незавидное. Хорошо еще, что Нарышкиным ведомо было о его ссоре с Васькой Голицыным у Перекопа — токмо за то его бывшую службу у фаворита и простили. Но к новому двору Шереметева не допустили и шесть лет держали воеводой в захолустном Белграде. Правда, должность сия была важной. В распоряжении Бориса Петровича состояли все солдатские, рейтарские и драгунские полки Белгородского разряда. Полки не были обучены новому регулярному строю, хотя собирались токмо во время войны и представляли собой поселенное войско. В мирное время солдаты занимались землепашеством, а среди рейтар и драгун много было и мелкопоместных дворян, владевших небольшими хуторами. За шесть лет, прошедших после последнего Крымского похода, многие солдаты разучились бы ружья и сабли в руках держать, идя за плугом, но Борис Петрович покою воинам не давал и каждую осень после уборки урожая собирал свое воинство на месячные учения, где солдаты снова стояли в регулярном строю.
Посему, когда был объявлен новый поход на Крым, Шереметев быстро собрал под Белградом полки своего разряда. Смотром боярин остался доволен, — может, его солдаты не так быстро строились в правильную линию и не брили бороды, как петровские гвардейцы, но, живя на границе со степью, откуда, почитай, каждое лето могли налетать татарские разъезды, они и за плугом не расставались с ружьем и саблей.
К маю подтянулись и полки Новгородского разряда, служившие на северной границе, — тоже солдаты бывалые, ходившие в походы еще с Василием Голицыным.
Куда хуже было с дворянским ополчением — многие дворяне опять оказались в нетях, а иные явились на таких худых клячонках, что Борис Петрович, великий знаток в лошадях, от огорчения только руками развел.
— Опять повторится яко во втором Крымском походе у Васьки Голицына — дворянская конница за пехотой в обозе спрячется! — сердито выговаривал он своему помощнику, севскому воеводе окольничему Барятинскому.
— Бог даст, Борис Петрович, черкасы помогут. У казаков конница хоть и не обученная, да на добрых конях! — прокряхтел князь Барятинский. — Даст Бог, побьем татарскую силушку!
— Ничего не поделаешь, придется отправиться к гетману Мазепе на поклон! — решил Борис Петрович и в начале мая отправился в гетманскую столицу Батурин.
Невзрачная крепостца, которой был этот городок на Сейме при прежнем гетмане Самойловиче, за время правления Мазепы полностью преобразилась. Опытным взглядом военного человека Борис Петрович отметил и новый вал с крутыми раскатами, с коих смотрели жерла десятков пушек, глубокий ров, наполненный весенней водою, стоящий в городе каменный замок пана гетмана.
«И против кого пан Мазепа сию фортецию возводит? — не без тревоги вопросил себя Борис Петрович. — Если он супротив татар так вооружается, то напрасно: легкоконная конница такой глубокий ров никогда не перескочит, а турки держат свое войско ой как далеко от Батурина».
И пока боярин ждал, что перед ним опустят подъемный мост, в голову невольно лезли разные мысли о тайных сношениях Мазепы с польским панством.
Как воевода белгородского разряда, Борис Петрович ведал о всех делах на гетманщине. Знал он и то, что Мазепа был в молодые годы покоевым дворянином польского короля Яна Казимира и сам звался тогда не Иваном, а Яном Мазепой. Служба его королю была вельми угодна, да по молодости лет впал королевский покоевый в грешный блуд с одной знатной пани. А Речь Посполитая, дело известное, была республикой знатной шляхты. И муж знатной пани, невзирая на близость Мазепы к самому королю, перехватил своего обидчика на пустынном шляху, приказал слугам раздеть Мазепу догола, вымазать дегтем и привязать к конскому хвосту.
А затем так огрел лошадь, что та понесла голого королевского покоевого через кусты и буераки, так что весь он был исполосан и ободран, когда скинула его лошадь в случайном казацком таборе.
То был казачий разъезд правобережного гетмана Тетера, что воевал в союзе с турками и против Речи Посполитой. Так королевский покоевый и стал украинским казаком.
А понеже Мазепа выучился до того в коллегиуме иезуитов, писал латиницей, болтал по-немецки и по-польски, то ничего удивительного, что уже при гетмане Дорошенко он стал генеральным писарем Запорожского войска, Дорошенко даже посылал своего молодого писаря послом в Стамбул за турецкой подмогой и в Москву для тайных бесед. В Москве хитрый как лис Мазепа сумел показаться тогдашнему ближнему боярину Артамону Сергеевичу Матвееву[12]. Допущен он был и к царю Алексею Михайловичу, и с царскими грамотами, зовущими Дорошенко перейти, под высокую царскую руку, Мазепа был снова отправлен на Правобережную Украину. Но ехать прямо к Дорошенко Мазепа побоялся и переметнулся к Левобережному гетману Самойловичу. Здесь снова он становится генеральным писарем, хотя предает и нового покровителя. В первом Крымском походе Мазепа вошел в доверие к Василию Голицыну и выложил ему удобную для фаворита лжу, — мол, именно по приказу Самойловича казаки подожгли степь и из-за этих великих пожаров вся голицынская рать и повернула назад.
В благодарность за эту услугу Василий Голицын спешно, прямо в воинском лагере, собирает казацкую раду, окружает ее стрельцами и заставляет избрать гетманом своего любимца. Став гетманом, Мазепа, с благословения Голицына, добивается ссылки своего недавнего благодетеля Самойловича в Сибирь.
Но через год, когда пало правление Софьи, Мазепа, ехавший в Москву с поздравлениями Василию Голицыну, поздравляет уже в Троицком монастыре царя Петра I. И что же, он так сумел расположить своей верноподданностью и ученостью молодого царя, что тот выдает Мазепе на правеж всех его супротивников на гетманщине.
Вот к какому человеку, предавшему уже по очереди одного короля и трех гетманов, ехал на совет Шереметев.
«Хорошо еще, что в Батурине стоит полк московских стрельцов», — размышлял Борис Петрович, Направляясь в гетманскую резиденцию.
Однако же у ворот во двор резиденции боярина остановили толсторожие здоровые сердюки из личной охраны Мазепы.
Борис Петрович у себя в Белграде был уже наслышан об этой гвардии гетмана, набираемой из всякого воинского сброда, промышлявшего на дорогах войны. Тут были и немецкие ландскнехты, и трансильванские мадьяры, но более всего было разорившейся польской шляхты. Ведь в глубине души и сам Иван Мазепа Все еще считал себя Яном Мазепой, и потаенной мечтой гетмана и близкой к нему старшины было жить по примеру великородного польского панства — Потоцких и Вишневецких, Сапег и Радзивиллов. И год от года Мазепа заводил польские порядки на гетманщине: раздавал щедрые маетности близкой старшине, обращая не только посполитых, но и вольных казаков в холопы самозваного панства, отдавая шинкарям-евреям в аренду весь винный откуп, тайно покровительствуя униатам и отцам иезуитам.
До Москвы о том доходили только слухи, в Белгороде Шереметев ведал о делах гетмана куда больше. Но кому ему было жаловаться, если Мазепа был в такой чести у молодого царя.
«Не надежен, ох не надежен бывший покоевый короля Яна Казимира!» — размышлял Борис Петрович, вступали гетманские покои. В молодые годы, когда отец Шереметева сидел воеводой в Киеве да и ходил во время своего первого посольства в Речь Посполитую, боярину часто доводилось бывать в домах польской знати, и опытный взгляд сразу отметил, что убранство гетманских покоев ничем не отличалось от дворцов Потоцких и Любомирских: шелковые драпри на окнах, дорогие французские гобелены на стенах, персидские ковры на полу. Только вот в святом углу висят православные иконы, а не деревянные католические распятия. «Но кто знает, может, за потайной дверцей кроется и униатская часовня!» — подумал Борис Петрович. Впрочем, боярин недаром побывал послом и у короля Яна Собесского, и у императора Леопольда. Шереметев был вежлив и обходителен и боярской спесью не наливался.
Мазепа сие оценил, да и лестно было ему, что такой высокородный боярин первым пожаловал к нему с поклоном. Приняли Шереметева с великой честью, но, когда перешли к делу, старый лис сразу обернулся волком.
Конечно, гетман согласился с Шереметевым, что надобно не идти прямо через степь на Крым, а взять поначалу турецкую крепость Кази-Кермень и еще три городка на Днепре возле Очакова.
— Я ведь и князю Василию Голицыну в пример древнего персидского царя Дария ставил — тот пошел степью на Крым, а потерял 80 тысяч войска!
— По Днепру идти куда сподручней — безводья нет, да и все пушки и тяжелые припасы в лодках можно сплавить! — соглашался Мазепа с Шереметевым. По когда боярин стал говорить, чтобы казацкая конница отбивала татарские наезды из Крыма, пока русские осаждают Кази-Кермень, гетман сразу встал на дыбы: — Я со своими казаками дале речки Самары не пойду. Мне и великий государь о чем пишет? Борони Украину. А твое войско с берега пусть дворянское ополчение охраняет. Что? Показать тебе царскую грамоту?
Борис Петрович только головой покачал — не мог же он признаться старому лису, что он-то, ближний боярин, никакой близости с царем не имел и в той доверительной переписке, которую имел с Петром гетман, он, командующий всем южным войском, не состоял.
Мазепа не без внутренней насмешки рассматривал покрасневшего от гнева боярина, но потом вдруг смилостивился и согласился двинуть свою конницу поближе к Крыму, прикрыть тыл шереметевского войска от набегов-татар.
— Ну спасибо, Иван Степанович, уважил! — Напоследок чувствительный боярин даже прижал Мазепу поближе к сердцу, трижды облобызал.
— Старому другу от меня всегда помощь будет! — важно сказал Мазепа, а про себя смеялся. Он-то знал от запорожцев, что крымский хан со стотысячной ордой уже переправился на правую сторону Днепра и пошел к Дунаю на соединение с турками. От Крыма русским никто уже не грозил, и казаки Мазепы могли спокойно ловить рыбешку в речке Коломаке.
* * *
После того как под Белгородом собрано было великое войско — в 120 тысяч, Борис Петрович отслужил в соборе торжественный молебен и на другой день двинулся в поход.
— Майская степь была усыпана дивными цветами, покрыта высокими травами, но русских сияющие майские дни не очень-то радовали — помнили еще, как загорелась степь в первом Крымском походе и войско Василия Голицына, так и не встретив ни одного татарского разъезда, вынуждено было от пожаров повернуть вспять.
Но на сей раз Бог миловал, и войско боярина беспрепятственно дошло до местечка Каменный Загон, что на Днепре. Здесь по высокой воде не торопясь переправили струги с провиантом, осадной артиллерией и тяжелыми воинскими припасами через пороги Днепра.
А ниже порогов стало переправляться и само войско Шереметева.
В переправе много помогли запорожские казаки на своих легких чайках, ходивших и на веслах, и под парусом. На этих чайках запорожцы в течение почти ста лет спускались вниз по Днепру и выходили в Черное море. Они легко уходили от тяжелых многопушечных османских кораблей, и все побережье Черного моря было открыто для их набегов. Но запорожцы не только грабили и поджигали — они освобождали из турецкого плена сотни невольников, в основном украинцев и русских, уведенных из пределов Московской державы крымцами на невольничьи рынки Кафы. Многие из освобожденных колодников записывались потом в запорожское войско, и от морских набегов войско не слабело, а еще более усиливалось.
Турецкие султаны пробовали было унять морские набеги запорожцев увещевательными грамотами.
Кошевой атаман Иван Гусак, помогавший русскому войску в переправе через Днепр, зачитал как-то Шереметеву последнюю увещевательную грамоту от султана Мухамеда IV. Грамота открывалась пышным султанским титулом: «Я, султан, сын Магомета, брат солнца и луны, внук и наместник Божий, владетель всех царств: Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, великого и малого Египта; царь над царями, необыкновенный рыцарь, никем непобедимый, хранитель неотступный гроба Иисуса Христа, попечитель Бога самого, надежда и утешение мусульман, смущение и великий защитник христиан…»
— Постой, постой, не пойму, с чего бы Это Мухамед объявил себя защитником христиан? — перебил Борис Петрович чтение.
— Да у султана полдержавы составляют христианские народы: греки, болгары, сербы, волохи, молдаване — деваться некуда, приходится ему и в защитника христиан рядиться, — рассмеялся Иван Гусак, который и в пышном боярском шатре держался смело.
Сидевший рядом с Борисом Петровичем окольничий князь Барятинский покосился на хохотуна-запорожца, спросил сердито:
— И что же потребовал султан от Сечи в сей грамоте?
— А вот послушайте, паны воеводы, что от нас Мухамед IV-й восхотел. — Гусак задребезжал фальцетом: — «…повелеваю вам, запорожским казакам, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и впредь меня вашими нападениями не беспокоить! Султан турецкий Мухамед».
— И каков был ответ запорожцев? — заранее похохатывал Борис Петрович, наслышанный об этой грамоте еще в Киеве.
— О! Ответ на эту грамоту султанову тогдашний кошевой атаман Иван Сирко дал самый гордый. Вот послушайте, паны воеводы, что сочинил казацкий круг в Запорожье! — И, сдерживая рвущийся из горла смех, Гусак зачитал султанский титул, каким его утвердила казацкая вольница на Сечи. — «Ты, шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ и самого Люцифера секретарь. — Здесь Гусак прокашлялся и продолжал далее уже громким голосом: — Вавилонский ты кухарь, македонский колесник, иерусалимский броварник, александровский козолуп, великого и малого Египта свинарь, нашего Бога дурень и некрещеный лоб, — продолжал совершенно серьезно читать кошевой атаман грамоту, хотя в палатке уже хохотали все: и сам боярин, и командиры его полков, и даже приглашенный на Трапезу священник. Не смеялся, пожалуй, один Барятинский, который в этом поношении султана узрел ущемление царского имени. Но Гусак на окольничего и взор не обратил и закончил не без торжества: — Не будешь ты, султан, годен сынов христианских под собою мати, твоего войска мы не боимся, землею и водою будем убиться мы с тобою! — Под конец чтения Гусак лукаво улыбнулся и завершил скороговоркой: — Числа не знаем, бо календаря не маем, месяц у неба, а год у книжцы, а день такой и у нас, як и у вас!»
— Да, лихой ответ дали запорожцы султану! — Борис Петрович утер слезы, выступившие у него от смеха, — боярин от природы был смешлив.
— Ответили-то они лихо, не спорю, только мы знаем, чем ответил и сам султан на казацкую цидулку, — сердито проскрипел Барятинский и стал пересчитывать — Первое — в дополнение к Очакову, запирающему выход из днепровского лимана, турки соорудили знатную фортецию Кази-Кермень как раз у впадения Ингула в Днепр. Второе: на острове напротив сей фортеции они построили крепость Таван или Таган. Третье: на левом берегу Днепра высятся теперь еще два городка — Орлан-Ордек и Мубаран-Кермен. И четвертое: если пушек Очакова запорожцы могли и избежать, плывя вдоль левого берега лимана, то у Кази-Керменя и городков панам запорожцам весь выход не токмо в Черное море, но и в днепровский лиман турками перекрыт.
— Твоя правда, пан окольничий! — Гусак хитро прищурился. — Только разве не для того и собрано такое великое войско, чтобы турок побить и все зги городки срыть? Не так ли?
За Барятинского ответил Борис Петрович. Он поднялся во весь свой немалый рост и молвил без смеха — неспешно и важно:
— Завтра в поход, други, — пойдем к Кази-Керменю, разорим сей разбойничий вертеп на земле наших предков, да и другие крепостцы уничтожим.
* * *
В начале июля 1695 года войско Шереметева подошло к Кази-Керменю. Казаки Мазепы, шедшие до сих пор по берегу Днепра в пределах видимости, словно вдруг растворились в степи, ушли в ночь от Днепра к Коломаку.
Об этом Шереметеву сообщил купец-грек, обоз которого был перехвачен запорожскими казаками, шедшими впереди войска боярина.
— Что ты вез в Кази-Кермень и кто тебя послал? — спросили грека на первом допросе. Грек-хитрован оказался словоохотлив, так что и пытки не понадобились.
— Вез я рыбу сушеную, муку и крупу, никаких боевых припасов в обозе моем не было. Очаковский паша разве что приказал пригнать мне в Кази-Кермень стадо баранов, дабы его друг амир-бей, комендант Кази-Керменя, не имел нужду в свежем мясе. Пороха же, ядер, гранат и бомб в Кази-Кермене и так предостаточно, — скороговоркой говорил грек, тревожно поглядывая на русских предводителей.
Особую тревогу у него вызывал хмуривший тяжелые черные брови Барятинский.
«А вдруг на дыбе повесят!» Грек уже был наслышан об этой страшной пытке. Поэтому, когда Барятинский повернулся и заговорил с Шереметевым, выразительно показав на двух здоровенных палачей, нетерпеливо переминающих ноги у порога хаты, грек бухнулся на колени перед Борисом Петровичем и выложил свою последнюю карту — он может показать слабое место в крепости, где легко можно подвести подкоп.
— Стену эту между двумя боковыми башнями у реки каждый год подмывают грунтовые воды, и не дале как в мае турки ее подновляли! — решительно заявил грек Шереметеву при объезде крепости.
— Похоже, не врет грек, впрочем, и так видно, что стена по кладке отличается от старой. — Борис Петрович приказал начать подкоп против гнилого участка стены. Для большего обмана турок стали вести еще два подкопа. Турки поначалу повели горячий орудийный огонь против русских шанцев, из которых велись подкопы, но Борис Петрович недаром тащил за войском триста орудий.
Боярин на пушечную стрельбу ядер и бомб не жалел, и русские пушки четыре дня били по крепости беспрерывно. На пятый день рванули мины, заложенные в приречном подкопе. Гнилая стена рухнула, и через нее в крепость вломились новгородские стрельцы, предводительствуемые князем Барятинским. Через час Кази-Кермень взяли. Остатки гарнизона во главе с амир-беем сдались.
Кроме пленных русские захватили 30 пушек и множество припасов.
И здесь до них долетела участившаяся стрельба с реки. С комендантской башни, на которую поднялись Шереметев и Барятинский, хорошо была видна стоявшая на островке крепостца Таван.
— Смотрите, смотрите, что запорожцы делают! — восторженно закричал молоденький князь Волконский, носильщик на новый манер, адъютант Бориса Петровича. — Без всяких пушек на приступ Тавана пошли!
— Сам вижу! — сердито выговорил запыхавшийся на крутой башенной лестнице Шереметев.
И впрямь сверху как на ладони было видно, как сотни запорожских чаек неслись к острову.
— Что делает вольница, без приказу на штурм бросилась! Побьют их турки сейчас, и крепко побьют! — Похоже Барятинский даже хотел, чтобы турки дали по зубам запорожцам.
«Как ненавидит он казацкую вольницу, — подумал Шереметев про своего старого однополчанина. — Да и то, Барятинский с детства человек царский, привык поступать во всем только по цареву приказу. Ну а мне ничего не остается делать, как задним числом отдать сей приказ!»
И, повернувшись к своему носильщику, Борис Петрович приказал:
— Ты вот что, Саша, скачи к белгородским челнам и прикажи от моего имени спуститься вниз по Днепру в подмогу запорожцам.
Сопротивление на острове было сломлено только к вечеру, когда подвезенные на челнах русские пушки выбили ворота и, смешавши ряды, белгородцы и запорожцы ворвались в крепость. Таван пал.
А на другой день пришло радостное известие — напуганные падением Кази-Керменя и Тавана турки ночью сами покинули две небольшие крепостцы, лежащие на левом берегу Днепра — Ослам-Кермен и Мубаран-Кермен, — и ушли в Очаков. Цепь турецких крепостей, запиравшая русским и запорожцам выход к низовьям Днепра, была прорвана. Да и крымский хан лишился удобной переправы для своей орды и не мог теперь вовремя оказать туркам помощь на Дунае.
18 августа 1695 года прискакал в Москву Александр Волконский с радостным известием о взятии сразу четырех турецких крепостей на Днепре. По сему случаю в Успенском соборе отслужили радостный молебен.
Радовались и в союзных столицах: Вене, Варшаве, Венеции, там хорошо помнили, какую помощь крымский хан оказывал туркам и на Дунае, и в Молдове, и на Подолии.
Борис Петрович и не ведал, что о его славных викториях на Днепре писали и в голландских, и в английских, и в немецких газетах, а в Польше опубликовали даже поздравительную брошюру с гравюрой, изображающей торжественный въезд боярина в крепость Кази-Кермень. Правда, на сей гравюре впереди Шереметева ехал Петр I на колеснице, запряженной парой львов, и гетман Мазепа размахивал булавой, хотя Петр I в это время сидел в шанцах под Азовом, а Мазепа с большей частью своего войска бездеятельно стоял на Коломаке.
Второй Азов
Во второй поход на Азов поручик Михайло Голицын плыл по Дону из Воронежа вместе с другими семеновцами на галере «Глория» в составе царской эскадры. За нехваткой капитанов их брали из числа гвардейских офицеров, понеже Петр был уверен, что «гвардеец — он все умеет!». Так и Михайло, отличившийся своей храбростью еще в первом походе на Азов, был определен капитаном «Глории», на которой разместилась полурота его солдат-семеновцев. Плыть вниз по Дону было легко — надобно было только следовать курсом за царской галерой, а кормчие, стоявшие у руля на «Глории», были добрые — трое рыбаков-воронежцев, многократно водившие купеческие барки и паузки из Воронежа в Черкасск, столицу Донского казачьего войска. Старшим у них был здоровенный детина Дмитрий Решилов, которого все, впрочем, звали просто — Митяй. Черная густая борода у Митяя торчала лопатой, тяжелые руки были черными от смолы (в смолокурне его и разыскал Голицын по совету одного знакомого воронежского купца), зеленые глаза кормчего нет-нет да я вспыхивали разбойным степным огоньком. Но дело корабельное Митяй знал куда лучше, чем сухопутные солдаты: легко мог поставить и четырехугольный и трехугольный парус, твердо держал руль и отлично знал фарватер. Помогали дяде Митяю вести галеру двадцатилетние племяши-близнецы — Фрол и Глеб. Парни из тех, кого называют крепышами — что в рост, что поперек, — тоже привычные водить купецкие струги по Дону.
Солдаты-семеновцы днем дружно налегали на весла, сам Михайло и прапорщик Бартенев зорко наблюдали за сигналами с царской галеры «Принципиум». Петр I, яко капитан-командор отряда, сам составил инструкцию к сигналам, подаваемым наотмашь специальными флажками. Ночью сигналы подавали зажженными фонарями.
Голицын и Бартенев ни разу не упустили сигналы с царского флага, «Глория» не сбилась с курса и не села на мель, как случалось с иными галерами, и по прибытии в Черкасск князь Михайло получил личное добро от царя-командора.
Вслед за царским отрядом в Черкасск благополучна прибыли и другие эскадры: великого адмирала Франца Лефорта, который до того никогда и моря-то не видел, сухопутного генерала Автонома Головина, и наконец явилась эскадра новоявленного генералиссимуса боярина Алексея Семеновича Шеина.
Петр I учел неудачу первого похода под Азов, когда три генерала токмо лаялись друг с другом, а поход проиграли, и назначил главой одного главнокомандующего — генералиссимуса. Боярин Шеин был знатного рода, внук того самого Шеина, который руководил знаменитой обороной Смоленска от польского короля Сигизмунда в Смутное время.
Через двадцать лет, правда, тот же Шеин потерпел под Смоленском полную неудачу, за что и был казнен по приказу царя Михаила Федоровича.
Внук его, Алексей Семенович, отличился еще во время Крымских походов, где командовал войсками Новгородского разряда и на всю Москву славился своим богачеством и пышной свитой (за его боярской каретой всегда скакало с полсотни холопов, выряженных в крепостное платье) и был люб и боярству и дворянству. Военным искусством Шеин не блистал, но умея себя поставить и показать перед прочими генералами. Вот и сейчас на флагмане был поставлен такой роскошный персидский шатер для боярина, которого не было у самого царя.
Главное же, скрываясь за своим пышным генералиссимусом, Петр I мог теперь самолично руководить осадой Азова: боярин, памятуя злосчастную судьбу своего деда, во всем был послушен царской воле.
Первая неудачная осада многому научила царя. За зиму построили в Воронеже сильный флот (20 галер и 2 корабля), а весной стали стягивать к Азову вдвое большую воинскую силу, чем в прошлом году.
Помимо дивизий Автонома Головина, Франца Лефорта и Патрика Гордона к Азову подвели солдатские полки Белгородского разряда, взявшие в прошлом году на Днепре четыре неприятельских фортеции. Правда, их командующего, Бориса Петровича Шереметева, царь оставил воевать по-прежнему на Днепре (двух командующих ему в войске было не надобно). Гетман Мазепа тоже под Азов вызван не был, но прислал 15 тысяч казаков во главе с наказным гетманом Лизогубом. Донской атаман Фрол Минаев собрал на сей раз не пятьсот, а 5 тысяч казаков, да еще полтысячи казаков было вызвано с далекого Яика. Памятуя о прошлогодних набегах татар на тылы русского войска, царь стремился усилить свою конницу и помимо казаков вызвал под Азов и конное ополчение московских дворян.
65-тысячное русское войско собиралось, впрочем, неспешно. Первой пешим путем прибыла в Черкасск из Тамбова дивизия Патрика Гордона, затем галерки и струги доставили из Воронежа дивизии Головина и Лефорта, последними явились белгородские полки под командой Регимана и казаки Лизогуба.
Петр сразу приказал Гордону идти к Новосергиевску — это укрепление воздвигали еще после первой осады вблизи взятых турецких каланчей. Здесь под прикрытием трехтысячного гарнизона хранилась вся прошлогодняя осадная артиллерия с немалыми запасами. Турки в Азове за зиму не предприняли ни одной попытки захватить сию фортецию: видно не верили в новое нападение русских на Азов.
Впрочем, в Стамбуле быстро стало известно о новой диверсии русских, и в Новосергиевске Петру донесли, что на азовском взморье снова маячат турецкие суда, доставившие подкрепления в Азов.
Получив это известие, русский галерный флот, с трудом преодолевая мели (хорошо, что лоцманами были донские казаки, отлично знавшие все эти места), прошел через гирло[13] Дона и впервые вышел в открытое море.
Князь Михайло с капитанского мостика своей «Глории» впервые увидел пенные буруны морских волн, полной грудью вздохнул соленый морской воздух. К своему удивлению, он хорошо переносил морскую качку, хотя половина его команды позеленела, страдая от морской болезни.
Петр I в подзорную трубу насчитал на горизонте паруса не менее двадцати турецких судов.
— Что будем делать, Якоб? — обратился он к голландцу, капитану своей галеры «Принципиум».
Тот пожал плечами:
— Что делать, герр командор?! По всему видно, надвигается шторм, а у меня и так уже половина гребцов позеленели от легкой качки. Они ведь не матросы, а сухопутные солдаты. Вряд ли такие пойдут на абордаж, многие из них и плавать не умеют! Думаю, чтобы сохранить флот, надобно отвести его в устье Дона. А там мы дадим туркам добрый отпор пушками.
Петр оглядел свою свиту — все воины и впрямь были зелеными — и печально махнул рукой: сигналь отход!
Но, отступив, русские галеры прочно закупорили гирло Дона. А чтобы турецкие, суда не дай бог, по каким-либо ранним рукавам не прошли к Азову, по приказу царя дивизия Патрика Гордона соорудила на Дону два редута. Так что в нынешнюю осаду, в отличие от прошлогодней, Азов был обложен не с трех, а с четырех сторон. Гвардия и полки Гордона отрезали крепость и от ногайских степей, где летала татарская конница и откуда мог явиться турецкий десант.
* * *
Хотя царские галеры возвернулись в донское гирло, казачьи легкие челны под водительством донского атамана Фрола Минаева остались в море. Князь Михайло, которого Петр прикрепил связным офицером к атаману, с удивлением отметил, что морская качка на донцов не действует — зеленых среди них совсем не было.
— Мы ведь, господин офицер, на своих чайках через мертвое гирло и другие протоки частенько Азов и турецкие каланчи обходили. И ходили морем до Керчи, а там через пролив и в Черное море наведывались не раз. Эх и гуляли казаки! — Атаман махнул рукой.
— Приморские городки, чай, грабили? — насмешливо спросил Голицын.
— Ну зачем же, грабили?! — Атаман степенно погладил седеющую бороду. Было Минаеву уже за пятьдесят, и ходил он во многие походы, но все еще был крепок, а голос его гремел над морем, яко полковая труба. — Мы, барин, в городках тех добрых христиан из неволи освобождали! Ведь столько туда полоняников из Руси и Украины татарвой нагнано: видимо-невидимо! И самый ценный товар у басурман — наши полонянки. Да многие девчата и сейчас на невольничьем рынке в Кафе слезы льют. Вот и ударили мы однажды вместе с запорожцами на Кафу, пожгли рабский рынок, да и весь проклятый городок дотла спалили! — Отсветы того пожарища, казалось, заиграли в темных глазах атамана.
А на другое утро, воспользовавшись наступившим штилем и туманом, казачьи челны по приказу атамана атаковали ближайшие турецкие суда. Легкие казачьи чайки и впрямь скользили по морской воде бесшумно, как чайки в полете.
Турки на своих тяжелогруженых фелюгах и опомниться не успели, как казачьи челны сошлись с ними с обоих бортов, а казаки бросились на абордаж, забрасывая на турецкие суда канаты с кошками. И сами казаки, словно кошки, быстро лезли по этим канатам и сразу бросались в рукопашную схватку. По юношеской горячности и князь Михайло сам полез в абордажный бой — выстрелом из пистолета уложил здоровенного турка, и тут же над его головой сверкнул острый янычарский ятаган. И быть бы князю Михаиле без головы, коль не взлетела бы острая казацкая сабля.
— Ну, князь, ты и горяч! — рассмеялся атаман, опуская саблю. Фелюга была уже захвачена казаками.
— Я теперь твой должник, Фрол Минаев.
— Не должник, а крестник! — усмехнулся атаман, приказав трубачу: — Труби отход, а то сейчас и линейные турецкие корабли к нам подтянутся.
И действительно, громады многопушечных кораблей поднимали паруса. Но ветра не было — турки не могли преследовать, и казаки спокойно отошли на мелководье, захватив на абордаж шесть фелюг.
А к вечеру, когда подул ветер от берега, турецкая эскадра, обескураженная потерею своих легких судов, подняла паруса и растаяла в морской дымке. Азов лишился всякой подмоги с моря.
— Взято на абордаж шесть неприятельских судов, еще два сожжены! Турецкий флот ушел в море! — радостно докладывал тем же вечером князь Михайло царю.
— Ай да Фрол Минаев, ай да молодцы донцы! — восхитился Петр, узнав об этой первой морской виктории. Было, правда, несколько досадно, что воронежский флот не принял прямого участия в сей баталии. Но прав был и голландец-капитан. Мало построить галеры, надобно на них и добрые команды подобрать и обучить!
— Посему придется пока моих гвардейцев возвернуть на сушу! — приказал царь. — А ты, господин поручик, возвращайся к казакам и передай Минаеву, чтобы казачки смело; дуванили всю добычу. Заслужили они ее по праву в сем неравном бою! — Михайло уже обернулся, дабы идти выполнять приказ, когда царь вдруг добавил: — А от казаков возвращайся в свой Семеновский полк. Принимай роту. — И, посмотрев на растерявшегося Голицына, весело добавил: — Жалую тебя за морскую викторию капитаном!
Ночью Михайло сидел у разожженного казачьего костра на взморье, ел крепкую двойную уху, запивал терпким хиосским вином — целая бочка этого вина — трофей с турецкой фелюги — красовалась подле костра. Сидевший с ним атаман Минаев, подобрав под себя ноги на роскошном персидском ковре (тоже трофей), невозмутимо потягивал трубочку. По всему берегу неслась веселая казачья песня — донцы дуванили знатные трофеи.
Набегала на берег соленая морская волна, шел прилив, крутились в небе большие южные звезды, каждая величиной в налитой подсолнух, Михайло чувствовал всю силу и крепость своего молодого тела и думал, что на войне бывают не токмо крутые тяготы, но и свои радости.
На другой день Михайло дружески простился с атаманом, подарившим ему таки, яко трофей, подзорную турецкую трубу, и вернулся на «Глорию», чтобы забрать с собой солдат-семеновцев. Воронежцев — Митяя и его племяшей Фрола и Глеба — пришлось оставить на галере, куда прибыл уже новый экипаж из солдат поморов. Морская война на том пока прекратилась, но на суше надобно было еще, взять Азов.
* * *
Муртоза-паша с башни азовского замка с тревогой разглядывал в подзорную трубу русский лагерь. Всё творилось не так, как в прошлую осаду.
— Московиты, похоже, за один год научились воевать! — сердито бурчал за спиной Алхан-бей, доставивший в Азов последнее подкрепление в пятьсот янычар из Кафы. — Смотрите, они обложили нас с четырех сторон, а с моря отрезали наш флот своими галерами.
— Не беспокойтесь, Алхан-бей. Вы не были здесь в прошлый год и не знали, что гяуры беспечны, крепко спят после сытного обеда и пропускают оттого все наши вылазки. К тому же у них нет опытных инженеров я они не умеют вести подкопы и закладывать мины, — с видимой невозмутимостью ответил Муртоза-паша. А сам подумал: «Конечно, гяуров в атом году вдвое больше и у них есть флот, но и у нас, слава богу, ныне на правом берегу Дона стоит сам крымский хан со многой ордой, а его правая рука, калга-султан, переправился на левый берег и соединился уже с ногайцами. Так что русские окружили Азов, но и мы окружили их своей конницей. Аллах акбар! Мы победим!»
В русском войске, как и в прошлом году, по-прежнему не хватало опытных инженеров. Правда, прибыли нанятые за большие деньги искусные бомбардиры из Бранденбурга, но инженеры-фортификаторы и минеры, посланные из цесарского союзного войска, задержались в пути. А проводить без цесарцев минные подходы было себе в убыток — Петр хорошо помнил, как в прошлом году от взрыва мин в подкопах боле пострадало собственное войско, нежели неприятель.
Так что ничего не оставалось, как усердно бомбардировать Азов тяжелыми мортирами из апрошей. Но хотя и выжгли полгорода, турецкие больверки стояли твердо и господа генералы по-прежнему ничего не могли придумать. И вот тут-то к генералиссимусу Шеину заявились старые московские стрельцы и предложили насупротив турецкого вала насыпать свой вал выше турецкого и подвигаться вперед, навалом к турецким укреплениям.
Старики стрельцы явились к Шеину как к воеводе-боярину и напомнили, что еще воеводы царя Алексея Михайловича покоряли так польские города.
Петр сначала фыркнул по-кошачьи, когда Шеин сообщил ему о таком способе осады.
— Сие противно всей европейской науке, — восстали и генералы Лефорт и Региман.
Но Антоном Головин, набычив шею, вдруг согласился:
— А ведь верно, батюшка твой, царь Алексей, тем способом в войне с поляками многие города взял.
Головина неожиданно поддержал и такой опытный воин, как Патрик Гордон.
— Надобно занять делом шестьдесят тысяч солдат! — заявил Гордон. — В моей дивизии, когда солдаты строили редуты на Дону, все были при деле. А сейчас все — и солдаты и офицеры — знай с утра водку пьют, благо маркитанток на сей раз целый обоз.
И Петр согласился:
— Быть посему! Коль союзнички-цесарцы где-то по дороге застряли, воевать будем древним обычаем — насыпать вал! А баб-маркитанток, господин генералиссимус и господа генералы, гнать в шею из лагеря! — И обведя совет сердитым взором, добавил: — Сам сие проверю!
На другой день приступили к тяжелой работе: под турецкими пушками стали насыпать свой вал и продвигать его к турецким укреплениям. Шестьдесят тысяч солдат и приведенных Лизогубом украинских казаков трудились денно и нощно целый месяц и в начале июля подвели вал к крайнему речному болверку.
— Они трудятся как муравьи, и их вал уже выше нашего. Оттуда их стрелки бьют на выбор моих солдат. Теперь у нас одна надежда на крымского хана, калгу-султана и их конницу. Вы должны перебраться по Дону в лагерь хана Девлет-Гирея и передать татарам, дабы не занимались пустыми разъездами, а напали на русских всей ордой. Ведь у хана 50 тысяч конников, а у калги-султана на правом берегу еще 20 тысяч ногайцев. Передайте хану, если он не придет на выручку, Азов падет! — напутствовал Муртоза-паша десять своих лучших лазутчиков. Восемь из них были перехвачены русскими, но двое, все время ныряя в воду, в ночной тьме проплыли мимо русских галер и принесли вести из Азова хану.
Конница Девлет-Гирея придвинулась после того к Дону, а ногайцы с востока стали лихо наезжать на дворянское ополчение. Схватки пошли в открытом поле, чуть ли не у стен Азова.
В это время явившиеся наконец в русский лагерь инженеры-цесарцы заложили два подкопа под укрепления турок. Но прежде чем взорвались мины, казаки Лизогуба с высоты русского вала перестреляли бомбардиров на речном болверке, а затем посыпались на него сверху как горох. Угловой болверк был взят за полчаса, все турецкие на нем орудия захвачены. Муртоза-паша бросил выбить гяуров янычар Алхан-бея. Отчаянно визжа и размахивая острыми ятаганами, янычары взошли на болверк; казаки отступили, но увезли с собой все пушки и с верху своего вала продолжали поражать янычар. К вечеру Муртозе-паше стало ясно, что удерживать речной болверк боле невозможно. А на рассвете 18 июля удачно взорвались две заложенные цесарцами мины и обрушился центральный турецкий вал. Муртозе-паше стало ясно, что сейчас последует штурм, а затем гяуры ворвутся в город и начнется резня. А в ней погибнет и весь гарем паши, в том числе и любимая молоденькая жена Альфия. Но царь Петр оказался милосерден. Прежде штурма явились офицеры-парламентеры и перебросили через пролом письмо генералиссимуса Шеина, предлагавшего почетную капитуляцию. Весь гарнизон Азова Шеин, обещал отпустить с почетом, с сохранением личного оружия, а также с женами и детьми.
— Принять ли мне мир от гяуров? — Муртоза-паша собрал своих старших беев на смотровой башне замка. По Всему было видно, что старый паша согласен принять царские условия. Но Алхан-бей с окровавленной повязкой на голове — вчерашний след казачьей сабли — показал на ногайскую степь, откуда поднималось облако пыли:
— Глядите, калга-султан ведет нам на выручку всю ногайскую орду. Неужели МЫ сдадим крепость гяурам, не дождавшись исхода степной битвы?
До Петра I тоже долетела весть, что татары смели дворянскую конницу и мчатся на русские обозы. Вести привез сам глава дворянского ополчения князь Оболенский. Железный шлем-шишак у воеводы был сбит, щека рассечена, он не говорил, а хрипел:
— Государь, нужна подмога! Татарва прет — видимо-невидимо. Сняли передовые караулы, идут прямо на лагерь.
— Дворяне, мать вашу так! — озлобился Петр. — Легкоконных татар испугались! — И обернулся к Головину: — Что стоишь, глаза таращишь, выводи гвардию, спасай обоз!
Преображенцы и семеновцы успели встать перед ободом по воинскому регламенту в шестишереночный строй. Сонных ополченцев, уходящих от погони, пропустили в обоз, а затем сомкнули ряды. И завывающую орду встретили шестью залпами в упор. Передовые ордынцы попадали вместе с лошадьми, свалился с лошади и калга-султан, сам ведший орду в атаку. Молодой татарин-батыр быстро соскочил с коня, посадил на него калгу-султана. Затем повернулся к русским, натянул лук. Звонкая стрела впилась в ногу князю Михаиле, когда он повернулся к строю своей роты и махнул шпагой, призывая солдат к атаке.
Михайло даже не понял сгоряча, что ранен, и шагнул вперед. Тут острая стрела под ботфортом обломилась, и ногу охватила нестерпимая боль. Стрела попала в пятку.
— Русские отбили орду ногайцев… — Муртоза-паша передал подзорную трубу горячему Алхан-бею.
— Но может быть, на выручку ногайцам придет еще Девлет-Гирей! — сомневался Алхан.
— Гляди зорче, Алхан-бей! Крымская орда повернула от Дона в степь! — Муртоза-паша показал на удаляющееся пыльное облако.
И в самом деле, Девлет-Гирей, который с речного откоса тоже наблюдал, что творилось у Азова, сердито бросил своей свите: «Калга-султан московитами отбит, а галеры гяуров снимаются с якоря. Придется и нам уходить в степь. Не можем же мы атаковать русские галеры на Дону в конном строю!»
И крымская пятидесятитысячная орда ушла от Дона.
— Все мы брошены! — рассердился Муртоза-паша. — Но мы честно бились с гяурами и выполнили свой долг! Надобно упредить неизбежный и успешный штурм русских — поднять белый флаг! А ты, Алхан-бей, сам пойдешь к московитам и останешься там заложником. Царские условия для нас, впрочем, почетные. Ведь у нас лет боле даже свинца для отливки пуль. Ведь ты, Алхан-бей, стрелял в последней атаке в неприятеля пулями, отлитыми из переплавленных золотых и серебряных монет. Сражаться нам боле нечем. Я сдаю крепость!
Явившиеся в русский лагерь турецкие парламентеры упрямились только по одному пункту — выдаче изменника Якова Янсена. Особливо противился муфтий — ведь Янсен недавно принял магометанство!
— Янсен для меня не честный слуга Аллаха, а чистый предатель. Предателю же нет веры! — твердо заявил царь.
И Муртоза-паша отдал царю Янсена. На другой день русские вступили в Азов, где турки оставили всю артиллерию.
Турецкий же гарнизон, вместе с женами и детьми, был усажен на галеры и казачьи челны, которые и высадили его на ногайский берег, откуда их забрали турецкие суда.
В русском лагере пировали. А в палатке Михайлы князь Дмитрий у изголовья брата, Метавшегося в бреду, прикладывал ему к голове мокрое полотенце. Впрочем, вспомнили Михаилу и в царской ставке, где сам Петр выпил за Михаилу Голицына как за русского Ахиллеса, уязвленного стрелой. Царь хорошо знал греческую мифологию.
Однако, в отличие от Ахиллеса, князь Михайло не погиб от острой стрелы. Он скоро очнулся, жар спал, и только пята нестерпимо болела.
— Сейчас мы сделаем небольшую операцию, молодой человек, а чтобы не ощущать боли, выпейте-ка две чарки перцовки, легче будет! — посоветовал лекарь, толстый рыжий немец. Царь прислал к князю Михаиле своего личного медика Блюментроста-старшего.
Ничего не скажешь, у Блюментроста были крепкие сильные руки — он сумел извлечь наконечник стрелы полностью, сделав на пятке глубокий надрез.
— Ну вот, капитан, антонов огонь ногу не поразил, а я хорошо промыл рану спиртом! — с видимым удовольствием заключил лекарь.
— В строю-то я останусь? — жалобно вопросил Михайло, боле всего озабоченный тем, что настал конец воинской службе.
— Останешься, непременно останешься! — пробасил кто-то у изголовья. Михайло поднял голову и охнул: сам царь!
Петр I уже тогда почитал себя не только добрым плотником, но и недурным медикусом, хотя еще и не взял уроки медицины у знатного хирурга Рюйша. Впрочем, он часто бывал на операциях Блюментроста.
— Даже если будешь хромать, капитан, в строю я тебя все равно оставлю, мне такие храбрецы нужны! — С этим напутствием царь вышел из палатки.
Князь Дмитрий вскоре после этого перевез брата в Черкасск. Принял Михайлу на широком подворье его новоявленный крестный отец, атаман Фрол Минаев, и разместил в гостевом доме, где принимал обычно царских посланцев.
Рана в поездке нагноилась, у Михайлы опять начался сильный жар, а Блюментрост между тем уехал вместе с царским обозом. Полки в августе-сентябре расходились из-под Азова, в котором был оставлен сильный гарнизон. Должен был уйти со своим Преображенским полком и брат Дмитрий. Он, может быть, и остался бы, да ведь в Москве ждала жена, Анна Яковлевна Одоевская, с годовалым сынком.
— Да ты не волнуйся, княже, за Михайлу. Я скажу Марьяне, она с хутора лучшую нашу знахарку, бабку Лукерью, привезет, та целебными травами в одночасье твоего брата на ноги поставит! — успокоил князя Дмитрия атаман, когда тот прощался с братом.
И в самом деле, бабка Лукерья оказалась чудесницей. Приложенные травы вытянули весь гной из раны, и скоро Михайло стал ходить с палкой сперва по комнатам, а затем и по двору.
Ухаживала за ним Марьяна, старшая дочь атамана — чернобровая статная красавица. Марьяна была вдовицей — муж погиб еще в прошлогоднюю осаду Азова, когда казаки штурмовали каланчи.
И случилось то, что и должно было случиться, — Марьяна осталась однажды у молоденького княжича (ему только 21 годок стукнул) на целую ночь.
У Михайлы еще в Белгородском имелась сенная девушка, но разве сравнить было ту подневольную любовь с ласками жаркой казачки. Когда Михайло стал ходить без палки и мог лихо садиться в седло, Марьянка брала отцовских скакунов и они вдвоем уносились из Черкасска в поля и осенние разноцветные рощи.
Атаман видел их любовь, но помалкивал: казачьи вдовы — женщины вольные. Таков был обычай — ведь казаков часто косила смерть в самом молодом возрасте и вдовиц в станицах было достаточно.
Живя в Черкесске, Михайло оглядывался с любопытством — казачья станица не деревня с крепостными. Все здесь были вольными людьми, а вольная жизнь распрямляет человека.
Казаки не снимали шапку и перед атаманом, говорили с ним смело, а на кругу сообща решали все дела. Правда, скоро Михайло увидел, что, хотя на круг волен был приходить каждый казак, серьезные дела все же обговаривали заранее самые домовитые казаки, собиравшиеся обычно перед кругом в избе у атамана. Голытьба же токмо шумела на круге и слушалась атамана и домовитых казаков.
Вольная жизнь Михайлы продолжалась недолго. Как-то в ноябре к атаману приехал ближний царев боярин, князь Яков Федорович Долгорукий, назначенный Петром I оборонять отвоеванное побережье Азовского моря и строить порт и крепость в Троицком, наименованную впоследствии Таганрогом.
Он увидел, как князь Михайло ловко соскочил с коня и, слегка прихрамывая, повел скакуна в конюшню.
— Постой-ка, княже! — добродушно буркнул Долгорукий. — Да ты, я вижу, совсем в добром здравии пребываешь. А мне о тебе сам государь писал, справлялся, как там наш Ахиллес, выздоровел ли? Вот и отпишу ему, что Михайло Голицын вернуться в строй годен и можно определить оного князя в Троицкое, а то у меня добрых офицеров совсем не осталось.
«Вернуться в строй годен!» — это Михайлу прельщало сильнее всего, столь сильна была в нем армейская закваска. И скоро Михайло стал прямым помощником Якова Долгорукого и в охране азовского побережья, и в строительстве таганрогского порта и фортеции.
Марьянка же при прощании обещала навестить его в Троицком, благо путь туда из Черкасска был короток. Поцеловал он ее на прощание жарко в губы.
Но в Троицкое, царскую фортецию, вольная казачка так и не приехала.
Поездка на Мальту
Борис Петрович Шереметев ехал в 1697 году за границу наособицу от других царедворцев, взятых Петром I в Великое посольство. Послан был боярин царем в Италию и на Мальту не учиться корабельному делу, а с поручением тонким и деликатным: явиться в Риме к самому Римскому Папе, а из Рима отправиться на Мальту, представиться великому гроссмейстеру Мальтийского рыцарского ордена и побудить славных мальтийских рыцарей с еще большей силой и славой биться на Средиземном море.
Само собой, посольским приказом был дан боярину и тайный наказ — определить силы мальтийцев, и особливо выучку и боеспособность мальтийского флота. В Москве, конечно, знали, что Мальта в составе Священной лиги тоже воюет с султаном и его вассалами: алжирским беем и правителем Туниса, но представления о силах рыцарского ордена и численности его флота были самые туманные, поскольку еще ни один русский посланец не заглядывал пока на далекий остров. Боярин должен был развеять сей туман и завязать с орденом прямые отношения. С Римским Папой тоже надобно было говорить о союзе, но о союзе духовном, супротив басурманской веры.
Помимо этих явных и тайных поручений у Петра имелась, по-видимому, и еще одна причина отправить боярина в дальний вояж. Об этом прямо доносил в Вену имперский посланец в Москве Иоганн Корб. Пронырливый австриец дознался, что когда Петр I перед своим отъездом в марте 1697 года в европейские страны вопросил в Думе бояр, на кого оставить Москву, то один из бояр, глава Аптекарского приказа князь Яков Одоевский, ответил честно и прямо: «Ежели на кого Москву, царь, и оставить, то токмо на такого великого воина и знатного боярина, как Борис Петрович Шереметев». Сие вызвало у царя нежданный гнев, и Петр даже закричал: «Так, значит, и ты с ними?!» Остальные бояре молчали в великом страхе, потому как ведали, что когда царь кричит «с ними», он указывает на только что казненных заговорщиков «Цыклера сотоварищи».
Петру крепко запало в память, что на дыбе полковник Цыклер выдал самое потаенное: после убийства Петра посадить на царский трон Шереметева уже за то, что его стрельцы и все войско любят боле всех бояр!
И хотя Борис Петрович о заговоре Цыклера и во сне не ведал, а сидел мирно и тихо в Белгороде, оберегая южные рубежи, уже одно присутствие невольного претендента на трон показалось опасным, и было решено отправить Шереметева, от греха подальше, на далекую Мальту.
Править же Москвой по своем отъезде Петр, поручил триумвирату: своему родному дяде Льву Кирилловичу Нарышкину, тихому боярину Стрешневу и грозному князю-кесарю Федору Юрьевичу Ромодановскому.
Получив царское повеление, Борис Петрович неспешно стал собираться в дальнюю дорогу. Прежде всего дал распоряжение приказчикам своих богатых вотчин выслать ему на дорогу 25 тысяч рублей — в путь боярин отправлялся на собственный кошт! Правда, из Посольского приказа Шереметеву выдали богатые подарки — меха соболиные и горностаевые — для вручения оных новому королю Речи Посполитой Августу, императору Леопольду и Римскому Папе Иннокентию — аудиенции у всех этих знатных боярин должен был получить по пути на Мальту.
С большим разбором боярин подобрал себе свиту: помимо нескольких дворян взял тридцать холопов, один из которых, Алексей Курбатов, по своей учености не уступал дьякам Посольского приказа: писал по-латыни, ведал польский, немецкий и итальянский языки. Курбатова Борис Петрович и определил в секретари своего небольшого посольства.
С не меньшим тщанием, чем людей, Борис Петрович, завзятый конник, отобрал добрых верховых и дорожных лошадей, позаботился о починке венской кареты, приобретенной еще во время своего первого посольства к королю Яну Собесскому и императорскому двору в Вену десять лет назад.
И только в конце июня 1697 года боярский поезд неспешно тронулся из Москвы. Первая остановка была в Коломенской, что в семи верстах от Москвы. Здесь стояли три дня, поджидали телеги с царскими дарами для монархов, которых должен был посетить боярин. Сюда же прибыл и стольник Дмитрий Голицын, направлявшийся на учебу в Венецию. Ехать решили вместе. Борис Петрович был рад попутчику. Князь Дмитрий Михайлович был старинного рода, учтив, обходителен и набожен.
Хотя стольнику стукнуло тридцать два года и был он женат и имел двух сыновей, но в Венецию отправился не по царскому принуждению, а своей волей: посмотреть далекие страны, приобрести новые знания.
Их отцы, Шереметев Петр Васильевич Большой и курский воевода Михайло Голицын, вместе служили когда-то на южных рубежах, вместе ходили в Чигиринские походы, так что сынам было о чем поговорить и что вспомнить в дороге.
До польского рубежа ехали с приятством: часто останавливались, разбивали шатры, ходили даже на охоту, в Киеве посетили все святые места. Борис Петрович охотно показывал город своей молодости спутнику, а Дмитрий Михайлович внимательно слушал своего старшего попутчика, запоминал, предчувствовал, что в скором времени по царской воле осесть ему почти на целых двадцать лет киевским генерал-губернатором. Но по выезде из Киева и пересечении польского рубежа приятное путешествие обернулось опасной дорогой. В Речи Посполитой все еще царила смута, связанная с только что минувшим бескоролевьем, когда на польский престол явились два претендента: кюрфюрст Саксонии Август и французский принц Конти.
В конце концов Август явился в Польшу с двадцатитысячным войском и силой сел на королевский престол при поддержке Австрии и России. «Петр Алексеевич в сикурс оному Августу собрал на польском рубеже целое войско, понеже Август все еще сидит на троне не прочно и по всей Речи Посполитой шляются еще отряды сторонников французского принца! — задумчиво говорил боярин. — Посему, Дмитрий Михайлович, дабы нас не схватили конфедераты, поедем дале инкогнито. Я назовусь ротмистром Романом, а ты станешь капитаном Стасом. При случае скажем, что возвращаемся, мол, мы со своим отрядом с турецкого рубежа в Краков».
На том путники и порешили. Слуг переодели в закупленное еще в Киеве польское платье, да и сами вырядились знатными панами. Так инкогнито и сумели добраться до Львова, где, по слухам, власть попеременно держали то сторонники Августа Саксонского, то приверженцы партии принца Конти. Прежде чем въехать в город, остановились в пригороде Подзамче на широком подворье «Конь». Конная ярмарка уже отшумела, и широкое подворье пустовало. Борис Петрович останавливался здесь еще десять лет назад, когда ездил с посольством к королю Яну Собесскому. Хозяин, толстый, приземистый, багроволицый пан Бутята с седыми висками, сразу узнал своего давнего щедрого постояльца и принял московитов радушно: боярину и князю отвели лучшие горницы, челядь разместили в мазанках, лошадям в конюшне дали отборное зерно.
Хозяин накрыл Шереметеву и Голицыну ужин в отдельной столовой зале, челядь же кормили в корчме. До этого на всех постоялых дворах боярин соблюдал инкогнито: ел наравне со своими гайдуками, что ему изрядно надоело. Перед старинным знакомцем Бутятой Шереметеву нечего было скрывать свое боярское звание, да и расспросить его следовало по-тихому: какая же нынче власть в граде Львове — саксонская или французская?
— Вчера еще стоял в городе коронный гетман Любомирский со своим войском. А всем ведомо, что пан гетман держит сторону французского принца. Но на рассвете поднялась великая стрельба, и в город вошли саксы. Ждем их и здесь, в Подзамче. Я уже приказал укрыть в погребе бочонки доброго токая — известно, что саксы, как их король Август, отменные выпивохи… — охотно сообщил новости словоохотливый хозяин, сам ухаживавший за дорогими — гостями.
— Да вам-то, ваша светлость, нечего бояться саксов, ведь царь Петр протянул руку помощи саксонцу, — успокаивал пан Бутята усталых путников, налегавших на Львовские рубцы и колбасы.
Но в это время в коридоре прозвучала твердая немецкая речь, зазвенели шпоры — и на пороге вырос саксонский ротмистр и его вахмистр.
— О-го-го, Иоганн, да здесь накрыт отменный стол, а эти знатные поляки не иначе как из свиты гетмана Любомирского! Посмотрим, что за птахи попали к нам руки! — грозно бросил ротмистр вахмистру, и по знаку последнего десяток саксонских рейтар с пистолями в руках ввалились в комнату. Шереметев даже не успел позвать своих челядинцев, как его и Голицына поставили к стенке, а за их столом воссел ротмистр-саксонец, вожделенно поглядывая на жареного гуся с яблоками.
— Кто такие? — строго вопросил саксонец, кладя на тарелку фаршированную гусиную шейку.
— Ротмистр Роман с командой, еду с турецкой границы! — по-польски ответил Борис Петрович.
— Ах, ты ротмистр, — благодушествовал саксонец, похрустывая жареной гусиной корочкой. — И кому ты присягнул, ротмистр: моему королю Августу или этому французику Конти?
Борис Петрович растерянно молчал.
— А, молчишь! Значит, присягнул французу, продал моего короля и Польшу, и тебя потребно расстрелять!
В это время в столовую вихрем ворвался молоденький корнет и, захлебываясь, отрапортовал ротмистру:
— Там, во дворе, мои рейтары откинули рогожи с телег, а там богатейшие собольи меха на многие тысячи!
— Откуда соболя? — с прежней суровостью спросил ротмистр.
— Соболя и горностаи, герр ротмистр, из Москвы. То царский презент для вашего короля Августа! — выступил вперед князь Дмитрий, понимая, что им уже никак не скрыть инкогнито.
— Так вы что, московиты? — сердито передернулся ротмистр. Он даже вскочил, услышав о соболях.
— Я посланец его величества царя Петра Алексеевича к вашему государю. А меха те потребно доставить в королевский замок в Краков! — важно выступил вперед Борис Петрович.
— Да какой же ты царский посланец, ежели ты только что назвался польским воякой? — презрительно бросил ротмистр. — Тебя не в королевский замок надо вести, а в городскую темницу. Меха же я конфискую в пользу моего короля Августа. Думаю, получу за это поистине королевскую награду. Всем известно, как щедр мой государь.
— В тюрьму-то этих бездельников вести поздненько, герр ротмистр! Еще убегут по дороге! — вмешался вахмистр, которому совсем не улыбалось тащить под конвоем пленных в такую темень, когда можно было так славно закусить и выпить в корчме на подворье. — Может, засадим их в крепкий подвал, а утром отведем к господину полковнику, там и разберемся.
— Оно и правда, утро вечера мудренее! — неожиданно согласился ротмистр.
— Хозяин, есть ли у тебя крепкий подвал? — грозно обратился он к пану Бутяте.
— Как не быть! — обрадовался тот за судьбу своих постояльцев. — Я сам покажу вам тот погреб!
— Вот и хорошо! Корнет, засади-ка пленных в подвал, да не забудь запереть их на крепкий замок. А я пойду взгляну, что там за диковинные меха в коробах на телегах. — И ротмистр поспешил во двор.
— Вот что, Бутята, Богом тебя молю, скачи во Львов на Арсенальную улицу в дом к пани Кристине Замойской. Расскажи ей о нежданном аресте. Верю, она выручит! — успел шепнуть Борис Петрович хозяину по дороге в подвал.
Догадливый хозяин послушно склонил голову.
— Как?! Мой великолепный боярин попал в руки негодников саксов! — вознегодовала знатная пани, узнав об аресте Шереметева. За десять лет, минувших с последней встречи с молодым послом, Кристина из юной девушки превратилась в великолепную пани. Когда вдовая королева Собесская покинула Польшу и отправилась в Рим, Кристиночка не последовала за своей повелительницей, а предпочла вплыть в тихую пристань, выйдя замуж за старого и богатого пана.
С Борисом Петровичем она не виделась, но когда узнала, что ее московит берет турецкие крепости на Днепре, при первом же случае поздравила победителя Кази-Керменя, послав ему весточку через королевского гонца.
— Утром еду к камергеру круля Августа. Я еще и по Дрездену знаю этого вертопраха фон Витцума и сегодня же освобожу моего рыцаря из темницы! Так и передай ему! — успокоила она пана Бутяту.
И действительно, утром пани Кристина Замойская разбудила королевского камергера, прибывшего принимать ключи от фортеции Львов.
— Как?! Нашими рейтарами арестован русский посол?! Какой скандал! Ведь царь Петр так помог моему королю, выставив двадцатитысячное войско в его поддержку. Спасибо, пани Кристина, что сообщили мне об аресте, от имени короля Августа — спасибо! Сейчас же лечу с эскортом в Подзамче!
— Не забудьте, окромя боярина, заточенного в подвале с одним князем, на подворье стоят телеги, в коробах которых соболей и горностаев на многие тысячи! — насмешливо заметила Кристина, наблюдая за суетливым фон Витцумом.
— О, мой король отблагодарит вас, пани Кристина! Вы выберете лучший мех из царского презента! — Фон Витцум уже звонил в колокольчик, вызывая дворецкого.
— Мне не нужны меха, дорогой фон Витцум! Верните мне моего рыцаря, взявшего неприступный Кази-Кермень! — молвила знатная пани, тревожно думая, не слишком ли постарел ее рыцарь за минувшие десять лет.
Через час королевский камергер влетел на скромное подворье Бутяты в роскошной карете, сопровождаемый эскортом гусар.
— Ваша ясновельможная светлость! Простите наших глупых рейтар! Что можно взять с вояк-грубиянов, — золоченой пчелой вился камергер вокруг дородного боярина, с трудом вылезавшего из подвала. Дело в том, что Борис Петрович обнаружил в своей темнице бочки того самого доброго токая, о которых говорил хозяин. В одной из бочек был краник, и оттуда текло ароматное вино. Не только Борис Петрович, но и водкобоязливый князь Дмитрий, запертые в темнице, успели за ночь изрядно приложиться и, к удивлению фон Витцума, совсем не казались расстроенными своим арестом.
«Настоящий дипломат: и виду не показывает своего недовольства!» — с уважением подумал фон Витцум о русском боярине и тут же сообщил Борису Петровичу, что его повелитель рад будет видеть полководца, взявшего Кази-Кермень, в своем краковском замке. Борис Петрович с благодарностью склонил голову — он беспокоился только о встрече со своей спасительницей Кристиночкой и о царских мехах.
Свидание Бориса Петровича с прекрасной пани Кристиной состоялось в тот же день.
В удобной венской коляске, предоставленной все тем же неугомонным фон Витцумом, Шереметев подкатил к особняку на Арсенальной и велел вышедшему дворецкому доложить о себе пани. Однако вместо Кристиночки вышел толстый и важный пан с седыми усами, сам гетман Замойский.
— Я все уже знаю о вас от своей жены, пан воевода. Какое безобразие! Эти проклятые саксы ведут себя в Речи Посполитой словно они у себя дома в Саксонии!
По словам Замойского Борис Петрович сразу заключил, что все симпатии гетмана на стороне французской партии, и решил вести себя осторожно с этим старым лисом.
— Как жаль, что царь Петр поддержал дебошана Августа. Поверьте моему опыту, этот круль принесет еще много горя Польше и России. Ведь и он, и его советник, попрыгун Витцум, оба они без царя в голове! — болтал старый пан.
— Ну, зачем же ты так резко, Ян, говоришь об этом весельчаке фон Витцуме. Ведь он, в конце концов, сразу освободил по моей просьбе нашего московского гостя. — Пани Кристина появилась в дверях во всем парижском блеске: в цветном шелковом платье, высоком парике, с кокетливой мушкой на щедро нарумяненном лице.
«Да, это совсем не та Кристиночка, которую десять лет назад я навещал по ночам…» — подумал Борис Петрович, склоняясь и целуя белоснежную руку знатной пани. Только вот глаза, карие, смеющиеся глаза блестели по-прежнему весело и озорно.
За столом, накрытым в зальчике, отделанном по самой последней моде (пани Кристина через принца Конти была принята ко двору самого Людовика XIV и нагляделась на версальские покои и обычаи), речь шла о войне с турком. Борис Петрович в какой раз повторял свой рассказ о взятии Кази-Керменя, а старый пан вспоминал, как он бился в рядах золотых гусар Собесского под Веной.
— Да, король Ян был великий полководец! После виктории под Веной турки уже не страшны Европе! — заключил Замойский свои воспоминания.
— К тому же он был и великим государственным мужем. Я ведь вел с ним переговоры о вечном мире между Россией и Польшей и ведаю мудрость этого государя, — поддержал Шереметев.
— Но, поверьте, панство никогда не согласится с передачей Киева московитам, — вспыхнул вдруг Замойский, по всему видно хорошо осведомленный о тех переговорах и о роли Шереметева при ратификации вечного мира.
— Московия нынче именуется Россия, и Россия никогда не возвернет вам Киев, — спокойно ответил Борис Петрович горячему пану. А про себя подумал, как хорошо, что ныне на троне сидит круль Август, а не французский принц, который сразу окружил бы себя такими горячими панами, как Замойский, а через год-другой, заключив мир с султаном, всенепременно начал бы войну с Россией за Киев.
Словно догадавшись о мыслях гостя, пани Кристина снисходительно улыбнулась:
— Не обращайте внимания на шумные слова моего мужа, пан воевода. Он, как и все панство, только шумит, а не воюет. Скажите лучше, вы ведь едете сейчас в Краков к королю Августу, а оттуда в Вену к императору и дале в Рим к самому Папе? — И когда Шереметев согласно склонил голову, добавила: — Мне не надо от вас никакой благодарности, боярин, за ваше вызволение, расскажите только королю Августу, что мы, Замойские, теперь с ним.
А прощаясь, туманно молвила:
— Что поделаешь, мой рыцарь, король Август — пока наше настоящее, но надолго ли продлится это пока?!
«А шейка-то у Кристиночки ныне полновата…» — отметил Борис Петрович, когда, подарив таки хозяйке королевского горностая, набросил ей на плечи дорогой мех.
Снова этот мех пани Кристина примеряла уже в своем будуаре и усмехалась: «У моего рыцаря хороший вкус — ведь горностай — знак власти. И, по правде, власть ныне для меня дороже всех амуров. Хотя, признаться, боярин и сейчас мужчина в полном соку!»
С тем они и расстались, чтобы не видеться еще десять лет.
* * *
По дороге в Краков Шереметев и Голицын сидели в королевской многоместной карете вместе с фон Витцумом, который был сама любезность, стараясь, чтобы знатные московиты забыли о злосчастном происшествии в Подзамче. Впрочем, русские о том и не напоминали, да и забавно им было слушать трескотню легковесного камергера, мысли которого так и порхали с одного предмета на другой. Но с особливой охотой камергер повествовал о своем государе.
— О! Король Август недаром слывет в народе силачом. Он легко сгибает и разгибает серебряное блюдо.
— Говорят, он может одолеть за один присест целый бочонок ренского? — не без ехидства спросил князь Дмитрий.
— Пожалуй! — согласился фон Витцум. — Но наш король отважен не только за столом и в постели, но и на поле битвы. Еще кюрфюрстом, когда он командовал саксонскими гренадерами в имперских войсках, то славно побил турок в Семиградье.
— Даже в Москве ведомо, что саксонская пехота лучшая в Европе, кроме шведской… — любезно согласился Борте Петрович.
— Ха, шведы! Дай срок, и они побегут перед нашим королем и его храбрыми саксонцами! — вырвалось вдруг у фон Витцума.
Князь Дмитрий внимательно посмотрел на камергера, и тот завертел головой, понимая, что проговорился о чем-то важном.
— Наслышаны мы в Москве и об амурных подвигах саксонского героя! — выручил фон Витцума Борис Петрович.
— О, в любовных баталиях мой государь превзошел самого Геркулеса! Уж кто-кто, а я об этом лучше всех знаю, — развеселился фон Витцум, — при всех дворах ведомо, что у короля было уже пятьсот метресок, и с каждой он приказывал писать портрет. В Цвингере у него настоящая галерея красавиц. Будете в Дрездене, я сам покажу вам этот тайник.
— А по дорогам Европы шляются уже пятьсот бастардов, незаконных сыновей Августа! — на ухо шепнул Голицину Борис Петрович.
— Что ж, польский трон надолго обеспечен претендентами! — рассмеялся князь Дмитрий.
* * *
Король Август принял Бориса Петровича на другой же день после приезда последнего в Краков. На аудиенцию к королю в Вавель боярин взял и Голицына, и князь Дмитрий убедился, что Август и впрямь столь статен и представителен, как описывал его фон Витцум. Король был почти на голову выше Шереметева, хотя и того Бог не обидел ростом.
После первых же приветствий Август увлек Бориса Петровича в свой кабинет для приватной беседы, оставив фон Витцума занимать Голицына.
— Вы не поверите, как я рад видеть посланца великого царя! — Август начал разговор самым дружеским образом. — Взятие Азова — великая виктория царя Петра, а штурм Кази-Керменя — ваша личная виктория, пан воевода! — Август легко перескакивал с немецкого на польский. Вообще, как отметил Борис Петрович, король так же перескакивал и с одной мысли на другую.
— И благодаря викториям союзников война с турками затухает, мой друг, — трещал Август. — Имперцы ныне овладели всей Венгрией и перешли Дунай, поляки вернули Подолию, а вы твердой ногой стали у Азовского моря. Однако что это дает Москве? Ведь чтобы пробиться дале к Черному морю, надобно занять Керчь или Очаков, а чтобы выйти в Средиземноморье — взять Константинополь и проливы Босфор и Дарданеллы. Сие вряд ли возможно даже великому Петру. Турок еще очень силен, не так ли?
Борис Петрович согласно наклонил голову. Кто-кто, а уж он-то хорошо помнил, как отчаянно защищаются турецкие янычары, а меж тем московское дворянское ополчение не смогло справиться даже с легкоконными татарами.
Король обрадовался согласному кивку и продолжал разговор с возрастающим напором, подведя Бориса Петровича к висевшей на стене карте Европы.
— Взгляните, мой друг, вот Ингрия и Корела[14], ваши старинные владения. Возвернув их от шведов, царь сразу получает выход на Балтику, выход в Европу, к чему он так стремится.
— Но шведы, чаю, никогда по доброй воле не вернут нам эти земли, утвержденные за ними Столбовским миром.
— Э, пан воевода, ведь вам ведомо, что Столбовский мир был навязан России после великой смуты еще королем Густавом Адольфом. Теперь же в Швеции нет такого великого воина, как Густав Адольф, король Карл XI тяжело болен, а его сын совсем мальчонка. Поверьте, если сейчас потрясти «шведское дерево», целые наворованные провинции посыплются с него, как опавшие листья. Вы будете трясти с востока, а я со своими саксонцами и поляками и король Дании примемся трясти это дерево с запада! Так и передайте об этом своему государю. Впрочем, я думаю, царь Петр на обратном пути из Голландии и сам посетит Польшу.
После сей приватной беседы Борис Петрович понял, что напрасно будет уговаривать короля Августа и его министров и дале крепко воевать с турками. Времена Яна Собесского для Речи Посполитой миновали.
Оставалось посмотреть, не затихает ли война с турками и в имперской Вене.
* * *
Из Кракова до Вены ехали по знакомой для Бориса Петровича по прежнему посольству, 1687 года, наезженной дороге, переложив дорогие меха в тяжелые немецкие фуры. Если для Шереметева путь был уже известен, то князь Дмитрий после деревянных российских избушек взирал на все с большим любопытством. Начиналась Европа, хотя вокруг по-прежнему звучала славянская — польская и чешская — речь, многие слова в которой были понятны и без переводчика.
Внешне в Вене царского посланца приняли с той же предупредительностью, что и в Кракове, хотя имперский двор отличался куда большей церемонностью, чем веселое окружение короля Августа. Поскольку посольство Шереметева было приватным, в большой аудиенции боярину отказали, и император принял его частным образом.
За десять лет, прошедших со времени прошлого посольства, император Леопольд I показался Борису Петровичу постаревшим и изрядно одряхлевшим: тяжелая габсбургская губа отвисала еще больше, левая рука заметно тряслась: сейчас император Леопольд ничем не напоминал того бравого воина, который вместе с Яном Собесским разбил когда-то под Веной двухсоттысячную турецкую орду.
Но речь императора стала теперь спесивой и гордой: но всему чувствовалось, что он уже не нуждается в русской помощи, как десять лет назад. Благодаря славным викториям принца Евгения Савойского, имперские войска заняли уже всю Венгрию, Трансильванию и перешли за Дунай, в Сербию. Теперь можно было заключать выгодный мир с турком, о чем уже велись тайные переговоры через английского посла в Стамбуле. Но московитам до поры до времени можно было об этом не говорить. В интересах Габсбургов было, чтобы Москва и дале продолжала войну с турками, отвлекая внимание султана от европейских дел. Ведь вот-вот мог умереть испанский король, бездетный Карл Габсбург, а Леопольду очень хотелось усадить на испанский трон своего младшего брата и захватить владения в Италии и Фландрии. Но того же хотел и французский король Людовик XIV, мечтавший видеть на троне в Мадриде Филиппа Бурбона. И хотя с Францией только что был заключен мир в Рисвике, все европейские политики понимали, что этот мир был всего лишь кратким перемирием, за которым могла начаться великая война за Испанское наследство. А московиты пусть и дале воюют с турками!
Поэтому император Леопольд охотно говорил с Шереметевым о покорении Азова и днепровских городков, об усилении русского флота на Азовском море и скором завоевании царем Петром и его отважными генералами Керчи и всего Крыма.
Не без внимания осталися и слова Шереметева о его желании поклониться христианским святыням в Риме, и вскоре после императорской аудиенции к боярской свите был приставлен отец иезуит, доктор Вольф, который мог лечить не только тело, но и душу.
Переход московского боярина из православия в лоно Католической церкви был первой целью отца иезуита, о чем он получил строгое предписание и от главы ордена святого Игнация Лойолы[15] из Рима. На первый взгляд доктору Вольфу сие показалось вполне возможным. Боярин охотно причислил доктора к своей свите, а в разговорах неоднократно говорил о своем желании посмотреть святые мощи в италианских городах и получить аудиенцию у самого святейшества. С тем они и отправились из Вены в Италию, где боярин намеревался посетить сначала еще одного союзника по антитурецкой Священной лиге, Венецианскую республику.
* * *
Путь в Венецию шел через заснеженные альпийские горы, и у Бориса Петровича неоднократно замирало сердце, когда легкие санки скользили по хрупким мостикам, переброшенным через глубокие пропасти. Сорваться туда — и конец всем честолюбивым помыслам! Боярин закрывал глаза, хотя не раз бывал в сражениях и стоял рядом со смертью, но такого ужаса николи не испытывал. Сопутник его, князь Дмитрий, и тут поражал боярина своим хладнокровием! Голицын словно и не ведал опасности и заглядывал в альпийские бездны с видимым любопытством. Другой сопутник, доктор Вольф, понятное дело, все время шептал молитвы. Молился и боярин — и вся-то разница, что один молился по-латыни, а другой по-славянски.
И то ли молитвы помогли, то ли добрые кони вынесли, но, слава Богу, крутые Альпы остались позади, и настоящий земной рай открылся в весенней Италии. Был еще Март, а все уже стояло в цвету, и теплый ветерок с Адриатики овевал Венецию, поднимая белые барашки на узких венецианских каналах.
Венецианский сенат встретил Бориса Петровича с непомерной щедростью. Ему не только предоставили палацио на набережной Ривадельи-Скьявони, но и презентовали боярина и его свиту сахарами и конфетами на ста восьмидесяти блюдах, выставили за счет сената шестьдесят пузатых бутылей кипрского и сицилийского вина, щедро поставили цитроны в сахаре, свежую рыбу и мясо.
Правда, венецианского дожа Борис Петрович не застал: Франческо Морозини находился со всем боевым флотом в Морве, где осаждал турок в Афинах.
— О, наш дож Морозили великий воин и флотоводец. Еще три года назад Морозини наголову разбил турецкий флот в Эгейском море, затем высадил десант и захватил полуостров Пелопоннес. За эту неслыханную викторию наш сенат даровал ему звание Франческо Пелопоннесский… — важно разъяснял Борису Петровичу сенатор Вентури, приставленный к нему правительством республики. Переводчиком служил маленький и юркий купчишка Гваскони, коего Борис Петрович знавал еще по Москве. В Россию Гваскони доставлял итальянские шелка, фряжские вина и венецианское стекло, а в Венецию, Флоренцию и Рим вез на своих кораблях московские товары: икру паюсную красную и икру черную, мачтовый лес и сибирские меха. Торговля была выгодной, и по своим торговым делам купец многократно бывал в Архангельске и Москве, где выучился свободно болтать по-русски. Родную Венецию Джузеппе Гваскони знал как свои пять пальцев и охотно показывал боярину и Голицыну все ее достопримечательности: Дворец дожей и площадь Святого Марка, главный городской театр Сан Бенедетто, бесчисленные церкви и монастыри в шести районах, на которые была поделена Венеция. Четыреста мостов были перекинуты через ее каналы, вода в которых в лунные ночи словно переливалась серебром. Через сенатора Вентури неутомимый Гваскони получил для боярина разрешение на осмотр городского арсенала с его бесчисленными верфями, на которых работало шестнадцать тысяч мастеров-корабельщиков. Именно здесь строились грозные венецианские галеры.
— Здесь куется мощь Венеции! У республики более трех тысяч боевых кораблей и тридцать шесть тысяч матросов! — горделиво разъяснял Гваскони. — Было время, когда венецианский дож владел четвертью Византийской империи! Теперь, увы, не то! Проклятые турки захватили Сирию и Ливан, Палестину и Египет и перерезали великий шелковый путь, шедший из Китая и Индии в Европу! Торговля в Средиземноморье сейчас упала, большие торговые пути ныне лежат в Атлантике. А там полные господа англичане и голландцы! Вот отчего нам так нужна победа над турком. Можете быть спокойны, синьор боярин, Венецианская республика — верный союзник Москвы в войне с османами.
На другой вечер, словно подтверждая слова Гваскони, грянул салют со стен Арсенала и крепости Кьоджа — в Венецию пришло известие, что Морозини Пелопоннесский вступил в Афины. Турки попытались было укрыться в Парфеноне, но безжалостный венецианский воитель обстрелял из пушек и это чудо древнегреческого искусства и взорвал укрытый там пороховой склад, после чего турецкий гарнизон сдался.
По сему случаю и прогремел салют в Венеции, а на другой день был объявлен праздничный карнавал на целую неделю в честь новой виктории.
Борис Петрович и князь Дмитрий попали в суматошную толпу в масках, выряженную в пурпурные рясы кардиналов и золотые ризы епископов, персидские халаты с разводами и польские кунтуши с рукавами наотлет. На головах ряженых красовались пышные тюрбаны и султаны из страусовых перьев, у белокурых венецианок были лихо сдвинуты на ухо маленькие треуголки.
Вся эта разномастная, переливающаяся золотом и разноцветными красками толпа шумно катила к Большому каналу, на котором должна была состояться праздничная регата — гонка гондол на добрых шесть верст. С балконов дворцов, стоящих вдоль канала, свисали цветные ковры, гремела музыка оркестров, и глаз было не оторвать от быстрых гондол, летящих наперегонки по зеркальной глади канала. В толпе мельтешили и деловые людишки — принимали ставки на ту или иную гондолу! Судя по всему, игра здесь была азартней, чем в сотнях игорных домов Венеции.
— Похоже, даже война для венециан оборачивается развлечением и праздником! А ведь на войне льется немалая кровь! — сердито пробурчал Борис Петрович.
— О, разве это карнавал, всего на одну неделю! — пренебрежительно заметил Гваскони. — Жаль, что вы не приехали, мой господин, осенью, когда с первого воскресенья октября и до самого Рождества шумит большой карнавал. Три месяца можно носить и менять маски, и для многих сие очень и очень удобно! — улыбнулся хитрый купец. — Здесь не поймешь, где знать, а где простой торговец — все в масках. И, пока идет карнавал, в Венеции никаких дел вершить нельзя!
— Нет, венециане не серьезный, а карнавальный союзник! — жаловался в тот же вечер Шереметев князю Дмитрию. И порешил твердо: — Завтра посетим стекольную мануфактуру в Мурано, князь, после чего я отправляюсь во Флоренцию, а вы можете явиться в морскую школу к Мартиновичу и учиться у этого далматинца всем корабельным премудростям! Вечор, когда ты, княже, в библиотеку дворца дожей ходил, меня посетил Петр Андреевич Толстой, сказывал, что к оному Мартиновичу съехалось уже три десятка московских стольников.
На мануфактурах Мурано карнавального празднества не было — плавильные печи здесь никогда не гасили. Тут плавили прозрачное бесцветное стекло и стекло филигранное, с белыми нитями; стекло рубиново-красное и изумрудно-зеленое; темно-синее, украшенное золотом и расписанное эмалями.
Мастера-стеклодувы выдували кубки и вазы, стаканы и блюда.
— Эх, мне бы таких мастеров, завел бы и я у себя в Борисовне мастерскую! Песочек-то у меня в имении кремниевый, как раз тот, что тут в печи подают! — завистливо вздохнул Борис Петрович, который был не токмо полководец и дипломат, но и рачительный хозяин.
— И не ждите, мой господин, что республика разрешит этим мастерам покинуть Венецию. Мастерство стеклодува наследственное, передается от отца к сыну, и мастера работают без модели, следуя своей фантазии и традиции. Таких мастеров, окромя как в Венеции, нигде не найти. Оттого стеклодувы у нас и в почете, и в великом секрете. Республике от их искусства прибыль великая идет! Да и нам, купцам, немало перепадает — ведь венецианское стекло лучшее в мире и идет по всей Европе нарасхват! — снисходительно разъяснил Гваскони московитам жесткие правила Мурано.
Борис Петрович тут же выбрал несколько ваз и кубков и заплатил не торгуясь. Гваскони бросил лукавый взгляд на толстый кошель боярина и твердо решил сопровождать и дале его по всей Италии. «Такой богач наверняка будет делать в пути новые дорогие покупки. А как он доставит свои презенты из Италии в Московию? Только на моих кораблях, и мне в том фрахте будет немалая прибыль!» — рассудил купец.
Через день после посещения Венеции Шереметев отбыл во Флоренцию, сопровождаемый отцом иезуитом Вольфом и купцом Гваскони. А князь Дмитрий отправился на набережную Скьевоне (в переводе на русский — Славянскую набережную), где проживали тысячи сербов и далматинцев. Ведь Далмация и Истрия[16] оставались во владении Венецианской республики, турок их не покорил! На сей набережной стоял и дом Мартиновича, корабела и астронома, философа и политика. Ученому далматинцу сенат и поручил занятия с московскими навигаторами.
* * *
В школе Марко Мартиновича должны были учиться тридцать девять московских стольников, цвет молодой московской знати: князья Хилковы и Черкасские, князь Прозоровский, шурин самого царя Авраам Лопухин, будущие знаменитые дипломаты князь Борис Куракин и Григорий Долгорукий. Однако четверых волонтеров ждала не Венеция, а московская плаха и Сибирь: четвертовали Цыклера, отправили в ссылку двоих Соковниных, казнили молодого Федора Пушкина, заявившего заговорщикам, что царя за то, что за моря посылает, надобно убить! Остальные стольники с перепугу сразу выехали в Венецию по царскому указу за свой счет, окромя того, каждый должен был прихватить с собой одного солдата-гвардионца для прохождения корабельной науки и, что греха таить, для наблюдения за хозяином. Хотя Петр I и составил для стольников собственноручную инструкцию, яко учиться корабельному и навигацкому искусству, но большая часть стольников и не думала проходить все эти пункты, здраво рассудив, что поелику царь-государь отправился сначала в Голландию, а затем был намерен держать путь в Англию, то до Италии он вряд ли доберется и никакого строгого экзамена стольникам не учинит. Московские окольничие и стольники чувствовали потому себя в Венеции вольготно — не учениками, а знатными путешественниками, приехавшими посмотреть новые города и веси. Многие из них объехали всю Италию, побывали и в Милане, и во Флоренции, и в Неаполе, и конечно же посетили Рим.
Мартинович не препятствовал врожденному любопытству знатных московитов, а с иными, к примеру со старшим по возрасту стольником Петром Андреевичем Толстым и вновь прибывшим Дмитрием Михайловичем, даже сдружился.
Петр Толстой в свои пятьдесят три года оказался самым прилежным учеником в корабельной и навигацкой науке. Мартинович, конечно, понимал, что по возрасту Толстой вряд ли станет добрым моряком и корабелом и что за прилежностью этого ученика скрыт свой особый расчет. И такой расчет и впрямь был у хитрюги Петра Андреевича. Кто-кто, а уж он-то непременно хотел сдать экзамен самому царю и поразить Петра своими познаниями в корабельном и навигацком искусстве. Старому стольнику приходилось замаливать перед Петром I прошлые грехи. Ведь он поддержал в 1682 году партию Милославских и царевну Софью против Петра! Вот почему Толстой уже в таком почтенном возрасте добровольно определился в навигацкую науку и отправился в Венецию. Из Венеции Петр Андреевич совершил морские путешествия в Далмацию и Южную Италию и привез отовсюду добрые аттестаты не токмо от разных капитанов! Даже сам венецианский дож Морозини дал ему похвальную грамоту. Цели своей великий хитрец достиг, доверие царя полностью возвернул и вскоре после возвращения в Россию был назначен послом в Константинополь, где проявил себя ловким и толковым дипломатом.
В Италию же пришлось ему еще раз вернуться, когда он был отправлен Петром I поймать и привезти беглого царевича Алексея[17]. И сию миссию Толстой завершил успешно: царевича из Неаполя; где тот укрывался от царского гнева, убедил вернуться обратно и самолично доставил в Москву, за что и был определен царем начальником страшной Тайной канцелярии.
А вот князь Дмитрий Голицын явился в Венецию совсем с иными помыслами. Перед царем он был чист и в Италию отправился не ради карьеры, а ради света знаний и науки. Притом куда боле корабельного и навигацкого искусства тридцатидвухлетнего стольника интересовали науки политичные, связанные с историей и устройством различных государств. Об этом он прямо заявил Мартиновичу, и правдивость сия далматинцу понравилась, поскольку и сам Марко увлекался политикой. В знаменитой библиотеке Сансовино Мартинович познакомил русского князя с богатейшим собранием, где хранилось тринадцать тысяч рукописей и полмиллиона книг, свозил на остров Кипарисов, где в монастыре бенедиктинцев тоже имелась знатная библиотека, провел по всем книжным лавкам Венеции, указал, где можно купить труды хитроумного и злого лукавца Макиавелли и памфлеты злоязычного Боккалини, работы основоположника международного права Гуго Гроция и исторические сочинения немца Пуффендорфа. В своей личной библиотеке Мартинович показал князю и заветное: книгу венецианца Орбина «История славян». При этом сказал, что не случайно, князь, в Венеции интересуются историческими судьбами славянских народов, ведь добрая половина населения Венецианской республики состоит из славян, густо населяющих Истрию и Далмацию, адриатические владения Венеции.
— По мнению Орбина, Иафет, сын Ноя, который предназначен быть воином и царем, и есть истинный прародитель нас, славян! А о славянах-россах первое упоминание есть уже у понтийского царя Митридата[18]! — учил Мартинович князя Дмитрия.
Летом он взял Голицына на свою родину в городок Бока Катаро. Они плыли на небольшой фелюге. Кроме князя Дмитрия, Марко взял с собой еще Несколько волонтеров-московитов. По пути все немало дивились красивейшим далматинским городам: Рагузе, Дубровнику, Катаро. Вроде бы владения Венеции, но итальянский язык здесь почти не слышен — все вокруг говорят по-славянски, а сербская речь быстро усваивалась московитами.
По улицам Катаро разгуливали спустившиеся с гор черногорцы — высокие, крепкие, черноусые, с пистолями и кинжалами за цветными полами.
— Это цвет южного славянства, князь, настоящие воины, которые так и не покорились турецкому султану. А моя родная Сербия, увы, ныне лежит под владычеством турок-османов. И только единоверная Россия, полагаю, вызволит ее из турецкой неволи, — поведал Мартинович князю Дмитрию свои заветные думы. И впоследствии, когда Голицын двадцать лет сидел генерал-губернатором в Киеве и сторожил южную границу от татар и турок, он часто вспоминал слова Мартиновича, что отныне судьба всех славян связана с Россией.
Из Италии Дмитрий Михайлович вывез не только богатые ткани и разноцветное стекло, но прежде всего книги, купленные по совету Мартиновича, написанные по-латыни, италиански и сербски. Впоследствии в Киеве по губернаторскому приказу ученики Киево-Могилянской академии перевели их на русский язык. Останавливаясь у брата в Киеве или бывая в общем подмосковном имении Архангельском, читал эти рукописи и молодой офицер-семеновец Михайло Голицын.
* * *
По пути во Флоренцию иезуит Вольф окончательно уверился, что в глубине души Борис Петрович уже состоявшийся католик, и если не переходит окончательно в истинную веру, то только из опаски гнева московского патриарха Адриана.
— Поверьте, монсеньор, этот русский боярин уже наш, недаром он даже разрешил своему секретарю Алексею Курбатову по полному нашему обряду перейти в католичество! — доложил Вольф кардиналу Оттобани, прибывшему во Флоренцию встречать знатного русского вельможу.
Оттобани проверил сей вывод. При встрече с Шереметевым он показал боярину редкий документ — подлинный акт Флорентийского собора о воссоединении Восточной православной и Западной католической церквей. Собор во Флоренции был созван вскоре после падения Константинополя, взятого в 1453 году турками. Приглашенные на собор восточные иерархи во главе с константинопольским патриархом, пребывая в растерянности после падения Византийской империи, дружно подписали Флорентийский акт о соединении Восточной и Западной церкви. Правда, на востоке Европы имелось новое царство — Московия, в котором православная вера осталась незыблемой, и посему Флорентийский акт остался на бумаге, но сама мысль о подчинении Православной Церкви святому римскому престолу не оставляла Ватикан. Недаром в Риме был открыт коллегиум святого Григория, призванный готовить пастырей для Восточной Европы. Польское папство сумело с помощью тех пастырей насадить унию в Западной Украине и Белоруссии, и единственным бастионом православия оставалась Россия. После того как не удалось насадить униатство в Москве в Смутное время при Лжедмитрии I, отцы иезуиты порешили действовать подкопом, рассчитывая распространить католицизм, как то уже было в Великом княжестве Литовском, сперва среди бояр и высшей знати, а потом уже ввести униатство во всей Московии.
Оттого кардинал Оттобани с восторгом доносил в Рим, что Шереметев с благоговением целовал листы. Флорентийского акта и творил перед ним земное поклонение. Еще более убедило кардинала в прилежании боярина к католицизму то, что боярин попросил снять копии с акта Флорентийского собора и обещал доставить копии в Москву, где познакомить с ними самого царя и всех больших вельмож.
На самом же деле Борис Петрович охотно изображал тайную ревность к католической вере по прямому поручению Петра I, стремившегося всячески расположить к себе римский прёстол. И царю, и его боярам было ведомо, что Римский Папа благословил Лигу империи, Венеции и Речи Посполитой на борьбу супротив турок, отчего Лига и стала именоваться Священной. Сохранить папское благословление и должен был Шереметев.
Впрочем, занимался боярин во Флоренции и делами вполне светскими.
Через Гваскони он был представлен последнему великому герцогу Тосканскому из рода Медичи, Джану Гастоне, толстому весельчаку, любителю хорошо поесть и выпить.
— Вы и не поверите, синьор, как угождает моему чреву лукавец Гваскони, доставляя из Архангельска красную и черную икру и красную соленую рыбку. Забыл, как она называется?
— Семушка, ваше высочество, семушка! — весело сообщил Гваскони, служивший переводчиком во время герцогской аудиенции.
— Ах да, семушка, семушка! — Герцог плотоядно облизнулся, зная, что Гваскони привез во Флоренцию не только боярина, но и целый обоз с московским товаром.
За обедом речь пошла прежде всего о выгодной коммерции. Герцог просил Шереметева, дабы царь сохранил за купеческим домом Гваскони рыбный подряд, а в обмен Флорентийская академия искусств готова принять московских учеников, буде такие найдутся.
Встреча с великим герцогом закончилась таким развесельем, что Борис Петрович плохо помнил, как на другой день выехал со своей свитой на римскую дорогу.
Любезный Оттобани отстал, но в Риме на место сего кардинала к боярину был приставлен другой наставник, кардинал Скадье. Борис Петрович сразу объявил Скадье, что прежде всего он хочет осмотреть в Риме все святыни вечного города, и в первую очередь поклониться гробнице святых Петра и Павла, а также испросить аудиенции у его святейшества Римского Папы Иннокентия XII.
Кардинал Скадье тоже был поражен открытым расположением боярина к католической вере и в своем донесении специально отметил, что этот русский вельможа показал столь почтительную преданность его святейшеству и обнаружил чувства столь необычной любви к святой нашей Церкви, что конечно же он заслужил аудиенцию, дабы еще более возросло в его сердце желание стать в Московии просвещенным светом истинной веры.
На папской аудиенции Борис Петрович не стал мелочиться, спокойно склонился и поцеловал папскую туфлю, после чего вручил царскую грамоту «честнейшему господину Иннокентию двенадцатому, папе и учителю римские церкви».
В грамоте, как уже ведал Шереметев, царь Петр призывал Римского Папу и дале крепить Священную лигу христианских государств против неверных.
Когда кардиналы вышли и Иннокентий XII остался один на один с русским боярином, он насмешливо прищурил острые глаза и сказал доверительно:
— А ведь я тебя помню, сын мой.
— Как же, ваше святейшество, и я вас помню! Ведь вы были купцом при дворе короля Яна Собесского, когда я ездил во Львов подтвердить договор с Польшей о вечном мире, — простодушно ответил боярин.
Папа грустно покачал головой:
— Да, нет уже нашего Яна, а его жена, вдовая королева Собесская, живет сейчас в Риме под нашем попечением вместе со своими сыновьями!
«И готовит, по слухам, одного из сыновей на польский престол. Ведь в таком государстве, как Речь Посполитая, всегда может случиться новое бескоролевье», — подумал Борис Петрович, но на словах сказал, что он обязательно навестит свою старую знакомую вдовую королеву Марысю.
В заключение аудиенции Борис Петрович ходатайствовал о грамоте к великому гроссмейстеру Мальтийского ордена из канцелярии Паны, дабы рыцари хорошо приняли царского посланца.
— Я прикажу нашему великому инквизитору дать вам такую грамоту! Поезжайте, посмотрите, как мои рыцари охраняют море от неверных!
При расставании Папа едва слышно хлопнул в ладошки, и появившийся из бокового придела старый знакомец кардинал Скадье передал Папе золотой крест.
— Дарю вам, сын мой, этот крест с частицей древа животворящего Иисуса Христа. — Иннокентий XII надел на шею Бориса Петровича золотой крест. — Верю, что в войне с неверными соединятся обе христианские Церкви: Западная и Восточная! Знаю, что и вы чтите нашу веру. — Для Папы главное в этих словах было соединение Церквей, для Шереметева — война с неверными.
Из Рима Борис Петрович выехал на девяти колясках, предоставленных кардиналом Скадье.
В порту Остин сопровождающий их по приказу Ватикана рыцарь славного Мальтийского ордена Иоанн Коллеони нанял для боярина две легкие фелюги, и корабли сразу вышли в море. Впервые Борис Петрович оказался на морском просторе, но чувствовал себя, вопреки всем опасениям о морской качке, превосходно. Впрочем, волнение на море было небольшим и суда легко бежали под косыми латинскими парусами.
— В случае нападения алжирских пиратов единственная наша надежда — скорость и увертливость этих маленьких суденышек! — любезно разъяснил рыцарь боярину, говоря на странной смеси польского и итальянского. Из разговора выяснилось, что Иоанн Коллеони служил когда-то в войсках короля Яна Собесского и выучился там говорить по-польски.
— У польской армии превосходная кавалерия, но нет флота, а у нашего ордена есть флот, но нет конницы. Впрочем, она нам и не нужна, наши галеры — наша кавалерия! — Рыцарь был разговорчив. Он охотно поведал боярину, что Мальтийский орден был основан в 1530 году на основе Иерусалимского ордена святого Иоанна и предназначался для охраны христианских государств от неверных на Средиземном море.
— Только французский берег мы не охраняем. Ведь, как ни странно, христианнейший король Франции Людовик XIV ныне ближайший друг и союзник турецкого султана… — Рыцарь пожал плечами: таковы чудеса истории!
В это время матрос, сидевший в бочке на мачте и наблюдавший за горизонтом, вдруг закричал:
— Галеры! Алжирские галеры!
Вдали и впрямь показались две точки, которые быстро росли и превращались в алжирские корабли.
Борис Петрович знал уже по рассказам, что алжирские пираты самые страшные морские разбойники в Западном Средиземноморье. Формально они подчинялись алжирскому правителю — бею, а тот в свою очередь был подвластен турецкому султану, но на деле алжирский бей редко подчинялся султану, а пираты — те вообще никого не слушались!
Две легкие пушчоночки на фелюгах, конечно, не могли спасти путников от пиратских галер, и все же боярин стал готовиться к бою: приказал всем своим гайдукам разобрать ружья и сам вооружился двумя большими седельными пистолетами.
— Ну что, Алексей, будем биться или пойдем в полон к алжирскому бею? Боюсь, тогда тебе вдругорядь веру менять придется, из новоявленного католика превратишься в правоверного мусульманина… — насмешливо заметил Борис Петрович своему изрядно перетрусившему секретарю. Сам боярин был тверд, спокоен и готов к бою.
Но, к счастью путешественников, вдруг поднялся ветер; капитаны легко уловили его в косые паруса, и фелюги понеслись яко гончие псы на охоте, далеко оставляя за собой тяжелые галеры. Рыцарь был прав: самым верным средством от нападений пиратов был быстрый ход.
Однако резкий ветер все боле усиливался и из союзника скоро превратился в жестокого неприятеля. Все море покрылось пенными бурунами, и волны стали перехлестывать через низкие борта корабликов. Капитан приказал убрать паруса, но и это не уменьшило качку — корабль мотало как щепку.
Вот здесь-то почти все московиты испытали острую морскую болезнь. Многие из них попадали на днище, бледные и зеленые. Сам Борис Петрович, держась за мачту, тоже позеленел, чувствуя подступающую тошноту. Думал: уж лучше открытый бой с пиратами, чем эти морские мучения.
И вдруг стоявший рядом с ним рыцарь, которого шторм совсем не брал, показал рукой: вот она, Мальта!
Борис Петрович глянул и ахнул: как сказочное диво, поднимался из пучины морской, стоящий на скалистом острове, белый град — с высокими башнями, грозными крепостями, куполами соборов.
Морское волнение стихло — входили в спокойную гавань.
* * *
Еще за два дня до приезда Шереметева великому гроссмейстеру Мальтийского ордена Луиджи Боргезе доставили из Рима строжайшее предписание: принять московского боярина со всевозможными почестями. Поэтому с берега Шереметев и его свита были сразу доставлены в роскошный гостевой дворец, где все уже было готово к Приему: накрыт пышный стол, уставленный дарами моря, чистым бельем были застланы турецкие диваны, на которые и повалились измученные морской болезнью московиты.
На другой день великий гроссмейстер отдавал честь боярину, первым посетил Шереметева, спросил, все ли ему удобно во дворце.
В разговоре гроссмейстер расспрашивал о далекой Москве, о последней войне с турком, взятии Азова. Спросил, много ли турок лично убил боярин при штурме Кази-Керменя. Борис Петрович смутился, потому как при штурме сидел на барабане на пригорке, сам шпагой в бою не размахивал и давал токмо приказы.
— У меня на эфесе шпаги двадцать зарубок, по числу убитых неверных. А всего у меня таких шпаг — двенадцать! — гордо усмехнулся Боргезе. Был он сед, но еще крепок, лицо украшено страшным шрамом от турецкого ятагана. — Эскадра мальтийских рыцарей сражалась еще при Лепанто[19] вместе с испанским флотом, когда был положен конец морскому владычеству османов. С тех пор их эскадры не рыщут по Западному Средиземноморью, разве что баламутят еще воды алжирские пираты. С ними прежде всего и борются наши корабли! — объяснил великий гроссмейстер Шереметеву.
— Наш государь тоже завел флот на Азовском море. Дай срок, и на Черном море поднимем свои морские стяги! — поделился Борис Петрович с Боргезе.
— Рад, что московиты тоже стали мореходами. Наслышан от рыцаря Коллеони, что и вы, боярин, не убоялись алжирских злодеев. На днях весь наш флот выйдет в погоню за пиратами. Я дам боярину под команду лучшую галеру «Иоанн Златоуст», — пообещал на прощание великий гроссмейстер.
Борису Петровичу после этого любезного приглашения деваться было некуда. Хотя и помнил о морской болезни, но взошел на борт «Златоуста», когда мальтийцы вышли в море.
Впрочем, на сей раз боярину повезло. Море было спокойным, а когда на горизонте показались алжирские фелюги и мальтийские галеры погнались за ними, алжирские кораблики ушли от тяжелых галер. На головной галере великий гроссмейстер поднял сигнал «поворот». Борис Петрович, а точнее, стоящий рядом на капитанском мостике рыцарь Коллеони с поворотом искушенно справился, и Златоуст» встал в общую линию и вошел в гавань.
За сей искусный маневр, а также за неустрашимость боярина, готового лично идти на абордаж алжирских судов, Борис Петрович на рыцарском пиру был объявлен искусным флотоводцем и отважным рыцарем. Дважды рыцари поднимали за боярина шумный поздравительный — тост, и дважды гремели в его честь пушки. А еще через неделю, получив о том указ от великого инквизитора из Рима, гроссмейстер произвел Бориса Петровича в кавалеры Ордена мальтийских и родосских рыцарей, надев ему на шею золотой Мальтийский крест и набросив на плечи широкий рыцарский плащ.
По возвращении в Москву в феврале 1698 года Шереметев угодил на похороны царского любимца Франца Лефорта и сразу выделился в траурной процессии своим рыцарским одеянием. Царев денщик, Алексашка Меншиков, страшно ревнуя боярина к званию мальтийского рыцаря и особливо к кресту и цепи из чистого золота, громко и насмешливо вопросил окружающих: уж не посол ли Мальтийского ордена пожаловал к нам в Москву? — но тут же закусил язык от строгого царского взгляда. Петр был доволен своим посланцем, и Венеция, и Римский Папа, и мальтийские рыцари собирались продолжать войну с османом. Так что даже без Речи Посполитой и Габсбургов у России оставались еще союзники, поджигавшие Оттоманскую империю с другого конца.
Доволен царь был и рыцарским званием для своего полководца: в Мальтийский орден принималась только отборная европейская знать, так что ныне и нас к ней сопричислили.
Борис Петрович же был рад, что повидал столь многие страны, принят был везде с честью и уважением в все поручения царские выполнил по мере возможности. Само собой, льстил его тщеславию и титул почетного кавалера Мальтийского ордена. Только вот своих денег на всю эту, поездку куда как много ушло! Как подсчитали старшие приказчики, то за голову схватились: издержки боярина составили 24 500 золотых рублей. Борис Петрович тоже вздохнул, но потом по-боярски махнул рукой: что ни говори, а поддержал он государеву честь, показал Европе, что я в России есть благородные вельможи! Деньги же дело наживное, да и мужики на что?
Смена курса
Обычно когда пишут о Великом посольстве Петра I, пишут прежде всего о Голландии, маленьком домике Саардаме, о царе-плотнике, который махал топором на саардамской верфи и верфях Ост-Индской кампании, и как-то забывают, что Петр ехал в составе Великого посольства не только учиться корабельному мастерству, но и вести большую политику. Хотя он был в составе посольства инкогнито, как урядник Петр Михайлов, ни одно политическое решение, конечно, не принималось великими послами без согласия царя.
Поначалу цель посольства была ясной и простой: привлечь в союз против турок великие морские державы — Англию и Голландию, которые уже воевали в составе Аугсбургской лиги против союзника султана Людовика XIV и сами были в союзе с Габсбургами.
Но как раз когда Петр находился в Голландии, война против Франций закончилась подписанием в Рисвике мирного договора.
Однако обе стороны понимали, что Рисвикский мир — это скорее не мир, а краткое перемирие. Все ждали кончины бездетного испанского короля Карла, чтобы начать новую большую войну — войну за Испанское наследство. Поэтому ни Англия, ни Голландия и не думали о помощи Священной лиге в войне против турок. Более того, король Англии, штатгальтер[20] Голландии Вильгельм III Оранский спешил развалить Лигу и вывести из нее императора Леопольда, добившись мира Габсбургов с султаном. При всем этом король желал одновременно, чтобы Россия одна продолжала войну с турками и тем самым отвлекала Османскую империю от европейских дел. Посему Вильгельм III принял царя крайне приветливо, дабы хитрой лаской усыпить московитов и скрыть интриги английской дипломатии, ведущиеся за спиной Великого посольства.
Когда Петр I вздумал посетить Англию, король в конце 1697 года послал в Амстердам, где пребывал царь, целую эскадру, сопровождавшую королевскую яхту, предназначенную для царя и его свиты. Петр, правда, предпочел плыть на адмиральском боевом корабле, где подробно расспрашивал адмирала Митчела о корабельном устройстве. Ведь в Англию царь плыл, чтобы научиться, как строить корабли по науке, по правильным чертежам, поскольку голландцы еще строили свои суда на глазок. Но царь собирался заняться в Лондоне не только корабельными чертежами, но и чертежами большой политики. Еще в Амстердаме он понял, что в англо-голландском союзе первую скрипку играет Англия и потому переговоры надобно вести Не в Гааге, а в Лондоне.
Вильгельм III принял царя очень любезно. Он первый инкогнито навестил Петра в особняке в Дептфорде, предоставленном царю за счет британской казны, и постарался, чтобы Петру показали все достопримечательности Лондона. Король устроил для царя даже показательные маневры английского флота, допустил его в королевский арсенал и на артиллерийский полигон в Вулвиче отведать «науку метания бомб». Царь посетил парламент и через слуховое окно послушал тронную речь короля, познакомился с великим ученым Ньютоном в обсерватории, был на монетном дворе, где чеканили королевскую монету, на представлении В королевском театре; король разрешил Петру нанимать в Россию не только простых матросов, но и ученых, инженеров-гидроликов, офицеров и капитанов. Во всем король был любезен, но веского королевского слова о поддержке Священной лиги в войне с Турком царь так и не получил.
И, только отбывая из Лондона в Вену, Петр вдруг сообразил, что король и его министры не только не стараются помочь России в войне с турками, но и хотят развалить союз, добиваясь в Стамбуле сепаратного мира императора с турецким султаном.
Разочарование Петра в своем недавнем кумире Вильгельме было жестоким, но он сдержался, слишком уж выгодной была англо-русская торговля, шедшая тогда через Архангельск.
* * *
В имперской Вене царя встретили по строгому этикету. В сущности, царский визит был совсем не нужен ни императору Леопольду, ни его канцлеру Кинскому, ведшему тайные переговоры о мире с Блистательной Портой[21]. Но царь приехал, и его, и Великое посольство встретили строго по этикету. Посольство получило аудиенцию у императора, Петр I дважды имел личные встречи с Леопольдом I, в честь царя при дворе дали большой бал, на котором Петр познакомился и имел долгий разговор с прославленным победителем турок принцем Евгением Савойским.
Поскольку предварительные переговоры с турками подходили для австрийцев к счастливому завершению (турки уступали императору всю Венгрию, Трансильванию и Банат, за что австрийские войска, предавая своих союзников сербов, уходили за Дунай), австрийский канцлер не мог более таиться от московитов, и Великому посольству было объявлено о скором мирном конгрессе с турками в Карловичах.
Затеянный в Москве план расширения союза христианских государств против неверных полностью рухнул. Священная лига не только не расширилась, но и развалилась.
Русские попробовали было настоять, дабы турки дали обещание Москве отдать в царское владение Керчь, которая запирала азовскому флоту выход в Черное море, но австрийский канцлер только усмехнулся и объявил, что вообще-то турки не имеют привычки сдавать свои крепости без боя, а впрочем, никто не мешает московитам и дале воевать за Керчь.
Петру I в Вене окончательно стало ясно, что Россия в войне с турками осталась одна, и ее продвижение на юг было приостановлено. Ничего не оставалось, как тоже мириться с турками.
Но Великое посольство не прошло для царя бесследно. Именно во время посольства взгляд Петра с юга обращается на север Европы. Во многом тому способствовали еще встречи с великим кюрфюрстом Бранденбурга, будущим королем Пруссии Фридрихом I, а особенно с кюрфюрстом Саксонии и королем Польши Августом II.
Уже в Кенигсберге Фридрих I убеждал Петра I заключить антишведский союз.
— Посмотрите, государь. Балтийское море — сейчас, по существу, Шведское озеро. Шведы держат в своих руках устья Невы, Западной Двины и Одера, так что вся торговля на Балтике принадлежит им. — Кюрфюрст умело играл на стремлении царя к морю.
Но Петр был тогда еще в самом начале своего большого посольства на Запад и пока мечтал о расширении союза христианских государств против турок. Посему с Фридрихом он был готов заключить только оборонительный союз, скрепленный устной клятвой и троекратным поцелуем.
С Августом II, напротив, царь встретился уже после того, как все планы о расширении Священной антитурецкой лиги рухнули. Потому встреча с польским королем показалась Петру столь важной, что он даже прервал скачку из Вены в Москву, куда мчался для расправы со стрельцами, и на две недели задержался в Раве Русской, где Август проводил военные маневры.
Оба монарха сразу понравились друг другу. В чем-то они очень походили между собой: высокорослые силачи (за столом в армейском лагере Август согнул подкову, а Петр тут же ее распрямил). Оба были молоды, любили сражаться с Бахусом и богиней Венерой (в последних битвах особенно преуспевал Август). И у обоих были честолюбивые планы. Август мечтал вернуть когда-то принадлежавшую Речи Посполитой Ливонию, а заодно и Эстляндию и стать хотя бы в этих провинциях самодержавным монархом и тем упрочить свое положение в шляхетской республике. Петр помнил, конечно, об утраченных Россией в Смутное время Ингрии и Кореле, обладание которыми сразу давало выход к Балтике. Иметь порт на этом море было заветной мечтой царя, и он еще в начале Великого посольства вел переговоры с герцогом Курляндским о приобретении порта Либавы, хотя бы и в аренду. Августу II, как верховному сюзерену Курляндии[22], было известно об этих переговорах, и в Раве Русской он сразу заявил царю:
— Зачем вам Либава, отрезанная от России, когда в устье Невы вы сразу можете получить естественную гавань и построить порт, через который пойдет вся балтийская торговля России? — Разгоряченный вином и своими планами, король подвел Петра к расстеленной в генеральной походной палатке карте Европы. — Смотрите, сир, один щелчок по носу шведского льва с востока — и вы на Балтике. А я ударю тем временем на Ригу, а датский король высадится в Сконе!
— Но шведский лев может нас и растерзать! — усмехнулся Петр.
— Э, ерунда! Пойдемте посмотрим на моих саксонских гренадер — они лучшие солдаты в мире, что и показали недавно в войне с турками. А шведы в последний раз серьезно воевали полвека назад. И скоро вы увидите, как зайцами от нас побегут солдаты шведского поселенного войска. Ведь у шведов, мой друг, по существу, нет сейчас регулярной армии, оружие их устарело, у них по-прежнему треть солдат еще таскает пики, а крепости обветшали из-за вечной экономии короля-скряги Карла XI. Да и сам король при смерти, а его наследник Карл XII желторотый птенец, а шведские генералы, как и их войска, не нюхали пороха! Поверьте мне, Шведская империя — это колосс на глиняных ногах! И если мы с вами, а к нам непременно присоединится еще Дания, дружно ударим по ней, то шведская стена на Балтике рухнет в одночасье! — уговаривал Петра говорливый король.
— К тому же постоянный союзник шведов, Франция, готовится к войне за Испанское наследство, а морские державы, Англия и Голландия, недовольны высокими пошлинами, установленными шведами для прохода торговых судов через Зунд[23]! — подпевали королю его советники: генерал Карлович и ливонский рыцарь Иоганн Паткуль.
Саксонские гренадеры на парадах и маневрах, устроенных Августом под Равой Русской, выглядели грозно и устрашающе, польские уланы лихо мчались с копьями наперевес, сверкали позолоченные крылья у польских гусар, дружно грохотали саксонские тяжелые пушки — армия короля Августа казалась великолепной.
— С таким сильным союзником и впрямь можно решиться на войну со шведами. Тем более что, возможно, еще поможет не только Дания, но и Пруссия. Вместе-то сломим шведскую гордыню! — решился Петр. — А там чья еще будет Рига! — Крепко жила в Петре обида за неучтивый прием в Риге, где по приказу коменданта Дальберга караульные шведские солдаты согнали царя и его свиту со стен укреплений.
Словом, когда через две недели Петр из Равы Русской поскакал в Москву, он был уже расположен к военной коалиции против Швеции.
А в Москве царя с нетерпением ожидал новый датский посол Гейнс, тоже с предложениями о самом тесном антишведском союзе.
Однако переговоры и с датчанами и с саксонцами затянулись.
Для их завершения надобно было, во-первых, заключить хотя бы перемирие с турками, во-вторых, создать взамен распущенного стрелецкого войска новую регулярную армию.
Первую задачу выполнил один из трех великих послов, думный дьяк Прокофий Возницын на мирном конгрессе с турками в Карловичах и другой дьяк Украинцев в Стамбуле, вторую решил уже и сам Петр в Москве.
Нарвская конфузия
Собственно, поход на Нарву в 1700 году был случаен и свершился не столько по воле Петра, сколько по просьбе союзника, короля Августа.
Первоначально Петр и его советники хотели идти на Неву и захватить там шведские крепости Нотебург и Ниеншанц, возвернуть Ингрию и Корелу и отрезать шведские войска в Финляндии от гарнизонов в Эстляндии и Ливонии[24].
Поддерживал это направление и саксонский посланник, по происхождению ливонский дворянин, бывший подданный Швеции Иоганн фон Паткуль. Не для того он бунтовал против шведского короля, чтобы Эстляндию и Ливонию вместо шведов захватили московиты. Эти провинции и Паткуль, и поддерживающие его немецкие бароны в Ливонии хотели отдать под легкую власть короля Августа, при которой остзейское дворянство чувствовало бы себя столь же вольготно, как польская шляхта в Речи Посполитой.
Паткуль все уши прожужжал королю Августу, что в главном городе Лифляндии, Риге, составлен заговор баронов-немцев, и если король совершит на новый год внезапное нападение на Ригу, то заговорщики откроют перед ним ворота. Саксонцы по приказу короля Августа появились под стенами Риги в январе 1700 года, но то ли никаких заговорщиков в Риге не оказалось, то ли всех их арестовал шведский комендант, но так или иначе никто не открыл ворота в город саксонскому генералу Флемингу. Пришлось начать осаду Риги по всем правилам.
Однако осада велась медленно, поскольку король Август продолжал пребывать в Дрездене, увлекаясь охотой и своей новой фавориткой, блистательной Авророй фон Кенигсмарк, да и сам командующий саксонской армией, красавец Флеминг, отбыл ко двору, рассчитывая на балах завоевать руку и сердце дочки такого знатного пана, как литовский гетман Сапега.
Когда Август прибыл наконец под Ригу, он увидел, что осадные работы совсем не продвинулись. Правда, прямым штурмом саксонцы взяли маленькую крепостцу Динамюнде, запиравшую устье Западной Двины, но дальнейших успехов не было. Между тем из Швеции приходили вести, что молодой шведский король Карл XII, узнав о войне, сразу покончил со своими охотничьими забавами, собрал 20-тысячное вооруженное и обученное войско и собрался заняться достойной его охотой на королей Дании и Речи Посполитой. И еще неизвестно было, на кого швед поначалу бросится — на саксонцев или датчан.
Помощи от самой Речи Посполитой Август II никакой не получил, поскольку сенат шляхетской республики отказывался присоединиться к войне своего короля и тот вел ее как саксонский кюрфюрст, так что единственную помощь Август мог получить только от Москвы. Но для этого надобно было подтянуть русскую армию поближе к Прибалтике, а не дать ей увязнуть в карельских болотах и топях. К тому же советники Августа поняли, что гоняться за московитами по болотам Карелии и Ингрии горячий шведский король все равно не станет, а вот ежели царь со своим войском окажется у Нарвы, то неизвестно еще, на кого сперва обрушатся шведы — на саксонцев или русских?
Поэтому новый саксонский посол в Москве, генерал Ланген, прибывший с известием о взятии Динамюнде, в отличие от Паткуля, стал сразу зазывать Петра под Нарву, указывая, что в этом случае двум армиям, русской и саксонской, друг другу способно будет помогать.
Чтобы не потерять союзника, Петр и согласился с Лангеном, что первый удар будет нанесен по Нарве.
И вот на другой день после получения в Москве известия о Константинопольском мире с турками русская армия 19 августа 1700 года выступила к Нарве. Дороги оказались поздними и трудными. Уже под Новгородом начались дожди, и полкам дивизий Автонома Головина и Адама Венде пришлось буквально плыть по новгородским трясинам.
— Сии трясины в свое время даже хана Батыя остановили, и татары не дошли до Новгорода, повернули, а мы премся вперед, прямо на осеннюю непогоду! — сердито рычал полковой адъютант Павел Бартенев, получивший за 2-й Азов чин поручика и месивший теперь грязь рядом со своим новоиспеченным майором — Михаилом Голицыным.
На своего начальника он смотрел не без ухмылки — в других батальонах как должно — все офицеры едут верхом, а наш герой месит грязь вместе с солдатами! К чему сие? Но Михайло видел одобрительные взгляды своих солдат и, прихрамывая, упрямо проделал весь путь до Нарвы в пешем строю.
* * *
Первыми к Нарве вышли стрелецкие полки князя Трубецкого, еще до войны ставшие гарнизонами в Новгороде и Пскове, и дворянское конное пятитысячное ополчение под водительством Шереметева.
Борис Петрович чувствовал себя после поездки на Мальту несколько уязвленным холодной встречей в Москве. Хотя царь и одобрил все его дипломатические виктории и особливо получение Мальтийского креста и звания кавалера Мальтийского ордена, но при дворе Шереметева не оставил, а опять отправил в глухомань, в ненавистный уже Белгород грозить оттуда туркам, охранять рубеж от набегов крымцев. Наособицу задело Шереметева, что его не привлекли и к созданию новой регулярной армии, словно навечно оставив генералом старого строя.
Правда, характер Борис Петрович имел добродушный и нрав отходчивый и сразу принялся не столько за командование Белгородским разрядом (и что им командовать, ежели после Азовских походов все солдаты разбрелись по своим хуторам и собирали их на смотр раз в год по частям), сколько за свои богатые вотчины.
И то сказать, поездка на Мальту обошлась дорогонько, и надо было поправлять дело. И пока Петр I казнил стрельцов, строил в Воронеже флот, плавал с эскадрой под Керчь, Борис Петрович занимался наведением порядка: сбором недоимков с крепостных, переменой приказчиков и разведением баранов новой породы. Несколько таких длинношерстных баранов Борис Петрович приобрел по пути с Мальты в Неаполитанском королевстве. Бараны были породы мериносы и давали шерсти втрое супротив наших. Шереметев с вдохновением разводил их теперь в своей огромной слободе Борисовне, лежавшей неподалеку от Белгорода. Приобрел он Борисовну по случаю. Земли здесь были тучные, степные, но сама слобода поначалу стояла почти безлюдной. Мужики боялись здесь селиться, опасаясь лихих татарских наездов. Борис Петрович прикрыл Борисовну постоянным гарнизоном, вывел на тучные земли крепостных из своих подмосковных вотчин, освободил их на два года от всяких податей, и скоро Борисовна разрослась, зазеленела, и население ее составляло уже тысячу душ. Борис Петрович построил здесь каменный дом по образцу польских фольварков завел конный завод, стал закупать лошадей и у казаков, и у степняков-татар, посылая за скакунами в Польшу и Молдавию. Всем было ведомо, что он завзятый охотник, и лучший Подарок боярину — добрый конь. Посему и назначил царь Бориса Петровича командовать в начале нарвской кампании конным дворянским ополчением. Конечно, Петр определил Шереметева командовать дворянской конницей не только за любовь боярина к лошадям, но и прекрасно зная, что спесивым дворянам будет лестно служить под началом столь знатного и родовитого воеводы, а не какого-то случайного выскочки.
Сам Борис Петрович отнесся к своему новому назначению двояко. С одной стороны, ему было лестно, что о нем в Москве не совсем забыли, коль позвали в новый поход, а с другой — собирался он под Нарву неохотно — приходилось ведь отрываться от выгодных хозяйственных дед. Да и возраст у боярина был уже почтенный, почти пятьдесят годков стукнуло. Не радовало Шереметева и то, что опять ему не дали в команду полки регулярного строя, а сколь ненадежно в боях дворянское ополчение, он видел уже в Черной долине во втором Крымском походе.
Потому с большим недоверием боярин взирал на спускающиеся к реке Нарова дворянские сотни. Опять сами-то помещики гарцевали на резвых аргамаках, а вот их холопы восседали на мужицких клячах и вооружены кто чем горазд: в прадедовских кольчугах, с тупыми саблями и татарскими луками — саадаками.
— Приказано тебе, боярин, государем идти с конницей к Везенбергу, искать там неприятеля, осведомляться о шведском Каролусе, где он пребывает! — встретил Шереметева Юрий Трубецкой, стрельцы и солдаты которого сооружали уже мост через реку Нарову.
— …На то воля царская! — закончил Трубецкой. — А пока прошу, боярин, в мой шатер откушать чем Бог послал!
За столом у Трубецкого цветником был уставлен походный стол: телячьи языки, аршинные колбасы, копченые гуси и куры, моченые яблоки и соленые грибы — все из запасов богатого хозяйства князя на Новгородчине.
Выпили и настоянной на травах домашней же водочки за царя Петра Алексеевича и успех его нового начинания. Крякнули и истово перекрестились.
— Даты не опасайся шведа-то, Борис Петрович. Чаю, в Везенберге его нет. Каролус, по слухам, еще за морем в Дании воюет! — утешил Трубецкой боярина.
— И пусть его воюет! — развеселился и Шереметев.
В тот самый час, когда бояре пили водочку под стенами Нарвы, шведский король со своим двадцатитысячным войском внезапно высадился у стен датской столицы Копенгагена. Десант прикрывал не только шведский флот, но и соединившиеся с ним английская и голландская эскадры. Поддержав Швецию, английский король Вильгельм III рассчитывал быстрой шведской победой закончить Северную войну и оторвать Карла XII от постоянного союза с Францией. Датский флот укрылся в гавани Копенгагена, не решившись дать баталию втрое большему неприятелю. Копенгаген оказался отрезанным от датской армии, брошенной на завоевание Голштинии[25]. Королю Фредерику, запертому в своей столице с малым гарнизоном, ничего не оставалось, как заключить со шведами скорый мир в Травёндале. По мирному договору Фредерик отказывался от всех притязаний на Голштинию и южную шведскую провинцию Сконе и выплачивал шведам изрядную контрибуцию. Так одним ударом, почти без выстрела, Карл XII одержал великую викторию и вывел Данию из войны.
Молодой король из мальчишки превратился за один маневр в победоносного полководца. Именно таким — замкнутым, решительным, в застегнутом до горла сером кафтане, опирающимся на шпагу, яко на трость, запомнился король царскому послу, князю Андрею Хилкову. Посол был отправлен царем, дабы поздравить Карла XII с восшествием на престол: до тех пор, пока мир с турками не подписан, Петр I всячески скрывал свои притязания к Швеции.
Но когда Хилков добрался до шведского лагеря и поздравил его с восшествием на трон, Карл XII только презрительно усмехнулся — ему было уже известно, что русская армия идет к Нарве! Король был безжалостен: приказал арестовать молодого посла и бросить в темницу, где через 18 лет несчастный и скончался. Ни на какой размен Карл XII не пошел.
До Петра известие о том, что Дания выведена шведами из Северного союза, пришло в Новгороде. Царь оглядел своих генералов, почтительно застывших перед ним в полутемных покоях новгородского митрополита Иова, вопросил строго:
— Что на сие скажете, господа генералы? Может, и мне по примеру датского короля у Каролуса мир запросить, откупиться от него деньгами?
Стоявший рядом с царем Алексашка Меншиков усмехнулся нехорошо, завертел шеей. Генералы — Автоном Головин, Адам Вейде и командующий артиллерией царевич Имеретинский — знак царского денщика поняли. Горячий грузин выскочил вперед первым, заговорил гортанно:
— Нам Фредерикус датский не в пример! Войска нашего в скором времени соберется под Нарвой более тридцати тысяч, пушки тяжелые скоро подтянем! Возьмем Нарву, прежде чем Каролус подойдет!
— Верно, царевич! — поддержал пылкого грузина обрусевший немец Адам Вейде. — Карлу XII ведь еще с саксонцами Августа под Ригой столкнуться придется.
— Вперед, государь! — просто сказал Автоном Головин. — Взяли Азов, возьмем и Нарву!
— Что ж, и впрямь Россия не маленькая Дания! — как бы в тяжелом раздумье подчеркнул свои сомнения Петр. — Идем под Нарву! — Только опять строго осмотрел господ генералов: — Войска надобно собирать под нарвскою твердыней сколь можно быстрее! Ты, Автоном, со своей дивизией и ты, Иван Иванович, — обратился он к молчавшему Бутурлину, — с гвардейскими полками выступаете завтра же. А ты, Адам Адамович, скорей подтягивай свои полки в Новгород и тут не задерживайся, поспешай под Нарву. К тебе же, царевич, особая просьба — вытаскивай скорее тяжелые пушки из новгородских болот. Помни — без пушек нам Нарвы не взять! И еще есть добрая весть: князь Репнин вышел наконец со своей дивизией из Москвы. Ему я отправляю тот же приказ — поспешать! Помните — промедление смерти подобно!
На том царский совет в Новгороде и закончился.
На другой день, меся киселя по скверной нарвской дороге, князь Иван Барятинский, командир соседнего батальона семеновцев, мрачно бурчал Голицыну:
— Слыхал, Михайло, как Каролус датчан ловко обошел! Боюсь, скоро и саксонцам от него достанется. А там наш черед!
— Да наши семеновцы и преображенцы разве забыли Азов? Увидишь, они яко звери драться будут.
— Они-то будут. Да ты вспомни, что у нас все остальные полки, окроме гвардий и бутырцев, и пороха еще не нюхали, а от дворянских ополченцев и стрельцов сам ведаешь, какая подмога! Нет, прямо тебе скажу, Миша, у меня вся надежда на союзников-саксонцев. Гренадеры у короля Августа самые знаменитые воины во всей Европе!
За теми разговорами через неделю и добрели до стен старой фортеции Иван-города, поставленной еще Иваном Грозным в Ливонскую злосчастную войну напротив Нарвы. Там сидел теперь шведский гарнизон, — а на другом берегу быстрой Наровы серели грозные бастионы самой Нарвы.
* * *
Под стенами Нарвы сразу стало ясно, что крепкие нарвские бастионы, сложенные из гранита, не чета азовским болверкам турок — ядра полевых пушек отскакивали от них как мячики, не причиняя никакого вреда. Пришлось разбивать лагерь в осенней грязи, охватывая город двумя линиями — внутренней, супротив крепости, и внешней, на случай королевской помощи осажденным. Внешняя линия, охватывая город подковой, протянулась на добрых семь верст и состояла из насыпного вала с палисадом и неглубокого рва перед ним. Против крепости же устанавливались батареи, велись апроши по указаниям военного инженера Галларта, любезно присланного королем Августом.
Вместе с Галлартом явился в качестве главного военного советника и имперский полководец герцог фон Кроа. Полуфранцуз, полунемец, герцог воевал в войсках Габсбургов против турок, но, в отличие от принца Евгения Савойского, никаких викторий в поле не одержал и от имперской службы был отставлен, получив, правда, блестящие рекомендации. К Петру он просился на службу еще в Германии, когда Великое посольство из Амстердама ехало в Вену. Впрочем, дело тогда заглохло. Король Август герцога на службу также не взял, зная, что в Вене всегда дают прекрасные рекомендации как раз тем генералам, коих хотят удалить от службы. К тому же у Августа был уже свой фельдмаршал Штейнау, вот он и переадресовал де Кроа в царский лагерь. На сей раз Петр герцога принял — неплохо было все же супротив шведских генералов иметь опытного европейского полководца. С самого появления де Кроа было понятно, что царь видит в герцоге не только советника, но и своего прямого заместителя, нужного на случай непредвиденного отъезда Петра из армии. А что такой отъезд может быть возможным, стало ясно Петру еще задолго до высадки шведского короля в Пернове. Ведь на все приглашения Петра королю Августу прибыть для встречи под Нарву последний любезно приглашал царя в свой лагерь под Ригу.
— У вас прекрасные солдаты, ваше величество! — Герцог де Кроа показывал на здоровенных преображенцев, усердно роющих ров перед своим вагенбургом.
— Не то что у Трубецкого и Головина, у тех через ров и лягушка перепрыгнет! — нахмурился Петр. Наехал конем на рослого солдата, спросил сурово: — Есть претензии?
— Сидим на сухарях и одной воде, государь, горячей пищи вторую неделю не видели! — смело ответил гвардеец.
— Почему так? — Петр отыскал в свите Преображенского полковника Блюмберга, спросил грозно: — Отчего горячей каши солдатам не варишь?
— Кончилась каша-то в полковом обозе, государь. Подвел меня провиантмейстер, клялся, что еще на той неделе доставит провиант из Новгорода, да и пропал — ни каши, ни интенданта, — доложил Блюмберг.
— Повесить! — По-кошачьи Петр вздернул усы, воззрился грозно. Блюмберг побледнел. — Да не тебя, дурака! Провиантмейстера поймать, найти и повесить!
Хотя царь и грозился, но сам знал, что на провиантских складах в Новгороде и во Пскове воровство великое и надобно самому ему быть там, наказать виновных и доставить провиант в войска. Да и дивизия Репнина еле-еле тащилась к Новгороду, а мазепские казаки застряли отчего-то в Великих Луках! Словом, добрая треть царского войска — целых двадцать тысяч — все еще не явилась под Нарву. И не здесь ему, царю, надобно быть, а там, в тылу, разбираться, чтобы накормить под Нарвой солдат, завести на батареи добрый порох. Ведь в осадные мортиры приходилось сейчас закладывать двойной заряд, и оттого многие орудия при стрельбе разорвало. И добро был бы толк, но пока ни одного пролома в гранитном щите Нарвы не пробили!
В таком тревожном настроении был Петр, когда привета пленного шведского рейтара, захваченного конниками Шереметева в успешной стычке под Везенбергом.
Швед стоял рослый, крепкий, усмешливый, словно и не он, а царь попал к нему в плен.
— Где король Каролус? — по-немецки спрашивал ведший допрос Вейде.
— Великий король на кораблях с десантом прибыл в Пернов, другая часть его войска высадилась в Ревеле. — Швед, казалось, нимало не опасался, что выдает военные тайны: все одно эти варвары московиты скоро будут разбиты и взяты в плен.
— Ты плыл вместе с королем? — продолжал допрос Вейде.
— Нет, мой рейтарский полк вышел из Риги вместе с генералом Веллингом и шел сухим путем.
— Но там же под Ритой стоят саксонцы? Они-то как вас из крепости выпустили?! — по горячности удивился царевич Имеретинский.
— Но как только этот фазан Август узнал о высадке нашего непобедимого короля в Пернове, он тот час поспешил увести свое войско за Двину и отойти от Риги. После того генерал Веллинг пошел к Везенбургу, где соединятся и все шведские войска, — усмехнулся швед.
«И тогда они пойдут на нас!» — мрачно подумал Петр, пораженный тем, что, кажется, он потерял под Ригой последнего союзника.
— Ничего, мы достойно встретим неприятеля! — воинственно задрал свои обвислые усы герцог де Кроа, с утра пропустивший для бодрости чарку перцовки.
— Чаю, Борис Петрович задержит еще шведов у Везенбурга… — задумчиво молвил Головин.
— С его-то ополчением! — махнул рукой Петр.
И точно, вечером прискакал от Шереметева князь Львов и доложил, что боярин отступил со своей конницей в Пагиоки, поскольку там, в теснинах, держать шведа удобно.
— Пагиоки — это всего в двадцати верстах от Нарвы! — взглянул Петр на карту и понял: все! Не от кого подмоги ждать — ни от Репнина, ни от казаков, ни от саксонцев! И еще, в тылу ему сейчас и впрямь быть важнее, нежели под Нарвой бомбы метать. Все одно эта война одной баталией не кончится.
Тем же вечером царь издал приказ о назначении герцога де Кроа Главнокомандующим над всеми войсками под Нарвой, причем подчиняться герцогу всем надлежало яко самому Петру.
В полночь Петр умчался с Меншиковым в кибитке в Новгород, а еще через час перед палисадами русской внешней линии объявилась дворянская конница Шереметева.
Борис Петрович, напуганный обходным маневром… шведских рейтар по побережью и опасаясь быть отрезанным, отвел свое малоспособное войско к главному лагерю.
Военный совет, состоявшийся утром другого дня, вел уже новый командующий, герцог де Кроа. Первым делом герцог сурово вопросил Бориса Петровича, почему тот без приказа отвел дворянскую конницу от Пагиок, где в теснинах легко было задержать шведа.
— Позиция моя до моря не простиралась, а пленные показали, что генерал Веллинг со своими рейтарами заходит ко мне в тыл со стороны побережья. Вот я и убоялся, что швед утеснит меня в тех теснинах! — попробовал даже пошутить Борис Петрович, но герцог шутку не понял и вопрошал с прежней суровостью:
— Где ныне стоит шведский король и сколько у него войска?
«Допрашивает, словно я к нему в полон попал!» — осерчал Борис Петрович, но виду не подал, ответил учтиво, но холодно:
— Король, должно быть, прошел Пагиоки. Пленные показывают, что идет он налегке, без обозов, солдаты на себе несут вьюки. Полагаю, что швед завтра будет у лагеря. Правда, те же пленные говорят, что войска у короля не так уж и много, тысяч двенадцать, многие его корабли, шедшие в Ревель, разметал шторм. Так что ежели выйдем всем войском в тридцать тысяч солдат из лагеря, то в открытом поле одолеем шведа с милостью Божией!
— Вам бы, генерал, стыдиться за бегство от Пагиок, а не играть в полевые баталии! — грозно пролаял герцог по-немецки. По-русски фон Кроа умел только поднимать тосты за здравие царя да ругаться матом. Борис Петрович от наглости герцога налился кровью. Его, мальтийского кавалера и рыцаря, победителя турок, какой-то битый турками же немецкий генералишка упрекает в бегстве?! Сие неслыханно!
— Я не бежал, а совершил ретираду, спасал войско от окружения. — Шереметев упрямо склонил голову.
Но герцог его уже не слушал, а обратился к генералу Галларту:
— Сколь крепка наша внешняя линия, господин фортификатор?
— Линия растянута на добрых семь верст и укреплена перед разными частями по-разному. Гвардия на правом фланге соорудила из телег целый вагенбург, обнеся его рвом и рогатками, у генерала Вейде тоже глубокий ров и насыпан высокий вал, а вот центр, где стоит дивизия генерала Головина и стрельцы князя Трубецкого, укреплен по-прежнему слабо… — уклончиво ответил инженер.
— И все равно, господа, лучше плохие укрепления, чем открытое поле! Будем оборонять лагерь! Русский солдат хороший работник, но совсем зеленый солдат. Один швед в поле стоит троих русских! Рано еще нам полевые баталии разыгрывать. Так-то, боярин! — Герцог наконец снова заметил Шереметева и приказал ему со всей дворянской конницей стать у реки, на крайнем левом фланге.
Поставив свой наряд по соседству с дивизией Вейде, Борис Петрович заявился к соседу попросить горячей пищи для конников и фуража для лошадей.
— Что ты, Борис Петрович! — всплеснул Вейде руками. — Сам государь ведает, что у солдат давно горячей пищи нет. Потому и ускакал в Новгород толкать обозы! А я нынче перед боем выдал солдатам последние сухарики да наскреб им по миске жидкой пшенной кашки! Не ведаю, как мои солдатики натощак со шведом-то биться будут.
— Ну, натощак простые солдаты иногда токмо злее бьются! А вот за своих дворян я боюсь! Всю местность у Веденберга и город пограбили, у каждого на запасной лошадке торба со скарбом привьючена, а вот фуражом запастись мои дворянчики подзабыли! — сокрушался Борис Петрович.
— А ты отправляйся к соседу моему, Головину, может, у него что выцыганишь, — посоветовал Вейде.
Но ни у Головина, ни у Трубецкого липшего сухарика тоже не нашлось.
— Ты что же, Автоном Михайлович, на валу солдат в одну линию поставил, а две другие линии спрятал позади вала! Ведь у тебя на валу один солдат на целых пять сажен стоит одиноко, яко перст! — удивился Шереметев, оглядывая центр позиции.
— Не тебе, беглец, мне указывать! — сердито буркнул Автоном Головин. — Пусть швед только через вал переберется, тут мы его и встретим огнем. Так приказал наш командующий, герцог де Кроа.
— Да ведь с вала солдатам стрелять сподручнее! — сомневался по-прежнему Борис Петрович.
— Сам знаю! — вырвалось вдруг у Головина. — Да сия диспозиция указана мне сверху. Только что сам герцог лаялся и приказал две линии отвести с вала.
— Почему же у Вейде солдаты на валу в три шеренги поставлены?
— А до Вейде господин герцог просто не доехал. Отправился в свой шатер дальше водку кушать!
Только в гвардии Борис Петрович разжился пшеном и фуражом. Гвардейские полки в срок получили провиантский обоз. И привел его тот самый провиантмейстер, которого царь пригрозил повесить. В вагенбурге Шереметева обступили молодые гвардейские офицеры, закидали вопросами.
— Борис Петрович, как же так? Нас втрое боле шведов, а спрятались за вал и палисады, растянув линию на семь верст, — заикаясь от волнения, спрашивал черноусый хромой майор (Шереметев потом вспомнил — Мишка Голицын, младший брат князя Дмитрия). — Ведь ударит на нас швед колоннами — сразу прорвет нашу линию в любом месте, где ему удобно будет!
«Соображает!» — подумал Шереметев. Но что он мог ответить! Развел руками:
— Такова диспозиция командующего. А, сами ведаете царский приказ — подчиняться герцогу, яко самому государю.
А на другое утро на черном холме Германсберг показались шведские колонны. Двигались ровно, стройно, словно их направлял какой-то выверенный механизм. Меж колоннами скакали артиллерийские упряжки с орудиями, позади синели эскадроны рейтар в до блеска начищенных латах.
— Вот она, Европа! — восторженно крикнул полковник преображенцев Чамберсу.
— Да, силища! Куда нам против них! — Чамберс одним духом выпил чарку перцовки, до которой был великий охотник.
«Ну, это мы еще посмотрим!» — выругался про себя Михайло Голицын, слышавший разговор двух наемников. Побежал вдоль шеренги своего батальона. Солдаты-семеновцы стояли твердо в четыре шеренги, укрывшись за рогатками, которые притащили в такую даль из-под Новгорода. В лицо солдатам летела ледяная крупа — начиналась жестокая метель. Когда колонны шведов начали спускаться с холма Германсберг, в снежной круговерти стало не видно ничего и в пяти шагах. Но гвардейцы в вагенбурге стояли плечо к плечу, чувствуя локоть товарища. А вот солдатики Головина и стрельцы Трубецкого маячили на валу огородными пугалами, и сюда, в центр русской позиции, и направил атаку своих гренадер фельдмаршал Реншильд. Передняя шеренга забросала русский ров фашинами, подскочившие шведские пушки пробили проломы в палисаде, и гренадеры Реншильда бросились на штурм.
В дрогнувших русских полках по цепочке пролетел крик: «Измена!» Первыми бежали к мосту через Нарову стрельцы Трубецкого, по пути убив нескольких офицеров-наемников, возопив при том страшно: «Немцы наших предали!» Затем гренадеры Реншильда с фланга ворвались в лагерь дивизии Головина. И здесь среди зеленых новобранцев прозвучал другой страшный на войне крик: «Обошли! Шведы нас обошли!» — и полки Головина многотысячной толпой тоже ударились в бегство, смешавшись у моста со стрельцами Трубецкого. Хлипкий понтонный мост не выдержал людской тяжести и рухнул в воду. Сотни солдат-беглецов попали в ледяную воду стремительной Наровы.
Шведы ворвались между тем уже на русские осадные батареи. Тяжелые пушки, смотревшие в сторону Нарвы, де Кроа по своей нелепой диспозиции так и не развернул против шведских колонн, и гренадеры Реншильда, внезапно появившись с тыла из снежной пелены, перекололи у ликами и штыками русских батарейцев.
— Центр прорван, господа! Дивизии Головина и Трубецкого бегут! — мрачно объявил герцог де Кроа своему штабу, укрывшемуся в шатре командующего. На столе герцога красовались закуски, водка, вина. Герцог налил себе стакан перцовки, выпил на одном дыхании, произнес злобно: — Я сам видел, как солдаты и стрельцы бьют офицеров-немцев. У царя не армия, а жалкий вброд!
— Что же делать, ваше высочество? — спросил, как всегда невозмутимый, Галларт.
— Что делать? Найти первого шведского офицера и отдать ему шпагу! Пора сдаваться, господа! Садимся на лошадей и скачем к шведам! — решительно приказал герцог. Так в самом начале сражения де Кроа перебежал к неприятелю. Русская армия осталась без командующего. С де Кроа бежал и его штаб, состоящий в основном из офицеров-наемников.
* * *
— Что за черт, сражение в разгаре, а из штаба герцога никаких распоряжений! — недоумевал Борис Петрович, вслушиваясь в ожесточенную стрельбу в центре русской позиции. Он стоял на пригорке над откосом реки и напрасно смотрел в подзорную трубу — все равно ничего не видно из-за проклятой метели, бившей в глаза русским.
Конница была поставлена по приказу де Кроа самым нелепым образом, частью на узкой прогалине от конца укреплений Вейде до речного откоса, частью на самом берегу.
— Герцог словно нарочно нас в реку толкает! — сердито: заметил Борис Петрович окольничему князю Урусову, начальному своего штаба.
— Мерзавец! Поставил нас кучей перед откосом, тут швед одной батареей всех нас в воду сметет! — матерно выругался Урусов.
— Знаю, ведь по всем правилам европейской военной науки, да и по нашим воинским обычаям, кавалерию надобно держать в тылу, в резерве и бросать в бой для преследования неприятеля. Сказал я об этом горе-командующему, когда он приезжал вечор к нам. И что же? Зыркнул на меня гневно и отмахнулся: делай, мол, как приказано! И я ему перечить не моги! На то царская воля! — с какой-то обреченностью ответил Шереметев.
А вскоре произошло то, что мрачно предсказывал Урусов: справа загрохотали шведские пушки и затрещали ружейные выстрелы. Шведский генерал Веллинг повел свои батальоны в атаку на левое крыло русских. Крайняя к реке батарея шведов ударила картечью по столпившейся у реки дворянской коннице, не имевшей никакого прикрытия. Картечь вылетала из ледяной снежной крупы и наповал разила ополченцев. Неприятеля не было видно, а смерть легко находила свои жертвы в густой и неподвижной массе конников.
Борис Петрович выхватил палаш, крикнул: «В атаку марш, марш!» — хотел взять шведскую батарею в конном строю, но куда там! Прошли те времена, когда дворянская конница была цветом московского войска.
Поражаемая картечью, масса смела с пригорка и Шереметева, и его штаб. Страх заразил и части, стоявшие на самом берегу, и они первыми бросились на лошадях в ледяную Нарову. А с откоса сотни всадников валились вниз. Звериный лошадиный храп, вой и человеческие стоны заглушили даже пушечные выстрелы.
Под Борисом Петровичем был испытанный умный аргамак. Конь сам выбрал место для спуска, спрыгнул с утеса на песок и ноги, слава богу, не переломал. А Шереметев сидел в седле крепко. Рядом на своем сивом благополучно приземлился и старший сын боярина, Михаил. Борис Петрович пытался повернуть коня, хотел уйти берегом в лагерь дивизии Вейде, но куда там, масса лошадей так сдавила, что оставалось поневоле подчиниться и со всеми броситься в ледяную реку.
— Вот мы и приняли, Миша, ледяную купель! — крикнул Шереметев сыну, вместе с которым выбрался на восточный берег Наровы. — Что ж, на все воля Господня. Ты вот что, Миша, найди немедля горниста, пусть трубит сбор!
Скоро запел одинокий горн, и вокруг Бориса Петровича стали собираться самые стойкие воины.
Большинство же дворян, нахлестывая лошадей, мчались в беспорядке по псковской дороге, хотя ни один швед за ними не гнался.
* * *
Самый упорный отпор шведы получили у вагенбурга, где плотной стеной стояла петровская гвардия. Преображенцы и семеновцы встретили колонны генералов Стенбока и Майделя дружными залпами. Первая шеренга давала залп, становилась на колено и заряжала, за ней стреляла вторая, третья, четвертая. Атака шведов перед рогатками сразу захлебнулась. Но генерал Стенбок недаром слыл самым жестоким генералом в шведской армии. Он беспощадно бросал свой батальон на гвардейский вагенбург — второй, третий, четвертый раз.
В батальоне князя Михайлы добрая треть солдат была поражена и убита, но оставшиеся еще плотнее смыкали ряды, и фронт не дрогнул. Крепко стояли и соседние роты. Вагенбург был затянут пороховым дымом, мешавшимся со снегом. Гвардейцы отбили очередную атаку, на время наступила тишина, это Стенбок и Майдель подтягивали батареи. И вот тяжелые пушки ударили по рогаткам и телегам, ограждавшим вагенбург. Огромные ядра сбивали деревянные рогатки, как пылинки, но не могли пробить ряды преображенцев и семеновцев — над павшими гвардейцы тот час смыкали ряды.
Бой продолжался уже четыре часа, метель стихала, и сквозь сумеречный свет просматривались непоколебимые шеренги русской гвардии.
— Они по-прежнему отвечают выстрелом на выстрел! — крикнул Майдель, подъезжая к Стенбоку. — Я послал к королю за подкреплением.
— Боюсь, у короля не осталось ни одной роты! — сурово ответил Стенбок.
— Тогда этот чертов вагенбург нам не взять! — прохрипел Майдель.
— Зачем паниковать, Майдель! — раздался высокий юношеский голос. — Мы возьмем еще и не такие редуты! — Стенбок и Майдель сорвали шляпы перед королем Карлом.
За королем прискакала сотня драбантов, личный конвой короля. В драбанты отбирались храбрейшие из храбрейших, настоящие викинги, которые презирали смерть и были готовы идти за своим конунгом в огонь и в воду. Каждый драбант имел офицерский чин.
Карл XII был весел и возбужден — оставалось одно усилие, взять этот чертов вагенбург — и виктория будет полной. Реншильд привел уже к нему сдавшегося в плен русского командующего герцога де Кроа, две дивизии русских бежали, мост на реке рухнул, до полной победы оставался один миг, а Майдель просит резерв!
— Вот весь мой последний резерв, Майдель, — мои драбанты! — И, обратясь к конвою, король крикнул: — Вперед, викинги, вас поведет в атаку сам король!
Карл И его драбанты устремились в конном строю на пролом в вагенбурге, едва прикрытый двумя полковыми пушечками. Пушечки плюнули картечью, с десяток драбантов упало, но остальные неслись за своим королем, который казался неуязвимым и для пуль, и для картечи.
Карл сам срубил рослого батарейца. Но в это время набежали семеновцы, один из них вонзил штык в бок королевского жеребца, Карл кулем свалился с лошади. Вокруг стояли ржание и храп Лошадей, лязг железа, крики сражающихся.
Драбанты спешно сгрудились вокруг короля, Посадили его в седло, повернули назад. И эта лихая атака была отбита.
У короля после падения голова шла кругом, он плохо расслышал ехидный вопрос Майделя: «Прикажете трубить отход, ваше величество?» — с трудом помотал головой, приказал через силу:
— Стоять здесь всю ночь! Утром мы их атакуем снова!
Батальоном семеновцев, который закрыл пролом перед драбантами, командовал Михайло Голицын. Увидев, что шведы захватили стоявшие в проломе полковые пушки, Голицын, не дожидаясь ничьих приказов, оставил за рогатками только одну шеренгу, а с остальными ударил во фланг драбантам короля и набегавшим шведским гренадерам.
«Коль шведы прорвутся через пролом, конец вагенбургу!» — одна мысль билась у Михайлы.
— Ввинтить багинеты, в атаку, други, ура! — позвал он и помчался впереди своих солдат, даже о хромоте забыл.
— Ура! — подхватили сзади сотни солдатских глоток.
Удар во фланг был неожиданным для шведов. Михайло видел, как его сержант Никита Шилов вышиб из седла молоденького шведского предводителя и бросился было брать его в плен, но наткнулся на здоровенного шведского гренадера. Михайло с лошади выстрелил из пистоля и завалил шведа, но и тот успел-таки пропороть байонетом его епанчу и задел бок. Раны в горячке боя и не заметил и только после того, как атака была отбита, почувствовал в боку что-то теплое. Пощупал и понял — кровь! Приказал перевязать, но остался в строю. Пролом был снова закрыт, вагенбург выстоял.
* * *
Вечером в палатке командующего гвардией Ивана Бутурлина в центре вагенбурга собрались генералы: Юрий Трубецкой, который не успел догнать своих бегущих стрельцов, прежде чем мост через Нарову рухнул, командующий артиллерией князь Имеретинский, потерявший нее свои пушки, обращенные к Нарве, сам Бутурлин. Неожиданно объявился Автоном Головин — прибыл не один, а с двумя полками, бившимися до самого вечера в центральном укреплении его дивизии, а в темноте берегом вышедшими к вагенбургу.
После ухода последних полков Головина стрельба в центре позиции совсем стихла, и только с левого фланга слышались частые выстрелы и артиллерийская канонада.
— Неужто Вейде со шведом даже в сумерках бьется, ведь у него оба фланга открыты? — удивился Трубецкой, который сразу после бегства своих стрельцов считал баталию проигранной.
— Надобно послать кого-то узнать, что там деется, — подал голос Головин.
— Кто пойдет, господа офицеры? — начальственно спросил Бутурлин у столпившихся у входа в палатку офицеров. Князь Михайло сразу шагнул вперед.
— Ты же ранен? — удивился Бутурлин.
— Пустяки, Иван Иванович, царапина! — Михайло ощерился, показывая крепкие белые зубы. Бутурлин махнул рукой: «Иди!» — за сего гвардейского строптивца он не в ответе.
— Езжай по берегу, шведов там нет! А дале держись поближе к стенам Нарвы, авось и проскочишь к Вейде, — посоветовал Головин на дорогу.
Михайло последовал совету генерала и благополучно проехал берегом. Из обоза долетали громкие голоса шведских гренадер.
— Да они там все пьяные, не иначе как бочонки с водкой в головинском обозе разбили! — рассмеялся вдруг Петр Шилов, взятый Голицыным для сопровождения.
— Тише ты, черт! Держись ближе к крепости! Швед оттуда все равно стрелять по нас не будет, за своих примет!
Слова Михаилы подтвердились, шведы со стен по ним не стреляли.
— Стой, кто идет? — раздался вдруг окрик караульного: они благополучно прибыли в лагерь Вейде. Сам генерал сидел по-походному, на барабане. Голова обвязана окровавленным платком, Вейде был ранен, но строй, как и сам Михайло, не покинул, держался бодро.
Сразу спросил:
— От командующего?
Князь Михайло недобро усмехнулся:
— Командующий, его светлость герцог де Кроа, давно шведам в полон сдался!
— Зато мы свой лагерь от Веллинга отстояли! — довольно сказал Вейде. — Когда полки Головина деру дали, а конница Бориса Петровича от нас через реку уплыла, я приказал загнуть фланги дивизии. С реки шведы нас и не атаковали, а справа я поставил бутырцев — вот они и отбили Веллинга, когда тот попытался зайти мне во фланг! — рассказал Вейде.
— Бутырцы — добрый полк, самый старый из солдатских полков в Москве. У меня половина семеновцев бывшие солдаты-бутырцы! — заметил Михайло, пораженный тем, как просто и спокойно держался Вейде. Еще бы, он выдержал бой с честью, его дивизия устояла. Рвы у этого генерала были глубокие, вал высок, солдат он поставил на валу плотно в три шеренги, вот и отбил все атаки шведов.
— Так ты говоришь, что командующий сдался! — Вейде покачал головой. — Ай-ай, то-то за все сражение я от этого герцога ни одного приказа не получил. Ну, что ж, устояли мы и без приказа. Так что генералам своим в вагенбурге передай: дивизия Вейде держится твердо и завтра готова драться со шведом вдругорядь! На консилию же я не поеду, бросить дивизию не могу. Вдруг швед ночью на штурм пойдет!
Обратно Михайло и его солдат добирались тем же путем. Но на сей раз не повезло. Снег совсем прекратился, и со стороны нарвского бастиона «Виктория» обстреляли подозрительных всадников. Михайло вскрикнул от боли — картечь угодила ему в правое плечо.
Впрочем, до вагенбурга добрались благополучно. Держа руку на перевязи, Михайло вступил в генеральскую палатку. Доложил господам генералам, что дивизия Вейде удержала левый фланг русской позиции и готова драться и поутру.
— Молодец, ученый немец, истинный герой! Как я со своей гвардией на правом фланге, так он левый фланг удержал! — не без самодовольства сказал Бутурлин. И добавил: — А может, завтра возобновим баталии, генералы, сожмем шведов с флангов-то? У меня, Автоном, с твоими полками в вагенбурге пять тысяч солдатушек наберется, а у Вейде в дивизии все десять тысяч будут?!
— Да и в брошенном обозе шведы пьяны в стельку! Друг в друга палят! Ежели ударить ночью, всех голыми руками перевяжем! — подал голос князь Михайло, все еще стоявший в дверях палатки.
— Ночью нельзя, ночью мы сами в лагере заплутаем, — отмахнулся Бутурлин, явно не хотевший выходить за укрепления вагенбурга. — Пусть рассветет, а там посмотрим!
— А что утро-то покажет, Иван Иваныч? — запричитал Трубецкой. — Центр прорван, половина войска бежала. Ну, повезло Вейде, что у него укрепления были крепкие. Но неизвестно еще, как его Солдаты в поле драться будут без еды и зарядов. Нет, полагаю, надобно немедля послать парламентариев к шведскому Каролусу. Король христолюбив, может, и отпустит нас, грешных, с миром на ту стороны Наровы.
— Князь Юрий дело говорит! — шумно выдохнул Головин. — Утром швед увидит, что войско наше разделено, и не мы их, а они нас голыми руками возьмут, разобьют по частям в хвост и в гриву! Нет, слать к королю парламентариев, пока темно. А наш государь простит — командующий-то наш первым сдался. А куда мы без командира! — Головин с хитрецой оглядел господ генералов.
Совсем, сникший царевич Имеретинский сразу согласился с Автономом Головиным:
— Нельзя нам без тяжелых пушек биться, господа, никак нельзя! Шведы нас в поле всех картечью побьют!
Михайло вышел из палатки, скрипя зубами от злости, знал уже, каково будет решение господ генералов.
* * *
В то самое время, когда русские держали совет в вагенбурге, в ставке короля тоже решали: что делать дальше?
Фельдмаршал Реншильд и генерал Веллинг боле всего опасались ночной атаки русских флангов.
— Половина моих гренадер перепилась, разбив бочки с водкой в русском обозе. Пьяны не только солдаты, но и некоторые офицеры: только что мне донесли, что две роты в центре русского лагеря обстреляли друг друга — их офицеры были настолько пьяны, что уже не могли отличить своих от неприятеля! — сердито говорил Реншильд. — Можно сказать, ваше величество, что мои гренадеры выбили русских из центра позиции, но русская водка выбила у них мозги. Не представляю, как они завтра с похмелья встанут под ружье!
— На моем участке солдаты Вейде дрались как черти! Этот генерал сумел прикрыть свои фланги, и нам так и не удалось ворваться в его лагерь! — в свою очередь доложил Веллинг. — В последний раз мои солдаты просто отказались идти в атаку.
— Что вы скулите, господа! — вдруг воскликнул король. — Ведь шпага — наша лучшая надежда! Шпага, вот кто не шутит! А наши рейтары, почитай, еще совсем в деле не были. Утром они зайдут с реки во фланг к Вейде, и мы сомнем дивизию этого упрямца. А из Нарвы по русскому вагенбургу ударят крепостные тяжелые орудия! Думаю, тут и русская гвардия не устоит. Помните сагу об Инглингах — берсерки в бою вгрызаются в край своего щита, ходят по раскаленному кострищу босыми ногами, но побеждают! Поступим и мы по их заветам! — Король побледнел и грозно оглядел своих генералов красными от гнева глазами. Он и сам напомнил в это время им берсерка — древнего викинга, у которого в бою был приступ бешенства. «И куда заведет Швецию сей берсерк?» — с тревогой подумал Веллинг, осторожный комендант Риги. Но в этот момент дежурный комендант вдруг объявил, что прибыли парламентеры от русских.
В королевской палатке пронесся вздох облегчения. Через полчаса были подписаны условия капитуляции. Русские выдавали шведам всю артиллерию и всех генералов. Солдат же и младших офицеров отпускали с честью через наводной мост. Веллинг даже послал своих саперов, чтобы скорее соорудили мост. Первыми через мост отступали преображенцы и семеновцы. У многих гвардейцев были перевязаны головы и руки, но они шли столь грозно, что шведы побоялись к ним подступиться. Зато когда последней подошла дивизия Вейде, во многих ротах которой не хватало половины солдат, шведы задержали самого генерала и приказали солдатам сдать оружие.
— Сие за то, что мы не нашли в вашем вагенбурге армейской казны! — с насмешкой заявили Вейде шведские офицеры. Казну ту еще до сражения переправили через Нарову в полки, стоявшие у Иван-города.
Солдаты, матерясь, бросали в воду люттихские мушкеты, лишь бы не отдавать их шведам. Армия без ружей и генералов двинулась по новгородской дороге. Впрочем, гвардия дошла до Новгорода в полном порядке, во главе с младшими офицерами, заменившими старших. Но шедшие за гвардией полки брели уже нестройной толпой.
Однако солдаты все же не разбежались, вопреки предположениям генерала Реншильда, который много раз видывал на Западе, как разбегаются, а то и вступают в неприятельскую армию после поражения наемные ландскнехты.
Русские же солдаты, оборванные, голодные, замерзшие, добрели до Новгорода. Пришло от Нарвы двадцать две с половиной тысячи человек, погибло и оказалось в плену восемь тысяч. Петр, встречавший войска в Новгороде, сам был удивлен стойкости солдат и младших офицеров.
— Что старые генералы и полковники сдались, то и хорошо! — жестко сказал царь. — Молодым теперь легче по службе продвигаться будет! А что пушки потеряли — не беда, новые отольем! Главное, что наши солдаты до Новгорода дошли, сие прямой выигрыш! — заметил Петр Меншикову после встречи войск.
Фаворит весело улыбнулся:
— Да ведь русский солдат, мин херц, тот же русский мужик! А ведь русский мужик, всем ведомо, привык всегда артельно жить, вот солдаты и не разбежались по полям и весям, а явились в Новгород дружно, всей артелью.
В Новгороде солдат накормили и напоили из армейских складов, одели по-зимнему, заново стали разбивать, До полкам.
Михаилу вызвали к самому царю. Петр покосился на «его перевязанную руку, сказал по-доброму:
— Наслышан, княже, наслышан! Дважды ранен, но остался в строю, привел полк! Так что поздравляю тебя подполковником!
Михайло хотел было откозырять раненой рукой, но дернулся от боли, побледнел. Петр хмыкнул:
— Даю тебе месяц на поправку! Езжай в Москву, покажись моему лекарю, пусть лечит. Скажи, я велел. И скорее в строй! Мне добрые офицеры ох как сейчас нужны! Швед, он ведь и зимой воевать приучен.
* * *
Но швед, супротив ожиданий, зимой не пошел ни на Новгород, ни на Псков. Король Карл сгоряча хотел было преследовать русских по новгородской дороге, но генералы отговорили.
— У нас в строю осталось всего семь тысяч солдат, все измождены тяжелыми переходами. Провианта в войсках всего на три дня, а в русском лагере съестных припасов почти не нашли, только водку. Надобно немедля отводить армию на зимние квартиры под Дерпт! — дружно твердили и Реншильд, и Веллинг, и Майдель, и даже суровый Стенбок. Король вынужден был согласиться.
Из-под Дерпта он написал письмо в Государственный совет в Стокгольм, высокомерно требуя нового набора в армию. Высокомерие теперь король мог себе позволить — вся европейская печать величала его не иначе как вторым Александром Македонским. Самый прославленный европейский ум, немецкий философ и ученый Лейбниц призывал короля сокрушить Московию, как когда-то Александр сокрушил Персидское царство Дария, и создать свою империю до Тихого океана.
Но шведских генералов и офицеров гораздо более привлекали богатые местности польского панства и города Саксонии, нежели нищая Московия. Короля легко убедили, что главный враг там, и он бросился летом на зачинщика сей войны вертопраха Августа.
В июле 1701 года шведы перешли Западную Двину и наголову разбили саксонцев. Началась погоня за польским королем. А на востоке против орд московитов оставили даже не генерала, а молодого полковника Шлиппенбаха — так сильно после Нарвы Карл XII презирал русских.
Малая война
Первые месяцы после нарвской конфузии 1700 года прямая шведская угроза нависла над Новгородом и Псковом. Посему эти города крепили в первую очередь: подновляли старые укрепления, вокруг новгородского детинца насыпали земляные бастионы. На бастионы и болверки надобно было ставить пушки, а почти всю артиллерию потеряли под Нарвой. Для скорой отливки пушек потребна была медь, и Петру ничего не оставалось, как издать известный указ: снять часть колоколов «от церквей и монастырей для делания пушек и мортир». Уже к июлю 1701 года было собрано одной колокольной меди 90 тысяч пудов и к концу года отлито 268 орудий. Армия получила новую артиллерию.
Все пехотные полки были заново устроены: получили не только новое оружие, но и новых офицеров. Взамен сдавшихся под Нарвой наемников назначали из отличившихся под Нарвой младших русских, а в младшие произвели отменных сержантов. На русский офицерский корпус царь мог теперь положиться — ни один русский офицер за долгую северную службу не перебежал к неприятелю.
Хуже, чем с пехотой, обстояли дела с конницей. Как Петр, так и Борис Петрович Шереметев, сидевший во Пскове, не могли боле полагаться на дворянское ополчение, столь позорно бежавшее из-под Нарвы.
Борис Петрович, гордость которого, как победителя турок и мальтийского кавалера, была страшно уязвлена нарвским бегством, жаловался на своих ополченцев: лошади — худые, сабли — тупые, строю не обучены, к ружью неумелые, на войне от них один клик!
Петр и сам понимал, что надобно срочно создавать регулярную конницу, и в начале 1701 года пишет указ князю Борису Алексеевичу Голицыну срочна сформировать девять драгунских полков к двум уже имевшимся. Формировались поначалу полки из дворян, детей боярских и бывших рейтар. Впоследствии стали брать и простых рекрутов из мужиков. Уже в 1701 году в драгунских полках насчитывалось 12 234 человека, в то время как дворянское ополчение сократилось до 1180, а потом совсем исчезло.
Нетерпеливый Петр тут же отдал приказ Шереметеву идти в Прибалтику и учинить поиск неприятеля.
Но Борис Петрович царского указа ослушался и в январе 1701 года из Пскова за рубеж не пошел.
Опытный воин, он еще под Нарвой хорошо усвоил горячность шведского короля и понимал, что пока Карл XII стоит с главной армией под Дерптом, в Прибалтику ему идти никак нельзя — на короля сей поход подействовал бы как на быка красная тряпка и он тотчас бы бросился в русские земли. А к Шереметеву пока еще не пришли ни новые полки, ни новая артиллерия. И что он мог выставить супротив главной шведской армии — остатки дворянского ополчения, недовольных тем, что их послали воевать на север, да несколько битых под Нарвой полков дивизии Головина. Неизбежна была бы новая великая конфузия. А снова бегать от шведов Шереметев не собирался.
И он ведет себя по-хитрому, по-старобоярски — тянет и тянет время, невзирая на великий царский гнев.
А пока наблюдает из Пскова за главной армией шведов. Только когда стало достоверно известно, что Карл XII, получив подкрепления из Швеции, марш взял из-под Дерпта на юг, а не на восток, разбил на Западной Двине саксонское войско и ушел в Курляндию, Борис Петрович переходит ливонский рубеж и начинает борьбу с Шлиппенбахом. Шлиппенбах летнее бездействие Шереметева принял за его крайнюю слабость и, будучи не менее пылким воином, чем его король, летом 1701 года вторгся даже в пределы Псковской земли и пошёл под Печорский монастырь.
Но, к немалому удивлению Шлиппенбаха, монастырь был отменно укреплен и имел сильный гарнизон, который и не подумал сдаваться, а отбил наскок шведов, вынужденных отойти от стен Печоры. После этой неудачи Шлиппенбах начинает взывать королю о подмоге, но никакой помощи из главной армии не получает, поскольку Карл XII все глубже увязает в польских делах.
Пользуясь этим, Борис Петрович в сентябре 1701 года посылает на поиск за рубеж два сильных отряда — один под командой своего сына — первенца Михаила, другой под командой Корсакова.
На реке Выбовке у Репиной мызы Михаил Шереметев встретил отряд шведов в пятьсот солдат и смело атаковал его. Русские драгуны в конном строю взяли шведскую батарею. Михаил Борисович не удержался и по молодой горячности сам возглавил атаку — несся впереди драгун прямо на шведские пушки, навстречу картечи. И пронесло: ни одна пушка не задела! Взяли две исправных пушки, знамена и восемьдесят пленных. В Печоры Михаил Шереметев возвращался как победитель: перед ним везли взятые шведские знамена и пушки, позади вели пленных, за ними гарцевал сам молодой победитель — в красном кафтане и лихо заломленной лисьей шапке.
На всех башнях и раскатах Печорского монастыря стоящие там полки приветственно распустили знамена, со стен салютовали пушки. Борис Петрович сам встретил любимое чадо у ворот, обнял и троекратно расцеловал на виду всего войска. Некогда остались одни, отец гневно обрушился на сына: зачем рисковал, сам повел драгун в атаку?
— Место твое, яко предводителя, Михайло, не впереди, а позади войска. А что, если бы ты погиб? Наперед знаю: все твое воинство тотчас пришло бы в конфузию и отступило, а может, и в бега ударилось! — сердито выговаривал Борис Петрович сыну, а про себя любовался им: в 28 лет вымахал высоченный красавец — широк в плечах, на лице играет румянец. А что горяч в бою, так тут он весь в меня!
Михайло слушал и не слушал батюшкино поучение, в Сердце еще играла радость от первой победы.
Через день, правда, торжества в стане Шереметева были подпорчены известием о неудаче отряда Корсакова под мызой Рауте, где дворянское ополчение и украинские казаки встретились с самим Шлиппенбахом. Шведская пехота стойко отбила все беспорядочные атаки нестройного воинства Корсакова. Но преследовать русских швед не решился. Тем не менее Шлиппенбах изобразил в донесении к королю эту стычку за свою великую победу и получил за это от Карла XII долгожданный чин генерал-майора. Правда, Шлиппенбах, благодаря короля за производство, честно записал, что предпочел бы званию генерала подкрепление к семь-восемь тысяч солдат. Но Карл XII и не думал посылать новые полки против варваров-московитов. Победа под Нарвой на долгие годы застила королю глаза.
Помощи от Петра просил и Борис Петрович, настаивая прежде всего на присылке драгунских полков на смену дворянскому ополчению.
И, только получив новые драгунские части, Шереметев 23 декабря 1701 года двинул свое войско числом в 16 800 человек в «генеральный поход».
Борис Петрович хорошо знал, что протестантское Рождество у шведов на две недели ране, чем у православных, и повел свои войска за рубеж как раз под шведский праздник.
— За празднеством-то, Миша, шведы не сразу и разберутся, что к чему, и обрушимся мы на них, яко снег на голову! Шлиппенбах и шапки надеть не успеет, как я к нему; во двор въеду! — объяснял Борис Петрович сыну свою стратагему.
— Поход на Эрестфер, где, по сведениям от лазутчиков, стоял сам Шлиппенбах, и впрямь совершался «тайным обычаем». Перейдя реку Великую, Шереметев оставил, для скорости, в тылу весь обоз и дале двинул налегке. Внезапность была достигнута полная. Передовые разъезды русских — казаки и калмыки — смяли шведское охранение и едва не ворвались в лагерь. Только в последнюю минуту они были отбиты жестокой картечью шведских пушек.
Приняв отступление казаков за бегство, шведские рейтары бросились их преследовать, но в свой черед были отбиты русской пехотой.
Борис Петрович с холма смотрел, как разворачиваются вышедшие из Красной мызы — так русские по цвету стен именовали Эрестфер — шведские полки, и возликовал. Шлиппенбах, ясно, не успел стянуть все свои части, шведский фронт был вдвое короче русского. После недавней оттепели мела жестокая поземка. Сильный колючий ветер дул на сей раз не с запада, а с востока, в лицо шведам, и был благоприятен русской атаке.
— Это вам не Нарва! С нами силы небесные!
Борис Петрович дал знак, и трубачи пропели сигнал к атаке. Не дожидаясь подхода пехоты, восемь драгунских полков Шереметева бросились на неприятеля, успевшего вывести в поле не боле четырех тысяч солдат.
Драгуны в конном строю взяли шведские батареи и прорвали фронт Шлиппенбаха. А подошедшая пехота ворвалась в Эрестфер и переколола там остатки ожесточенно сопротивлявшихся шведов. Бой продолжался целых пять часов, но виктория была полной: более трех тысяч неприятельских солдат было убито и ранено, триста пятьдесят попали в плен (среди них полковник и ротмистр), взяты были 16 пушек, большие запасы провианта и фуража. Правда, сам Шлиппенбах успел уйти на лихом коне в Дерпт, под защиты грозных бастионов сей шведской фортеции.
Письмо царю о виктории Борис Петрович писал прямо в захваченной ставке Шлиппенбаха, в просторном помещичьем доме, где, словно поджидая победителя, под новогодней елкой стоял накрытый праздничный стол, уставленный ревельскими колбасами и ветчинами, копчеными угрями и пряной балтийской сельдью, жареными гусями и утками. Борис Петрович от Шлиппенбахова угощения не отказался. Закончив письмо Петру, пригласил за стол весь свой штаб. Боярин весело поднимал чару за свои полки, пил тонкое ренское вино (взяли его во множестве бочонков), наслаждаясь теплом от потрескивающего сосновыми поленьями камина, слушая возбужденные, еще не остывшие после боя голоса своих полковников, и с облегчением думал: теперь швед в Прибалтике долго от сей конфузии не оправится.
Через день драгуны и казаки под водительством миргородского полковника Данилы Апостола были уже у стен Дерпта или Юрьева, как назван был сей град еще его основателем, великим киевским и новгородским князем Ярославом Мудрым. В великом страхе шведы сами подожгли посады, а с бастионов открыли столь сильную пушечную пальбу, что передовые русские разъезды повернули назад.
Донесение в Москву о славной виктории под Эрестфером Борис Петрович по боярской родовитой семейственности послал со своим сыном Михаилом, дабы царь отметил и обласкал его первенца. Расчет был верный — Михаил за радостное известие получил долгожданный чин полковника, заслуженный еще за победу при Репиной мызе, и высокую царскую милость. Но более всего царь на радостях от первой большой виктории в открытом поле над дотоле непобедимыми шведами даровал наград самому Борису Петровичу. Победитель при Эрестфере получил сразу чин генерал-фельдмаршала и орден Андрея Первозванного. «И для такой великой радости, — записал в дневнике современник, — прислан был с Москвы во Псков к боярину-Борису Петровичу Шереметеву с милостивым царским словом и золотыми Александр Данилович Меншиков».
Перед царским фаворитом Борис Петрович долго любовался на доставленный ему в награду портрет царя, усыпанный бриллиантами, поцеловал его и говорил Меншикову со слезой, что дале служить государю он будет с еще большим усердием и ревностью.
— А Петр Алексеевич желает тебе новых викторий! — кратко ответствовал Александр Данилович, в глубине души страшно завидовавший удачливому полководцу и поклявшийся со временем достичь тех же чинов и наград.
Во Псков Борис Петрович вступил яко римский триумфатор. Впереди везли взятые шведские знамена и пушки, вели сотни пленных.
За ними маршировали победные пехотные полки. А перед конницей гарцевал сам Борис Петрович, сияя боярской броней. У Рыбинских ворот Бориса Петровича встретил псковский митрополит Иосиф с живоносными крестами и святыми иконами.
Здесь боярин с коня слез и бронь служилую снял, после чего перекрестился перед иконами и подошел к митрополиту за благословением. В соборе состоялся праздничный молебен, и Борис Петрович со слезами умиления слушал сие молебное пение.
После на генеральском дворе устроен был пышный праздник, на коем были все генералы и полковники. Троекратно салютовали пушки со стен.
Начальным людям Меншиков раздал царскую награду золотыми червонцами. Всем же солдатам и драгунам было дано по рублю. Еще более пышный праздник в честь первой победы над шведом состоялся по приказу царя в Москве, где для такой радости на Красной площади были построены государевы деревянные хоромы для гостей и зажжен праздничный фейерверк. Петр хотел всех убедить в важной истине: и мы можем бить шведов!
В честь победы при Эрестфере сочинены были даже вирши, в коих царский Орел одолевает шведского Льва, а победитель восхищает всю Европу.
Впрочем, весной 1702 года победитель при Эрестфере еще и сам побаивался своей печальной виктории: как бы не аукнулась его победа в главной шведской армии, стоявшей в Курляндии, от которой до Пскова было всего несколько переходов. И в марте 1702 года Шереметев запрашивает царя: «Как весну нынешнюю весть, наступательно иль оборонительно?» И Петр понимает сомнения своего полководца, ведая, что одно дело — сражаться с отдельным неприятельским корпусом и совсем другое дело — со всей шведской армией. Потому царь отвечал осторожно: «С весны поступать оборонительно».
— И только когда стало Петру известно, что Карл XII уходит к Варшаве, посчитав победу Шереметева под Эрестфером большой случайностью, Петр пишет своему фельдмаршалу, что настал «истинный час».
* * *
Победы Шереметева в Эстляндии и Лифляндии и разгром корпуса Шлиппенбаха позволяли теперь Петру I сосредоточить все свое внимание на завоевании «земель отич и дедич», земель по Неве. Петр I вернулся осенью 1702 года к тому стратегическому явлению, которое он наметил еще до начала войны. На Неве Петру I предстояло взять две шведские крепости: Нотебург (бывший новгородский Орешек) и Ниеншанц.
Занятие линии Невы вбивало клин между шведскими владениями в Финляндии, с одной стороны, и Эстляндии и Лифляндии — с другой, сразу выводило Россию к морю и обеспечивало ей хорошую глубоководную гавань в устье Невы. Преимущество сей гавани было не только в том, что она могла принимать корабли с самой тяжелой осадкой (в отличие, скажем, от устья Наровы), но и в том, что через Неву и Ладогу была обеспечена прямая связь с внутренними водными дорогами России (а водные пути в те времена были главными). Наконец, занятие Ингрии или Ижорской земли и было прямым возвращением «земли отич и дедич» Господина Великого Новгорода. Международно-юридические права России на эти земли были настолько несомненны, что не оспаривались даже в антирусских памфлетах, появлявшихся в течение всей Северной войны: на Западе.
Словом, то было самое верное стратегическое направление для мощного русского удара в Прибалтике, и Петру I приходилось в 1702 году лишь сожалеть, что в несчастном нарвском походе он ради интересов союзника сменил это направление и двинулся под Нарву, а не под Нотебург.
Однако овладение Нотебургом — сильной старинной крепостью, заложенной еще новгородцами, а ныне заново укрепленной шведами, — представляло немалые трудности.
Во-первых, крепость стояла на острове посреди Невы, вблизи Ладожского озера. На озере же господствовала шведская флотилия адмирала Нумерса.
Во-вторых, на помощь осажденной крепости всегда мог подойти корпус шведского генерала Кронгиорта, стоявший на реке Ижоре, а от Ниеншанца, крепости в устье Невы, всегда могли явиться шведские суда эскадры адмирала де Пру, крейсировавшие в Финском заливе.
Следовательно, надо было провести целый ряд предварительных операций, прежде чем приступить к осаде Нотебурга. И Петр I действует здесь очень последовательно: во-первых, корпус Апраксина, состоявший из 5 пехотных и 2 драгунских полков, атакует летом 1702 года генерала Кронгиорта на реке Ижоре, наносит ему поражение и заставляет отступить в Финляндию; во-вторых, отряды полковников Островского и Тыртова, посаженные на струги, смело атакуют эскадру Нумерса на Ладожском озере. Особенно успешно действовал Тыртов, который атаковал Нумерса под Кексгольмом во время штиля. Шведские суда не могли поднять паруса и уйти от русских: два шведских судна были сожжены, одно потоплено и два взяты на абордаж. Остатки флотилии Нумерса очистили Ладогу.
В итоге этих операций были обеспечены подходы к Нотебургу и с юга, из Ингрии, и со стороны Ладоги.
Но Петр мыслил всю операцию шире, чем штурм одной, хотя и важной, шведской крепости. Он выходил на новое операционное направление, которое должно было вывести его к морю! Одна главная военно-морская база России на севере лежала пока не на Балтике, а на Белом море, в Архангельске. И Петр решает использовать в операциях на Неве и эту далекую базу. Взяв две яхты, построенные на архангельских верфях, он проводит их, где через реку и Выг-озеро, а дале волоком, по прорубленной в тайге просеке к Онежскому озеру. Только беспримерный трудовой подвиг солдат гвардейских полков и крестьян-поморов обеспечил сей неслыханный переход в 250 верст. Петр сам шел в этом тяжком походе, деля трудности наравне со всеми. Солдаты едва поспевали за царем.
Разве можно было представить современных Петру I монархов, например Людовика XIV, танцующего менуэты на зеркальном паркете Версальского дворца, впрягшимся в общую лямку и волоком тянущим тяжелые суда в лесах и болотах Карелии? Да и отец Петра I, царь Алексей Михайлович Тишайший, в эти болота сам бы николи не полез, а отправил бы туда каторжных! Но Петр тянул свой канат через леса и топи и заставил тянуть его свою гвардию, цвет русского дворянства. И Голицыны, и Долгорукие покорно слушались царя и тянули общую лямку.
Зато 3 сентября 1702 года первая русская флотилия, «чудом», а точнее, «великими трудами» проведенная по воде и суше из Белого моря, вошла в Ладогу и сделала невозможным появление в озере новой шведской эскадры.
Так Нотебург еще до того, как 25 сентября 1702 года был осажден русской армией, блокировали и с воды и с суши.
Придавая особое значение этой операции, которой он фактически лично руководил, Петр I сконцентрировал вокруг Нотебурга максимум сил. Помимо корпуса Апраксина к крепости подтягиваются из Прибалтики и войска Шереметева, по Волхову и Ладоге доставляется тяжелая артиллерия. Пока возводятся батареи напротив крепости, 50 стругов волоком перетаскивают из Ладоги и спускают в Неву ниже Нотебурга, чтобы замкнуть блокаду и пересечь всякое сообщение шведам по Неве.
В старую новгородскую крепость Ладогу, ставшую сборным пунктом для всех войск, Петр I призвал и своего первого фельдмаршала. Шереметев был нужен царю «для генерального совета» как самый опытный из всех петровских генералов, уже показавший, что можно бить и шведа! «Без вас не так у нас будет, как надобно! — честно признавался Петр в письме к Борису Петровичу от 3 сентября 1702 года. А через неделю следует еще более настойчивое царское приглашение: «Изволь, ваша милость, немедленно быть сам неотложно к нам в Ладогу: зело нужно и без того инако быть не может». Петр I редко кого просил, боле приказывал, — и это показывает, сколь высоко ценил царь своего первого фельдмаршала. Ведь за плечами Шереметева были уже виктории при Эрестфере и летняя при Гумельсгофе, а сам царь еще ни одной победы над шведами не одержал. И хотя Петр лично руководил всей операций, роль фельдмаршала не следует приуменьшать. Шереметев И на Неве был первым среди генералов, и с ним Петр постоянно держал совет, понимая, что его собственный молодой задор с пользой для дела умеряет опыт и основательность Шереметева. К тому же фельдмаршал одним своим появлением предотвращал свары среди генералов, которые все признавали его старейшинство.
Только как бомбардир-капитан царь намного превосходил своего боярина и потому самолично поставил осадные батареи вокруг Нотебурга.
После похода войск Шереметева, имевших наибольший боевой опыт, русские переправились через Неву и захватили шведские шанцы, лежащие на северной стороне реки и прикрывавшие крепость с севера. Нотебург был полностью осажден.
Комендант крепости, младший брат генерала Густава Вильгельма Шлиппенбаха на предложение капитулировать с почетом ответил категорическим отказом.
— Узнаю, государь, горячность Шлиппенбахову, — заметил Борис Петрович царю.
— А вот мы охладим горячего полковника моими пушками! — усмехнулся Петр, и 1 октября загремела тяжелая осадная артиллерия. Непрерывный обстрел продолжался целых десять дней. По приказу господина главного бомбардира стреляли даже ночью, при свете горящих смоляных факелов.
Остановились только единожды, когда шведы прислали парламентера — просили выпустить из крепости офицерских жен. Царь и Шереметев в этом коменданту отказали — потребовали сразу сдать крепость, обещая при том отпустить весь гарнизон с почетом вниз по Неве.
Но сдавать крепость Шлиппенбах и не думал, и артиллерийская канонада возобновилась с еще большим ожесточением. Наконец, когда наполовину рухнула часть крепостной стены, даже осторожный Борис Петрович согласился идти на штурм.
Когда кликнули охотников, набралось две тысячи солдат.
— Государь, позволь и мне идти с охотниками! — заикаясь от волнения, попросился Михайло Голицын, когда Петр явился в Семеновский полк.
Петр посмотрел на крепко сбитую, ладную фигуру Голицына, на его волевое решительное лицо. Ведь как отличился, когда тащили яхты через карельский бурелом, — сам тянул лямку, в то время как командир семеновцев Чамберс снова, как и под Нарвой, сказался больным.
— Что ж, хорошо, что отважен, лови фортуну за хвост!
Царь назначил князя Михайлу командовать передовым отрядом. Резерв же отдал в команду своему любимцу, поручику Меншикову, который тоже давно просился в горячее дело.
На рассвете в туманной мгле струги с охотниками двинули к Нотебургу. Шведы заметили движение и встретили русских огнем ста пятидесяти орудий.
Михайло видел, как бомба попала в следовавший за ним челн. В воду с криками и стонами полетели солдаты, лодка перевернулась и затонула. Быстрое течение сносило вниз по Неве солдатские треуголки. Но следить дале было некогда. Струг уже уткнулся в отмель, и солдаты-семеновцы по пояс в воде, неся над головами ружья и лестницы, двинулись на брешь, пробитую в крепостной стене. Но шведы установили там ночью легкие пушки. Те плюнули картечью, и десятки солдат легли под стеной. Михайлу обогнал Петр Шилов, быстро поставил лестницу к стене и тут же выматерился — лестница оказалась короткой.
Михайло махнул шпагой, бросился к бреши, где можно было взойти и без лестницы. Солдаты побежали за ним.
Прошли сквозь картечь, захватили брешь и три пушки. В ответ шведские гренадеры стали бросать со стены бомбы. Одна из них, шипя, завертелась у ног Михаилы. Он отпихнул ее, но граната взорвалась. Взрывом Михаилу выбросило из бреши. Ударился, должно быть, о камень головой, в глазах потемнело. Когда очнулся, шведские гренадеры опять заняли брешь и вели оттуда частый огонь.
Охотники попятились, иные побежали вспять к реке.
— Не допустить ретирады! Оттолкнуть челны на течение! — Михайло бросился к отмели. — А ну, помогай! — крикнул он Шилову.
Столкнули один челн, другой.
— Что он там делает? — удивился Петр, глядя с береговой батареи в подзорную трубу.
— Думаю, князь Михайло перекрыл всем путь к ретираде! — спокойно рассуждал стоящий рядом с царем Шереметев. — Без лодок и челнов что солдатам делать? Иль погибать в водах Невы, иль взять штурмом фортецию! Иного не дано!
— Уже который час идет штурм стены, и все без толку. Мишка Голицын понапрасну лучших солдат губит! Я бы на его месте не челны от берега толкал, а давно трубил общую ретираду, государь! — вмешался тихий Аникита Иванович Репнин, ох как не любивший зазнайку Голицына.
— И то правда! — согласился вдруг с ним Петр. И приказал адъютанту, офицеру-преображенцу: — Плыви немедля к князю Михаиле. Пусть трубит ретираду, а не то он на том штурме всех охотничков положит. Так Борис Петрович? — Царь обернулся к фельдмаршалу.
— Да, лесенки-то коротковаты вышли, по ним на стены не взойти! — тяжело вздохнул Шереметев.
— Ничего, пусть еще артиллерия день-другой поработает, тогда и взойдем на стены! — угрюмо сказал Петр, вглядываясь в окутанный пороховым дымом Нотебург. Там надсадно ревели шведские пушки, слышалась частая стрельба. Но что это, за рекой снова пропели трубы, но то был сигнал не к ретираде, а к новой атаке.
Когда царский адъютант, чисто выбритый, в новеньком преображенском кафтане предстал перед князем Михайлой, тот был в порванном при падении мундире, с перевязанной головой, с блестящими на покрытом порохом лице сумасшедшими глазами — весь в горячке боя. И по горячке ответил не раздумывая:
— Передай государю: ныне я в ответе токмо перед Господом Богом, умру иль возьму крепость!
По лицу Петра от гнева заходили желваки, когда адъютант честно передал ему слова Голицына. На сей миг Борис Петрович оторвался от подзорной трубы и сказал с видимым восхищением:
— Ай да Мишка, ай да молодец — отбил-таки брешь у шведа!
Теперь и простым глазом было видно, как зеленые мундиры охотников заполонили брешь в стене и хлынули в крепость.
— Мин херц, прикажи и мне идти на подмогу! Мои солдатики лестницы довязали — сразу на стены взойдут! — попросился у царя Меншиков.
Петр согласно махнул рукой, и скоро пятьдесят челнов Александра Даниловича помчались через реку. Расчет оказался верным: Шлиппенбах почти весь гарнизон стянул к пролому, и пятьсот солдат Меншикова легко взошли на слабо охраняемые стены и открыли частый огонь по внутреннему двору крепости.
И вот после этого жалобно запели шведские горны, моля о пощаде: Шлиппенбах сдался после тринадцатичасового штурма крепости.
Возмущенный большими потерями среди охотников (полторы тысячи убитых и раненых), принимавший капитуляцию Шереметев потребовал, чтобы крепость была сдана ему в тот же день до наступления ночи, «без всякой отсрочки, оговорок или перемены мест!».
Борис Петрович так спешил еще и потому, что знал, что Нотебургу на выручку поспешает семитысячный корпус генерала Кронгиорта. На другой же день после штурма, 12 октября фельдмаршал перешел с частью войск через Неву и двинулся навстречу шведам.
Русские драгуны потеснили передовые разъезды шведских рейтар, но большой битвы не вышло. Кронгиорт, узнавший о капитуляции Нотебурга, не стал принимать бой и отошел к Выборгу. Так виктория на Неве была закреплена и на Карельском перешейке.
Остатки шведского гарнизона посадили на восемь стругов я отправили вниз по Неве. А 146 тяжелых шведских орудий достались русским.
Так России вернули новгородский Орешек, запиравший на ключ вход в Неву. Петр решил переименовать Нотебург в Ключ-город (Шлиссельбург).
Правда, что зело жесток сей орех был, однако, слава богу, счастливо разгрызен.
«Артиллерия чудесно дело свое исправила! — обрадованно сообщал Петр в Москву начальнику Пушечного приказа дьяку Виниусу. — Но пушки лишь пробили пролом в стенах, а брала-то крепость пехота: солдаты-охотники, две трети коих были убиты или ранены».
В честь сего подвига все участники штурма получили наградные медали, впервые отлитые в Северной войне. Михайлу Голицына, раненного, с лицом, черным от пороха, Петр на берегу обнял и простил дерзкое слово. После того на другой день произвел в полковники второго гвардейского полка — Семеновского.
Еще больше наград посыпалось на царского фаворита Александра Даниловича Меншикова, который был назначен комендантом «плененной шведской крепости Шлиссельбурга».
А с завоеванием на другой год Ижорской земли Меншиков стал генерал-губернатором всей Ингермландии. Впрочем, Ингрию надобно было еще отвоевать у шведа до конца — устье Невы пока замыкала шведская фортеция Ниеншанц, а с юга ее подпирали две старые новгородские крепости — Ям и Копорье, захваченные шведами еще при знаменитом короле-воине Густаве Адольфе, который в начале семнадцатого столетия, казалось, навечно преградил России путь к Балтике. Весной предстоял новый поход.
Ниеншанц и Санкт-Петербург
Ниеншанц был не первым укреплением, воздвигнутым шведами на протяжении их вековой агрессии на Неве. Еще в 1300 году, рассказывает новгородский летописец, «придоша из-за моря свей, приведоша мастеры… поставиша город под Невою на устье Охты-реки и утвердиша твердостью несказанною… нарекоша его Венец земли» (Ландскрона). Однако новгородцы не дали тогда шведам утвердиться и на следующий год взяли и разрушили крепость.
В Новгородской республике прекрасно понимали всю неясность обладания устьем Невы для их балтийской торговли — отсюда и та быстрота, с которой были собраны новгородские рати, и решительный характер их действий: Ландскрону взяли не долгой осадой, а приступом. Бились за свое, родное: ведь на острове Котлине новгородцы давно уже держали морскую стражу и новгородские лоцманы водили «немецких гостей» через невские пороги к Орешку — тут шла ось всей балтийской торговли Господина Великого Новгорода.
Это было не первое столкновение новгородцев со шведами в борьбе за Неву. Первую победу в этих местах над шведами новгородцы одержали еще в славной битве 15 июля 1240 года под предводительством Александра Ярославовича, получившего за сей бой славное имя — Невский.
Надобно сказать, что боевой дух Александра Невского освящал и знамена войск Петра I, и царь неоднократно взывал к этому специально для воодушевления своих солдат. За великим примером Петр I обращался именно к победоносному Александру Невскому, а не к Ивану Грозному, проигравшему Ливонскую войну, и не случайно в Санкт-Петербурге, основанном Петром I, была заложена Затем царем Александро-Невская лавра, куда и перенесении были мощи святого князя, а вторым из российских орденов, учрежденных Петром I, стал тоже орден Александра Невского.
В 1703 году Петр I решительно двинул войска к Ниеншанцу, чтобы распахнуть ворота на Балтику. Однако и шведы прекрасно понимали стратегическое значение устья Невы, и после того, как по Столбовскому миру «оттягали» от России Водскую пятину и превратили ее в провинцию Ингермландию, на том месте, где они когда-то воздвигли Ландскрону, при впадении речки Охты в Неву, Густав Адольф построил крепость Ниеншанц.
Вокруг крепости вырос целый торговый городок, который к концу XVII века процветал благодаря своему выгодному местоположению. Накануне Северной войны к Ниеншанцу ежегодно приходило до 108 судов из-за Балтики. А по Волхову, Ладоге и Неве приплывали ладьи русских купцов. Торговля, несмотря на высокие королевские таможенные пошлины, была, несомненно, выгодной, и особенно на ней наживались шведские коммерсанты, как торговцы-посредники.
«Не один Любек, — писал немецкий историк, — но и Амстердам начал с Шанцтер-Ниен торги иметь. Водный путь оттуда до Новгорода весьма тому способствовал. Словом: помалу и российское купечество в Ниеншанц вошло и привело сие место в такую славу, что в последние годы один тамошний купец, прозванием Фрициус, шведскому королю Карлу XII в начале войны с государем императором Петром Великим мог взаймы давать немалые суммы денег, за что пожалован был дворянством».
В том, что Фрициус добровольно снабжал Карла XII деньгами, нет ничего удивительного: шведские купцы в Ниеншанце прекрасно понимали, что король ведет войну за их прямые интересы, за то, чтобы они и впредь неслыханно наживались на своей паразитирующей посреднической торговле. О том, что прямая торговля по морю без — этого навязанного шведского посредничества будет многократно выгодней России, хорошо знали и такие крупные русские государственные деятели, как Ордин-Нащокин (недаром последний сидел одно время новгородским наместником). Но для «прямой торговли» по чистому морю надобно было пробиться к Балтике, и вот весной 1703 года русские войска двинулись, а точнее, поплыли на ладьях к Ниеншанцу.
Еще перед началом военных действий на Неве Петр I опросил купцов и кормщиков из города Новая Ладога, которые еще до войны ходили на ладьях в Ниеншанц. Ладожские купцы дружно показали, что от Нотебурга к Ниеншанцу идти по Неве надобно «со знатцами», то бишь с лоцманами, поелику «по пути порогов на Неве целых 4 версты, да и так опасные камни встречаются». «От Канец, — говорили купцы, — дале, до моря всего 7 верст, и ход там судам свободный. По невским же берегам от Орешка до Канец стоят леса большие и малые. А под Канцами, между Невою и Охтою, где стать, земля сухая, песочная: шанцы копать и вал валить можно. Канцы стоят на устье Охты; город земляной, вал старый, башен нет; за валом деревянные рогатки и ров; а изо рва к валу палисады сосновые; сама крепость не велика, земли в ней всего с десятину, величиной, по примеру, со Старую Ладогу. Речка Охта течет из болот и впадает в Неву ниже города, близ стены; Нева же — река глубокая, ходят по ней шхуны большие и корабли с великим грузом.
Сам посад Канецкий стоит супротив у крепости за Охтою, а через Охту сделан мост подъемный. В посаде же всех дворов с полтысячи. Вверх по Охте, с полверсты к морю, стоят амбары большие торговых людей и королевские, всего около сотни, с хлебом и другими припасами. В крепости же только один каменный воеводский дом да солдатских дворов с десяток. На посаде же каменных палат нет, все деревянные. От Невы до Канец, сажен за 300, ныне зайчат вал земляной к Охте, но еще не доделан».
Столь подробные сведения, данные ладожанами, очень помогли Петру I и Шереметеву в невском походе 1703 года. Для Петра и его фельдмаршала вообще было характерно, что они никогда не гнушались обратиться «за советом» к «знатцам», простым русским людям, хорошо знающим свой край.
И в поход через невские пороги струги с солдатами ведут «знатцы-лоцманы» из купцов-ладожан, ведут сразу вслед за уходящим в Балтику ладожским льдом, по высокой воде, дабы проскочить пороги! Имея точное описание дорог и местности, 20-тысячное русское войско стремительно вышло к Ниеншанцу уже 25 апреля 1703 года. Появление русских было столь нежданным для шведов, что передовой отряд Шереметева мог бы ворваться в крепость через мост прямо на плечах шведов, спешащих укрыться за ее валами. Но «командир о том указа не имел и послан был только для занятия поста и взятия языков» и состорожничал. О чем вельми сожалел Михайло Голицын, приведший под Ниеншанц своих семеновцев.
Впрочем, осада крепости была недолгой. По Неве на стругах от Нотебурга прибыли тяжелые русские орудия, и уже в полдень 30 апреля все было готово к бомбардировке крепости. Ниеншанц был укреплен гораздо слабее Нотебурга — ведь он для шведов являлся резервной линией обороны. Сведения купцов-ладожан оказались точными: крепость не имела ни бастионов, ни башен. Со своего старого вала шведский комендант мог наблюдать, как русские устанавливают на батареях те самые тяжелые орудия, что сокрушили прошлой осенью неприступный Нотебург. Ниеншанц не шел ни в какое сравнение с Нотебургом. К тому же шведская эскадра не успела доставить в Ниеншанц подкрепления, а генерал Кронгиорт со своим корпусом все еще стоял у Выборга и тоже не успел подать крепости подкрепления и упредить русский штурм. Вот отчего уже через несколько часов с начала русской бомбардировки, на рассвете 1 мая 1703 года, комендант Ниеншанца вступил в переговоры с фельдмаршалом Шереметевым и в тот же день сдал крепость. Гарнизону разрешено было покинуть Ниеншанц почетно: с оружием и знаменами, с барабанным боем, четырьмя пушками и, по тогдашнему обыкновению, с пулями во рту.
Между тем эскадра адмирала Нуммерса в девять вымпелов в тот же день появилась на взморье, и 2 мая два шведских судна вошли в Неву, и, не зная еще о падении крепости, шведы отправили к берегу лодку за лоцманами. Часть матросов была захвачена русскими на берегу, однако лодке удалось спастись и уйти к кораблям.
Тогда на рассвете 6 мая, посадив солдат Преображенского и других полков на 30 стругов, Петр I и Меншиков с этой сборной гребной флотилией атаковали шведские корабли у деревни Калинкиной, где взяли шведов на абордаж. Так была одержана первая морская виктория на Балтике. За нее Петр I и Меншиков получили ордена Андрея Первозванного. Ох, как жалел князь Михайло, что царь не взял его с собой, приказал остаться при полку!
Шведский адмирал Нуммерс после потери двух судов сразу же удалился в море, и Петр I начал выбирать место строительства мощной крепости, которая преградила бы шведам путь по Неве. Внимательно изучив многочисленные острова, разбросанные в устье Невы, царь остановил свой выбор на острове Янни-саари, который русские именовали Заячий.
Но сам Петр I назвал выбранный им для фортеции остров Люст-Эйланд, то есть Веселый остров. Именно здесь мая в 16 день, в неделю пятидесятницы фортецию заложили и нарекли имя оной Санкт-Петербург».
С постройкой крепости спешили: ведь ей угрожали с суши выдвинувшиеся уже на реку Сестру корпус Кронгиорта, а с моря эскадра Нуммерса.
В первую очередь Петр I оттеснил Кронгиорта, совершив против него решительный марш летом 1703 года. Шведский генерал, однако, не принял боя и поспешно отступил к Выборгу. Опять князь Михайло не мог отличиться со своими семеновцами, а ведь его полк шел в авангарде и рвался в бой.
Против шведской угрозы с моря была поначалу сооружена сильная батарея на Васильевском острове. Зимой же 1703/04 года, когда Финский залив покрылся льдом, русские войска прошли на остров Котлин и заложили там, на отмели, военно-морскую крепость Кроншлот.
На постройку Санкт-Петербурга и Кроншлота царем велено было согнать каменщиков и плотников со всего. Новгородского и Псковского края, а затем каменщиков Детали собирать на стройку уже со всей России. Кроме каменщиков на стройках работали солдаты и тысячи пригнанных сюда колодников.
Уже в 1704 году на Веселом острове высилось шесть болверков или земляных бастионов, а в центре красовался деревянный собор Петра и Павла. Он-то и дал название крепости — Петропавловская. На государевом бастионе, выходящем на Неву, на высоком флагштоке по праздникам стали поднимать морской штандарт — желтый флаг с двуглавым орлом, держащим в лапах и клювах карты четырех морей: Балтийского, Белого, Каспийского и Азовского. Глядя на этот штандарт, Петр I ликовал: прямо перед его парадизом, как он сам именовал Санкт-Петербург, шумело море — Россия возвернулась на балтийские берега.
Семеновский полк, впрочем, тяжелые сваи в невские топи не вбивал. Вместе с преображенцами в 1704 году полк выступил к Нарве. Памятуя первый несчастный поход к этой грозной шведской фортеции и тогдашнюю голодуху, князь Михайло еще в Санкт-Петербурге набил полковой обоз гречкой и сушеной рыбой, накупил с привоза кули с мукой, бочки с квашеной капустой, кади с мочеными яблоками.
— Ты, княже, похоже, под Нарву не воевать, а торговать собрался! — презрительно бросил ему Меншиков, посещавший торг яко губернатор Петербурга и Ингермландии.
— Да я ведь, Александр Данилыч, еще ту первую Нарву помню, я-то там был! — смела ответил Голицын.
Меншиков побледнел, но смолчал: во время Нарвской баталии он ведь на царской печке в Новгороде полеживал.
— Да ты, я слышал, и полковую лекарню завел, и травы лекарственные закупаешь! — прогудел за спиной царский басок. — Добре, полковник, добре!..
Поход под Нарву прошел в 1704 году счастливо. Осада была недолгой, и 9 августа 1704 года грозная фортеция была взята приступом. Как радостно сообщал в Москву Петр: «Где перед четырьми леты Господь оскорбил, тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию преславную крепость через лестницы шпагою в три четверти часа получили».
Но то ли сам царь, то ли новый командующий армией под Нарвой наемный австрийский фельдмаршал Огильви с подсказки Меншикова, боящегося своего соперника по воинской славе, князя Михайлу из списка охотников, шедших на штурм Нарвы, вычеркнул.
А в 1705 году Семеновский полк по приказу Петра вступил в Великое княжество Литовское и герцогство Курляндию на помощь союзнику царя королю Августу II, бегавшему по всей Речи Посполитой от шведов, яко заяц от стаи волков.
Мур-мыза и Митава
После успешного штурма Нарвы Огильви предъявил претензии стать первым фельдмаршалом всей русской армии. Зимой 1704/05 года именно Огильви верховодил в Москве и оттуда слал команды по всем войскам, в то время как Шереметев скромно отсиживался во Пскове, где распоряжался токмо своим корпусом.
Сначала и Петр I и Меншиков были довольны наемным фельдмаршалом, который стал «подтягивать» армию до привычного ему имперского регулярства. Меншиков еще из-под Нарвы доносил Петру, что Огильви «к настоящему делу прилагает изрядные способы, зане зело во всем искусен и бодро опасен есть».
Новый фельдмаршал уточнил списочный состав пехотных и драгунских полков, организовал в дивизиях военно-полевые суды, отрегулировал тыловую службу.
Но главного, чего требовалось от настоящего полководца — знаменитых побед, В послужном списке Огильви (или Огильвия, как его называли русские) просто не значилось. Этот шотландец на австрийской имперской службе во многих кампаниях против турок чаще отступал, чем наступал! Со знаменитым воином Евгением Савойским, одним ударом поразившим турок в битве на Зените, Огильви сравниться никак не мог. Это был посредственный, тугодумный генерал, которых на имперской службе в Вене было хоть пруд пруди. Потому его так легко и отпустили в Россию. И Петр I это понимал, конечно. Правда, было у Огильви одно явное достоинство — еще командуя на имперской службе чешскими полками, фельдмаршал усвоил понемногу славянскую речь» и в разговорах мог обойтись и без толмача. Но для победы над Карлом XII этого скромного достоинства явно не хватало.
А за плечами другого фельдмаршала, Бориса Петровича Шереметева, были уже виктории и над турками, и над шведами в поле: под Эрестфером и Гуммельсгофом и многие взятые крепости, в том числе Дерпт.
И посему блеск цесарца не застил Петру I глаза, он не назначил Огильви первым фельдмаршалом, а принял соломоново решение: Огильви поручил командовать пехотой, а Шереметеву — конницей. Подобное деление часто проводилось в те времена в европейских армиях, но Борис Петрович, исходя из опыта своих лифляндских баталий, не без опаски сразу заметил царю, что в бою пехота всегда подпирает конницу и без нее викторий не будет. Царь сие возражение Шереметева принял, однако, лишь за его личную обиду в том, что Огильви получил в команду больше войск, чем он, Шереметев. Посему Петр коротенько написал во Псков Борису Петровичу, что разделение войск «произведено не для оскорбления ему, фельдмаршалу, а ради лучшего управления». Одновременно он предписал Меншикову, дабы тот следил, «чтоб; меж главных начальных ладно было».
Впрочем, никаких столкновений между фельдмаршалами не случилось по той простой причине, что вскоре их разделяли почти двести верст. Огильви получил задачу предупредить переход шведского короля через Неман и стал с армией в Гродно, а Шереметев по приказу царя должен был выступить в легкий поход, без поклажи и тяжелой артиллерии и отрезать корпус генерала Левенгаупта, стоящий в Курляндии, от Риги.
В июле 1705 года Борис Петрович налегке и вступил в Курляндию.
Сие ленное герцогство в составе Речи Посполитой (остаток Ливонского ордена) к этому времени было оккупировано шведами, державшими сильные гарнизоны в столице Курляндии Митаве и крепости Бауске. Гарнизоны подкреплял восьмитысячный корпус генерала Левенгаупта, подошедший из Риги.
Адам Людвиг Левенгаупт был одним из самых опытных генералов Карла XII, и в главной квартире короля поговаривали, что ему светит в скором времени и фельдмаршальский жезл: недаром король, сменив неудачливого Шлиппенбаха, поручил именно Левенгаупту защищать Лифляндию и Курляндию от русских.
Восьмитысячный корпус генерала состоял из бывалых шведских солдат, бивших уже и датчан, и саксонцев, и поляков, и Левенгаупт нимало не сомневался в своей виктории над старым боярином Шереметевым, который шел на него с одной конницей, словно совершая татарский набег. «Пусть скачет боярин со своими казаками и драгунами прямо ко мне в руки. Дурак и не знает, что моя фамилия переводится как львиная голова, — вот попадет москаль в львиное логово!» — посмеивался Левенгаупт, объезжая свою прочную позицию под Гемауертгофом (русские именовали это местечко для краткости Мур-мызой). На крутых холмах Поблескивали тяжелые шведские пушки, внизу колыхались синие ряды шведской пехоты. А в поле блестели кирасы непобедимых шведских рейтар.
— У неприятеля от силы две тысячи пехоты, — опытным взглядом окинул Левенгаупт боевой порядок Шереметева и приказал своему начальнику штаба: — Пусть московиты атакуют первыми! А когда их драгуны расстроят ряды — мы ударим с холмов и сомнем их пехоту!
Борис Петрович со свойственной ему основательностью созвал перед боем военный совет. На сем консилиуме присутствовали генерал-майор Боур и драгунские полковники Игнатьев и Кропотов. Было решено по предложению самого фельдмаршала первыми баталии не начинать, а выманить шведов с их крепкой позиции.
В центре русской линии стал сам Шереметев с двумя полками пехоты, которые ему удалось все же увести-таки из-под команды Огильви, слева стали драгуны генерала Боура, справа драгунские полки Кропотова и Игнатьева.
Баталии в тот злополучный день в штабе Шереметева и не ждали. Дело, однако же, завязалось внезапно. Раздалась вдруг пальба на правом фланге.
— Скачи туда немедля, узнай, что деется?! — приказал Шереметев своему адъютанту, но Чириков не успел завернуть и коня, как вдруг подскакал полковник Кропотов и закричал:
— Уходит швед, господин фельдмаршал, по рижской дороге бежит! Драгуны Игнатьева у шведских рейтар уже на хвосте висят. Ежели сейчас ударить, то и весь корпус Левенгаупта с холмов побежит!
Белое пыльное облако и впрямь стремительно удалялось по рижской дороге.
А тут еще и шведская пехота на холмах сделала поворот кругом и скрылась на другой стороне возвышенности.
— Бегут! Ей-ей, бегут! — радостно возопил недавно приставленный к фельдмаршалу его новый начальник штаба генерал-майор Чамберс. — Сейчас или никогда, господин фельдмаршал, прикажи трубить атаку!
И Борису Петровичу ничего не оставалось, как согласиться с Чамберсом и Кропотовым.
Дале все он вспоминал как в страшном сне. Оказывается, шведы и не думали бежать, и ровные ряды их многочисленной пехоты вновь явились на гребень холмов и ударили сверху на два слабых пехотных полка Чамберса, прорвали их и после жестокого боя овладели русской батареей в 13 пушек. На левом же фланге драгуны Игнатьева и казаки, отогнав шведских рейтар, наткнулись на богатый шведский обоз и занялись, само собой, неприятельским имуществом. Шведские рейтары меж тем тоже возвернулись с рижской дороги, смяли драгун Кропотова и побили казаков в обозе.
Хорошо еще левое крыло русских держалось прочно.
Борис Петрович сам прискакал к Боуру, велел посадить драгун на коней и бросил их в атаку отбивать батарею. Пушки, однако, отбить не удалось, и к вечеру Шереметев велел и коннице и пехоте отступить, чтоб в ночи людей не терять.
Шведы их не преследовали. Прикрываемые драгунами Боура, русские отошли.
Через день шведы вошли в Митаву, где их с радостью приветствовал местный гарнизон. Левенгаупт немедля протрубил о своей виктории в главной шведской квартире — Стокгольме. Из шведской столицы новость о новой виктории над московитами полетела и в Лондон, и в Париж, и в Вену. Впрочем, после первой Нарвы там уже не дивились шведским победам над дикими московитами. Ждали только, когда сам Карл XII со своей главной армией, покончив с этим безумцем Августом, повернет на широкую московскую дорогу.
Левенгаупт две недели праздновал в Митаве свою викторию. Правда, пришлось отпевать в костелах столицы Курляндии столько убитых солдат, что праздник стал более похож на панихиду. Лазутчик сообщал Борису Петровичу из Митавы, что «веселость» его противника «была не от сердца, понеже они много добрых офицеров и солдат потеряли». Даже английский посол Витворт узнал о больших потерях Левенгаупта и доносил в Лондон, что хотя «победа осталась за шведами, но победа та кровавая, так как они потеряли множество солдат и несколько храбрых офицеров убитыми и, кроме того, насчитывают несколько сот раненых».
И сам Левенгаупт, когда подсчитал, что его корпус уменьшился чуть ли не вдвое, здраво рассудил, что победа его пиррова, и, когда узнал, что на подкрепление Шереметеву поспешает русская гвардия и дивизия Репнина, предпочел боле не рисковать в открытом поле и отошел от Митавы к Риге. Гарнизон Митавы, полагал Левенгаупт, и сам отобьет все атаки русских, имея на стенах фортеции триста пушек.
* * *
Петр I неудачу своего фельдмаршала воспринял на удивление спокойно и сразу определил главную причину поражения при Мур-мызе: плохое обучение драгун в строю.
В самом деле, недисциплинированность драгун Кропотова и Игнатьева Втянула русских в сражение, которое велось по плану Левенгаупта, а не Шереметева. Петр самолично отредактировал реляцию в Москву о неудаче под Мур-мызой и особо подчеркнул, что драгуны погнались за шведскими рейтарами «без воли фельдмаршала».
А спроведав, что Борис Петрович крайне подавлен своей неудачей, царь написал ему теплое письмо, где утешал старого воеводу: «Не извольте о бывшем нещастии печальны быть (понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу), но все забыть и паче людей ободривать».
Такое спокойное отношение царя к своему фельдмаршалу объяснялось и тем, что Петр теперь понял, что опытный Шереметев был прав в их недавнем споре, когда он просил дать ему поболе пехоты и указывал, что без поддержки пехоты, одной конницей шведа не побить, что пехота должна постоянно подпирать кавалерию. А ведь в июле 1705 года Петр мог без труда выделить в поддержку дивизию Репнина, которая без всякой цели маялась у Вильно.
Теперь Петр поспешно соединил гвардию и дивизию Репнина с корпусом Шереметева и в начале сентября двинулся к Митаве. И здесь Петр сам командовал фактически всем войском в Курляндии, хотя формально во главе корпуса поставил генерала Репнина.
Шереметев же получил в сентябре 1705 года новое и нежданное назначение — идти на Волгу и подавить мятеж в Астрахани. Впрочем, Курляндию Борис Петрович покидал не без сожаления — очень уж хотелось ему отомстить своему обидчику Левенгаупту.
Хотя самого Левенгаупта под Митавой русские уже не застали. Его обескровленный корпус ушел в Ригу. Так что Репнину предстоял токмо штурм Митавы. Сам князь Аникита Иванович Репнин дотоле никакими викториями славен не был, как, Впрочем, не было у него и явных конфузий: под первую Нарву он со своей дивизией опоздал, так же, как опоздал и на Западную Двину, когда шведский король нещадно разгромил саксонцев.
С присущей ему осторожностью Аникита Иванович предложил начать правильную осаду Митавы: сделать апроши, подвезти тяжелую артиллерию, установить батареи. Петр, как первый бомбардир, с этим планом, в общем, «огласился, а сам поспешил в Полоцк, где застряли русские тяжелые пушки.
Репнину же приказал блокировать крепость и захватить городские предместья, в которые в июле уже врывались драгуны Шереметева.
Но тут случилась неожиданная виктория, и виновником оной стал полковник семеновцев Михаил о Голицын. Когда князь Михайло со своим полком ворвался в западное предместье, то, к его удивлению, со стен Митавы разоделись только одиночные выстрелы. Шведский комендант ожидал нападения русских прежде всего с востока, где и поставил большую часть своих пушек.
Беспрепятственно дойдя со своими семеновцами до городского вала, Голицын увидел, что и вал во многих местах тут осыпался и завалился, да и ров можно было перескочить. У нищего Курляндского герцогства просто не было денег, чтобы подновить все укрепления Митавы. И семеновцы Голицына не только перешли ров, но и легко взошли, опираясь на штыки, на самый вал, сбив слабые шведские караулы.
Дале князь Михайло не медлил ни минуты. Подняв на валу полковое знамя, он бросился с батальоном семеновцев к старым городским воротам. Ржавые петли не выдержали ударов бревнами, ворота рухнули, и Голицын тут же ввел в город шедший во втором эшелоне Преображенский полк. Гвардия двинулась к цитадели. Здесь князь Михайло послал к шведскому коменданту парламентера, требуя немедленно сдаться. Комендант Митавы оказался не чета коменданту Нотебурга. Во-первых, он был возмущен тем, что, покидая столицу Курляндии, Левенгаупт оставил ему всего тысячу солдат, да и то раненых и увечных. Так что у шведов не набралось даже бомбардиров для их трехсот пушек. Во-вторых, сами жители Митавы совсем не собирались биться за шведского короля и коменданту не удалось собрать городское ополчение; в-третьих, сам гарнизон был подавлен недавней двухнедельной панихидой и не менее коменданта негодовал на скорое отступление Левенгаупта.
Вот почему, увидев, что русские уже заняли западные ворота и подходят к замку, шведский комендант принял русского парламентера и решил сразу принять капитуляцию, по которой шведов беспрепятственно отпускали в Ригу. И вот, к немалому удивлению Аникиты Ивановича, который наблюдал бой с восточной стороны, шведская канонада вдруг смолкла и над митавским замком подняли белый флаг.
Вскоре подскакавший от Голицына офицер-семеновец весело разъяснил Аниките Ивановичу, что западный вал уже занят русской гвардией, тамошние ворота разломаны и сбиты и гвардия подошла к замку. Аниките Ивановичу ничего не оставалось, как приосаниться и принять явившихся к нему шведских парламентеров с должной важностью.
Так 5 сентября 1705 года капитулировала столица Курляндии. Получив радостное известие о нежданной виктории, царь тотчас вернулся в Митаву. Петр был когда-то в этом городе во время первого путешествия за границу и хорошо помнил теплый прием, который устроили ему герцог Курляндский (высланный потом шведами в Кенигсберг) и жители города.
Поэтому строжайшим царским приказом русским войскам было приказано не чинить жителям Митавы никаких грабительств, насилий и разорений. Впрочем, в Митаву была введена только царская гвардия: семеновцы и преображенцы, вошедшие туда с бою.
— Не обижайся, Аникита Иванович, но гвардия одна взяла город, ей и все трофеи считать! — жестко разъяснил Петр Репнину. Впрочем, утешительно добавил: — А тебе, князь, со своей дивизией идти к другой шведской фортеции, Бауску. Там у тебя победных лавров никакой Мишка Голицын не отнимет!
Молодого же полковника семеновцев Петр трижды расцеловал и произвел в генерал-майоры.
— Смотри, Михаил, командовать тебе теперь всей гвардией. Само собой, когда меня при ней нет. Не подведешь?
— Не подведу, государь, — выдохнул, краснея от высокого производства, Михайло Голицын. Еще бы, в тридцать лет стать генералом и командовать царской гвардией!
— Поздравляю! — холодно приветствовал нового генерала Репнин, путь которого лежал отныне к Бауску. Михаил дружески протянул было Репнину руку, но тот ее не пожал.
— Почитает, что ты украл у него победные лавры. Ну да пусть сам их под Бауском заработает! — рассмеялся Петр. — А теперь, княже, пошли в замок считать трофеи!
Чего токмо не накопили подвалы рыцарского замка Кетлеров, последних властителей Ливонского ордена! Одних рыцарских доспехов достало бы на добрую тысячу рыцарей.
— Все ржа и тля, ржа и тля! — басил Петр, перебирая затупившиеся ржавые мечи и сабли, крепким ботфортом отбрасывая в сторону изъеденные молью рыцарские знамена.
— Нет, не случайно царь Иван Грозный одним ударом развалил Ливонский орден, от которого теперь только и осталось, что герцогство Курляндское. Пойдем-ка лучше, княже, пушки считать! — Петр, а вслед за ним Голицын, выбрались из ржавых герцогских кладовых на чистый воздух.
Пушек в цитадели и на валах насчитали 295, правда, тоже большей частью старых, времен еще Ливонской войны. Но были и новые шведские орудия, в том числе, что особенно порадовало господина первого бомбардира, «мортирцы новой инвенции».
— Тяжелые пушки, — приказал Петр, — отправить немедля Репнину под Бауск. Ему, чаю, артиллерия понадобится! А старые пушки отвезти в Москву, на оружейный двор на переплавку. Из них много доброй меди выйдет!
Комендант Бауска и впрямь не хотел сдавать свою маленькую фортецию Репнину, пока не подвезли тяжелые орудия из Митавы. После первого же залпа пушек над крепостью в Курляндии поднялся белый флаг.
Немногочисленный шведский гарнизон, всего в пятьсот солдат, отпустили в Ригу, а на стенах крепости взяли еще 55 пушек. В сентябре 1705 года вся Курляндия была в руках русских, а победитель при Мур-мызе Левенгаупт в великом страхе укрывался в Риге. Но Петр I не двинул войска к столице Лифляндии[26], а решил сосредоточить все силы в Гродно, ожидая самых нежданных оборотов от шведского короля, снова занявшего Варшаву.
Ретирада из Гродно
Новый английский посол в России сэр Чарльз Витворт не решился, опасаясь шведских каперов, плыть открытым морем в Санкт-Петербург (в 1704 году в устье Невы пришел только один английский корабль), а Отправился в Москву через беспокойную Речь Посполитую.
Шляхетскую республику раздирала борьба двух группировок магнатов, именуемых конфедерациями — сандомирской и тройской. Первая, в которую входили великий гетман литовский Михаил Вишневецкий и коронный гетман Адам Сенявский, поддерживала законного короля Августа II, вторая держала сторону ставленника шведов Станислава Лещинского (в народе его сторонников именовали станиславчиками). Борьба между ними велась по всей Речи Посполитой, и к 1705 году можно было говорить, что в Великом княжестве Литовском, включающем Литву и Белоруссию, верх взяли сандомиряне, а за Вислой станиславчики.
Объяснялось это просто: за Вислой стояла главная армия Карла XII, а в Литву вступили русские войска.
Семеновский полк во главе с Михайлой Голицыным занял столицу Литвы Вильно, и то была первая русская часть, которую увидел английский посол. Витворт поспешил сообщить из Вильно в Лондон: «Полк, который при мне вступил в город два дня назад, шел в отличном порядке: офицеры все были в немецком платье, а рядовые хорошо вооружены мушкетами, шпагами и штыками».
Из русского же лагеря в Гродно, где он представился Петру I и познакомился с командующим фельдмаршалом Огильви, Витворт уже так писал о царской армии: «Пехота вообще обучена очень хорошо, солдаты обнаруживают рвение с тех пор, как выяснили лежащие на них обязанности, но хорошо вооружены и хорошо одеты только три полка: два гвардейских и ингермландский, остальные довольно посредственно снабжены амуницией и огнестрельным оружием».
Георг Огильви наособицу отметил в беседах с английским послом, что «артиллерия в настоящее время замечательно хорошо устроена, а русские обращаются с пушками и мортирами с таким умением, какого он не встречал ни у одного народа». Но что касается конницы, то, по мнению посла, «в царской армии собственно кавалерии нет». В последнее время сформированы 16 драгунских полков, преимущественно из дворян и землевладельцев, которые обязаны отправлять службу на собственный счет. Они ездят на легких татарских лошадях, и сомнительно, чтобы могли устоять против шведских кирасир».
В этих суждениях о русской коннице, конечно же, на сэра Чарльза Витворта оказал прямое влияние Огильви, страшно недовольный тем, что командовать всей кавалерией по отъезде Шереметева в Астрахань Петр I поручил своему любимцу Меншикову, у которого с командующим пехотой сразу начались контры. Высокомерный имперский фельдмаршал был раздражен тем, что бывший царский конюх стал вдруг генералом от кавалерии, и потому в своих донесениях царю Огильви всячески чернил воинство Александра Даниловича, жалуясь, что его драгуны только в деревнях сидят, доброй стражи не имеют, с мужиками водку пьют, ветчину, кур, гусей грабят и все государство Польское неприятелем себе чинят.
Насмотревшись на порядки в русской армии, нехотя ставшей на зимние квартиры в Гродно, и кавалерии, расположившейся по варшавской дороге, в Тикотине, сэр Чарльз сделал уже общее заключение, отписав в Лондон: «Вообще на всю русскую армию можно смотреть пока как на собрание рекрут, потому что большинство полков сформировано не более двух лет назад. Большой недостаток чувствуется в офицерах, и особенно в генералах».
Но в октябре 1706 года те самые драгуны, которые по замечанию Огильви, знай себе в деревнях водку пьют, проявили неожиданную прыть.
Сформированный по приказу Меншикова отряд полковника Горбова двинулся к Варшаве и возле стен правобережного предместья польской столицы Праги наголову разгромил гвардию Станислава Лещинского, взяв в бою четыре пушки, шесть знамен и 375 пленных. Трофеи были доставлены в штаб-квартиру Меншикова в Тикотин, куда прибыли Петр и его «друг, брат, сосед» король Август II. Как отметил вездесущий сэр Чарльз, «царь сам принес и положил к ногам польского короля шесть знамен, отнятых у гвардии новоизбранного его соперника». Зрелище было внушительное. Восемь тысяч драгун Меншикова и стоящие напротив них польские драгуны генерал-майора Синицкого образовали стройный коридор, по которому Петр и пронес под звуки полковой музыки знамена побежденной гвардии короля Станислава и бросил их под ноги короля Августа. После чего монархи-великаны обнялись и по русскому обычаю трижды почеломкались. Грянул ружейный и артиллерийский салют, вспугнувший голубей с полуразвалившихся башен тикотинского замка. Весь сияющий, тряся длинным париком в буклях, новоиспеченный генерал Александр Данилович Меншиков приглашал уже царя и короля со свитой в свой роскошный шатер, дар калмыцкого хана Аюка, у которого Александр Данилович закупал тысячами степных лошадок для своих драгун.
Праздник продолжался три дня, и пороха в салютах было израсходовано более чем в самой баталии под Варшавой.
Из Тикотина монархи пожаловали в Гродно, где фельдмаршал Огильви вывел на смотр 45 пехотных батальонов и 6 драгунских полков, кои он все же «отбил» у Меншикова.
— У вас превосходная пехота, камрад! — весело повернулся к царю Август. — Имей я эти батальоны в прошлом году под Варшавой, мы ни за что не сдали бы шведам столицу.
— Что ж, дела отзывают меня ныне в Москву, и я оставляю всю свою армию под вашу команду, брат мой! Соединив мои войска с вашими саксонцами, можем дать шведам и генеральную баталию! Как знать, имея сорок тысяч моих солдат и двадцать тысяч неустрашимых саксонцев, может, и раздавим армию Каролуса! — задумчиво произнес Петр.
— Добавьте к тому еще шляхетскую конницу, которой можно навербовать сколько угодно, были бы деньги! — Жадный огонек зажегся в выпуклых, с красными прожилками от многодневного пьянства глазах Августа. — Если дадите мне по-братски еще одну субсидию в триста тысяч талеров, я обещаю выставить в поле двадцать тысяч польских гусар!
— К чему? У меня стоят в Бресте 15 тысяч казаков. Чаю, они не хуже шляхетской конницы! — презрительно фыркнул Петр, которому до смерти надоели беспрестанные просьбы друга и союзника о субсидиях.
Ведь целый месяц, пока Петр был в Гродно, Август буквально стенал о деньгах. Перед Меншиковым круль даже заплакал, чем так растрогал светлейшего, что тот сразу отвалил королю несколько тысяч червонных из своего пухлого кошелька. Август на время успокоился, и Петр смог, избавившись от навязчивого друга, спокойно объехать Гродно, где восстанавливался старый замок, а вокруг предместий насыпались земляные бастионы. Как в свое время, после конфузии под Нарвой, царь крепил Новгород и Псков, так он укреплял теперь Гродно. Крепость запасалась на зиму провиантом и фуражом, словно Петр готовился к долгой осаде.
— К чему, брат мой, эти земляные работы? — пытал вечером Петра в баньке, сооруженной на берегу Немана, король Август. — Ведь зима не за горами, а зимой даже швед не воюет!
— Береженого Бог бережет! — рассмеялся Петр, лежа на верхнем полке, и оттуда скомандовал Меншикову: — А ну поддай-ка парку, Сашка!
Александр Данилович плеснул квасок, и от поднявшегося горячего пара король как очумелый метнулся в предбанник, где сидел уже и Огильви. Фельдмаршал в царскую баньку заходить боялся.
— Что русскому здорово, то немцу — смерть! — весело скалил зубы Алексашка.
— Будет скалиться! — поморщился Петр. — Скажи лучше, стоит еще швед под Варшавой аль нет! — Петр блаженно покряхтывал под березовым веником, которым его охаживал светлейший.
— Куда ему деться, мин херц! Все лазутчики в один голос твердят: швед стал на винтер-квартиры. Зачем Каролусу по декабрьским морозам в поле ходить! Даже швед мерзнет! — твердо заверил Данилыч.
Но только после того, как выпал глубокий снег и дороги замело сугробами, царь решил, что Карл XII и впрямь прочно стал на зимние квартиры, и 7 декабря 1705 года отбыл из армии в Москву.
Перед отъездом он вызвал к себе Михайлу Голицына и сказал доверительно:
— Вот что, Михаил… я командую преображенцами, ты — семеновцами. С моим отъездом вручаю тебе команду над всей гвардией. О том и фельдмаршалу скажу. Но помни, и за польским королем, и за Огильви потребно бодрое око. То тебе и Аниките Ивановичу Репнину доверяю. Негоже нам, русским, вечно на подмогах у иноземцев ходить. Потому приказы Августа и Огильви принимай, но исполняй с толком. Понял?
И когда Голицын склонил голову, Петр обнял его, поцеловал троекратно. Сказал глухо:
— Запомни, от тебя многое в сем лагере зависит. Прощай!
* * *
С отъездом царя черная кошка, давно пробежавшая между Огильви и Александром Даниловичем, сразу замяукала. В Москву полетели взаимные кляузы.
Правда, по всей форме, командующим над войском царь поставил своего дражайшего союзника короля Августа и вручил Огильви и Меншикову свой указ, что «все войско в небытии вручаю его королевскому величеству польскому, которому извольте быть послушны, как нам, во всех делах и указах».
Однако ни Огильви, ни Меншиков не собирались послушно подчиняться чужому королю, у которого и войска-то в Гродно было все ничего: шестьсот саксонских драбантов. Польская же конница давно ушла в Краков.
Огильви, у которого под началом было 45 батальонов пехоты и 6 драгунских полков, с чужим королем обращался еще более или менее снисходительно, а Меншиков со своими драгунами вообще ушел в Тикотин и оказался без королевского призора.
Драгуны Меншикова по варшавской дороге снова дошли до Вислы и, казалось бы, следили за всеми маневрами шведского короля, стоявшего у Варшавы. В декабре 1705 года Александр Данилович бодро сообщил царю: «Неприятель, как по здешним ведомостям слышно, в прежних местах обретается». Отправив письмо, сам Меншиков отбыл в Пултуск, где весело отпраздновал Рождество.
«Зело повеселились при довольной стрельбе из пушек без опасения, понеже хотя некоторые из Гродни через письма по польским непостоянным ведомостям (которым отнюдь верить не надлежит) нас и тревожили, однако же мы, будучи в Пултовску (и в 4 милях от Варшавы), никакой противной ведомости не имели, и все здесь, слава богу, смирно», — уведомил он Петра I.
Даже в начале января 1706 года Меншиков беспечно шутил в новогоднем письме к дарю: «Изволь, Государь, как сестру свою, так и прочих обнадежить, чтоб они не печалились: понеже мы здесь никакой страсти не имеем и пребываем всегда в веселии».
А между тем, пока генерал от кавалерии, а вместе с ним и все его полковники пребывали в новогоднем веселии, Карл XII ночью перешел замерзшую Вислу и с двадцатитысячной армией скорым маршем пошел на Гродно. Меншиков не только упустил неприятеля, но и бежал от него с крайней поспешностью. На варшавской дороге в Гродно шведы не встретили ни одного русского драгуна. Меншиков отвел свою конницу прямо в Минск. Потому появление шведов было полной неожиданностью не только для Меншикова, но и для Августа II, и фельдмаршала Огильви.
«Шведский король воюет, не соблюдая всех правил европейской военной науки!» — жаловался Огильви Августу. «Еще бы, по тем правилам зимой полагалось сидеть на печи, или, говоря по-ученому, стоять на винтер-квартирах! Но я-то знаю шведа, уже пятый год от него бегаю! — рассердился король Август. — Для шведских гренадер десятиградусный мороз — не мороз, а морозец!» И, не дожидаясь подхода главных сил шведской армии, Август II темной ночью 17 января ушел из Гродно, прихватив с собой не только конвой, но и 4 полка русских драгун. На военном совете после бегства короля господа генералы обсуждали один вопрос: что делать дальше? Тишайший генерал от инфантерии Аникита Иванович Репнин предложил немедля отступить. Мнение Репнина получило нежданную поддержку молодого Голицына, обычно редко согласного с тугодумом Репниным. Однако фельдмаршал, ставший теперь старшим, настоял, чтобы войско осталось в Гродно.
— Город усилиями самого государя превращен ныне в укрепленный лагерь, обильно снабженный провиантом и фуражом! За гродненскими укреплениями, господа, мы можем отсидеться до самого лета, а тем временем к нам подойдет на выручку саксонский фельдмаршал Шуленбург! — важно заявил Огильви.
— А ежели шведы опять расколошматят саксонцев? — дерзко спросил Голицын.
— Шутить изволите, молодой человек! — вскипел фельдмаршал. — Ведь саксонцы пойдут на Гродно по приказу своего короля! — Угловатое лицо барона Огильви налилось кровью, но все же он сдержался и на вопрос наглеца разъяснил с важностью: — Король Август дал мне пароль, что по первой же траве придет к нам на выручку!
«Знаем мы эти королевские пароли!» — усмехнулся про себя Голицын, но возражать старшему по чину не стал.
Огильви в глубине души настолько был доволен внезапным отъездом короля Августа, что даже безропотно отдал ему четыре полка русских драгун для сопровождения. Теперь, после отъезда царя и удаления Августа и Меншикова, фельдмаршал Огильви стал наконец единственным командующим армией.
Царя можно было теперь готовить к самому худшему; к полной капитуляции всей русской пехоты, выставив единственными виновниками приближающейся катастрофы Меншикова и Августа.
Об этих беглецах Огильви горько сообщил царю, что не ведает, «как те пред вашим царским величеством и всем честным миром оправдаться могут, когда меня здесь, при разорванном и разоренном войске, без денег, без магазейну, без артиллерии и полковых лошадей покинули и все войска в замешание привели».
Фельдмаршал, само собой, преувеличивал тяготы своего положения, поскольку с укреплений Гродно по-прежнему глядели грозно десятки русских тяжелых пушек, а армейские магазины были пока снабжены провиантом и фуражом, и никакого замешательства в русских полках, твердо стоящих на бастионах, опоясывающих Гродно, не было. Когда 15 февраля шведский конный отряд, предводительствуемый самим Карлом XII, появился перед бастионами Гродно, то по приказу Михаилы Голицына преображенцы и семеновцы, стоящие в предместных укреплениях, дружно дали троекратный залп, с бастионов заревели тяжелые пушки, и король наглядно убедился, что русские полностью готовы дать отпор шведской атаке. Объехав всю линию петровских укреплений и убедившись, что в них нет ни одного слабого места, Карл XII принял вынужденное решение: не штурмовать, а блокировать Гродно, в расчете, что у русских скоро закончится провиант и фураж. Но и здесь оказалось, что запасы скорее кончались у шведов, а не у русских. Действуя по принципу, что война кормит войну, армия Карла XII жила эти годы в основном за счет грабежа местного населения. А вот в окрестностях Гродно не нашли ни фуража, ни провианта — все уже было собрано в крепости. И в поисках запасов шведы отступили сперва на пять, затем на десять, а затем и на семьдесят верст от Гродно, поставив королевскую ставку в местечке Желудки. Блокаду Гродно они вели теперь только конными разъездами.
Однако Огильви в письмах к царю по-прежнему продолжал паниковать, уверяя, что вслед за Августом и Меншиковым, которые, «не сказав мне ни слова, от войску и чину своего убежали», разбежится и вей оставшаяся армия и, только если ей «случай для того представится, уйдет в ретираду». Случай для ретирады и тем паче для бегства шведами, не занявшими левый берег Немана, давно русским был дан, но ни какого дезертирства русских солдат из Гродно не было, и Огильви, много раз видевший в европейских войнах, как разбегаются солдаты-наемники в случае бегства своего командующего, был тому немало поражен. Ночное бегство короля Августа, не забывшего прихватить с собой и армейскую казну, казалось, не произвело никакого впечатления на русских солдат, сохранивших в полках твердый порядок и дисциплину.
Зато в Москве Петр I, которому и Меншиков сообщил горькую весть, что к Гродно «проехать невозможно из-за того, что неприятель Гродно обошел», крайне переживал блокаду своей армии. Ведь в Гродно отрезаны были лучшие полки, прошедшие через поля всех сражений Северной войны.
— Как бы сей Огильви не стал для нас вторым герцогом де Кроа, — с горечью заметил он Меншикову, когда фельдмаршал на все приказы царя о немедленной ретираде от Гродно хладнокровно отнекивался, что «решил остаться в Гродно до лета и ожидать иль отхода шведов, иль совокупления с саксонским войском!».
В гневе Петр, примчавшийся в Минск к Меншикову, отправил приказ Репнину: «Господин генерал! Фельдмаршала Огильви, который неописанное зло сделал, при получении сего письма возьми за арест с его слугами, також письма и прочее все запечатай. Сие, конечно, учини, объявив всем генералам мой указ!»
Грозный царский указ в Гродно, впрочем, не попал. Шведские разъезды появились уже за Неманом, и царский гонец завернул с дороги назад.
Меж тем в Гродно Аникита Иванович Репнин в феврале учинил ревизию провиантских складов и с ужасом убедился, что провианта для армии не то что до лета, а и на три недели едва ли хватит!
— В тот же день он пригласил в свою палатку Михаилу Голицына.
— Гляди, князь, до какой скудости мы дошли! — сердито передал он Голицыну отчет о ревизии. — А наш господин фельдмаршал в осаде до лета намерен сидеть, поджидать саксонцев! А ведь писем от короля Августа нам николи не зачитывает. И где его саксонцы обретаются, Бог ведает! — Обычно тихий и спокойный, Аникита Иванович после своей ревизии был в страшном гневе. Старый генерал, он хорошо знал, что солдат без сухаря — уже не солдат!
— Надобно срочно слать гонца к его царскому величеству! — заикаясь от волнения, сказал Голицын.
— Вот я и позвал тебя для совета! Нет ли в твоем регламенте нужного человека? — Вообще-то Аникита Иванович, особливо после Митавы, недолюбливал князя Михаилу, почитая его опасным соперником по воинской славе, но деваться было некуда: Голицын знал своих гвардионцев наперечет! А то, что к царю надобно послать именно офицера гвардии, Репнин не сомневался, помня, сколь великое доверие имел царь Петр к своим гвардейцам.
— Есть у меня один поручик! — поразмыслил Михайло. — Мать его родом из этих мест и, ежели нарядить его в мужицкое платье, сойдет за простого белорусского мужика. Благо и болтает-по местному.
Вечером того же дня гонец был направлен.
* * *
Еврейская корчма по слонимской дороге выглядела, как и любая другая еврейская придорожная корчма: большая покосившаяся изба, при ней конюшня, хлев и поварня. За печкой ютилась семья корчмаря Янкеля, большая столовая зала с подслеповатыми окошками разделена была трактирной стойкой.
За стойкой суетился сам Янкель, разливая мужикам водку прямо из бочонка с краником и нарезая на закуску домашние колбасы и львовские рубцы. К каждой закуске полагался, само собой, и соленый огурчик. Правда, многие пьяные посетители корчмы обходились и без закуски: сивушную водку простодушно занюхивали рукавом.
Впрочем, когда в корчму заглядывала публика почище, догадливый Янкель доставал из-под стойки заветный штофик с очищенной гданьской водкой, а его женка подавала яичницу с ветчиной. Правда, иные дорожные гости, как, к примеру, сидевший сейчас в углу белокурый великан, даже пронырливого Янкеля ставили в тупик. По виду и одет мужиком, и говор местный, а, поди же, потребовал гданьской водки и заказал и яичницу, и рубцы по-львовски. А когда стал расплачиваться, вынул такой тугой кошель, что зазвенели талеры. Все пьяницы в корчме сразу зашушукались, что неплохо бы отнять по дороге у этого мужика тугой господский кошель. И неизвестно, чем бы закончился трактирный расчетец, если бы замерзлые двери корчмы не распахнулись и на пороге не выросли здоровенные шведские жолнеры. Им-то Янкель, впрочем, не удивился: с тех пор как шведский король стал лагерем под Гродно, разъезды шведских рейтар замелькали на всех дорогах вокруг города. В свой черед стали нет-нет да и появляться и разъезды русских драгун из Слуцка и Минска, где стояли полки князя Меншикова.
И те и другие солдаты хватали без денег все, что хотели, и Янкель благословлял жену Сару, так умело запрятавшую под тряпьем потайной люк, ведущий в подвал, где корчмарь хранил самые дорогие припасы.
Незваных гостей Янкель поспешил угостить доброй чаркой отборного самогона, после чего с мороза жолнеры сразу размякли, подобрели и весело налегли на яичницу с колбасой. Однако жолнеры с порога, должно быть, приметили, как белокурый мужик-великан прячет за пазуху тугой кошель с талерами.
— Кто будет пан? — подступил к великану вислоусый рейтар из поляков-наемников. За долгие годы войны в Речи Посполитой, пока король Карл гонялся за королем Августом, многие шляхтичи охотно нанимались на шведскую службу, поскольку военная удача, а следовательно, и добыча была на стороне шведского короля. Ведь только из одного Львова шведская армия вывезла четыреста телег золота и серебра. Большая часть, само собой, досталась Королевской казне. Но и офицеры с солдатами внакладе не остались.
— Кто будет пан? — поляк-рейтар ухватился за отворот мужицкого затрапезного полушубка.
— Прошу пана, отпустите бедного холопа пана Радзивилла! — к общему удивлению, подобострастно заныл великан, на целую голову возвышавшийся над вислоусым шляхтичем.
— Спроси его, Янек, куда мужик путь держит? — сердито приказал вислоусому сержант-швед, командовавший разъездом.
— Ты едешь, конечно, к самому пану Радзивиллу? — не без ядовитости в голосе вопросил полячок.
— Да разве я смею предстать пред светлые очи самого князя Радзивилла! Нет, я спешу в Шилов к ключнику пана князя.
— Э, да не со Слонимской ли ярмарки ты едешь? — продолжал допрос вислоусый.
Петр Носов, поручик-семеновец, переодетый в мужицкое платье, понял, что проклятый поляк сразу приметил его тугой кошель! Ну и черт с ним, с кошелем! Зашитое в зипун письмо Репнина и Голицына было для семеновца куда важнее. И поручик снова рабски склонил голову:
— Так, пан рейтар. На ярмарке я продал пару добрых лошадок из конюшни самого пана Радзивилла!
— И много маешь пенезы? — хищно прищурился вислоусый.
— То не мои пенезы, пан жолнер, то талеры князя Радзивилла! — Произнося имя столь знатного, пана, поручик гордо задрал голову.
— А вот мы их сейчас пересчитаем! — с неожиданною ловкостью полячок засунул руку прямо за пазуху мужицкого зипуна. Но обнаружил там не кошель, а рукоять доброго седельного пистоля. — Э, да тут у тебя не пенезы, но и доброе приложение к ним! — нехорошо рассмеялся вислоусый. И, обернувшись к сержанту, стал объяснять, что мужик-то не простой, имеет к тому кошелю и доброе оружие, и что надобно мужика раздеть и обыскать.
По-шведски вислоусый говорил медленно, подбирая фразы, и, к несчастью для него, поручик Носов знал куда лучше шведскую речь. И прежде чем полячок закончил свой сказ, могучая длань Петра Носова так крепко опустилась на его голову, что он тут же упал замертво. А в руках поручика уже красовались два пистоля, и на каждого шведа пришлось по пуле. Семеновец стрелял отменно.
Оставив позади перепуганного корчмаря и его пьяниц, поручик выскочил из корчмы и наткнулся на шведа-коновода, на ходу вытаскивающего острый палаш. Но швед замешкался, и семеновец свалил его ударом рукоятки в висок.
Носов не стал забираться в свои мужицкие сани, а вскочил на добрую рейтарскую лошадь, трех других прихватил за поводья и вихрем помчался по слуцкой дороге.
К вечеру он был уже под Слуцком, где и встретил разъезд драгун Меншикова. А через день стоял уже в Минске перед самим царем и светлейшим, бережно передав царю письмо своих генералов.
Сообщение Репнина и Голицына, что провианта в осталось всего на две-три недели, горько поразило Петра I.
— Читай! — бросил он письмо Меншикову. — Скоро все войско в Гродно оголодает, а фельдмаршал Огильви хочет морить его голодом до первой травы!
— Ай-ай-ай! — акая по-московски, возмутился царский любимец. — А еще фельдмаршал! Да он летом всю армию шведам сдаст! Смотри, мин херц, что Аникита Иванович мне на обороте приписал! «Сей злыдень Огильви с московскими генералами никакого совета не держит, с королем Августом ведет тайную переписку, а во все стороны рассылает своих языков, а для чего, неведомо!» Да и Михайло Голицын добавляет: «Просим вашей милости о тайном великого государя указе, что нам делать, когда увидим, что противно интересу государственному Огильви поступает?»
— Будет сей указ! — сердито проворчал Петр и перевел взгляд на стоявшего у дверей поручика. — Молодец! Даже В мужицком зипуне, а все чувствуется гвардейская выправка! Как пробился из Гродно-то? — Царь подошел к Носову, строго посмотрев в глаза.
Но гвардеец не испугался, не отвел взгляда. Ответил честно, не таясь:
— На слуцкой дороге, государь, у шведов, почитай, и разъездов нет, на один только разъезд и нарвался!
— И как ты с тем разъездом совладал? — весело спросил Меншиков.
— Да так и совладал: двух из пистолей снял, а двух вот этим, — поручик повертел здоровенным кулаком. — свалил!
— Вот они, гвардионцы, все могут! — Петр с видимым восхищением обернулся к Меншикову. Потом спросил Носова: — Как там Михайло Голицын гвардией-то командует?
— В гвардии князя Михайлу любят, государь! — без колебаний ответил Носов. — Наш командир свое последнее отдаст, но солдат у него сыт, обут и здоров!
— Добре, тезка! Вот и поскачешь завтра к Голицыну, передашь господам генералам мой указ. Чаю, пробьешься? — Петр опять глянул Носову в глаза.
— Пробьюсь, государь! Ежели по левому брегу Немана скакать, там доселе шведов нет! — твердо сказал Носов.
— А сие дельно! — Петр быстро взглянул на Меншикова и весело рассмеялся: — Вот по тому берегу и надобно немедля провести ретираду всему войску! А ты, Данилыч, с драгунами от Бреста их отход прикроешь. Понял?
— Как не понять, государь, только ведь скоро по той же дороге и саксонский сикурс явится? — слукавил Данилыч.
— Не придет саксонец! Не будет нам никакого сикурса! Пока ты в Слуцке обретался, от короля Августа гонец прискакал. Привез недоброе. Саксонский фельдмаршал Шуленбург еще второго февраля наголову разбит Реншильдом под Фрауштадтом. Бежали все саксонские бездельники, а бригада наемников-французов вообще к шведам переметнулась!
— А наш-то вспомогательный корпус, мин херц? С ним что? — вырвалось у Меншикова.
— На них вся оборона под Фрауштадтом и держалась. А как бежали саксонцы, бросив пушки, шведы окружили остаток нашей пехоты и полонили. Ночью же пленных обнаготили, привязали спина к спине и перекололи штыками! Столь жестока судьба наших страдальцев! — глухо ответил Петр.
— Да сей Реншильд не полководец, а злодей-мясник! Ну, попадись он мне в поле! — Меншиков ухватился за эфес шпаги. А стоящий у порога Петр Носов подумал, что правильно он уложил тех четырех шведов в корчме.
— Вот так-то, камрады! Отныне война на одних нас обрушится! — задумчиво сказал Петр, а затем приказал Петру Носову: — Сегодня же скачи с моим письмом в Гродно. А ты, Данилыч, дай поручику эскадрон драгун для прикрытия. Пусть заодно проверит, появился ли швед на левом берегу Немана аль нет! — Потом положил руки на плечи Петра Носова и не приказал, а попросил: — Помни, тезка, в том письме план спасения всей нашей армии! За это письмо ты головой отвечаешь! А в Гродно фельдмаршалу Огильви, Репнину и Голицыну скажи, что план сей им мой последний указ, и быть по сему!
Через несколько дней Петр Носов стоял уже в Гродно перед господами генералами. Впрочем, и те стояли на вытяжку, словно услышав гневный царский оклик.
«По несчастливой баталии саксонской… выходить вам из Гродно не мешкая, сразу по вскрытии Немана и выступать с вечера, чтоб с ночи осталось боле времени для ретирады!» — приказывал Петр.
Репнин и Голицын сразу согласились с планом царя, и один только Огильви пытался еще упрямиться. «Я получил ваше письмо, — доносил он ему через своего лазутчика. — Все же лучше бы простоять здесь до лета. А впрочем, исполняю вашу волю и отступаю к Бресту». У Огильви не было боле главного довода: надежды на саксонский сикурс.
Как только начался ледоход, 22 марта русская армия через городской мост перешла на левый берег Немана.
Узнав о переправе, Карл XII бросился к Гродно, но гвардия под командой Голицына и тяжелые русские пушки на бастионах прикрыли отход.
Тогда король приказал своим саперам спешно наводить мост через Неман, но ледоход снес шведские понтоны. Когда шведы через неделю переправились через Неман, русская армия подходила уже к Бресту, где к ней присоединились драгуны Меншикова. Карл XII, как всегда презирая природу, вздумал было перехватить русских через Пинск, но попал в половодье полесских болот. Даже неутомимые шведские гренадеры не могли форсировать разлившуюся Припять.
Русская армия фактически уже под предводительством Меншикова, а не Огильви отошла к Киеву. Там войско с радостью встретил сам царь. Петр дал высокомерному фельдмаршалу полный абшид, а армию вручил Борису Петровичу Шереметеву, как раз подоспевшему из-под далекой Астрахани.
Поскольку летом 1706 года стало известно, что шведский король отправился походом в далекую Саксонию, Борис Петрович смело двинул свое войско подо Львов в Жолкву. Осенью же пришла весть, что саксонцы снова побиты. Август II отрёкся от польской короны и заключил со шведами позорный Альтрапштадтский мир. Россия теперь осталась и впрямь одна против могучего шведского воителя.
Военный совет в Жолкве
Вскоре по возвращении из Львова, где царь безуспешно на Вольной Раде подыскивал для поляков нового короля, Петр созвал в Жолкве новый военный совет. Первый собирался еще в декабре 1706 года, но на нем присутствовала только самая верхушка армии: фельдмаршал Шереметев, командующий кавалерией Меншиков и глава артиллерии Яков Брюс. На январский же совет Петр пригласил всех командиров дивизий, а из Москвы прибыли глава Монастырского приказа боярин Мусин-Пушкин и главный фортификатор инженер Василий Корчмин.
Первым в рыцарскую залу Жолковского замка, где был созван совет, вошел крепкий черноусый тридцатилетний генерал, командующий гвардией Михайло Голицын. Слегка прихрамывая на одну ногу (памятка о татарской стреле, полученной еще в первом Азовском походе), он быстро подошел к царю и, слегка заикаясь, доложил о своем-прибытии.
— Готовься к походу, князь Михайло! — Петр снял круглые очки (с годами стал дальнозорок) и положил их на большую карту, застилавшую овальный стол.
— Лошади, государь, справны, люди накормлены, провиант и фураж приготовлены… Гвардия — хоть завтра в поход!
Вот за эту быстроту, а также за отменную отвагу и мужество, Петр и продвигал сего гвардионца, хотя вообще-то к фамилии Голицыных после своих стычек с фаворитом царевны Софьи Василием Голицыным относился осторожно.
Меж тем в залу важно, брюхом вперед, вплыл дородный военный с Андреевской лентой через плечо. Хотя Борис Андреевич Шереметев и был первым фельдмаршалом новой русской армии, но как он шествовал в оны годы со старобоярской неспешностью, так и в новом войске оставил за собой эту привычку. Да и поздно ему, родовитому боярину из знатного рода Кобылы-Шеремета, в пятьдесят спять лет привычки менять. Его предки еще при Дмитрии с Донском на Куликовом поле бились, когда о Романовых никто на Москве и не слыхивал. И как ни старался Петр выбить боярскую гордыню, ничего переменить в Борисе Петровиче не мог: даже когда Шереметев кланялся перед царем, чувствовалась в нем такая твердая основа и независимость, за которой стоял древний род. Но в то же время фельдмаршал был удачлив в воинских делах, не чуждался новшеств. Петр своего первого фельдмаршала уважал и, даже попрекая, не знакомил его с царской дубинкой. Другое дело друг сердешный Александр Данилыч Меншиков. С ним царь мог обращаться по поговорке: я тебя породил, я тебя и наказую! Зато светлейший князь Римской империи, герцог Ижорский, генерал-губернатор Санкт-Петербурга и Ингерманландии и пожизненный комендант пленной шведской фортеции Шлиссельбург Александр Данилыч Меншиков мог, как царский фаворит, и запоздать на совет, прибыть последним. Он вошел, опираясь на знаменитую калишскую трость, украшенную алмазами, крупными изумрудами и сочиненным им самим гербом рода Меншиковых. Петр хорошо знал эту трость, поелику выполнена она была по собственному царскому чертежу и подарена Данилычу за славную викторию в сентябре 1706 года под Калишем. Он даже помнил цену своего презента: 3064 рубля, 16 алтын и 4 деньги. Но виктория и впрямь была не малая — Меншиков разбил под Калишем целый шведский корпус генерала Мардефельда и польскую конницу, так что Данилыч ту трость заслужил.
Конечно же, Меншиков захватил калишскую трость на совет не случайно: хотел напомнить всем собравшимся господам генералам о своей прошлогодней виктории. Петр сие невинное хвастовство светлейшего, в общем, простил, понеже оно могло пробудить боевой задор у прочих российских Тюреней[27]. Сияние алмазов и изумрудов на калишской трости зажгло взоры и у неудачливого соперника Меншикова по воинской славе Аникиты Ивановича Репнина, и у длинноногого пруссака Алларта, и конечно же у честолюбивого Михаилы Голицына. Даже в голубых глазах Шереметева зажегся огонек: при всем своем богачестве фельдмаршал был куда как не равнодушен к наградам и округлению своих поместий.
— Извини, мин херц, задержался в полках, принимая рекрут, которых Алексей из Москвы доставил! — Петр кивнул, весть о появлении царевича его порадовала. Меншиков свободно уселся за стол супротив Шереметева, и военный совет открылся.
Собственно, еще на предыдущем совете выступили два мнения. Осторожный Шереметев предлагал в случае нашествия шведов ни в коем разе не давать генеральной баталии в пределах Речи Посполитой, а отступать к русским рубежам, ведя малую скифскую войну и оголяя перед шведом местность от провианта и фуража.
Воинственный Меншиков, вдохновленный своей викторией, напротив, готов был дать генеральную баталию уже на Висле, где стояли его передовые драгунские полки.
Сам Петр все еще колебался и посему решил созвать повторный совет. Первое мнение подавал младший по воинскому званию генерал-майор Михайло Голицын (младшим всегда давали первое слово, дабы не оглядывались в совете на старших). Александр Данилович рассчитывал, что князь по своей природной горячности подаст голос за скорейшее сражение. В армии всем памятен был случай, когда во время штурма Нотебурга Голицын воспротивился приказу самого царя прекратить штурм. «Скажи государю, что я подвластен ныне токмо Богу!» — заявил князь Михайло царскому адъютанту. И, дабы отрезать все пути для ретирады, отогнал лодки от берега (крепость стояла на острове), продолжал штурм и ворвался-таки в фортецию.
Но нынешний расчет светлейшего на всегдашнюю горячность Голицына не оправдался. Князь Михайло за годы, прошедшие после штурма Нотебурга, много раз сам водил войска и давно усвоил, что, дабы выиграть большую кампанию, одной отваги мало и что окромя лихих штурмов бывают и трудные ретирады. У него постепенно вырабатывался свой взгляд на войну со шведом, свое понимание неприятеля, которое и ставило его выше обычного среднего генерала.
— Такого супротивника, яко шведский король, надобно бить пространством и временем! — убежденно доказывал теперь князь Михайло на совете. — Вспомним, сколько лет Каролус бегал за королем Августом и не мог его поймать. А все потому, что на просторах Речи Посполитой Август мог переходить из Курляндии в Литву, из Литвы — в Белоруссию, из Белоруссии в Мазовшу и Великую Польшу, оттуда — в Малую Польшу и Галицию, из Галиции — на Волынь и дале по кругу. Но стоило королю Карлу изменить направление и ударить в людную, но малую по пространству Саксонию, захватить наследственные земли беглеца, как он тотчас поразил Августа в сердце и вынудил к позорному миру. Так что мы, имея ныне на руках все просторы Речи Посполитой, используем их хуже короля Августа. Мое мнение: поначалу отступать, оголяя местность перед «Неприятелем, с Вислы — на Буг, с Буга на Березину, с Березины — на Днепр! И только в российских пределах, изготовившись, дать шведу генеральную баталию.
«А ведь дело говорит молодшенький Голицын!» — подумал Петр, поймав себя на том, что невольно одобрительно кивал головой.
Тот одобрительный царский кивок тотчас уловил генерал-поручик Алларт и хотя и сухо, но поддержал голицынский план. В глубине души наемный пруссак недолюбливал этого удачливого русского генерала, который опрокидывал все ходячие немецкие представления о том, что русские в военном деле глупцы и неучи.
Выступил за ретираду и генерал-аншеф князь Репнин, хотя и по иным соображениям, нежели Алларт. Боле, чем на царя, Аникита Иванович смотрел на своего старинного друга и знакомца Шереметева. От Бориса Петровича он уже знал о разномыслии на первом совете между ним и Меншиковым и ретираду поддерживал, прежде всего считаясь с мнением своего фельдмаршала.
— А что его бояться, шведа-то? — как бы в изумлении округлил глаза Меншиков. — В бою, не спорю, швед упорен, но как побежит — у него сразу длинные ноги вырастут! Сам под Калишем шведские спины видел!
— Мы с главной-то королевской армией только под первой Нарвой еще и бились, Александр Данилович. И сам ведаешь, чем та баталия завершилась. Вода-то в Нарове ледяная, ух и ледяная! — Борис Петрович зябко поежился, вспомнив, как, несомый многотысячной ревущей толпой беглецов, он оказался в холодной Нарове. Ну да Бог простил, а добрый конь вынес, переплыл реку и ушел от шведского плена. Но второй раз ледяную купель он принимать не желает. И Шереметев молвил со всей решимостью: — Негоже нам, господа совет, генеральную баталию в чужой земле давать. Тогда, за Наровой, хоть родимые палестины лежали, а за Вислой еще незнамо, яко нас примут!
— Ну, ежели фельдмаршал нам вторую Нарву пророчит, о чем и рассуждать! — вспыхнул Меншиков.
— А ты не горячись, Александр Данилыч, не горячись! — Борис Петрович, по своему природному обыкновению, опять стал рассудителен и спокоен. — Ты конник, так подумай о фураже. Ведь пока мы через Польшу и Литву ретираду иметь будем, сенце-то у нас будет, а не у шведа. Тоже и с провиантом. Вот швед саксонский свой жирок на этих тысячеверстных дорогах и порастрясет. А у родного рубежа наши солдатушки стеной супротив ворога встанут. Да и биться у своих рубежей куда сподручней: в родном доме и стены в помощь!
Доводы фельдмаршала, казалось, убедили весь совет. И, главное, убедили самого царя. Понеже сколько бы ни собирал Петр советов, за ним всегда было последнее слово.
Царь поднялся во весь свой огромный рост, обозрел своих генералов, словно примеряя к каждому нелегкую воинскую славу, и веско заключил:
— Согласен! Генеральную баталию нам еще рано давать. В оной за час можно потерять все, что собирали годами! Скакать и шпагой махать — невелика доблесть! — Петр покосился на Меншикова. — Но и простую ретираду проводить — в войсках боевой дух подрывать! Смотрите на карту. — Он поехал пальцем по расстеленной на столе подготовленной карте. — Вот реки: Висла, Буг, Березина, Днепр. Здесь у переправ и дадим неприятелю арьергардную баталию.
— Государь, из Саксонии доносят, что к походу у шведов готово почти семьдесят тысяч отборного войска, а у нас в славной армии и шестидесяти не наскрести! — сердито пробурчал Шереметев. — Да и те разделены на две половины! — фельдмаршал был решительным противником того, что большая часть кавалерии была под начальством Меншикова, который держал своих драгун подале от пехоты.
— Где уж нам тут генеральные баталии разыгрывать! — поддержал своего фельдмаршала другой пехотный генерал, князь Репнин. — Оно конечно, конница, в случае чего, первой улепетнет, а пехотушке каково?
— Полно скулить, господа генералы! — Петр грозно оглядел свой совет. — Правильно говорил князь Михайло, на нашей стороне два союзника — версты и время. А поначалу убудем вести скифскую войну. Помните, яко скифы заманивали персидского царя в степи, оголожая все за собой? И одержали викторию! Но отступать надобно с толком: не бежать сломя голову, а биться на каждой переправе. Чаю, наш солдат уже не тот, что под Нарвой — пообвык на штурмах фортеций. А отступив на русский рубеж, там и дадим генеральную баталию шведу. И не где неприятель захочет, а где мы пожелаем! Но не забывайте: ныне вся война на одних наших плечах осталась, посему раз-два оконфузитесь, а глянь, швед на Москву с Поклонной горы уже взирает!
— Граница-то, государь, почитай совсем голая! — неожиданно вмешался тихий и мирный глава Монастырского приказа боярин Мусин-Пушкин. — Осмотрели мы сейчас по пути с Корчминым смоленскую фортецию — там башни со времен твоего покойного батюшки не чинены!
Петр хмыкнул, молвил не без лукавства:
— А для чего же я тебя, боярин, с инженером Корчминым на совет вызвал? Вот вам и велю Смоленск, Новгород и Псков крепить! А в пограничье от Пскова, через Смоленск к Брянску сделать засечную линию, слышь, Василий! — Петр обращался уже не к боярину, а к Василию Корчмину, самому молодому по чину офицеру на совете. Но, несмотря на свою молодость и малый чин, Корчмин прошел уже добрую школу фортификации в Пруссии, и Петр знал его как умного и толкового инженера.
— Надобно и Москву крепить, государь! — смело подал он голос.
— Согласен! Не токмо Москву, но и подмосковные города: Можайск, Звенигород! — согласился Петр. — Как управишься в Смоленске и в Новгороде, отправляйся немедля в Москву, я тебе в сотоварищи дам самого государя-наследника!
— А где же денег и людишек для крепостей взять? — не выдержал Мусин-Пушкин, и Петр опять глянул на него с лукавством:
— За тем тебя, боярин, и звал. Придется, видно, опять монастырскую казну потрясти!
— Да и так монастыри наши вконец обнищали! — заикнулся было степенный боярин, но Петр вдруг весь переменился, зыркнул с гневом:
— Сейчас война, боярин! Дворянство и рекруты налоги кровью платят, а вы токмо податью! Что касаемо людишек, на стройку принудьте всех обывателей московских: свои дома, чать, им защищать! И еще, — приказал Корчмину, — на пограничной засеке дороги прикрой люнетами[28] с палисадами и рогатками. И поставь заставы из мужиков самых добрых, с ружьями и самопалами, дабы неприятель отдельными конными отрядами лукавым обманством в границы наши не впал.
— Государь, а вот я, когда ставлю себя на место неприятеля, никак не думаю, что швед на Москву пойдет! — подал вдруг свое мнение Шереметев. — Король Карл — опытный воин и двинется, на мой взгляд, прежде всего в Прибалтику, где соединится с Левенгауптом, восстановит морем свои коммуникации со Швецией и, имея на своем левом плече могучий шведский флот, пойдет на Петербург. К коему и Либекера из Финляндии к себе подтянет! Возьмет Петербург — тогда и Москве угроза!
— А я полагаю, пойдет швед на Первопрестольную! — снова загорячился Михайло Голицын. — Саксонский урок король Карл, думаю, крепко усвоил. Сколько лет гонялся за Августом по Польше, и все без толку, а ударил в сердце владений, и полная капитуляция нашего союзничка, ему, уверен, после Саксонии король Карл ударит в самое сердце России — на Москву.
— Не горячись, князь Михайло, не горячись! — улыбнулся Петр. — Хотя, — царь весело оглядел совет, — шведский Каролус такая же горячая голова, как и наш князюшка. И известной нам королевской горячности тоже полагаю — Москве швед марш свой воспримет! Да вот и из Саксонии мне прилетела весточка, что шведский король в Москву уже своего коменданта определил, генерала Шпарра.
Совет возмущенно загудел, а сам Петр продолжал не без насмешки:
— Всем ведомо, что король Карл мечтает о лаврах Александра Македонского, ему не потребны частные приобретения, ему нужна вся Россия! Да вот токмо не найдет он во мне второго Дария! Ну, а что касаемо неприятельских оборотов, тут я согласен и с Борисом Петровичем. Король ведь мог и своих генералов послушать: и тогда точно пойдет на Москву через Петербург, поскольку сие аксиома европейской стратегии и тактики — бить неприятеля, собрав силы в один кулак и не теряя коммуникаций. Но для нас главное, что и в том и в другом случае швед пойдет севернее Припяти. Посему, Борис Петрович, переводи пехоту в Белорусь и Литву, а ты, светлейший, прикрой переправы на Висле. И помните, главное сейчас — томить неприятеля на переправах!
Так был принят знаменитый Жолковский план, приведший со временем к славной Полтавской виктории.
Крест, полумесяц и луна
По возвращении из Италии князь Дмитрий Голицын, как многие другие петровские навигаторы знатных родов — князья Хилковы, Куракин, Долгорукий, — попал не в корабельную, а на дипломатическую службу. Знатность посла тогда указывала на особую важность и значение посольства, и Петр I этим правилом не пренебрегал. Так князь Дмитрий Михайлович Голицын в 1700 году оказался послом на берегах Босфора сразу после подписания с турками Константинопольского мирного договора.
Царь подтвердил сей договор немедля по его получении, поскольку на другой же день, 19 августа 1700 года, объявил войну Швеции. И Голицын был отправлен в Константинополь с подтвердительной царской грамотой о мире.
— Добивайся, княже, и от султана такой же ответной грамоты. Сам ведаешь, как она нужна нам по нынешним конъюктурам, — напутствовал Петр I своего чрезвычайного посла. — Поезжай в Азов, а оттуда морем на корабле поплывешь в Константинополь.
— Государь, а может отставить корабль! — смело возразил Голицын. — Сам ведаешь, сколь напугало турок прошлое наше посольство, которое приплыло в Константинополь на корабле «Крепость». Напугать-то мы напугали, но потом турки целый год тянули с мирным договором. Думаю, к Великой Порте надобно сейчас, когда у нас началась война на севере, подходить с лаской и бережением. И ничто так турок не успокоит, ежели посольство прибудет к ним, по старинному обычаю, сухим путем через Бендеры, Яссы и Силистрию.
И такой заядлый мореход, как Петр, согласился с разумными доводами князя Дмитрия.
Посольство отправилось через Молдавию и Болгарию, что вызвало, как узнал уже в Константинополе Голицын от верных людей, немалое удовольствие и у султана Мустафы II, и у везиря Хусейна Кепрюлю.
По пути князь Дмитрий примечал многое: и недовольство басурманами-поработителями у христианских народов, греков и болгар, и слабость турецких задунайских крепостей, и взяточничество турецких сераскиров и пашей, требующих бакшиша даже у посла. А по дорогам стояли такие же православные храмы, как и в России. Простой народ охотно шел в православную церковь, как в свое последнее прибежище от турецкого ига. Не сочиняли, выходит, посланцы константинопольского патриарха, что почитай весь край от турецкой границы до берегов Босфора держит православную веру, отметил Голицын. Да и в самом Константинополе почти половину населения составляли не турки, а греки, потомки гордых византийцев, правивших когда-то всеми Балканами и Малой Азией.
«От них к нам во времена святого Владимира и православная вера пришла!» — размышлял князь Дмитрий перед знаменитым собором Святой Софии.
— Что, братушка Дмитрий Михайлович, чай, грустишь, что над Святой Софией ныне высится не православный крест, а мусульманский полумесяц? — внезапно обратился к Голицыну высокий моложавый чернобородый монах. И представился: — Настоятель Афонского монастыря Исайя, в миру Славко Божич, серб.
— Откуда мое имя знаешь? — удивился князь Дмитрий.
— Мы, монахи, много ведаем, — уклончиво ответил Исайя. — И о твоем посольстве нам давно известно. Первым из Ясс нам сообщил о тебе тамошний господарь. Да и Патриарху константинопольскому о приезде посольства сразу ведомо стало. Он и направил меня к тебе спросить, может, в чем нужна наша помощь?
О благорасположении местного патриарха к России Голицыну сообщили еще в Посольском приказе в Москве, и к монаху он отнесся доверительно. На другой день Божич отвел его в резиденцию патриарха.
Турецкие завоеватели, нещадно угнетавшие православные народы, не тронули, однако, православную церковь и сохранили патриаршество и в Константинополе, и в Иерусалиме, и в Александрии.
Резиденция размещалась в садах на берегах Босфора, старец-патриарх Иакиф с улыбкой пригласил посла на вечернюю трапезу в саду.
— У меня в доме, княже, всюду турецкие уши… — показал патриарх на свою резиденцию, — а в саду мы можем говорить доверительно.
Октябрьский вечер был теплый, ласковый, мирно поблескивали на Босфоре огоньки с многочисленных торговых судов, из садов неслась протяжная музыка. Легкий морской бриз причесывал виноградники.
За трапезой, кроме патриарха и Божича, никого не было, и князь понял, что и впрямь может говорить без опаски. Он поведал собеседникам о причинах войны со шведом за земли «отич и дедич», смело спросил, не может ли патриарх помочь ему поскорее свидеться с великим везирем Хусейном.
— Как не помочь единоверцам из Великой России! — Патриарх задумчиво погладил седую бороду. — Везир Хусейн к нашей Православной Церкви настроен, княже, благожелательней, нежели К католикам. Он сам из знатного рода Кепрюлю, а род тот почитай уже сто лет стоит за рулем османской политики и ведет нескончаемые войны с императором-католиком. Именно один из Кепрюлю дошел с турецким войском до стен Вены в 1683 году. И новый Хусейн Кепрюлю мечтает о славной войне с императором, дабы возвратить отобранные у турок принцем Евгением Савойским Венгрию и Семиградье.
— А не собирается ли Хусейн, коль он такой воитель, напасть и на нас, пока мы воюем со шведом, и отобрать обратно азовскую фортецию? — осторожно осведомился князь Дмитрий.
Божич быстро перевел его вопрос патриарху по-гречески. Патриарх снова погладил седую бороду, ответил задумчиво:
— О том Кепрюлю не заботится. Думаю, все его помыслы лежат ныне на Дунае, а не в таком захолустном углу Османской империи, как Азов. К тому же по миру турок не уступил вам Керчь, а крепость запирает царскому флоту выход из Азовского моря в Черное. Так что, по мысли Хусейна, флот царя Петра заперт в Азовском море, как в каком-нибудь деревенском пруду.
— А наша война со шведом не помешает подтверждению мирного договора с султаном Мустафой? — снова осторожно спросил Голицын.
— Не думаю, княже! Все помыслы Хусейна Кепрюлю связаны с большой войной, что назревает на Западе из-за Испанского наследства… — Патриарх прекрасно разбирался в европейской политике, недаром держал своих доверенных людей и в Лондоне, и в Париже, и в Вене. — Ваша война со шведом, но его разумению, только отвлекает таких недавних союзников императора, как Россия и Польша, от турецких рубежей и развязывает туркам руки на Дунае. И ежели француз побьет цесаря, то Хусейн Кепрюлю немедля пойдет, конечно, на Буду и Вену, а не на какой-то там Азов.
— А как мнит о том деле его величество султан Мустафа II? — продолжал выяснять князь Дмитрий основы турецкой политики.
— Султан боле развлекается со своим гаремом в садах Адрианополя, чем думает о делах. Передайте в гарем собольи шубы для любимых жен султана, и его благосклонность вам обеспечена! — громогласно рассмеялся молчавший до того Божич.
— Отец Исайя прав. Повелитель правоверных боле увлечен гаремом, нежели делами государства! — позволил себе улыбнуться и патриарх. — Ведь шестьсот жен — это тяжкая ноша! А султан Мустафа далеко не Геракл! — И молвил уже серьезно: — Большую политику в Османской Империи ведет не султан, княже, а великий везир. И как только Хусейн Кепрюлю явится из Адрианополя в столицу, я устрою вам прием у него, как можно скорее.
Так оно и случилось. Когда через неделю великий везир прибыл в Константинополь, то на другой уже день послал гонцов за московским послом. Встретились с везиром в его частном особняке, беседовали вдвоем, по-домашнему.
— Царь Петр предлагает нам вечный мир?! — удивился везир. — Но ведь с вашим посланником Украинцевым мы заключили мир только на тридцать лет!
— Но вечный мир куда надежнее, чем мир на тридцать лет. Отсюда и предложение моего государя о вечном мире, — разъяснил Голицын.
Везир откинулся на мягкие подушки — сидел он по-турецки, поджав ноги, что вынужден был делать и посол, и, прищурив миндалевидные глаза, спросил с явной насмешкой:
— Похоже, князь, вы собираетесь вести вечную войну со шведом, оттого и просите нас о вечном мире?
— Мы не одни ведем войну, великий везир, а в союзе с королями польским и датским. И соединенными силами скоро сломим шведа! И мой государь не просит вечного мира, а предлагает его! — Князь Дмитрий отвечал с гордостью азовского победителя.
Но, похоже, на Кепрюлю это не произвело никакого впечатления. Везир знал больше, чем московский гяур. И снова позволил себе насмешку:
— Похоже, царю не повезло с союзниками. До нас уже дошла одна плохая для вас весть — Дания разбита юным шведским героем и вышла из войны! — И, глядя на растерянного Голицына, добавил: — Ну, а вслед за Данией выйдет из войны и такой ваш ветреный союзник, как король Август! Может, и вам заключить мир со шведом?
Но князь Дмитрий везиру ответил с твердостью:
— Мой государь ведет войну справедливую, за земли «отич и дедич», и из войны он не выйдет, пока не вернет наши исконные земли.
К удивлению Голицына, везир принял это заявление не без радости и ответил не без сочувствия:
— Хорошо понимаю царя Московии. То, что взято силой оружия, надобно и отобрать оружием! Но вечного мира, князь, в природе не бывает. И я предлагаю вам утвердить мир на тридцать лет!
Князь Дмитрий, как и наставлял его в Москве царь Петр, согласно склонил голову.
И уже через неделю из Адрианополя пришла добрая весть: султан Мустафа II подписал фирман[29] о тридцатилетием мире с Россией. Князь Дмитрий мог возвращаться теперь в Москву, а на его место постоянным послом в Турцию прибыл другой навигатор — Петр Андреевич Толстой.
* * *
В Москве Петр с радостью отметил успех посольства князя Дмитрия, поскольку Голицын вернулся в Москву как раз после злосчастной нарвской конфузии.
— Выходит, Нарва не смутила турок, что ж, и тридцать лет мира с османами — добрый знак! — весело сказал Петр Голицыну, принимая посла в своем домике в Преображенском. — Думаю, за тридцать лет-то мы, конечно, управимся со шведом на севере и развяжем себе руки на юге.
Царь внимательно послушал рассказ князя Дмитрия о всех переменах при султанском дворе, о ненависти к турецким поработителям у христианских народов, об огромном значении Православной Церкви на Балканах.
— Похоже, княже, ты неплохо разобрался в балканском хороводе. Потому назначаю тебя тайным советником и даю тебе новую должность: станешь губернатором в Киеве. Оттуда легко следить и за Балканами, и за крымским ханом, и за большими польскими панами на Правобережной Украине, да и за всеми переменами на гетманщине. Киев — место всему этому удобное, но тревожное: то татарский набег на Украину, то смута в Сечи, то измена панов моему союзнику Августу. — При упоминании союзника Петр хмыкал. Продолжил сурово: — Да и за гетманской старшиной потребно зоркое око. И, конечно, тебе в Киеве заниматься делами не токмо гражданскими, но и военными, быть тебе не просто губернатором, а генерал-губернатором. Придется войска водить, и киевскую фортецию оборонять. Верю — справишься! Помню тебя еще по Азовским походам! Голицын понял — вера Петра, что гвардеец все может, распространяется и на него и оттого поддержка и доверие царя ему обеспечены надолго. И не ошибся: почти всю Северную войну Петр держал Дмитрия Голицына в Киеве как свое недреманное око.
Вскоре после назначения генерал-губернатором Голицыну пришлось уже в 1704 году вести двадцатитысячный Прусский вспомогательный корпус на соединение с королем Августом в Галицию, а после ретирады русской армии из Гродно в Киев сооружать новую Киево-Печерскую фортецию и наблюдать за всеми оборотами дел и в крымской Столице Бахчисарае, и в Молдавии и Валахии.
Но боле всего беспокойства в тревожный 1708 год доставляло киевскому генерал-губернатору поведение пана гетмана Мазепы. И на гетманщине, и в Запорожской Сечи все ведали, что единственный, кому можно было пожаловаться на пана гетмана на Украине, был киевский генерал-губернатор, и потому к князю Дмитрию стекались все доносы на Мазепу.
Но ежели раньше шли только подметные письма или наветы ничтожных людишек, вроде Гультяя Гриця, то теперь на гетмана жаловались уже такие высокородные люди, как полковник Искра и Кочубей. И ежели Кочубей был зол на старого гетмана за то, что тот склонил к блуду его младшую дочку Матрену, то такой заслуженный полковник, как Искра, не имел против Мазепы ничего личного, а токмо подозревал Гетмана в измене. И оба они, и Искра и Кочубей, были едины в одном: Мазепа давно уже ведет переписку с королем Станиславом, зазывает его и шведов на Украину, готовит великую измену царскому величеству.
Последнее письмо по этому делу князь Дмитрий получил от полковника слободского Ахтырского полка Федора Осипова (полки слободской Украины гетману не подчинялись), который сообщал, что в феврале явился к нему из Полтавы поп Иван Святайло от полковника Искры, и через того священника Искра просил Осипова встретиться с ним для государева дела.
Когда Осипов съехался с Искрою на своей пасеке, тот сообщил тайну, что гетман Иван Мазепа, согласившись с королем Лещинским, умышляет на здравие великого государя, как бы его в свои руки захватить и смерти предать! Хотел гетман сие сделать во время приезда в Батурин Александра Кикина: Мазепа думал, что под именем Кикина приедет сам государь, и велел, как будто для встречи, поставить в караул своих верных сердюков, навербованных из войска короля Станислава. Все сердюки стояли с заряженными ружьями, гетман приказал им, как государь войдет во двор, выстрелить в негр. И только когда Мазепа узнал, что царского величества нет, а едет один Кикин, то велел сердюкам тотчас разойтись.
А сейчас гетман умышляет, как бы ему через Днепр со своими полками перейти и в Белую Церковь убраться, где и соединиться с королем Лещинским!
Самые горячие строчки из этого письма (которое Голицын сразу же переслал канцлеру Головкину) долго еще вертелись в голове князя Дмитрия и не давали спокойно спать.
С одной стороны, сколько уже было посыльных к Мазепе от поляков: и от покойного ныне короля Яна Собесского, и нынешнего короля Станислава Лещинского, и всех их Мазепа сам выдал царю на расправу. За то и обретался у государя в великом доверии и почете. И разве не Мазепу Петр I вторым, после канцлера Головкина, наградил высшим российским орденом Святого Апостола Андрея Первозванного?
А с другой стороны, Кикин и впрямь заезжал недавно в Батурин, и многим было ведомо, что царь часто ездит под именем этого адмиралтейца, благо едины ростом и статью. И полковник Анненков, постоянно пребывающий при гетмане, недавно доносил Голицыну, что гетман и впрямь половину своего скарба недавно перевез из Батурина в Белую Церковь, а теперь и сам на правобережье перебрался. И как знать, не собирается ли он встречать в Белой Церкви Лещинского, который, по слухам, собирается идти в Галицию, а оттуда на Днепр?
Словом, было отчего тревожиться князю Дмитрию в эти мглистые мартовские дни. Одно было хорошо. Как сообщил Осипов, доносчики Кочубей и Искра не бежали в Крым, а добровольно явились в Ахтырку, полагаясь на царскую протекцию, и отправлены сейчас в Смоленск для допроса.
А вечор пришла еще одна отрадная весть: гетман из Белой Церкви поспешает сейчас в Киев и будет с визитом у генерал-губернатора.
И точно, в тот мартовский день 1708 года к князю Дмитрию пожаловали гости. За окном уже брезжили пепельные влажные сумерки, густой туман от таявшего снега поднимался до черных верхушек оголенных деревьев. Но в обитой дубом гостиной было покойно, дышала жаром большая изразцовая голландская печка, в сумеречном обманчивом свете весело поблескивали горки серебряной посуды за стеклом богатого буфета.
Гости сидели вокруг маленького наборного столика, уставленного десертом: яблоками, грушами и виноградом из теплиц собственного княжеского сада и диковинными плодами — лимонами и апельсинами — подарком воложского господаря. Пили черный яванский кофе и ароматный французский коньяк, презент князю Дмитрию от его ближайшего друга Андрея Артамоновича Матвеева, русского посланника в Голландских Штатах и Англии.
Разговор шел неторопливый, по-старинному учтивый и осторожный о самой высокой политике. Самый старший среди гостей — старик с красными глазами и надменной складкой сухих губ — пересыпал свою речь латинскими изречениями, нарочито щеголяя той старинной образованностью, которой славилась вельможная шляхта в ушедшем семнадцатом столетии.
— Mea roto, на мой взгляд, князь, не выскочка Пуфендорф[30], а славный мыслитель Макиавелли[31] приближается к истине, когда утверждает: «Государю важнее, чтобы его более боялись, нежели любили!» — Старец с нескрываемым презрением оглядел собеседников, ведь гетман Мазепа единственный мог почитать себя за этим столом если и не монархом, то полумонархом.
— Но, коли позволит пан гетман, — вмешался в беседу тучный иеромонах с черной как смоль бородой, — Макиавелли писал и иное: «Лучшая крепость для государя — расположение к нему подданных!»
— В моем случае Макиавелли говорит: «Sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности)», в вашем же случае, отец Феофан, Макиавелли ведет речь a contratio (от противного), — с поучением ответил пан.
Князь Дмитрий, дабы разрешить спор Мазепы и Прокоповича, негромко хлопнул в ладоши и приказал выросшему на пороге секретарю принести из своей библиотеки книгу известного сочинителя Пуфендорфа «О законах естества и народов».
Бесшумно скользящие по паркету лакеи в цветных ливреях зажгли восковые свечи в бронзовых канделябрах, и, погруженная дотоле в полумрак, гостиная предстала перед гостями во всем своем полуевропейском, полуазиатском великолепии. Зеркала из белого английского стекла, установленные во весь рост, отражали противоположную стену, укрытую дорогими персидскими коврами, увешанную ятаганами дамасской чеканки и кривыми черкесскими саблями в золоте и серебре. Над дверью, ведущей в гостиную, сочными красками поблескивала венецианская картина, изображающая золотоволосую красавицу с обнаженной белоснежной грудью, из другого же угла печально и строго взирала Богоматерь Одигитрия с иконы рублевского письма.
— Секретарь, молодой человек в кафтане, украшенном княжеским вензелем, выскользнул из потайной дверцы и почтительно протянул князю книгу с золотым обрезом, после чего исчез так незаметно, словно его и не было.
По всему было видно, что князь Дмитрий неоднократно читал книгу Пуфендорфа. Он легко нашел отмеченное на полях место и прочел с неким тайным волнением:
— «Счастлив народ, не зависящий от прихотей своего государя, и еще счастливее государь, счастье и слава которого в добрых делах!»
— Так то о нашем государе Петре Алексеевиче прямо написано! Вся его жизнь проходит в добрых делах, и боле всего он печется о счастье и славе своих подданных. Виват нашему обожаемому монарху! — И старый гетман вскочил с неожиданной для его лет проворностью.
«Кабы я ведал, где ты ныне обедал, знал бы я, зачем ты нам побасенки сказываешь, Иван Степанович», — подумал про себя князь Дмитрий, чокаясь с Мазепой. Сколько уже доносов на Мазепу проходило через его руки в царскую ставку, но ни одному из них ни Петр, ни канцлер Головкин не давали веры. Доносчиков же выдавали с головой на гетманский правеж, и здесь Мазепа не знал пощады. Сам же не уставал твердить о своей преданности Петру. И все же, не умом даже, а каким-то потаенным чувством, князь Дмитрий упрямо не доверял ни гетману, ни его ближней казацкой старшине. И по-прежнему давал ход всем бумагам против Мазепы, хотя и знал, что вызывает тем большое неудовольствие у самого царя Петра Алексеевича.
«Я тебе рад, да боюсь, что ты вороват», — вспомнил Голицын старинную поговорку и, чокаясь за государево здравие с вельможным гетманом, еще раз заглянул ему прямо в глаза. Но глаза у Мазепы старчески слезились, и в глазах тех стоял туман.
Князь Дмитрий перевел затем взгляд на ректора Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича. Этот киевлянин, хотя и четырежды менял имя и трижды — религию, в трудный час не изменит, потому как вынес из всех своих заграничных странствий твердую веру в единство славянского дела, в единство судеб славянских народов. А людям, имеющим столь твердую веру, князь Дмитрий, как разумный политик, привык доверять больше, чем иным казацким старшинам, только и мечтающим о привилегиях польского панства.
Князь приказал лакею распечатать бутылку ренского. Некоторое время молча сидели у камина, наблюдая за причудливыми изгибами пламени. Потом беседа возобновилась.
Речь зашла о единстве славянского мира, и завел ту беседу Феофан Прокопович.
— Славяне славянам рознь! — неожиданно вырвалось у Мазепы, но тут гетман спохватился и вернул своему лицу прежнее покойное выражение.
— Правду молвишь, ясновельможный пан гетман, славяне славянам рознь! — не без иронии заметил князь Голицын. — Коль верить иным историкам, мы, руссы, ведомы в истории европейской еще со времен царя Митридата под именем готов, в то время как вы, поляки, ведете свой род от пылких сарматов.
— Прошу князя извинить меня, но я тоже не поляк, а исконный русич! — горячо перебил Голицына гетман. — И ежели я был в молодые годы покоевым у короля Яна Казимира, то сие не значит, что я польский шляхтич. Вам ведомо, что сын самого Богдана Хмельницкого тоже служил когда-то у польского короля, но оттого не переменил ни рода, ни отчизны!
«И все же ты охотно подписывал бы свои универсалы как Ян, а не как Иван Мазепа, — подумал князь Дмитрий, с усмешкой взирая на разгорячившегося гетмана, — и мнится мне, что и Гриць-запорожец и Кочубей с Искрой говорили чистую правду, виня тебя в прямых сношениях с неприятелем. Но что решат царь и Головкин, допрашивающие сейчас их в Смоленске? Того не ведаю…»
И здесь, словно уловив мысли Голицына, Мазепа тихонько рассмеялся, как бы над самим собой:
— Впрочем, что я тут вам глаголю, Панове, точно оправдываюсь в чем… Ведь сам великий государь доверяет мне! — И Мазепа гордо поправил ленту ордена Андрея Первозванного.
В это время послышался шум подъезжающей кареты, затем быстрые и по-военному решительные шаги раздались на лестнице, ведущей на второй этаж, двери гостиной распахнулись, и на пороге вырос генерал-майор и бессменный полковник Семеновского полка Михайло Голицын, младший брат князя Дмитрия. Отвесив легкий общий поклон гетману и Прокоповичу, он обернулся к брату и здесь внезапно смутился, словно спохватившись, перекрестился на висящие в углу образа и затем лишь подошел к старшему брату и почтительно поцеловал ему руку. Князь Дмитрий в свой черед по-отечески поцеловал брата в лоб и тогда лишь осведомился, откуда он и как доехал. Этой верностью дедовским обычаям князь Дмитрий как бы подчеркивал постоянство старинного рода Гедиминовичей, которого нет и не может быть у таких безродных людишек, как мелкопоместный шляхтич Мазепа, который толком и не ведает даже, к какой нации он принадлежит.
Князь Михайло прибыл в Киев прямо из действующей армии. И Прокопович, и по-старчески любопытный Мазепа тотчас засыпали его вопросами: где король шведский, где государь, где Меншиков, Шереметев, скоро ли начнется, летняя кампания?
И снова вмешался князь Дмитрий, спросил по старинному обычаю:
— Ты, брат, чаю, голоден с дороги, да и умыться надобно!
Мазепа понял, что ответов на свои вопросы в этом доме он не дождется, так как то был единственный дом на Украине, где никто ему не подчинялся. Он с неспешной важностью встал и стал откланиваться. Князь Дмитрий с подчеркнутой вежливостью проводил старого гетмана до порога своего дома. На улице стоял густой туман, было холодно и слякотно.
— Как хочешь, Дмитрий Михайлович, но я тебе казаков из своего регимента не дам… — зябко поежился Мазепа, закутываясь в медвежью шубу.
— А ведь швед, пан гетман, приучен воевать в любую погоду! — весело оскалил белые зубы князь Михайло, тоже выскочивший провожать гостей.
— Что ж, не дадите казаков на работы, возьму монахов из лавры! — сухо пожал плечами Голицын. — А государю и Головкину отпишу, что пан гетман строит свои фортеции в Батурине и Белой Церкви, а в Киевскую Печору казаков не шлет!
— Все бы тебе письма писать, княже! — раздраженно произнес гетман, и князь Михайло поразился нескрываемой ненависти, мелькнувшей во взгляде, брошенном Мазепой на старшего брата.
Впрочем, гетман быстро спохватился и вернул притворную улыбку на лицо:
— Какой же, однако, ты порох, князь Дмитрий! Сдаюсь, сдаюсь! Бери две тысячи казаков на работы из Белой Церкви! — И, словно вспомнив что-то, между прочим добавил: — Совсем запамятовал, княже! Шпигунчика твоего, запорожца Гриця, его царское величество и господин канцлер выдали вше на полный правеж, с головою. Такая же участь ждет и двух других недоброжелателей моих, Искру и Кочубея!
Дверца кареты с изображенным на ней гербом Мазепы — крестом и луною — захлопнулась, и карета как бы растворилась в сыром тумане.
— Сладок для человека хлеб, обретенный неправдою, но после рот его наполнится древесою! — многозначительно пробасил Прокопович и тоже откланялся.
— Вот что я тебе скажу, Миша! — сказал Дмитрий, когда братья остались одни. — Куется на гетманщине злая измена, и главные кузнецы тут — новые паны украинской породы и их главный предводитель пан гетман, которого ты только что лицезрел! Не случайно в гербе Мазепы стоит луна — переменчивое ночное светило, которое может обернуться и полумесяцем! — И князь Дмитрий поведал брату о всех своих сомнениях и тревогах.
— На последнем военном совете о повороте короля свейского на Украину и речи не шло! — задумчиво сказал Михайло. — Но, как знать, позовет гетман Каролуса на Украину, то король по своей врожденной легкости может и такой оборот учинить?! — И вдруг рассмеялся с молодой беспечностью: — Впрочем, еще пустое: не может же королевский поход перемениться из-за любовных шашней пана гетмана с Матреной Кочубей?
— А вот это ты зря, Миша, вспомни, сколько лет греки с троянцами из-за Елены Прекрасной воевали!
— Но Матрена-то не Елена Прекрасная?! — не мог унять смех младший Голицын.
— Может, и не Елена, но девка гарная, сам видел! — позволил себе улыбку и князь Дмитрий. И заключил уже, серьезно: — Да не в девке дело, конечно. Просто пан гетман на старости лет хочет сравняться с самой знатной польской шляхтой, и о том же мечтает и казацкая старшина. А наш государь, Миша, как ни жаль, но Мазепе верит!
Сон долго не приходил в ту ночь старшему Голицыну — тревожил обманчивый лунный свет, широкой полосой Лившийся в окно.
Поутру оба брата пили крепчайший кофе, и младший Почтительно сообщал старшему:
— План-то в Жолкве мы приняли, Дмитрий, превосходный, перевели всю армию на север, за Припять. Да вот государь опять отделил драгун от пехоты. И что ж наш светлейший (как и все родовитые бояре, Голицыны вкладывали в сей титул Меншикова всю свою родовитую злость), Упустил шведа и на Висле и на Буге, и король ныне стоит в Сморгони по дороге на Минск. Мыслю, по первой траве Пойдет на Москву, хотя фельдмаршал мой, Борис Петрович, все за Балтику беспокоится, даже тяжелые пушки на рижскую дорогу направлял.
— Ну а сам государь? Где он пребывает? — спросил князь Дмитрий.
— Да в том-то и дело, что царь сидит в своем парадизе Санкт-Петербурге, а не при армии. Ведь пока он в войсках, у нас полный порядок — Меншиков и фельдмаршал друг против друга не интригуют, даже генералы-немцы воле царской послушны. А стоит ему уехать, в армии черт-те что творится. Боюсь, пропустят наши воители шведа до Смоленска.
— Да ты не волнуйся, Миша, попомни, царь Петр Алексеевич всегда в нужный час и в нужный момент объявится! — Старший брат плеснул в бокал светлое прозрачное вино, поднял бокал: — За твои виктории, Михаил! Верь, побьем шведа! — А на прощание спросил: — Ну а как твоя Авдотья в Москве поживает?
— Да что с ней деется, все толстеет! — рассмеялся Михайло. А затем признался старшему брату: — По правде, братец, могу тебе сказать, яко шведский Каролус — ежели я и женат, то на своей армии!
Князь Дмитрий брата перекрестил и сказал твердо:
— С богом, Миша, грядет твой звездный час!
Король выступил!
Борис Петрович Шереметев в мае 1708 года пребывал в тяжелом раздумье. Он знал, конечно, что швед стоит в Сморгони и Радошковичах, на минской дороге, но куда Карл XII двинется далее? От коварного короля-воина можно было ждать самых нежданных поворотов! Борис Петрович пытался поставить себя на место неприятеля, и тогда ему виделся один путь для главной шведской армии. Ни за что он не повел бы ее через Минск на Москву, а сначала завернул бы из Сморгони на Ригу, соединился там с корпусом Левенгаупта, восстановил прямые морские коммуникации со Швецией, получил бы оттуда рекрутов и провиант, а затем, прикрывшись с фланга мощным шведским флотом, двинулся бы на Петербург и на Неве встретился бы с финляндским корпусом генерала Либекера. Так учили все законы европейской военной тактики и стратегии, которую Борис Петрович изучил не токмо по книгам, но и на своей тридцатилетней военной практике. Борису Петровичу довелось биться с переменным успехом не только с турками и татарами, но и с самим королем Карлом XII и его лучшими генералами: Реншильдом, Левенгауптом и Шлиппенбахом. Так что военного опыта Борису Петровичу было не занимать, а что до науки, то учиться военному искусству Шереметев ездил ведь даже к мальтийским рыцарям. В свои пятьдесят шесть лет фельдмаршал имел за своими плечами и такие блестящие виктории, как Эрестфер и Гуммельсгоф, и успешные штурмы неприятельских фортеций: турецкого Кази-Керменя, шведских — Нотебурга и Мариенбурга, Ниеншанца и Дерпта. Была, правда, в его служебной копилке и поспешная ретирада из-под первой Нарвы и неудача при Мур-мызе. Словом, Борис Петрович был генералом не токмо победоносным, но и битым, и это удваивало его природную осторожность. И пока Меншиков со своей кавалерией сторожил минскую дорогу, Борис Петрович, имея на руках три пехотные дивизии, гвардию и бригаду конных гренадер, все время оглядывался на Западную Двину, опасаясь неприятельских оборотов к Риге. Неизвестность томила его тем более, что Драгуны Меншикова за несколько месяцев, начиная с февраля, не могли достать ни одного неприятельского «языка», и то, что происходило в шведском лагере, оставалось для фельдмаршала полной тайной.
— Вижу, Александр Данилович в той же безвестности пребывает, что и мы, грешные. А сегодня уже последний майский денек. Думаю, двинется швед в поход по первой траве. Ведь для Каролуса главное, чтобы кони были сыты. О солдатиках-то он небольшую заботу имеет, — поделился Борис Петрович своими раздумьями с доверенным адъютантом Чириковым. И приказал: — Вот что, Лука Степанович, коль фон дер Гольц, что у Меншикова в переднем дозоре обретается, до сих пор ни одного «языка» в полон не взял, возьми-ка ты батальон конногренадер астраханцев и сотню казачков и отправляйся сам на минскую дорогу, — может, тебе повезет более, нежели фельдмаршал-лейтенанту фон дер Гольцу! — Этого Гольца Борис Петрович не любил больше всех других конных генералов, набранных Меншиковым в основном из немцев, уже оттого, что тот принес из имперской армии, где служил ранее, странный чин: фельдмаршал-лейтенант. Конечно, Гольц не был полным фельдмаршалом, как Борис Петрович, но все же это звание как-то смущало и резало ухо — ведь после отъезда Огильви из России Шереметев оставался единственным фельдмаршалом в русской армии, и вдруг — на тебе! Явился какой-то фельдмаршал-лейтенант!
Лука Степанович на приказ фельдмаршала лихо щелкнул шпорами и уже через час, сопровождаемый командой конногренадер и казаков-донцов, запылил по минской дороге. Бравому майору (производство было недавнее), признаться, и самому надоела грязь и вонь большого армейского лагеря, а в лихом поиске всегда есть простор, в лицо дует свежий ветер, а главное, в отдельном поиске ты сам себе голова!
Возле Борисова встретили первых драгун из полков фон дер Гольца, а за Борисовом натолкнулись и на самого фельдмаршал-лейтенанта.
На пригорке, возле переправы через Березину, был поставлен зачем-то, словно у подьячего в московском приказе, большой стол, укрытый красным сукном, на котором красовалась чернильница. Вокруг чернильницы восседал весь штаб ученого немца. Правда, сам фон дер Гольц стоял на пригорке, яко памятник, и через подзорную трубу внимательно изучал пустынную минскую дорогу на другой стороне широко разлившейся в половодье Березины.
— Странно, что полковник Кампбель не шлет мне ни одного донесения! — оторвавшись от трубы, фельдмаршал-лейтенант принялся выговаривать своему начальнику штаба — розовому и улыбчивому швабу Вейсбаху. — Ведь Кампбель со своими драгунами уже неделю как стоит за Минском!
— Да вот к нам майор Чириков пожаловал. Ныне он со — своей командой поспешает как раз в Минск по поручению фельдмаршала Шереметева. Может, ему и поручим отыскать не токмо шведов, но и наших пропавших драгун! — с мнимым простодушием предложил Вейсбах. Он рассчитывал, что фельдмаршал-лейтенант непременно взорвется, и не ошибся.
— Зачем к нам суется команда пехотного фельдмаршала?! Разве здесь не мой участок? — Гольд прекрасно знал, что между Шереметевым и его, Гольца, прямым начальником, светлейшим князем Меншиковым, давно пробежала черная кошка и что светлейший упрямо не признает первенства Бориса Петровича. Пока при армии находился царь, то оба военачальника — и фельдмаршал Шереметев, и генерал от кавалерии Меншиков, — само собой, подчинялись царской воле. Но стоило Петру отбыть в Санкт-Петербург, как единое командование тотчас распалось, и ежели пехота подчинялась Шереметеву, то кавалерия признавала только команды Меншикова. Но если об этом знал фон дер Гольц, то не менее о том знал и штабной адъютант Шереметева майор Чириков.
Посему, хотя Лука Степанович и отдал честь фельдмаршал-лейтенанту и снял перед ним треуголку, на громкий крик кавалерийского начальника, зачем он суется не в свое дело и на чужой участок, глянул на немца с удивительным хладнокровием.
— У меня есть прямой приказ моего фельдмаршала выступить к Минску и выяснить диспозицию неприятеля! — невозмутимо ответствовал Лука Степанович раскричавшемуся Гольцу.
— Но к Минску уже пошел полковник Кампбель с невскими драгунами, и я с минуты на минуту жду его с донесением. Переведите это русскому медведю! — сердито приказал фон дер Гольц Вейсбаху.
Сам фельдмаршал-лейтенант по-русски знал только несколько слов и общался со своими подчиненными или через начальника штаба, или через своего секретаря-переводчика. Зато Лука Степанович за долгие годы Северной войны, когда ему приходилось мотаться и по Прибалтике, и по Речи Посполитой, и по Саксонии, выучился бегло говорить и по-польски и по-немецки и прекрасно понимал речь фон дер Гольца. Но он намеренно говорил со спесивым фельдмаршал-лейтенантом только по-русски. Это давало ему большое преимущество: во-первых, он-то сам превосходно разбирался, о чем толковали немецкие генералы, а во-вторых, мог обдумывать все свои ответы, пока толстяк Вейсбах занимался переводом!
— Я уже знаю, что от вашего Кампбеля несколько суток как нет ни одного донесения! — насмешливо ответил Чириков на попреки немца. И с высоты своего, роста — он был выше фельдмаршал-лейтенанта на целую голову — бросил небрежно: — Я тотчас выступаю со своей командой на Минск, и никто мне не волен препятствовать, потому как у меня приказ от своего фельдмаршала!
Пергаментное личико фон дер Гольца от негодования налилось желтизной.
— Какая свинья вам сказала, что от Кампбеля неделю как нет донесений?! — заорал немец, забыв о своей учености.
— Да вы сами и сказали! — ответил Чириков по-немецки, заставив фельдмаршал-лейтенанта раскрыть рот от изумления.
Опомнившись, фон дер Гольц бросился к чернильнице и закричал:
— О вашем самовольстве, майор, я напишу сейчас не только светлейшему, но и самому царю!
«Пиши, пиши!» Лука Степанович улыбнулся про себя, отдал учтивый прощальный поклон штабу и стал спускаться к переправе. По пути его нагнал Вейсбах и, запыхавшись, сказал:
— Увидите этого чертова Кампбеля, майор, передайте ему, что он обещал нам взять «языка». И пусть остережется и скорей шлет свои донесения в штаб! — И, переведя дух, добавил спокойно: — Ступайте, майор. Вы не в нашей команде, и потому мы вас не задерживаем!
* * *
Борис Петрович Шереметев явно утешился бы в своих тревогах и сомнениях, ежели бы знал, что его давнишний и удачливый противник, генерал Левенгаупт, одержавший в 1705 году над ним викторию при Мур-мызе, тоже не ведает стратегических замыслов короля. Боле месяца гостил генерал в королевском лагере в Радошковичах, но так и не был ознакомлен Карлом XII с планом предстоящей кампании 1708 года.
— Отправляйтесь к своему корпусу в Ригу, генерал, и собирайте провиант в Лифляндии, Курляндии и Литве. Когда соберете большой обоз, я извещу вас о нашем дальнейшем движении… — холодно приказал король, прощаясь со своим генералом. Карл XII недолюбливал удачливого Левенгаупта и упорно не давал ему звание фельдмаршала, хотя тот уже третий год действовал в Прибалтике самостоятельно, в отрыве от главной армии.
— У меня одна армия и потому один фельдмаршал — Реншильд! — отвечал король на все представления своего начальника штаба Акселя Гилленкрока о производстве Левенгаупта за победу при Мур-мызе в фельдмаршалы.
— Я по-прежнему не знаю, куда же двинется король в предстоящей кампании! — Кипящий от гнева Левенгаупт перед отъездом зашел в штабную палатку.
— Увы, мой генерал! Хотел бы и я знать планы его величества! — Гилленкрок только развел руками.
— Как так? Генерал-квартирмейстер и начальник штаба не знает плана новой кампании? — Левенгаупт с недоверием посмотрел на своего давнишнего друга.
— Сказать честно… — Гилленкрок подошел к генералу и шепнул на ухо: — Не знаю! И не только я, но и Реншильд, и канцлер граф Пипер, — все мы понятия не имеем, куда поведет нас король. Видишь ли, его величество, по-моему, ждет прямых указаний от Всевышнего: он тут как-то намекал нам, что состоит с ним накоротке!
— Он что? — Левенгаупт красноречиво повертел у виска пальцем.
— Да нет, в обычной жизни король нормальный человек, но стоит коснуться его стратегии, как он умолкает и ждет божественных озарений. Одно тебе скажу: я предлагал идти в Прибалтику на соединение с твоим корпусом, но король с порога отверг мой план.
— Неужели вы двинетесь через Минск на Москву? — удивился Левенгаупт. — Ведь на этом пути у нас нет ни одной базы, а все крепости в руках неприятеля?
— А вот это, мой друг, никто не знает, куда мы повернем после Минска. Все — великая военная тайна его величества! — Гилленкрок криво усмехнулся. Конечно, начштаба был недоволен, что король, как командующий, не делится с ним своими замыслами.
— У тебя, Аксель, здесь не штаб, а сумасшедший дом! — напрямик отрубил Левенгаупт своему другу на прощание и ускакал в Ригу…
А через день король вышел из палатки, посмотрел на солнечное июньское небо и на зеленую, густо поднявшуюся траву и приказал Гилленкроку трубить поход. Отдохнувшая за зиму и весну шведская армия по первой траве двинулась на Минск.
И только здесь его величество соизволил кратко поделиться с начальником штаба своими планами.
— Куда идет эта дорога, Аксель? — спросил он Гилленкрока самым дружелюбным образом.
— На Минск, ваше величество! — сухо ответствовал начштаба.
— А далее? — Король лукаво посмотрел на ехавшего с ним стремя в стремя генерал-квартирмейстера.
— Далее на Москву, ваше величество!
— Вот мы и пойдем по этой прямой дороге, мой Гилленкрок! — Лицо короля озарилось улыбкой.
— А русские? — вырвалось у Гилленкрока.
— Что русские?! — рассмеялся Карл. — Они побегут перед нами, как бегут сейчас драгуны Меншикова. — Плетью он показал на уходивший по косогору в сторону Минска разъезд невских драгун, преследуемый рейтарами Реншильда.
— К большой победе ведут самые прямые дороги, мой Гилленкрок! Я это понял, когда вошел в Саксонию и сразу отобрал у кузена Августа его польскую корону. Точно так же я подберу в Москве царскую корону, которая свалится с головы Петра.
— Но Прибалтика, ваше величество… — пробовал было возразить Гилленкрок.
— В Москве я отберу у царя не только корону, но и Петербург и верну себе и Нарву, и Дерпт, и Нотебург. Так что вперед, только вперед. — Король огрел лошадь плетью и понесся во главе своих драбантов самолично преследовать русских драгун.
* * *
Полковник Кампбель, заняв со своими драгунами Минск и выслав разъезды к Радошковичам, занялся в городе самым выгодным для наемного воина делом: засадил в подвалы замка богатейших купцов и вымогал у них тайные клады золота и серебра. Обычай сей был освящен в наемных армиях еще со времен Тридцатилетней войны, и Кампбель не думал ему изменять.
Пока шведы стояли в Радошковичах, а его прямые начальники Меншиков и Гольц прятались за Березиной, Кампбель чувствовал себя в Минске полным господином. «Война кормит войну!» — посмеивался он, набивая свои карманы золотом. Поэтому появление Чирикова Кампбель сначала встретил как появление соперника по грабежу. Но, к великому удовольствию полковника, этот здоровенный адъютант Шереметева и не собирался задерживаться в городе, а спешил войти в прямое соприкосновение с неприятелем.
— Да ради бога, майор — вот дорога на Радошковичи и Сморгонь. Я нынче выслал по ней разъезды своих невских драгун, вы их и встретите по пути, — любезно выпроводил. Кампбель Луку Степановича из города.
И точно, через две версты от города Чириков встретил драгунские разъезды невских драгун, на всем скаку уходящих от преследующих их шведских рейтар. Майор успел, однако, быстро спешить своих конногренадер и развернуть их в три линии.
Астраханский конногренадерский полк, как и гвардия, привык сражаться и в конном и пешем строю. Он был сформирован на основе эскадрона личной охраны Шереметева, набранного им из поволжского дворянства еще во время похода на Астрахань. Как Ингермландский полк был конвойным полком Меншикова, так Астраханский стал конвойным полком первого фельдмаршала. Это не шло против европейских воинских штатов, где со времен кардинала Ришелье каждый выдающийся генерал имел свою конвойную «гвардию».
Петр I не возражал, чтобы фельдмаршал имел такой конвой, памятуя о злоключении Бориса Петровича, когда на него под самой Москвой однажды напали пьяные матросы-голландцы, побили и разогнали всех его слуг.
Теперь фельдмаршала всегда сопровождали конногренадеры-астраханцы, рослые и крепкие солдаты, готовые дать достойный отпор любому неприятелю. Тщанием Бориса Петровича все они были одеты не в холщовые, а в суконные платья, вооружены новенькими тульскими фузеями и стальными палашами, а лошади под ними были породистые, крупные и сильные — не степная мелкота драгунских полков!
Лошадей в Астраханский полк поставлял собственный конный завод Шереметева, заведенный им в любимой Борисовке, и лошадей тех страстный конник Борис Петрович отбирал для этого полка самолично. Словом, Чириков спиной чувствовал, какой крепкий батальон стоит за ним, и не торопился дать первый залп. Только когда шведские рейтары подскакали за сто метров, тройной залп конногренадер расстроил ряды шведских рейтар. Но те шведы, что промчались сквозь пороховой дым, по-прежнему бешено неслись на астраханцев, и впереди них скакал узколицый офицер с ястребиными глазами — король Швеции Карл XII. Однако перед первой линией русских королевский копь вдруг взвился на дыбы: гренадеры метнули бомбы и одна из них взорвалась как раз перед Карлом. К ужасу драбантов, их король вылетел из седла! Атака рейтар тотчас захлебнулась. Правда, драбанты успели прикрыть короля. К их великой радости, Карл вскочил на обе ноги как ни в чем не бывало и властно протянул руку: «Коня мне!»
Один из драбантов соскочил со своего коня, и король снова взлетел в седло. Но, оглянувшись назад, увидел, что рейтары уже уходят.
— Таковы превратности войны, мой принц! — обратился Карл к принцу Вюртембергскому, добровольцем вступившему в его войско. — Бывает, и короли вылетают из седел! — Карл повернул коня вслед за рейтарами.
— Да ведь это был сам Каролус! — Чириков видел как-то короля со стен Гродно. И громко, с кавалерийской распевностью подал команду: — Гре-на-деры! На конь! — Астраханцам не понадобилось и двух минут, чтобы подвести своих лошадей и сесть верхом.
Но за это время шведские рейтары и драбанты короля скрылись, а когда Чириков взлетел на вершину холма, то ахнул: вся раскрывшаяся перед ним долина до самого горизонта была покрыта пешими и конными колоннами шведов.
— Вот она, главная армия шведов! Сам нашел! — Чириков был доволен — утер нос фон дер Гольцу.
В это время подскакавший к Чирикову драгунский поручик с небольшим конвоем отрапортовал:
— Поручик Петухов, от полковника Кампбеля из Минска. Полковник передает вам, что швед уже вошел в город.
— И на том спасибо! — Чириков не без насмешки поклонился молоденькому поручику. — А почто твой Кампбель и невские драгуны отпор неприятелю не учинили?
— Отступили на Борисов… — покраснел Петухов.
— Скажи лучше честно, петушок, бежал твой Кампбель без боя?! — Об этом, впрочем, можно было и не спрашивать. Пока Чириков давал свою баталию, шведский генерал Шпарр по лесной дороге обошел город с севера и ворвался в Минск с четырьмя полками рейтар, легко выбив рассеянных по городу драгун Кампбеля.
— Жаль, упустили на сей раз королька! Ничего не поделаешь, петушок, нам сейчас самим дай бог ноги унести, швед в тыл зашел! — И в обход Минска Чириков повел свою команду на юг, собирая по пути отдельные разъезды драгун, а к Березине вышел уже не у Борисова, а южнее, у местечка Береза-Сапежинская. Моста здесь, правда, не было, но местные мужики показали брод, через который и переправилась вся команда Чирикова.
* * *
— Этот дурак фон дер Гольц, видно, за дело был изгнан с имперской службы. Разведка доносит, что он все еще поджидает меня на переправе у Борисова! — улыбнулся Карл XII Гилленкроку.
Тому ничего не оставалось, как признать, что план его величества оказался превосходен: пока Шпарр своей ложной демонстрацией приковал все внимание Меншикова к Борисову, шведская главная армия спустилась на тридцать верст вниз по реке и начала форсировать Березину у Березы-Сапежинской. У русских здесь никто, кроме небольшой команды, шведам не противостоял.
От захваченного пленного король и его начштаба узнали, что русским отрядом командует здесь майор Чириков, тот самый, что гнал шведских рейтар под Минском.
— А ну, задайте-ка этому наглецу-майоришке! — приказал король, и тяжелые шведские пушки принялись обстреливать противоположный берег.
Однако конногренадеры и казаки Чирикова, засевшие в прибрежных кустах, выдержали обстрел, и, когда первые лодки и плоты со шведской пехотой двинулись через реку, над кустами поднялись белые дымки и затрещали ружейные выстрелы. Достигших песчаной отмели Лука Степанович атаковал со своим резервом в конном строю и опрокинул в реку.
— Какой-то Чириков преграждает мне путь! — бушевал король. — Гилленкрок, выдвиньте против них все орудия!
Теперь уже десять шведских батарей вели огонь по русскому отряду, а на берегу разворачивалось несколько полков шведов.
Чириков слал к фон дер Гольцу гонца за гонцом с просьбой о помощи, доносил о том фельдмаршалу, написал и самому светлейшему, что именно здесь у Березины переходит вся шведская армия, но никакой подмоги так и дождался. Вечером, когда уже сотни лодок, плотов и понтонов, набитых шведскими солдатами, двинулись через реку, Лука Степанович приказал своей команде отступать.
К немалому удивлению молоденького поручика Петухова, Чириков при том был весел и беспечен, хотя потери в отряде были изрядные.
— Что, петушок, в поле сражаться — это тебе, чай, не пивко пить у твоего полковника в штабе! — лукаво подмигнул он поручику. — А что весел я, так по делу. На целые сутки почитай задержали мы неприятеля! А ныне, когда по Белыничской дороге засеки устроим, глядишь, и на неделю шведа задержим. За то время, чаю, наши господа генералы великий консилиум соберут и всю армию к баталии наконец изготовят!
Лука Степанович оказался провидцем: шведы три дня провозились на переправе через Березину, а когда двинулись по Белыничской дороге, то встретились с засеками, устроенными командой Чирикова.
* * *
— С кем я воюю, с каким-то Чириковым! — Король с раздражением наблюдал, как его драбанты, цвет шведской армии, словно мужики на лесоповале, растаскивают засечки на дороге. Шведы, привыкшие за день проходить по 30–40 верст, двигались из-за лесных завалов черепашьим шагом, делая 6–8 верст за день. И если в Минске они были уже 7 июня, то следующую после Березины реку Друть перешли только через три недели. И на этой переправе путь им преграждала одна команда Чирикова, солдаты и офицеры которой за эти дни превратились в заправских лесорубов.
— Вот что, поручик, отправляйся-ка немедля к своему фон дер Гольцу или к самому светлейшему и доложи им, что шведы уже через Друть переправились. И удержать я их один боле не в силах. Куда же, черт возьми, девались четыре дивизии нашей доблестной конницы?! Потерялись они, что ли, яко иголка в сене?! — не без злости вопросил Чириков драгуна, но, понимая, что вины младшего офицера в том нет, только рукой махнул. Через час поручик Петухов со своими драгунами уже запылил по Могилевской дороге. А на другой день он разыскал в замке знатного польского пана, князя Радзивилла, весь штаб светлейшего.
* * *
Александр Данилович пребывал в самом тяжелом расположении духа, когда ему доложили о прибытии офицера из команды Чирикова.
Вечор он получил грозное письмо от государя из Санкт-Петербурга, где разгневанный Петр вопрошал: «Отчего знатную переправу на Березине неприятелю без баталии уступили?» И от этого вопроса всю ночь больно ныла у Меншикова спина, памятуя о царской дубинке.
В самом же замке собирался сейчас великий консилиум, на коий прибыли даже царские министры — Головкин и Шафиров — и явился, само собой, фельдмаршал Шереметев со своим штабом. Видеть фельдмаршала светлейший не хотел наособицу, памятуя последние коварные его вопросы: «Каким образом неприятель через Березину столь легко прошел? И отчего один пехотный майор Чириков с малою своею партиею все войско неприятельское должен держать, пока спят господа кавалерийские генералы?»
И самое обидное, что фельдмаршал был прав. Все нанятые за великие деньги кавалерийские генералы-немцы: и Гольц, и Пфлуг, и Инфланд, и Генскин, и принц Дармштадский сначала потеряли шведов, сгрудившись зачем-то в кучу у Борисова, а потом уже не могли их перехватить на пути и пугливо бросились прямо к днепровским переправам. Но от правоты фельдмаршала Александру Даниловичу было не легче, и особливо обидно, что на пути шведов стали не его драгуны, а команда шереметевского адъютанта. Бравого майора Чирикова светлейший клял сейчас не меньше, чем шведского короля. Оттого прибывшего от его офицера Меншиков велел вести прямо к себе, дабы не перехватили царские министры или фельдмаршал.
Дотоле Петухов видел светлейшего на смотрах, где тот летел во всем блеске перед своими полками и положено было кричать ему «Ура-а!».
— Ты-то как, драгунский поручик, к этому свистоплясу Чирикову под команду попал? — с металлом в голосе вопросил Александр Данилович Петухова.
— Отрезан был от своего полка! — задрожал поручик от львиного рыка командующего. — Вот и пришлось стать под команду старшего командира.
— Ты вот что, сие забудь! — Неожиданно для Петухова смешок задрожал в голосе светлейшего. — Коли спросят на совете, отвечай, что я, твой командир, сам приказал тебе вместе с Чириковым к Березе-Сапежинской маршем идти. Понял? — Данилыч грозно воззрился на офицерика.
— Понял! — преданно округлил глаза молоденький поручик, хотя, по правде говоря, ничего не понял. А Меншиков довольно потирал руки после ухода офицера. Теперь он мог сказать на совете, что и его драгуны бились в рядах команды Чирикова.
Тем же вечером на большом консилиуме господ министров и генералов фельдмаршал Шереметев важно вопросил светлейшего:
— Ведаешь ли ты, Александр Данилович, что шведы после Березины и другим знатным пасом, через реку Друть, — овладели? Чириков мне о том доносит…
— Да что чирикает твой Чириков! — взорвался вдруг Александр Данилович яркой петардой. — Ко мне только что мой офицер прискакал, поручик Петухов, и о том же донес. Его драгуны, господин фельдмаршал, все время твоему Чирикову подмогу оказывали. Хотите, я его на совет позову? — И светлейший махнул рукой своему адъютанту.
Так впервые в жизни поручик оказался на совете столь знатных господ. Он поведал господам генералам и министрам, как бились они на Березине, делали затем засеки на Белыничской дороге, удерживали переправу на Друти.
— Чаю, на добрых три недели майор Чириков задержал шведа! — закончил он свой рассказ.
— Не Чириков задержал шведов, а ты вместе с Чириковым! — резко вмешался здесь Александр Данилович. И, обращаясь к членам совета, улыбнулся: — Оно, конечно, поручик еще молод, но офицер отважный, пробился сквозь шведов, сообщил Чирикову, что шведы уже заняли Минск, да и на Березине храбро бился. Думаю, достоин быть ротмистром!
От этой нежданной похвалы и награды светлейшего поручик покраснел — он-то думал, что его ждет жестокий разнос за отрыв от полка. Но и в военной службе встречаются свои метаморфозы, и петушок по воле светлейшего скакнул за свое удачное появление в ставке сразу в ротмистры.
На совете же господа генералы порешили: дать отпор шведу, укрывшись у местечка Головчино за рекой Бабич.
— Бабич — речка, конечно, не чета Березине, ее швед и вброд перейдет, но что делать, ежели все переправы через Березину и Друть драгуны прозевали! А меж тем есть повеление его царского величества биться со шведами на переправах. И та речка Бабич — последняя перед Днепром. Так что возвращай с Днепра свои эскадроны, Александр Данилович. Выполним царскую волю! Дадим шведу баталию, — важно заметил Борис Петрович. Приставленные к ставке министры — Головкин и Шафиров — и посол в Речи Посполитой Григорий Долгорукий одобрительно закивали головами, а Александру Даниловичу деваться было некуда — супротив царской воли не пойдешь!
— К тому же, — как бы успокаивая светлейшего, продолжил фельдмаршал, — Левенгаупт, по всем донесениям, с королем еще не соединился, грабит Курляндию и Литву, тако что резервной силы у шведов нет, а у нас ныне все пятьдесят тысяч супротив его тридцати пяти наберется. Авось, — Борис Петрович перекрестился на святой угол, — и раздавим супостата множеством. — На том на генеральном консилиуме и порешили.
Добрый знак при Добром
Известие о поражении дивизии Репнина и конницы фон дер Гольца под Головчином застало Петра I в пути, кода он несся в своей двуколке в действующую армию.
На постоялом дворе возле Смоленска царь повстречал майора Девиера, спешившего в Петербург с печальным известием о неудаче под Головчином. Правда, доклад господ генералов, написанный по просьбе Шереметева и Меншикова вице-канцлером Шафировым, был составлен так ловко, что вроде никакого поражения и не было, а так, выдала, мол, под Головчином частная стычка, после чего русские войска с согласия фельдмаршала и господ генералов в стройном порядке отступили за Днепр и стали лагерем в селе Горке на крепкой позиции.
— Читал сию бумаженцию? — жестко спросил Петр Девиера. — И что скажешь?
Хитрый португалец, прошедший на русской службе Путь от простого матроса до майора, был великим физиогномистом. По суровости царского взгляда и подергиванию щеки он сразу сообразил: соврет — быть беде! И сказал всю правду: и о потери пушек Репнина, о нестройном отступлении его дивизии через лесную чащобу, и о ретираде кавалерии фон дер Гольца, боле похожей на бегство.
— Генералы, мать вашу… — выругался Петр, трясясь рядом с Девиером в двуколке. — Полки вооружены, обучены, солдаты одеты и обуты к этой кампании, как никогда прежде! Казалось, только бери полки и веди их к викториям. Так нет, разбросали все войско по болотам, переправы упустили, а затем укрылись яко страусы за речушкой Бабич и того не подумали, что речонку ту швед вброд перейдет. Я тебя спрашиваю: отчего они такую великую реку, как Березина, не удержали, а отошли к самой неудачной позиции? Отчего?! — Голос Петра сорвался на такой крик, что оливковое лицо португальца-наемника еще более пожелтело от страха. Но царь все же удержался, не схватился за свою дубинку, понял, что с гонца спрос невелик, а спрашивать надобно с самих господ генералов. И весь остальной путь до Горок Петр пребывал в мрачном молчании.
Царский правеж над генералами в штаб-квартире в Горках Петр начал с приглашения светлейшего князя Меншикова в уединенную палатку, где келейно ознакомил фаворита со своей дубинкой.
— За что, мин херц, за что! — Вопли светлейшего неслись по всему Лагерю, так что у многих господ генералов волосы под париком дыбом встали.
— За то, что Березины не удержал, за то, что под Головчином все твои драгуны разбежались! Аль того мало! — в бешенстве ревел Петр.
Но на той расправе с Меншиковым царская буря не кончилась. Дале Петр решил поступить с виновниками по всей строгости военного суда. По царскому приказу было создано две комиссии, коим и надлежало разобрать действия под Головчином генералов Репнина и фон дер Гольца.
А дабы суд был справедлив, во главе комиссии, судившей пехотных генералов, царь поставил кавалериста Меншикова, а судить кавалерийских генералов-немцев определил фельдмаршала Шереметева.
Но если Борис Петрович с судом не спешил, то светлейший, памятуя о царской дубинке, повел дело споро. Уже 4 августа 1708 года комиссия вынесла грозное определение, что за потерю десяти пушек, амуниции и полковых знамен и отступлении «в неудобное, тесное, болотное и лесное место» генерал Репнин «во всем виноват и наказания достоин! И быть ему разжалованным из генералов в простые солдаты!».
В приговоре помощнику Репнина генералу Чамберсу язвительно указывалось, что поскольку оный генерал за четыре дня, пока дивизия окапывалась за Бабичем, позицию не осмотрел, пароля на ночь не дал, приказов никаких не ведает и не упомнит, а в сражении поступил «худо и сопливо», то тако ж, как и Репнина, лишить генеральского чина и команды публично. С Чамберса сняли также и орденскую ленту. Приговор под рокот барабанов был оглашен перед строем всех войск.
Князь Михайло Голицын хотя и подписал приговор, как член царской комиссии, но все же почитал его несправедливым. Хотя во время сражения под Головчином он с гвардией стоял далеко от сражения на правом фланге, где швед и не думал атаковать, разбирая потом всю эту несчастную головчинскую акцию, Михайло пришел к выводу, что боле Репнина виноваты светлейший князь Меншиков, оказавшийся не среди драгун, а среди пехоты, и фон дер Гольц, который со своей многотысячной конницей сразу не поспешил на выручку Репнина, хотя и стоял с ним рядом.
Однако Меншиков как председатель комиссии особое мнение Михаилы Голицына отклонил, а потом и вообще увел своих немецких генералов от суда и наказания.
На руку светлейшему оказалась и неторопливость Шереметева, а главное, пришедшее в Горки известие, что шведы перешли Днепр и идут на Смоленск. При таких обстоятельствах суд над кавалерийскими генералами так и не состоялся.
* * *
Карл XII был чиновником судьбы и во всем боле полагался на случай, нежели на разработанный заранее стратегический план. После победы под Головчином он целый месяц простоял в Могилеве, поджидая двигавшегося от Риги генерала Левенгаупта с его огромным обозом, который составлял как бы подвижную базу шведской армии. Но Левенгаупт не спешил, а спокойно выполняя приказ короля, подчистую грабил Литву и Белоруссию, разбросав отряды фуражиров по всем дорогам, и непрестанно пополнял свой обоз.
Между тем в Могилеве в главной армии шведов кончились запасы провианта, у тамошних жителей выгребли из потайных ям все зерно, а у брошенных в подземелье Могилевских евреев выбили все потаенное золото, и королевской рати ничего не оставалось, как маршировать дале!
В сущности, шведскую армию вела не воля, не великая стратегия короля, а жестокий голод. Правда, встал вопрос — куда идти?
Любой осторожный генерал, беспокоящийся о своем войске, вроде Бориса Петровича Шереметева, естественно, повернул бы назад, дабы соединиться с Левенгауптом и обрести все нужные припасы в его огромном обозе, но Карл XII не был обычным генералом и ведал только слово «вперед». А там — «война войну кормит!». И вот в начале августа шведская армия по приказу короля перешла у Могилева Днепр и двинулась к Смоленску, единственной сильной крепости, закрывавшей дорогу на Москву.
— По пути мы найдем и провиант и фураж, а Левенгаупт соединится: с нами уже у Смоленска! — заявил король Гилленкроку.
— Но, ваше величество, на пути мы встретим и главную русскую армию! — заметил осторожный генерал-квартирмейстер.
— Ах, Гилленкрок, ничего бы я так не желал, как встретить сейчас всю царскую армию и устроить ей вторую Нарву! — искренне вырвалось у короля.
— А ежели русские не дадут генеральной баталии, а по-прежнему будут опустошать все при своей ретираде? — высказал сомнение начальник штаба.
— Царь не будет жечь все в собственной стране! А ведь там, за Днепром, если я не ошибаюсь, лежит коренная Россия! — Карл XII указал за широкую реку. — Так вперед, на Смоленск и Москву! — И король лихо, в сопровождении молодых и веселых драбантов, поскакал к переправе.
«Не командующий армией, а какой-то необузданный бродяга-викинг, всюду ищущий добычу и приключения!» — неодобрительно подумал Гилленкрок о своем венценосце. Но что поделать, он был только генерал-квартирмейстером своего повелителя и его удел — исполнять королевскую волю. Гилленкрок со всем штабом двинулся вслед за королем.
В русской ставке решили сначала дать сражение в укрепленном лагере у Горок, но король обошел Горки и двинулся сперва не на Смоленск, а на Мстиславль. Так что русским пришлось оставить подготовленную позицию. Король по-прежнему держал в своих руках нити кампании. У Петра I и у Шереметева впервые даже появилась мысль, что король от Мстиславля может пойти на Украину. Но Карл XII сделал вдруг крутой оборот на Смоленск. И здесь случилось то, что и предсказывал Гилленкрок и чему не верил король: царь приказал жечь деревни в собственной стране! Теперь русская армия отступала прямо — перед шведами, и дымы от пожарищ протянулись от русского рубежа до самого Смоленска.
Чтобы найти фураж для коней, шведы должны были разбросать войско и отделить многие части от главного лагеря. Так и случилось, что бригада генерала Рооса расположилась на ночлег у деревни Доброе, в нескольких верстах от главного лагеря короля.
В присутствии грозного Петра даже неповоротливые кавалерийские генералы Меншикова зашевелились, и драгуны понеслись не только перед фронтом шведских войск, но и по их флангам. Они сообщили, что отряд Рооса расположился на ночлег в удалении от главного лагеря шведов в сельце Доброе.
На царском совете порешили воспользоваться случаем и внезапно атаковать незадачливого шведского генерала.
Для атаки был сформирован отдельный отряд гренадер, командовать которым Петр поручил Михайле Голицыну. Конницей по предложению Меншикова был назначен командовать «ученый немец» Пфлуг.
— Хотя Пфлуг и ученый генерал, но в болотах воевать не приучен, и, боюсь, никакой помощи моим генералам он не подаст! — сердито буркнул князь Михайло фельдмаршалу Шереметеву, выходя из палатки, где проходил генеральский консилиум.
— Что поделаешь, Михайло Михайлович! Сам ведаешь — всей конницей по-прежнему светлейший заправляет, а он без Пфлуга как без рук. Говорят, Пфлуга с прусской службы светлейший за немалые деньги переманил! — развел руками фельдмаршал.
— Ну и черт с ним! Я без Пфлуга со шведами управлюсь! Дай только мне в команду, Борис Петрович, лучшие генеральские батальоны: архангелогородцев, новгородцев и твоих астраханцев! А я возьму своих семеновцев!
— Что ж, бери, князь Михайло, бери! На рисковое дело идешь! — отечески напутствовал Шереметев молодого и удачливого генерала-драгуна.
Борис Петрович любил обоих братьев Голицыных: со старшим князем Дмитрием дружил еще со своего итальянского путешествия, а младшему всячески способствовал по службе. Впрочем, за князя Михайлу и беспокоиться-то было особенно нечего — его продвигал и сам государь.
* * *
В ночь с 29 на 30 августа в междуречье Белой и Черной Натопы, за которым лежало село Доброе, поднялся густой и холодный туман, скрывший подошедшие к реке русские колонны.
«Оно и лучше! — думал Голицын. — Свалимся шведу яко снег на голову!»
Князь Михайло все еще в свои тридцать три года испытывал перед боем и молодое упоение, и щемящий душу холодок, как тогда в первый раз под Азовом. А после Азовских походов была ведь и Нарва, и штурм Нотебурга, и многие баталии в Лифляндии, Курляндии, и Речи Посполитой — а вот, поди же, по-прежнему щемило перед боем под сердцем! Хотя, казалось бы, пора и привыкнуть и встречать каждое новое сражение, словно рутинное занятие, как делает, скажем, толстяк Пфлуг, который как ни в чем не бывало сидит на барабане и преспокойно пожирает ветчину.
Князь Михайло, нетерпеливо постукивая блестящими от вечерней росы ботфортами, прервал трапезу важного немца:
— Ну что они там в штабе медлят, пора начинать!
— А куда торопиться, молодой человек? — Пфлуг запил ветчину доброй чаркой водки, поданной услужливым денщиком. — Богу и государю виднее!
— Да как бы и шведу не стало виднее! — раздраженно ответил Голицын. — Увидит нас на переправе, ударит картечью — и прощай, виктория!
— Все бы вам, молодым, за викториями гоняться! — насмешничал Пфлуг. В свои пятьдесят лет он уже точно знал, что коли ране не выиграл, то теперь и подавно не выиграет ни одной виктории.
В этот миг из густого тумана выросли колеблющиеся очертания двух всадников, и сам Петр, а за ним и Меншиков соскочили с коней.
— С богом, камрады! — с ходу приказал Петр, словно угадывая нетерпеливость Голицына.
Пфлуг не без сожаления оставил трапезу, откозырял на прусский манер, вскарабкался на здоровенного черного бранденбуржца и как бы растворился в тумане. Голицын уже собирался последовать за ним, когда Петр притянул его к себе, нагнулся и неожиданно обнял и троекратно расцеловал.
— С богом, князь Михайло! Чаю, сам ведаешь — сколь потребна армии первая виктория! — Петр перекрестил и легонько подтолкнул Голицына: — Ступай!
— Боюсь, как бы сей Пфлуг не заблудил драгунские полки среди болот, — подошел к царю озабоченный Меншиков, но Петр словно не слышал, напряженно наблюдая, как голицынские батальоны мерно и ровно спускаются вниз, к переправе через Белую Натопу.
Голицын меж тем уже подскакал к переправе, поглаживая рукой оцарапанную царской щетиной щеку, затем поправил щегольской белый шелковый галстук и привычно стал отдавать приказы, подгонять и подтягивать отставшие батальоны — словом, занялся главным делом того часа. Главным было не растерять и не перепутать части в густом тумане, который белым одеялом накрыл пойму Белой и Черной Натопы… И здесь выручала не столько даже выучка самого Голицына и его колонновожатых офицеров, хотя они и были подобраны им с великим тщанием, сколько вековечная привычка русского мужика и к темному лесу, и к болотам, и к любой непогоде. Здоровенные гренадеры, — что, подняв над головой фузеи, по грудь в воде перешли сначала Белую Натопу, затем в густом тумане проложили гать через болото и вышли к Черной Натопе — сделали все споро, со сноровкой и, главное, бесшумно, — были плоть от плоти того российского крестьянства, которое имело вековую привычку считать леса и болота своими естественными крепостями.
Гренадеры не рассыпались по обширной пойме, а все так же дружно, поднимая ружья над головой, и второй раз строем вступили в ледяную воду и перешли, снова по грудь в воде, Черную Натопу. Из всех тогдашних европейских наемных армий ни одна не выдержала бы этой двойной ледяной купели.
Генерал Роос, хотя был старый и боевой офицер, взглянув с Холма, на котором стояла деревня Доброе, на густой туман, повисший над поймой двух рек, разрешил своим войскам после молитвы полный отдых.
— В таком тумане московиты никогда не перейдут через две речки и лежащее между ними болото! — поучительно заметил генерал своему гостю полковнику Станиславу Понятовскому, прибывшему к нему из ставки. — Так что завтра мы выполним распоряжение моего короля и присоединимся к нашим главным силам. А сейчас прошу к столу!
На чистой половине большой деревянной избы деревенского старосты, где расположился Роос, был накрыт поистине генеральский ужин. Староста не успел или не захотел убежать в лес, полагая, что авось шведы и не заглянут в Доброе, и был теперь жестоко наказан за свой промах. Генеральские денщики и повара основательно похозяйничали в его кладовых. В результате на генеральском столе красовалось огромное блюдо холодной телятины, окруженное солеными огурчиками и мочеными яблоками, домашние колбасы и жареные куры окружали полный штоф отборной пшеничной водки, запивать которую можно было клюквенным и брусничным взваром, а в разгар ужина два денщика торжественно внесли жаркое: молочного поросенка, набитого гречневой кашей, и жареного гуся, начиненного яблоками и капустой.
— Мы в главной квартире давно и думать позабыли о таком изобилии! — восторгался Понятовский, вонзая нож в поросячий бок. — Сами знаете, генерал! Король — великий воин, но он совершенно равнодушен к своему желудку, не Говоря о желудках своих верных солдат и офицеров. В обед он съедает тарелку бурды из полкового котла, заедает коркой хлеба — и опять на коня. Он неутомим, как борзая, забывая, что если он герой, то его подданные-то простые смертные!
Понятовский уже уплетал за обе щеки гусиную ножку. Роос щедро подкладывал гостю лучшие кусочки, памятуя, что хотя Понятовский всего лишь представитель короля Станислава в шведском лагере, но сей поляк приобрел своей открытой лестью немалое влияние на самого Карла XII. Вот и сейчас король прислал приказ присоединиться к главным силам не с одним из своих генерал-адъютантов, а с этим ловким полячком. В любом случае его бригаде не грозит ненужный ночной переход. А завтра его фуражиры угонят из этой деревни оставшийся скот и увезут все сено, так что сей поиск обернулся для его полков немалой выгодой. И генерал Роос щедрой рукой преподнес Понятовскому полную чарку отменной русской водки.
И в эту минуту вместо салюта с реки ударила русская пушка.
* * *
— Ты где, так твою раз так, потерял сапоги? — здоровенный сержант Фрол Медведев старался говорить шепотом, но голос его то и дело срывался на рык.
— Так оно без сапог в атаку даже идти сподручнее… — шепотом оправдывался солдат со смешной фамилией Васька Увалень. — У нас в деревне по лугам сено-то мужики всегда босые косят!
— Тут тебе, так твою раз так, не сено, тут швед!
— Вот я и сниму со шведа сапоги. А свои я в болоте оставил, господин сержант. Поспешал на баталию, вот и оставил. Не вертаться же мне за ними, коли сейчас к атаке протрубят…
Солдаты первой роты новгородского батальона с улыбкой прислушивались к этой словесной перепалке.
— Перестань, Фрол, шуметь! — вмешался адъютант командира батальона Петр Удальцов. — Эко дело сапоги! В старину новгородцы перед битвой и зимой вообще, бывало, сапоги скидывали, дабы злее драться.
«Петька, как всегда, показывает свою ученость! — рассмеялся про себя командир батальона Бартенев. Он был доволен: батальон новгородцев без потерь перешел обе реки и болото и выстроен для атаки. «Одна и потеря, — усмехнулся про себя Бартенев, — сапоги Васьки Увальня. Так на то он и увалень!»
Артиллеристы на руках вытащили на берег, где был построен батальон, две полковые пушки. Солдаты смотрели на батарейцев с почтением: на руках две такие махины перетащили! Пушки — не легкие фузеи, каждая на шесть пудов тянет!
Из рассеивающегося тумана вынырнул Голицын с адъютантом. Спросил Бартенева:
— Как новгородцы?
— Батальон построен к атаке, господин генерал! — Бартенев отвечал твердо, потому что знал, что за батальон у него за плечами: славно бились со шведом под Пуницем, Фрауштадтом и Ильменау, в польских и немецких землях. А на своей-то земле и подавно не подведут!
— И что он медлит? — Голицын обращался сразу и к Бартеневу, и к адъютанту, но имея в виду Пфлуга, который по уговору первым должен был начать атаку и опрокинуть шведов с холма к реке, где их и поджидали гренадеры Голицына.
— Может, заблудился немец в тумане? — высказал свои опасения адъютант.
— А ты что скажешь, майор? — обратился Голицын к Бартеневу, памятуя о немалом боевом опыте своего офицера.
— Думаю, Михайло Михайлович, не прошел Пфлуг болотами, посадил копей по брюхо в грязь. А болота здесь знатные! У меня вон солдатик Васька Увалень в таком вот болоте даже сапоги потерял. Так что, мыслю, не явится к нам немец!
— Меж тем скоро и светать начнет, туман ветром сносит. Увидит нас швед из Доброго да и накроет картечью, а там, глядишь, и опрокинет в речку, — вслух рассуждал Голицын. И, приняв решение, добавил: — Давай сигнал! Быть атаке! — И, обернувшись к Бартеневу, приказал: — С богом, Петр Иванович. Веди новгородцев на супостата!
* * *
Стоявший на берегу в палатках Смоландский полк шведов был опрокинут первой же нежданной атакой русских. Солдаты, получив полный роздых, спали раздетыми и теперь в одних подштанниках как сумасшедшие выскакивали из палаток и, не слушая ни команд, ни командиров, побросав ружья, бежали по дороге к Доброму, поражаемые русской картечью и штыками. В бегстве том шведы бросили и батарею, и Васька Увалень, заколов отчаянно отбивавшегося от него шпагой артиллерийского офицера, нашел там себе отличные сапоги.
Однако Роос, который при первых же выстрелах выскочил из-за своего пышного застолья, успел выстроить два других полка своей бригады на околице деревни и установил здесь еще одну батарею. Бросившихся было в атаку русских шведы встретили ружейными залпами и картечью. Склоны холма усеяли убитые и раненые, и первая атака захлебнулась.
— Петр Иванович, бери своих новгородцев и обходи деревню с тыла, по дальнему перелеску. А как обойдешь, дай сигнал! Тут мы с двух сторон и ударим! — приказал Голицын Бартеневу.
Тот снял батальон новгородцев со второй линии и двинулся в обход. С фронта же Голицын завернул против шведов не только свои полковые пушки, кои удалось перетащить через гать и речки, но и захваченную шведскую батарею. Между сторонами началась артиллерийская перестрелка.
Эту артиллерийскую канонаду в главной шведской квартире приняли поначалу за отдаленную ночную грозу. Однако чуткое ухо короля реагировало на канонаду мгновенно. Выйдя из своей палатки, Карл сразу определил: «У Рооса сражение!»
Взяв с собой два десятка дежурных драбантов и приказав поднять и вести следом конную дивизию Крейда, король, застегивая на скаку пуговицы мундира, помчался на разведку в сторону Доброго. Утренняя прохлада приятно холодила лицо, влажные капли тумана оседали на ресницы.
Карл скакал, бросив поводья, по лесной дороге и пытался представить, что же произошло там, у Рооса? Поначалу король думал, что Роос, выполняя его приказ, переданный ему вечор через Понятовского, стал отступать к главным силам, а русские начали его преследовать. Однако в таком случаем Роос должен быть уже у леса. Но в лесу и на опушке, куда выскочил король со своими драбантами, было пусто, а канонада гремела в версте от леса, у Доброго. Значит, Роос и не подумал выполнить приказ и начать ночной марш и русские атаковали его по своему почину. И, не раздумывая, король, не дожидаясь подхода Крейца, помчался дальше с кучкой драбантов к Доброму, чтобы там, на месте, выяснить, отчего не был выполнен Роосом приказ главного штаба…
— Тише ты, Филя! — кулаком ткнул Фрол в бок зашуршавшего в придорожной канаве солдата. — Вишь, скачут! Бери Филя первого, я возьму того, что с перьями на башке, а ты, увалень, цель в третьего! — распорядился сержант своему дозору, высланному на дорогу от батальона новгородцев, что в трехстах шагах позади перестраивался в рощице для удара в тыл шведам.
Выстрелы из канавы грянули дружно: офицер с плюмажем на шляпе (адъютант короля) и молоденький драбант, в которого целил Васька, замертво свалились с лошадей. Остальные шарахнулись в сторону, и вся кавалькада помчалась обратно в лес. «Эх ты, Филя-простофиля! Промазал переднего солдатика!» — без злобы ругнулся сержант, потому как был доволен своим метким выстрелом. «Знатного офицера снял! Вишь, каска с перьями и сумка на золоченой перевязи, да и кошель с золотыми!» — радовался Фрол Медведев своим трофеям. Само собой, радость бы его сразу померкла, узнай он, что пулька Фили разминулась с самим королем Швеции.
* * *
С опушки леса Карл в бессильной ярости наблюдал за разгромом бригады Рооса. Хотя сам король и спасся от пули незадачливого Фили, но он ничем, до прихода кавалерии Крейца, не мог помочь старому и упрямому дуралею Роосу. Не выполнил генерал приказ, не ушел ночью из Доброго, а теперь раздавят бригаду. И точно, после атаки новгородцев шведы так и брызнули из Доброго в разные стороны. Больше всего бежали влево и вправо, где еще не было русских. Только сам Роос и Понятовский со своими адъютантами и охраной засели в хоромах старосты и бились ожесточенно.
* * *
— Я вижу, русские научились бить нас по частям и производить маневр на поле боя! — угрюмо заметил Карл примчавшемуся наконец Крейцу. — Выводите скорее свои полки из леса, генерал, и загоните московитов в Черную Натопу, пока они не перекололи всех солдат Рооса.
— В деревне еще стреляют, сир! — Крейц указал на Доброе. — Сейчас наших там подожгут и выкурят как лисиц из нор! Атакуйте же, генерал! А мы, — король обратился к своему второму адъютанту, — поедем закрыть глаза бедному графу Линару и моему верному драбанту.
* * *
— Надобно, Михайло Михайлович, подтянуть пушку и выбить этих упрямцев из избы! — обратился Бартенев к Голицыну. Его новгородцы окружили избу старосты, где засели Роос и Понятовский со своей охраной, но всякий раз, когда они бросались к ней, их встречал дружный залп.
— Поздно, майор, поздно! — сказал Голицын. — Гляньте, от леса на нас летит целая туча! — Он показал на мчащихся в облаке пыли шведских рейтар.
— Забирайте трофеи, выводите батальон из деревни и стройте в каре. Поиск окончен полным триумфом, пора и честь знать!
Но в этот самый миг Васька Увалень решил доказать, что никакой он не увалень, а лихой валдайский молодец: ужом прополз по придорожной канаве, укрытый ею от шведских пуль, вскочил внезапно, в три прыжка перебежал улицу перед домом старосты и бросил горящую головню на крышу дома прежде, чем шведские стрелки опомнились и дали залп.
Соломенная крыша жарко задымилась, и как горох высыпали из избы шведские и польские офицеры. Захлопали фузеи новгородцев, и несдобровать бы ни Роосу, ни Понятовскому, если бы трубы не пропели общую ретираду и русские батальоны не начали бы выходить из деревни, увозя трофеи, гоня пленных и унося раненых. Выскочивших было из деревни шведских рейтар завернула назад картечь русских пушек.
Спокойно, на глазах двух армий — своей и подходившей шведской — гренадеры Голицына переправились через реку и перенесли на руках все пушки. Рейтары Крейца так и не решились их преследовать. Генерала Рооса и полковника Понятовского драбанты короля отыскали средь грядок капусты, где скрывались оба отважных воителя вместе со своим штабом.
А за Белой Натопой выстроенная в строй русская армия виватами приветствовала усталых, грязных гренадер Голицына, чьи лица и руки были черными от пороха.
Потери в отряде Голицына составили 1566 человек, каждый третий гренадер был убит или ранен, но шведы потеряли вдвое больше, а русским в трофеи досталось шесть знамен и шесть пушек. Петр I был в восторге от этой первой виктории в кампании 1708 года, поспешил отписать адмиралу Апраксину, оборонявшему в тот час Санкт-Петербург: «Надежно вашей милости пишу, что я, как начал служить, такого огня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не видывал (дай боже и вперед так) и такого еще во всей войне король шведский ни от кого сам не видел».
* * *
Карл XII и впрямь ходил после Доброго по своему лагерю туча тучей. Гораздо больше, чем поражение Рооса, что он почитал частной неудачей, случившейся из-за того, что этот старый дуралей Роос не выполнил вовремя его королевский указ, короля угнетало пламя, бушевавшее на горизонте — русские беспощадно сжигали свои деревни и посевы, путь к Смоленску шел через обугленную пустыню, где нельзя было найти ни провианта для солдат, ни фуража для лошадей.
«Голод в армии растет с каждым днем, — писал вступивший в Саксонии на шведскую службу один французский шевалье. — О хлебе больше не имеют понятия, войска кормятся только кашей, вина нет ни в погребах, ни за столом короля; король, офицер и солдат — все в равной степени пьют сырую воду».
Князь Михайло за Доброе был награжден орденом Святого Андрея Первозванного, а всем участвовавшим в баталии батальонам по приказу царя был дан дневной роздых. Новгородцев отвели в небольшое лесное сельцо со славным названием Угощи. Угостились здесь новгородские гренадеры на славу. Вернувшиеся в свое село из леса мужики и бабы, спроведав, что швед отогнан и в Угощи уже явно не явится, привели из лесов укрытую там скотину, вскрыли потаенные ямы с зерном и мукою, и скоро во всех дворах весело затрещали костры, на которых жарились на вертеле бараны и поросята, утки и куры.
Из заветных углов появились бутыли первача и бочонки с пивом. Принарядившиеся девки начали водить веселые хороводы с песнями.
— Не рано ли празднуют викторию твои гренадеры? — с видимой суровостью спросил князь Михайло командира новгородцев Бартенева.
Но почтенный майор только рукой махнул:
— Солдату после виктории непременно роздых нужно заиметь, княже. А не то как вспомнят, что потеряли каждого третьего товарища в том бою, так и затоскуют. А сейчас гляди, Васька Увалень, что свои мокроступы в болоте потерял, экие фортели в трофейных офицерских ботфортах отплясывает!
— Да, он, Васька, не токмо сапоги с неприятеля снял, но и из их штабной поварни целый бочонок с целительной романеей на спине уволок. Не желаете попробовать, господин генерал? — смело обратился к Голицыну сержант Фрол Медведев, голову которого венчал сейчас трофейный шлем графа Линара со страусиными перьями.
— А что, Петр Иванович, выпьем с солдатушками за нечаянную и славную викторию! — обратился князь Михайло к Бартеневу и соскочил с лошади. Был князь в то утро чрезвычайно рад, и не токмо царской наградой доволен — ведь сам, без всякой подсказки выиграл целую баталию! Услужливый Медведев быстро поставил два табурета у костра для господ офицеров. Балалайка перестала тренькать, и солдаты дружно окружили костер.
— Ну что, камрады, почитаю, под Доброй дали мы добрый знак всей русской армии. Выпьем за первую викторию в сей кампании! — И Голицын весело опрокинул чарку с крепкой романеей, которую генералу Роосу доставили купцы аж из самого Кенигсберга. У князя Михаилы сперва даже горло от такой романеи перехватило, а Ванька Увалень стоит перед ним и знай улыбается как бес, видать, не одну чарку хватил.
— Молодец, Увалень, ловко ты Рооса со всем штабом из избы выкурил! Государь повелел сделать медали в память виктории под Доброй. Получишь и ты ту медаль непременно!
— Да ведь и вы, господин генерал, первейший в России орден из царских рук получили. И мы вами гордимся! — Увальню сегодня и море было по колено.
Голицын улыбнулся: «Да ведь не царь, вы, гренадеры, мне орден достали в том бою!» Но и, садясь о конь, строго наказал Бартеневу:
— Смотри, майор, чтоб дружина твоя не перепилась нынче. Романея адская, матросская, а вам завтра опять в поход!
— Не беспокойтесь, Михайло Михайлович, я сейчас же велю Медведеву в ту романею колодезной воды плеснуть! Оно и полегчает!
На другой день батальон новгородцев нагнал армию, отступавшую за реку Городню, и встал в общий строй.
Поворот Карла XII на Украину
Шведский «северный лев», как льстиво величали Карла XII европейские газеты, в войне более всего полагался на внезапность. Под Смоленском в сентябре 1708 года такой счастливой внезапности в атаке у шведской армии явно не получалось. Русские медленно отходили и при отступлении сжигали после себя все. Надежда короля и его советников, что русские перестанут жечь, отступив из владений Речи Посполитой в Россию, не оправдалась.
Загорелась первая русская деревня Стариши. Драбанты короля поймали в перелеске возле деревни двух поджигателей, и, к удивлению короля и его штаба, это оказались не царские солдаты, а обычные мужики из Старишей, которые, отослав своих баб и ребятишек в леса, подожгли собственные избы, дабы не достались ворогу. Когда же после ожесточенного боя с русскими драгунами под Раевкой шведы вступили в обугленное пожаром местечко Татарск, то с крутого холма на Смоленской дороге король и его генералы увидели, по словам маркиза де Трувиля, что впереди «вся местность стояла в огне; горизонт окаймлялся горящими селами, а воздух был так полон дымом, что едва ли можно было видеть солнце; опустошение распространилось уже до Смоленска». А за речкой Городней вновь гарцевали русские драгуны, готовые дать новый отпор шведскому авангарду.
— Царь приказал жечь собственную страну, Гилленкрок! — тем же вечером хмуро сообщил король своему генерал-квартирмейстеру.
— Вижу, ваше величество, языки пламени стоят на всем горизонте. А в нашей армии меж тем солдаты уже неделю как питаются сырым зерном, едва перемолотым ручными мельницами! — прохрипел в ответ генерал, подхвативший простуду на сентябрьской погоде.
— Что же делать, Гилленкрок?
— Но ведь у вашего величества есть свой план! — напомнил генерал-квартирмейстер свои споры с королем еще на зимних квартирах о предстоящем походе.
«Да тогда, в Сморгони, все было иначе», — подумал король. Из России приходили хорошие вести о Булавинском бунте, волнениях среди башкирцев, о боярском недовольстве царем в самой Москве. В те дни казалось, что стоит нанести прямой удар в сердце России, и Московское государство само собой развалится. Он даже назначил генерала Шпара комендантом Москвы. Но вот войско уже четвертый месяц в походе, а русская армия по-прежнему маячит перед глазами и огни пожаров охватывают весь горизонт!
— Эти русские — настоящие скифы, Гилленкрок. Мы идем по выжженной земле! И, признаюсь, у меня нет плана, как выбраться из этой скифской войны! — вырвалось у короля.
О, как жалел сейчас Карл, что не принял совет своего канцлера графа Пипера и не пошел сначала под Ригу, где соединился бы с корпусом Левенгаупта и получил бы на своем левом фланге поддержку мощного шведского флота. Он ведь хотел создать из своей армии дружину варягов, а варяги всегда были связаны с морем. Да, с помощью флота он бы мог выдернуть эту русскую занозу в устье Невы: Санкт-Петербург, парадиз царя Петра.
Там он соединился бы с финляндским корпусом генерала Либекера и навис бы над Москвой с севера. По вместо этого благоразумного плана он двинулся прямо по московской дороге и оказался на пожарище, где у солдат нет хлеба, а у лошадей — фуража.
— Соберите совет, Гилленкрок! Пригласите вечером в мою палатку господ генералов! — сухо и раздраженно приказал король. — Будет совет!
Гилленкрок закашлялся, пораженный королевским приказом. Ведь Карл XII не собирал военный совет со времен нарвской виктории, насмешливо отвечал своему начальнику штаба, что советы ему теперь дает только сам Господь Бог. И вдруг совет!
Гилленкрок поспешил прежде всего сообщить фельдмаршалу Реншильду и канцлеру графу Пиперу, что в нынешних конъюнктурах король просто не знает, куда дальше вести свою армию.
— Прежде всего надобно соединиться с Левенгауптом и его обозом и накормить солдат! — сердито пробурчал фельдмаршал Реншильд. — Когда я воевал в Нидерландах против французов в союзе с голландцами, я никогда не вел войска в поход без доброго обоза с запасами. Признаться, в Брабанте и Фландрии это понимали. Какие мы там ели окорока, Гилленкрок! И всегда запивали их добрым голландским пивом! — Реншильд даже причмокнул при сем приятном воспоминании.
— Боюсь, его величество сможет предложить вам в палатке только стакан воды! Вы ведь знаете, фельдмаршал, наш король питается как простой солдат! — насмешливо ответил Гилленкрок.
— Ошибка, большая ошибка, Гилленкрок, пить сырую воду и питаться коркой хлеба! Даже Юлий Цезарь и Александр Македонский не брезговали хорошим вином с доброй закуской! — рассмеялся Реншильд. — Во всяком случае, так мне разъяснили еще в Лундском университете профессора истории в те годы, когда я был еще студентом и не помышлял о воинской славе!
Гилленкрок, однако, не стал слушать студенческие байки фельдмаршала и откланялся. Ему надо было поспешать к канцлеру, графу Пиперу.
Глава правительства Швеции сопровождал Карла XII во всех его походах. При абсолютистском королевском правлении, установленном еще дедом короля Карлом X, это было очень удобно: граф Пипер в своих решениях всегда мог сослаться на волю верховного монарха и легко получить его подпись. Так что канцлер кабинета не случайно пребывал в обозе шведской армии на всех дорогах Северной войны. А чтобы такому сановнику было не тряско, Карл XII разрешил Пиперу ехать в удобной мягкой венской карете, а не скакать верхом. Карета канцлера бдительно охранялась рейтарами: ведь в руках Пипера находились заветные сундуки с походной шведской казной. А казна та в 1708 году была богатая, набранная еще в Саксонии и насчитывала 6 миллионов рейхсталеров. Но вот только купить даже курицу в пылающей пожарами Смоленщине граф Пипер не мог: вся округа была разорена, а маркитанты с товарами перехватывались казацкими и калмыцкими разъездами, действующими в тылу шведских войск.
Правда, сегодня графу Пиперу повезло. Его охрана разыскала в лесу лагерь сбежавших из деревень баб и ребятишек, и канцлер получил на обед куриный бульон, который запивал добрым рейнвейном, прихваченным канцлером еще на стоянке в Саксонии.
— Полное безобразие, генерал! — зло приветствовал толстяк Пипер тощего генерал-квартирмейстера. — Казаки и калмыки шныряют за спиной шведской армии по всей Белоруссии и добираются до всех наших маркитантов. Мне только что сообщили, что казачье разбило целый обоз кенигсбергских купцов, поспешавших к нам с добрым товаром! — Пипер откинулся на мягком сиденье и тяжело задышал. Его полное лицо налилось кровью то ли от гнева, то ли от выпитого вина.
— Кстати, ваш гонец из этого несчастного обоза не встречал ли на своем пути генерала Левенгаупта? — осторожно осведомился Гилленкрок, с удовольствием пробуя горячий куриный бульон (уже ради этого угощения стоило посетить канцлера).
— На отряды и разъезды Левенгаупта мой гонец натыкался по всем дорогам Великого княжества Литовского, но главных сил генерала так и не видел. Возможно, Левенгаупт уже южнее Смоленской-дороги и выходит к Могилеву? В этом случае его рейтары рыскают по панским и мужицким закромам и, наверное, доставят армии большие запасы провианта и фуража. Так что мой совет королю: немедля отступить за Днепр и соединиться с Левенгауптом. Только тогда мы сможем прокормить армию!
Эти слова Пипер повторил и в королевском шатре. Канцлера на совете поддержал и фельдмаршал Реншильд. Правда, советчики разошлись в том, как поступать после соединения с Левенгауптом. Граф Пипер предлагал повернуть от Днепра на север, в Прибалтику, а Реншильд все еще мечтал о вступлении в Москву по прямой Смоленской дороге. По для начала и он предлагал отступить за Днепр и соединиться с корпусом, а главное, с обозом Левенгаупта.
— Я не буду отступать. Я пойду на Украину, куда меня давно зовет гетман Мазепа! — твердо сказал вдруг король. — А о Левенгаупте не стоит беспокоиться. В Долгинове к нему присоединились померанские гренадеры и дворянская конница Шлиппенбаха. Так что у Левенгаупта сейчас по всем подсчетам 16 тысяч отборного войска, и, боюсь, он один, и без нас может разбить царское воинство. Прогнал же я русских за Нарову-реку, хотя у нас под Нарвой было всего 12 тысяч солдат. Не так ли, Реншильд?
— Так, ваше величество! — Фельдмаршал прямо расцвел при воспоминании о нарвской виктории. Ведь это его победа! Король под Нарвой лишь по форме стоял во главе армии, а распоряжался на поле боя он, Реншильд, король же тогда только учился, как давать баталии.
— Так что успокойтесь и не волнуйтесь за своего Левенгаупта, Гилленкрок! У него достаточно сил, чтобы отбиться от всего русского войска. А на Украине нас ждет гетман Мазепа с огромным казачьим войском. Сколько, Пипер, обещал гетман в последнем письме выставить нам на подмогу казаков?
Канцлер Пипер, через которого король вел переписку с Мазепой, пожал плечами:
— Мазепа обещал выставить нам в помощь столько казаков, сколько песка на берегах Черного моря!
— И как много там песка? — рассмеялся король, а Реншильд даже зажмурился от удовольствия, представив себе эту казачью армаду. Карл XII встал и продолжал: — Да вы не пожимайте плечами, а слушайте, Пипер. Переметнется к нам Мазепа, и снова восстанет против царя Дон, поднимутся башкирцы, выйдет с юга конница крымского хана. Ведь новый хан Девлет-Гирей ненавидит русских. Да и на султана я имею надежду. Вы же сами, Пипер, вели переговоры с тайным турецким посольством, которому я приказал отдать всех пленных турок, захваченных еще королем Яном Собесским.
— Да, ваше величество! Султанский посол в разговоре со мной говорил о желательности союза между Османской империей и Швецией! — согласно наклонил голову граф Пипер.
У короля заблестели глаза:
— И не только султан обратится против России. С запада вдет на Киев коронное войско нового короля Речи Посполитой Станислава Лещинского, а с ним наш корпус генерала Крассау, в самой Москве растет боярское недовольство. Словом, господа, от всех этих ударов Россия рухнет, как колосс на глиняных ногах! — Возбужденный король позволил себе улыбнуться от этой радостной перспективы и приказал, как обрубил: — Идем на Украину, господа! Гилленкрок, пишите: завтра поворачиваем на юг, а впереди армии пойдет авангард во главе… — он обвел взглядом своих генералов: Круз слишком стар, Мардефельд строптив, Шпарр много пишет, Роос еще не пришел в себя после злосчастной неудачи у Доброго, — пойдет генерал-майор Лагенкрона!
Послушный молодой генерал вскочил, бодро звякнул шпорами, спросил одно:
— Когда выступать?
— Сегодня же ночью! — приказал король. И, обратясь к Гилленкроку, добавил: — А Левенгаупту пошлите мое распоряжение — следовать за нами в Северскую Украину.
— Но мы не знаем, где Левенгаупт, ваше величество — в Чарусах или в Могилеве? — заикнулся было начальник штаба. Но король смел и это последнее возражение:
— А. вы пошлите ему сразу два приказа — и в Чаусы, и в Могилев.
Вечером же Гилленкрок составил для Левенгаупта два приказа, один из которых начинался: «Если вы в Могилеве», другой — «Если вы уже в Чаусах».
Между тем Левенгаупт не был ни в Могилеве, ни в Чаусах, а все еще стоял в Гори. Однако, не дожидаясь ответа от Левенгаупта, шведская армия 15 сентября 1708 года снялась с лагеря и неожиданно повернула на юг, в Северную Украину. Левенгаупт был брошен королем на милость случая и улыбку воинской фортуны.
Летучий корволант
Только 15 сентября 1708 года в русскую штаб-квартиру пришли первые известия, что шведы отступили от Татарска, но куда они двинутся дальше, было еще неясно. Осторожный Шереметев полагал, что Карл XII отступит к Могилеву за Днепр, дабы соединиться с Левенгауптом и его огромным обозом. Ставя себя на место шведа, Борис Петрович поступил бы именно так. Правда, шведский король так часто действовал вопреки обыкновению, что и Шереметев не был уверен в своем суждении.
Еще более сомневался в отступлении шведа за Днепр сам царь. Разными, порой даже странными путями до Петра I доходили слухи, что его соперник может пойти на Украину. О том сообщал, к примеру, из далекой Гааги русский посол в Голландии Андрей Артамонович Матвеев, имевший своих людей в шведском посольстве.
«Из секрета здешнего шведского министра, — писал он В последнем донесении, — сообщено мне от друзей, что швед, усмотрев осторожность царских войск и невозможность пройти к Смоленску, а также по причине недостатка в провианте и кормах, принял намерение идти на Украину: во-первых, потому, что эта страна многолюдная и никаких регулярных фортеций с сильными гарнизонами не имеет; во-вторых, швед надеется в вольном казацком народе собрать много людей, которые проводят его прямыми и безопасными дорогами прямо к Москве; в-третьих, поблизости может иметь удобную пересылку с ханом крымским для призыва его в союз и с поляками, которые держат сторону Лещинского; в-четвертых, наконец, будет иметь возможность посылать казаков к Москве для возмущения народного».
Письмо Матвеева прямо жгло руки Петру, тем более что шведское намерение вскоре стало явью — швед повернул на юг.
17 сентября от драгунских разъездов пришли первые вести о том, что Карл XII со своей армией поспешает к реке Сожу меж Кричевом и Черинковом. К вечеру известие подтвердилось, и 18 сентября Петр собрал военный совет.
На совете мнения разделились. Шереметев полагал, что следует всей армией поспешать за Карлом XII в Почеп, дабы перекрыть Калужскую дорогу, ведущую с Северной Украины к Брянску, Калуге и далее на Москву. В этом мнении фельдмаршала поддержали все пехотные генералы.
Но у самого Петра I вызрело другое решение. Царя давно тревожил корпус генерала Левенгаупта. Еще 15 июля из Горок Петр сообщал генерал-адмиралу Апраксину в Петербург: «Получили мы ведомость из Дерпта через переметчика, будто Левенгаупт получил от своего короля приказ идти в служение к нему в Польшу, и ежели то правда, то Боуру вели поспешать к нам, а наипаче с конницею».
Уход корпуса Левенгаупта из-под Риги оказался правдой, и теперь, по всем донесениям казаков и драгун, этот шведский генерал маршировал к Днепру. Правда, отыскать его главные силы не могли не только гонцы Карла XII, но и петровские разъезды. Но в любом случае при переходе в Северную Украину Левенгаупт нависал бы над тылом русской армии. И потому на совете Петр сказал твердо:
— Коварного Левенгаупта надобно найти и разбить! Для того потребно создать сильный летучий отряд-корволант! — Сие голландское словечко, означавшее и подвижный отряд, и эскадру пиратов, Петр повторил дважды.
— Государь, позволь мне стать главой того отряда! — вскинулся вдруг Шереметев.
Петр хитро прищурился: по всему видно, что Борис Петрович хочет отомстить своему обидчику за бывшую конфузию при Мур-мызе. Хитрый царский прищур заметил и Меншиков и громко расхохотался:
— А вдруг он тебя опять отшлепает, господин фельдмаршал! Позволь ужо, мин херц, мне, как командиру кавалерии, сей корволант вести — отряд-то будет конный!
Но Петр на веселость Александра Даниловича только глаза скосил. Ответил холодно:
— Корволант поведу я сам, а ты мне, конный начальник, будешь помощником. Отбери для поиска десять драгунских полков, а ты, князь Михайло, седлай гвардию. — И, оборотясь к Голицыну, добавил: — Преображенцы и семеновцы пойдут в поход конными, как ездовая пехота!
— Позволь, государь, а не мало ли того войска будет? Никто ведь не ведает, сколько солдат в корпусе Левенгаупта… — поднял свой голос обиженный Шереметев.
Петр повернулся к фельдмаршалу, сказал уважительно:
— А тебе, Борис Петрович, я доверяю всю армию. Следуй курсом в параллель Каролусу, не дай шведу оседлать Калужскую дорогу! В подчинении у тебя будут и драгунские дивизии Гольца, Инфланда и Рена. А что корволант мой мал, так ведь и у Левенгаупта под Ригой было всего восемь тысяч солдат! Не думаю, чтобы он где по дороге еще сикурс получил. Двенадцать тысяч супротив восьми! Хватит, чтобы и шведа разгромить, и обоз у него взять!
На том царский совет и завершился.
* * *
Петр не знал, что Адам Людвиг Левенгаупт за свою долгую трехнедельную стоянку в Долгинове дождался-таки подхода гренадер из Померании и дворянского полка Рамсдорфа из Лифляндии, после чего его восьмитысячный корпус увеличился сразу вдвое. Левенгаупт даже шутливо величал свой корпус не корпусом, а курляндской армией. В любом случае его солдаты имели все, чего не хватало в армии короля: хлеб, мясо, вино!
Добротные немецкие фуры доверху были гружены мукой и снедью, награбленными у курляндских, литовских и белорусских мужиков, уставлены бочонками с балтийской сельдью, доставленными с Моодзундских островов, копченой рыбой из Ревеля, немецкими окороками и ветчиной, бутылями крепчайшей гданьской водки и бочонками доброго рейнского и венгерского вина. В отдельном пороховом обозе везли порох, селитру, свинцовую картечь и чугунные ядра с военных заводов Швеции. Другой обоз был завален теплыми плащами из английской шерсти, сапогами из испанской кожи и, пошитыми в Париже для господ офицеров кожаными перчатками с раструбами и нарядными шелковыми камзолами. Казалось, вся Европа снаряжала шведское воинство в этот поход, и без малого восемь тысяч немецких фур тянули крепкие лошади-тяжеловозы.
Хотя стоял еще конец сентября, но осень в 1708 году была ранняя, с деревьев быстро отлетела листва, и размытая дождями дорога была густо выстлана медно-красными и желтыми листьями.
Но октябрьский холод не смущал привыкших к морозам шведов, и генерал-аншеф Левенгаупт, закутываясь поплотнее в рейтарский, подбитый мехом плащ, с удовольствием вглядывался в разрумяненные лица своих здоровяков-гренадеров, коим не страшны ни слякоть, ни морозы.
«Они славно бились под Мур-мызой супротив Шереметева, будут так же биться и против самого царя! — весело думал Левенгаупт, отмечая знакомых гренадер-великанов. — Впрочем, царю еще надобно разыскать меня!» Провиантские отряды разбросаны от Полоцка до Могилева, поди разберись, где идут главные силы! Адам Людвиг Левенгаупт превосходно знал по своему боевому опыту (а воевал он не только в шведской армии, но когда-то и в баварских войсках против турок, и в голландских — против французов), как трудно организовать разведку, когда силы неприятеля разбросаны. Чтобы еще боле замести свои следы, генерал-аншеф не пожалел и королевской казны: нанял шпигуна, бойкого маркитанта Янкеля, который должен был явиться к царю и его золоченому павлину, князю Меншикову, пустить им пыль в глаза и убедить, что он, Левенгаупт, еще не переправился через Днепр. Тогда русские в поиске сами перейдут берег Днепра, а он, Левенгаупт, ниже по течению под Шкловом спокойно форсирует великую реку. Янкель ушел в русский лагерь, и скоро дошла весть, что царские драгуны под Оршей налаживают мост.
«Похоже, мой расчет удался! — ликовал генерал-аншеф. — Царь под Оршей начал свою переправу, в то время как я у Шклова закончил свою. Нет, недаром Адам Людвиг Левенгаупт учился в трех университетах — Упсальском, Лундском и Ростожском — наука победила, и я перехитрил царя! Теперь можно спокойно маршировать до Пропойска, там перейти Сож и через три перехода соединиться с главной армией. И кто знает, может, меня ждет наконец фельдмаршальский жезл, который я заслужил еще при Мур-мызе! То-то будет рада женушка, Амалия Кенигсмарк. Такая же красавица, как ее сестра Аврора, что блистает при дворе короля Августа в Дрездене! А жена новоявленного фельдмаршала будет блистать в Стокгольме!»
Из этих приятных мечтаний генерала вывел подскакавший всадник в заляпанном грязью плаще.
— А, граф Кнорринг… Что привело вас из нашего арьергарда? — Левенгаупт сморщил в насмешливой улыбке свое красное, обветренное лицо. Он и не скрывал, что терпеть не мог этого парижского петиметра, примчавшегося из версальских салонов искать чинов и воинской славы в королевском походе и сразу получившего по рекомендации любимой младшей сестры короля Ульрики Элеоноры чин генерал-адъютанта.
— Ну, что там слышно о русских искальцах, мой дорогой граф? — продолжал шутить Левенгаупт.
Кнорринг ответил генералу неприязненным взглядом и сказал не без едкости:
— Если под искальцами вы имеете в виду, генерал, русский летучий корволант, то, похоже, царь Петр сел нам на хвост. У Новоселок я сам видел в подзорную трубу этого павлина Меншикова. Но бой с ним я не принял. Жду ваших указаний, генерал.
— Не может быть! — вырвалось у Левенгаупта. — Русские еще стоят у Орши. Мы опережаем их на три перехода! — Впрочем, не случайно фамилия Левенгаупт означала — львиная голова. Шведский командующий быстро подавил минутную растерянность и пробасил привычным командным голосом: — Что ж, вот вы и дождались своей баталии, граф Кнорринг. Пока наши обозы ползут к Пропойску, возвращайтесь в арьергард и задержите царский корволант на речке Реста, у деревни Долгий Мох! Что ж, похоже, царю Петру помог случай, а нам поможет наш Бог!
* * *
Петру I у Орши действительно помог случай в лице почтенного пана Петроковича.
Царь и Меншиков, уверенные лазутчиком-маркитантом, что шведы все еще на правом берегу Днепра, спокойно начали переправу, когда пан Петрокович был доставлен пред царские очи.
— Прискакал сей пан от Шклова, говорит, самолично видел генерала Левенгаупта уже на правом берегу Днепра. Вот мои семеновцы пана и взяли! — доложил Петру Михайло Голицын.
— Сие правда? — Петр с высоты огромного роста грозно глянул на обомлевшего пана. Впрочем, терять Петроковичу было нечего, он быстро и сказал всю правду: был он, Петрокович, у шведов в лагере по делу, хотел получить с генерала Левенгаупта деньги по расписке шведских жолнеров, угнавших с его маетности всех коров и баранов. Но генерал с ним разговаривать не захотел, спешил на переправу, а шведские жолнеры вытолкали его, пана Петроковича, взашей и потому спешит он сейчас к пану Корсаку в Оршу, чтобы вместе с Корсаком биться со шведскими грабителями!
— Постой, постой! — перебил расходившегося пана Меншиков. — Да ты точно видел Левенгаупта на этом, левом берегу Днепра?
— Видел ясно, как вас, видел, ваша вельможность! И Левенгаупта, и все его войско. При мне последний шведский обоз прошел по наведенному мосту из Шклова. Вот те крест! — Пан Петрокович размашисто по православному перекрестился. (Большей частью паны Белоруссии держались православной веры.)
— Так кому мне прикажешь верить, этому крепкому пану или твоему лейбе Янкелю? — сердито спросил Петр Меньшикова.
— Мин херц, дай час, вздерну Янкеля на дыбе, сразу правду скажет!
Но обошлось без дыбы, так звонко забренчали при обыске Янкеля шведские талеры, зашитые маркитантом под полу захудалого кафтана!
Услышав грозный вопрос: откуда сие золото? — Янкель заплакал, упал на колени и, целуя ботфорты светлейшего, сам признался, что был он у генерала Левенгаупта и польстился на золотишко, потому как в местечке у него жена и семеро детишек кушать просят!
Царская переправа через Днепр тут же была прервана, лазутчик повешен, а корволант помчался в обратный путь по левому берегу Днепра. На пути встретили казацкого полковника Чикина со старостой-белорусом из сельца Копией. Староста накануне сам был в шведском обозе и проследил путь шведов.
— Швед спешит прямой дорогой на Пропойск! — твердо сказал староста.
На коротком военном совете царя с Меншиковым и Михайлой Голицыным порешили: оставить весь обоз и догонять шведа в конном строю без устали.
— За день надобно пройти столько, сколько швед проходит за три! — жестко приказал Петр. — Потому, если перейдет Левенгаупт Сож, ничто уже не помешает ему соединиться с королем. В нашей спешности судьба всей кампании!
Тут же Петр послал приказ генералу Боуру с драгунами повернуть от Кричева в обратную сторону на соединение с корволантом, выделив отдельный полк для разрушения мостов через Сож у Пропойска. Приказ Боуру был спешный, поелику никто не ведал точную силу Левенгаупта, а вполне могло статься, что сила та была немалая.
Летучий корволант понесся вниз по Днепру, и царский приказ был выполнен: на четвертый день у Новоселок драгуны догнали-таки шведов.
* * *
У Новоселок Меншикову не удалось взять в плен ни одного шведа. Рейтары Кнорринга отошли без боя. И только через день шведский арьергард снова настигли у деревни Долгий Мох. С лесистого холма хорошо было видно, как на том берегу речки у мельницы, меж клетей и амбаров, у покосившихся мужицких хат с соломенными крышами мелькали синие мундиры шведских гренадер. Дождь, — беспрестанно моросивший всю ночь, прекратился, тяжелые свинцовые тучи зашевелились и заполоскались на ветру, точно отсыревшие паруса фрегатов.
Петр глубоко вздохнул, набрал полные легкие воздуха и поморщился от удовольствия. Дул зюйд с берегов любимой Балтики.
— То добрый знак! — И, положив тяжелую руку на плечо Меншикова, царь подтолкнул его: — Прикажи начинать!
Данилыч птицей взлетел на лошадь и помчался с холма с высшим кавалерийским шиком, опустив поводья. Выглянувшее в этот миг в разрыве между тяжелыми ходящими тучами солнце залило своими лучами долину, и один из лучей перебежал дорогу Меншикову и осветил его, так что светлейший промчался вдоль берега реки меж своим и неприятельским войском во всем великолепии своего пурпурного, блестящего плаща, золотого и сверкающего на солнце шлема, в ярко вспыхивающих в солнечных лучах медных латах. Шитый золотом турецкий чепрак волочился кистями по сырой траве, воинственно поднятая шпага казалась золоченой иглой, и сам этот нарядный всадник был столь явным вызовом неприятелю, что шведские стрелки, засевшие в прибрежных кустах, не выдержали и без команды открыли по нему огонь. Но светлейший благополучно доскакал до русской батареи, установленной на прибрежном откосе. И тотчас, словно приветствуя его, громыхнули русские пушки.
На неприятельской стороне задрали к небу жерла тяжелые шведские орудия, отряды рейтар, тускло поблескивая сталью кирас и касок, помчались на фланги, а из-за деревни показались колеблющиеся, как морские волны, сияние ряды шведской пехоты.
На нашем берегу русские саперы копошились у сожженного шведами и еще дымящегося моста; несколько эскадронов драгун, сохраняя равнение, как на смотру, домчались к броду вверх по реке, а запряжки с трехфунтовыми полковыми орудиями уже подскакивали в интервалы между стоящими вдоль берега батальонами русской пехоты и лихо разворачивались, уставив жерла на противный неприятельский берег.
С шведского берега тяжело ударила гаубица, и гул несущегося ядра достиг холма, на котором стоял Петр. Ядро, разбросав комья грязи, шлепнулось у подножия холма. «Недолет!» — как бывалый артиллерист привычно определил Петр просчет шведского фейверкера и неуклюже вскарабкался на крупную племенную кобылу Лизетту, подарок дражайшего друга короля Августа Саксонского. Тем временем ударили в ответ и русские пушки, затрещали с обеих сторон ружейные выстрелы, и белый пороховой дым поплыл по долине, подбираясь к вершинам белоствольных берез, теряющих от ударов пуль последние желтые листья.
Петр медленно объезжал батареи и выставленное к ним пехотное прикрытие. Здесь, в первых шеренгах, зрелище, кажущееся издали некоей красочной забавой, выглядело в своем истинном свете, как многотрудная и кровавая работа.
Батарейцы, как на подбор рослые и дюжие мужики, быстро и ловко, как астраханские арбузы на Волге, перебрасывали из рук в руки трехфунтовые ядра и пачки с порохом, заряжали орудия, накатывали, наводили, и по взмаху офицерской шлаги и отчаянному крику: «Огонь!» — пушки рявкали, чадя мутной желто-змеиной пороховой струей. Полуоглохшие, с покрытыми порохом лицами, батарейцы делали краткую передышку, наблюдая, куда упадут ядра, со злостью сплевывали, ежели был перелет или недолет, и снова становились на свою нелегкую работу к орудиям. Но эта многотрудная работа заставляла их невольно забывать о летающей кругом смерти, и на батареях было веселее, чем в шеренгах пехотного прикрытия. Куда тоскливей было стоять в общих шеренгах (стрелять из ружей было бесполезно, поскольку шведы за рекой были вне досягаемости ружейного огня) и слышать над головой гул пролетающих ядер, грохот лопающихся бомб, посвист налетающей картечи.
Петр неспешно, не кланяясь бомбам, поехал вдоль шеренг преображенцев, астраханцев, семеновцев и ингермландцев. Роты, завидев царя, кричали «Виват!», приветственно вздымали на штыках треугольные шляпы. Настроение русских батальонов, видящих, что сам государь разделяет с ними опасность, было таково, что они могли бы пойти в атаку прямо через ледяную купель реки Ресты. Но этого не понадобилось. Драгуны Меншикова отыскали-таки брод, перешли реку и теперь мчались с фланга на позиции шведского арьергарда. Русская пехота под орудийным огнем выстояла.
* * *
Левенгаупт прискакал в арьергард к самому началу сражения. Он успел приказать сжечь мост и выдвинуть цепь стрелков в прибрежные кусты. Конечно, все это, вероятно, сделал бы и Кнорринг, однако для Левенгаупта было спокойнее, когда он все сделал сам. Спесивый граф был недоволен вмешательством командующего, но Левенгаупт только посмеивался. А потом ему стало не до графа — Петр I выводил к Ресте весь свой корволант, и генерал-аншеф прильнул к подзорной трубе, пересчитывая царские батальоны. К его радости их было не так много, этих русских батальонов!
«Ах, как он попался, ах, как он попался!» Левенгаупт; даже замурлыкал старую студенческую песенку, вынесенную им из трех университетов, где он читал в подлиннике «Записки» Гая Юлия Цезаря. И сейчас на холме он чувствовал себя в тоге Цезаря: русский корволант был на добрую четверть меньше его корпуса, и он может не только отстоять обоз, но и раздавить русских, бросив против них из перелеска у Лесной своих померанских гренадер и дворянскую конницу.
— Да, да, я атакую царя именно там, у Лесной! — пробормотал под нос себе Левенгаупт, но его размышления прервал несносный граф Кнорринг.
— Смотрите, генерал, на том берегу сам Меншиков! — граф не без удовольствия показал на разодетого в пух и прах всадника, мчащегося впереди русских драгун.
Из прибрежных кустов раздались выстрелы шведских стрелков, но ни одна пуля не задела светлейшего.
— Ваши солдаты плохо стреляют, граф! — небрежно бросил Левенгаупт. — И сейчас этот царский щеголь отыщет брод, перейдет Ресту и атакует нас с фланга.
— Разрешите, мой генерал, я с моими рейтарами сомну их! — Кнорринг нервно теребил поводья, наблюдая, как русские драгуны и впрямь переходят реку.
— Действуйте, граф! — милостиво кивнул Левенгаупт. Это он мог позволить Кноррингу: скакать впереди рейтар, рубить палашом, стрелять из пистолей. Но вот принимать решения в Курляндском корпусе мог только он сам, командующий.
Рейтары Кнорринга опрокинули передовых драгун и мчались уже к переправе, но там их в свой черед атаковали Вятский и Тверской драгунские полки, построенные Меншиковым в три линии. На лугу завязался кавалерийский бой.
Под его прикрытием по приказу Левенгаупта шведская пехота отошла, увозя с собой пушки.
Вечерело. Стоя по грудь в ледяной воде, русские саперы стучали топорами у моста, спешно готовя переправу. Ночью по двум наведенным мостам летучий корволант перешел Ресту и вышел к лесной деревушке Лопатичи. Царская охота на Левенгаупта продолжалась.
Лесное
К утру сентябрьская погода окончательно обернулась ноябрьским киселем. Осень 1708 года стояла прескверная. Дул пронизывающий до исподнего платья сиверко, шел ледяной дождь со снежной крупой, так что на кратком привале в Лопатичах солдаты тесно забили не только избы, но и хлевы, сараи и сенники, прячась от непогоды. Караульные у штаба зябко ежились, закутываясь в обтрепанные плащи, с завистью смотрели на господ штаб-офицеров, пробегающих через грязные лужи во дворе в низкую распахнутую дверь избы, откуда густо пахло наваристыми щами. Солдаты грызли сухари, матерились: в летучем корволанте неделя как не было горячей пищи. Но боле всего солдаты бранили шведа, за коим гнались уже который день и который вновь и вновь отрывался и уходил.
Жарко натопленная большая русская печь делила штабную избу на две равные половины. В той, что попросторней, толпились господа генералы и штаб-офицеры, собравшиеся для краткой консилии, из той, что поменьше, слышалось покряхтывание, бодрый хохоток: Петр, раздевшись до пояса, обливался ледяной водой, кою щедро лил ковшом на царские плечи новый царский денщик Ванька Бутурлин. «Вали гуще!» — приказывал Петр, вслушиваясь в горячий спор, что шел на генеральской половине. Спор шел великий, и от того, чем он решится, зависела и судьба всей кампании. И когда, бодрый и свежий после утренней ледяной купели, царь вышел к генералам, он с присущей ему цепкостью сразу понял, что спор тот шел по делу.
Взятый в прошлом бою мальчишка-офицерик, очнувшись от контузии уже в русском плену, при виде двух здоровенных калмыков с кнутами расплакался и дал важные показания, позже подтвержденные и другими пленными.
У Левенгаупта, как о том согласно говорили все пленные, под ружьем стояло не восемь, а шестнадцать тысяч солдат. В полках все природные шведы, а конный полк Ремсворда состоит сплошь из дворян. При корпусе семнадцать тяжелых орудий, а в обозе восемь тысяч телег, груженных многими запасами.
— Словом, пороха и ядер на нас хватит, — задумчиво заключил Петр, когда пленный повторил свои показания перед всем русским штабом. И, обратясь к принцу Дармштадтскому, холодно спросил: — Что скажет на сие европейская воинская наука?
Принц ответствовал четко:
— Армейская арифметика, господа! У шведа под ружьем шестнадцать тысяч солдат, у нас в отряде двенадцать тысяч. Интендантская арифметика: шведы обуты, сыты, у них в обозах токмо птичьего молока не хватает, солдаты здоровы, идут не спеша. У нас за неделю погони солдаты некормлены, обувь разбита, боеприпасов в нехватке. Военная арифметика, господа: один шведский солдат стоит двух русских. Недавно то показала Головчинская конфузия. А у Левенгаупта отборные полки. Потому, полагаю, — герцог Дармштадтский принял горделивую позу, кою он в свое время принимал на военных советах таких прославленных полководцев, как Евгений Савойский и Джон Черчилль Мальборо[32], — потому полагаю, что до тех пор, пока не подойдет к корволанту пехота фон Вердена и драгуны Воура; давать баталию мы не можем и должны идти на некоем удалении от Курляндского корпуса шведов.
— И тем дать Левенгаупту уйти с обозом за Сож и соединиться с главными силами шведов, доставив Каролусу все необходимые запасы? — Михайло Голицын от злости даже заикаться перестал. — Да, вы, принц, с фон дер Гольцом бежали от Головнина до Могилева, но русский солдат не бежал, и Доброе в том пример! Там русский солдат показал, что он один стоит двух шведов! А на немецкую арифметику есть высшая стратагема, сиречь воинское искусство и умение, которые говорят, что и малым числом можно побить неприятеля!
— Боур доносит, что он на подходе! — вмешался в спор вошедший со двора Меншиков. Светлейший отряхнул мокрую шляпу, выругался: — Чертова погода! То дождь, то снег! — Подошел к теплой печке, стал греть руки.
— Но у Боура нет и пяти тысяч драгун, так что даже с его приходом мы лишь сравнимся со шведом по числу войск! — упрямо стоял на своем принц Дармштадтский.
И здесь принца из простой солидарности, как немец немца, поддержал бригадир Пфлуг. Очнувшись от своей обычной сонливости, он важно заключил:
— Принц прав, один шведский зольдат стоит двух русских зольдат… — Пфлуг выучился за восемь лет войны говорить по-русски, но воинское мышление его оставалось немецким. — Никогда русский зольдат не был лучше шведский зольдат. Под Добрым был счастливый случай генерала Голицына, и только! Наша немецкая арифметика: нужно тридцать тысяч русских зольдат, тогда атака на Левенгаупта. Потому надо обязательно ждать пехоту фон Вердена. — Теплая фуфайка плотно обхватывала брюшко бригадира Пфлуга, и когда он говорил, брюшко колыхалось в такт увесистым фразам.
— Разведка доносит, швед остановился и сооружает вагенбург у деревни Лесной. Похоже, собирается дать нам не арьергардный бой, а генеральную баталию, — задумчиво произнес Меншиков, глядя через низенькое окошко на белые снежинки, опускающиеся в черные лужи.
— Что ж, я не удивлюсь, ежели швед решится на генеральную баталию, — со значением проговорил принц. — Ведь у Долгих Мхов не только мы проведали о силе шведа, но и они определили наши силы. Такому опытному генералу, как Левенгаупт, достаточно было обозреть наши боевые линии, дабы определить, насколько мы слабее его. И ежели мы пойдем навстречу шведам, мы шагнем в пасть ко льву, о чем, — здесь принц соизволил слабо улыбнуться, — говорит и фамилия генерала Левенгаупта: львиная голова.
— А по мне так лучше сразиться со львом в чистом поле, чем дать ему увезти обоз к свейскому королю! — снова загорячился князь Михайло.
Петр не без насмешки окинул взором своих Тюреней и выглянул в окно. Свинцовая снежная туча, как раненый зверь, уползала за лес. Прояснилось. Стаивал мокрый снег на еще зеленой траве. Разбрызгивая лужи, по улице ровными рядами прошел эскадрон драгун. Лица насупленные, злые. Такие будут драться и на сухарях, тем паче что добычей впереди весь шведский обоз! Петр весело обернулся к генералам:
— Правду молвил князь Михайло — побеждай не числом, а умением. Шведы дарят нам, ваше высочество, — Петр обращался к принцу подчеркнуто уважительно, — редчайший в гиштории воинской случай. Их армейский обоз прикрыт не всей армией, а токмо одним корпусом. Пускай и сильным, но одним корпусом. Так отчего мы должны упускать сей случай и дать Левенгаупту уйти за Сож? Нет, господа генералы, коль случай сам идет в руки, лови его! Доселе Левенгаупт удалялся от нас, яко Нарцисс от Эхо, а ныне стал в вагенбурге на якорь — здесь мы его и атакуем!
И, накинув походный плащ, Петр твердо приказал:
— Немедля выступать!
* * *
Из Лопатичей на Лесную вели две дороги. Потому на военном совете порешили идти до Лесной скорым маршем двумя колоннами. Правой колонной, состоявшей из гвардии, двух полков драгун и батальона астраханцев, поручено было командовать Михаиле Голицыну, левой — из ингермландцев и семи полков драгун — принцу Дармштадтскому. При правой колонне был сам Петр, при левой — Меншиков. Генералы же были им прямыми помощниками.
Когда на зябком осеннем рассвете обе колонны втянулись в густой, мокрый и угрюмый ельник, Петр боле всего опасался, что шведы опять уйдут, а меж тем неизвестно, успел ли бригадир Фастман, посланный Боуром с двумя драгунскими полками наперехват, сжечь в Пропойске мосты через Сож. Ежели Фастман замедлился или же застрял в болотах на левом берегу Сожа, тогда Левенгаупт мог первым переправиться через реку и запалить за собой переправу. «Генерал Левенгаупт удаляется от нас, яко Нарцисс от Эхо» — это древнее сравнение мучило Петра вот уже десять дней с начала похода летучего. Он надеялся было на новости от ночной разведки, но вернувшиеся из леса драгуны доложили, что на обеих дорогах шведы выставили крепкие заставы рейтар и миновать их было нельзя. Оттого русские колонны вступили в лес как бы с завязанными глазами и, разделенные густой чащобой, двинулись, каждая в одиночку, навстречу своей воинской фортуне.
Утром ударил сильный заморозок и лужи подернулись первым льдом, который звонко разбивали лошади первого эскадрона невских драгун, шедших во главе колонны Меншикова. «Цок, цок!» — цокали хорошо подкованными копытами драгунские лошади. «Тюк, тюк!» — тренькали плохо скрепленные вьюки у молодых драгун. «Кар! Кар! Кар!» — раскаркался над головами солдат старый ворон. «Я тебя окаянного! Щи сварю!» — погрозил ворону карабином вахмистр Кирилыч, но ворон не унимался. «Вот вещун проклятый!» — сердито пробурчал за спиной вахмистра Демид, старый драгун, переведенный к немцам из Новгородского полка вместе с Кирилычем, дабы разбавить новый полк старыми вояками.
— А к чему, дяденька, он каркает-то? — с испуганным любопытством переспросил Демида молоденький драгун по кличке Суслик.
— К крови человеческой, вот к чему! — как ножом отрезал Демид и мрачно замолчал. И в этом молчании все услышали, как тонко и надрывно стонут под ледяным ветром вершины высоченных елей, похожих в предрассветном белесом тумане на угрюмых лесных разбойников в тулупах.
— К черту! На этой карте ничего не разглядишь! Дайте фонарь, поручик! — приказал принц Дармштадтский. Вынырнувший из колонны вездесущий Кирилыч услужливо поднял над картой принца походный фонарь. — Видите, — обращался принц к своему первому адъютанту-немцу, — на нашей немецкой карте нет никакой поляны, меж тем разведка сейчас доложила, что перед нами за триста метров длинная поперечная поляна. Значит, врет или немецкая карта, или разведка?
— Я думаю, — горделиво ответил адъютант, — немецкая карта верна, а врет русская разведка, испугавшись шведских рейтар!
Откуда было им знать, что белорусские мужики еще прошлой осенью вырубили в лесу широкую просеку и образовалась большая поляна?
— На рысях, колонной марш! — приказал принц и самолично, храбрости и впрямь ему было не занимать, поскакал во главе колонны. Через триста метров перед принцем вдруг открылась тянущаяся поперек леса поляна, которая не значилась на немецкой карте, и гибельный залп шведской пехоты встретил выходивших из леса невских драгун. — В атаку марш! Марш! — крикнул принц, но точно что-то тяжелое ударило ему в грудь и потянуло к земле. Далеко от родного Дармштадта принц-наемник нашел свою смерть.
* * *
Адам Людвиг Левенгаупт недаром был многоопытным генералом, и воздвигнутая им шведская оборона была построена в глубину и состояла из трех позиций. На первой позиции, что проходила через выдвинутую вперед лесную поляну, он разместил шесть гренадерских батальонов под командой графа Кнорринга.
— Даю вам шанс, генерал, отыграться за конфуз у Долгих Мхов! Смотрите, не упустите и на сей раз русских драгун, бейте по ним сразу, как только голова колонны выйдет из леса! — напутствовал он Кнорринга и теперь с явным удовольствием видел, что на сей раз горделивый генерал-адъютант в точности выполнил его распоряжения. Правда, выходившие из лесу русские драгуны рванулись было в атаку и даже потеснили поначалу центр батальонов Кнорринга, но фланги устояли. Момент был удачный, и Левенгаупт тотчас бросил вперед полк Ремсворда: лихая дворянская конница ударила на невских драгун с фронта, а с флангов невцы попали под жестокий огонь гренадер Кнорринга. Невцы были опрокинуты на свою выходящую из лесу пехоту. Отступавшие драгуны смешались с рядами строящихся в линию ингермландцев, и Ремсворд на их плечах ворвался в центр русской позиции и захватил русскую батарею.
— Отменная атака! — Левенгаупт с удовольствием обратился к Клинкострему, тайному шведскому дипломату, посланному из Стокгольма младшей сестрой короля Ульрикой Элеонорой с письмом в королевский лагерь и примкнувшему в Шилове к корпусу Левенгаупта. Однако Клинкострем, человек штатский, сколько ни таращился в подзорную трубу, ничего не мог различить в густом пороховом дыму, смешавшемся с утренним туманом. Непонятно было, где свои, где чужие, поскольку бой от дороги переместился в лес, где все окончательно перемешалось: и русские драгуны, и дворяне Ремсворда, и ингермландцы, и гренадеры Кнорринга.
— А вот и царский павлин Меншиков! — указал Левенгаупт; царского любимца Клинкострем сразу увидел. В пурпурном, развевающемся на ветру плаще Меншиков вел в конном строю в помощь ингермландцам и невцам полк сибирских драгун. Но из леса драгуны могли выйти только густой колонной, а меж тем шведы успели завернуть захваченные пушки и ударили в упор картечью. Под Меншиковым упала лошадь, драгуны попятились, и Левенгаупту было ясно, что нужен последний натиск, дабы загнать колонну Меншикова в лес. И в этот момент его адъютант, обернувшись влево, вдруг тревожно воскликнул:
— На фланге русские!
Левенгаупт уже и сам ясно видел с холма, что в километре от поля баталии по заброшенной дороге, не прикрытой шведами, из леса выходит и спешивается конная русская пехота.
— Но разведка вчера доносила, что та дорога в слякоть «овеем непроходима! — сердито выговорил Левенгаупт своему адъютанту. Однако тысячи зеленых фигурок уже выходили, выходили и выходили из леса. «Впрочем, пока русские разберутся и построят правильную линию, здесь все будет кончено! А затем я заверну гренадер Кнорринга на нового неприятеля. Дайте мне час времени, и я заверну войска!» — молвил про себя Левенгаупт.
Но русский генерал не дал ему этого часа. К своему немалому удивлению, шведский командующий увидел, что, так и не выстроив правильный строй, который полагался линейной тактикой, выходящая из леса пехота русских попросту, густой толпой повалила выручать попавшую в беду колонну Меншикова. Русским генералом, который не дал Левенгаупту желанного часа, был Михайло Голицын, бывший в авангарде правой колонны, впереди своих любимцев семеновцев. В этом гвардейском полку князь Михайло начинал свою службу под Азовом, с семеновцами он брал Шлиссельбург и Митаву и уже который год был бессменным командиром второго гвардейского полка русской армии. Ежели в первый Преображенский полк брали великанов под стать самому царю, то в Семеновский полк отбирали людей хотя и невеликого роста, но хватких, крепких и расторопных, каким был и сам князь Михайло.
— Не важно, что ростом не вышел, был бы умом не обделен… — говаривал князь Михайло при зачислении дворянских недорослей в свой полк, и у семеновцев с самого основания полка были свои привычки: там, где преображенцы шли мерным шагом, семеновцы шли бегом, где преображенцы стояли щитом, семеновцы рассыпались цепью. Словом, то был полк так называемой легкой пехоты, скорый на ногу, легкий на подъеме.
Выскочив с разъездом на лесную поляну, князь Михайло сразу определил, что колонна Меншикова атакована на марше и что шведы вот-вот загонят светлейшего в лес. И хотя он не любил всесильного Голиафа и почитал его главным своим соперником по воинской удаче и славе, однако князь Михайло и на минуту не задумался, подать аль не подать помощь Меншикову. Более того, каким-то неуловимым, развившимся за долгие годы войны чувством Голицын сразу уловил, что все решают сейчас минуты, и, не построив семеновцев в правильную линию, повел их в атаку на выручку плотной колонной. Он правильно рассчитал, что поставленные между двух огней шведы не выдержат. И впрямь, не ожидавшие атаки с тыла, гренадеры Кнорринга ударились в бегство, и князь Михайло со своими семеновцами сразу отбил захваченную шведами русскую батарею. Пушки эти Голицын быстро завернул против шведов, и весь их левый фланг был за какие-то полчаса разгромлен. Правда, Ремсворд успел-таки в порядке отвести своих дворян и выстроил их для новой атаки. Но к этому часу уже сам Петр с преображенцами и астраханцами стремительно прошел через лес, построил правильную линию и принял на себя конную атаку шведов. Преображенцы и астраханцы встретили шведскую кавалерию столь жестоким огнем, что дворяне Ремсворда смешали ряды и повернули назад, так и не врубившись в русскую пехоту.
— Распорядись играть общее отступление авангарду! — приказал Левенгаупт адъютанту. И, обратившись к Клинкострему, генерал добавил: — Говорят, господин дипломат, вы большой любитель театра. Ну что ж, вы видели первый акт воинской драмы. Отправимся же на главную позицию и узрим главное действо.
— Да, это интереснее, чем Расин в Дроттингхольском театре! Но надеюсь, поворот театральной сцены будет в наших руках! — Легкомысленный дипломат лихо тряхнул буклями версальского парика и поскакал вслед за генералами, заранее представляя, какими красками опишет в салопе принцессы Ульрики Элеоноры это полное чудных превратностей сражение. А Левенгаупт уже забыл о своем спутнике, поглощенный новыми заботами и соображениями. «Столь удачно начать и так плохо кончить! — мрачно размышлял шведский командующий. — Эти русские дерутся как черти! Стоит, пожалуй, принять меры предосторожности и немедля вернуть рейтарские полки, посланные в конвой той части обоза, что ушла на Пропойск!»
Печально запели отступление шведские горнисты, а две колонны русских соединились тем временем на поле баталии. И только справа в лесу раздавались еще отдаленные выстрелы. Это смешавшиеся сибирские драгуны Меншикова догоняли разбежавшихся по лесу шведских гренадер.
Петр обнял светлейшего:
— Что скажешь, камрад? Запоздай мы, почитай, сидел бы ты сейчас как кулик в болоте?
Взяты были и первые трофеи: четыре знамени, две шведские пушки. Но самый большой трофей доставил под конец арьергардного боя Васька Увалень, приведший взятого им в лесной яме генерал-адъютанта его величества короля свейского графа Кнорринга прямо к Меншикову. Вид у парижского петиметра был самый жалкий. При бегстве и падении в медвежью яму граф изодрал свой щегольской мундир, потерял парик, оцарапал лицо. Тем не менее он отвесил светлейшему ловкий версальский поклон, вызвавший еще больший смех Меншикова и его офицеров.
— Зашел я в те кусты по большой надобности. От конной тряски да сырых грибов брюхо свело! Токмо справил дело, глядь, подо мной, в яме, значит, как зашуршит… Я, знамо весть, хвать за ружье, думаю, медведь! А тут вместо медведя швед вылазит! Ну, что швед? Швед не медведь, дело привычное, я его враз скрутил! — с лукавым простодушием объяснял Увалень свой триумф Меншикову и другим генералам царской свиты. Лукавил же Увалень потому, что надобно было оправдать столь постыдное дело, как отлучку с поля баталии в самоволку, хотя бы и по неотложной надобности. Но по громкому хохоту Меншикова и по улыбке своего полковника Бартенева Васька скоро смекнул, что прощение ему вышло полное.
— Как же мне его теперь наградить, твоего солдата, Бартенев? С одной стороны, за поимку генерала Увалень сей достоин первого офицерского патента, а с другой — он же генерала взял с явного перепугу, от медвежьей болезни! — сквозь смех обращался Меншиков к Бартеневу. В сей момент подскакал Петр, ездивший самолично разглядывать главную шведскую позицию. Еще издали он увидел заходящегося от хохота Данилыча, смеющихся до слез генералов и офицеров его штаба и печальную позитуру шведского генерал-адъютанта. И ощущение близящейся победы, возникшее в Петре после того, как столь удачно был опрокинут авангард шведов, еще более усилилось от одного вида молодых и задорных офицеров, находящих в себе силы смеяться в короткий перерыв баталии.
— Мин херц, тут такое… — Данилыч весело пересказал историю Васьки Увальня, а Петр и слушал и не слушал, сам улыбаясь и всматриваясь в улыбки офицеров. «Коль смеются, значит, и дале на кровь пойдут! — мелькнуло у него. — А крови сегодня еще много будет пролито…» Он вспомнил ровные ряды шведов, что поджидали русских за перелеском.
— Так не чаю, чем и наградить сего героя?! — Меншиков лукаво развел руками.
— Прежде чем наградить, ему потребно желудок поправить! — Петр поддержал шутку. — Дать ему порцию можжевеловой водки! Она, ученым медикам хорошо то ведомо, паче всего желудок крепит!
Васька от такой щедрости обрадованно бухнулся на колени. А Петр, окинув расходившихся от смеха офицеров, сказал уже серьезно:
— О наградах, господа, пока рано вопрошать. За рощей той, — Петр указал на сосновый перелесок, — стоит главная сила шведов!
И, точно уловив царские слова, за перелеском громыхнули шведские пушки. То шведы встречали выходившую к Лесной русскую гвардию.
* * *
Выходящие из перелеска русские полки (драгуны спешивались и шли в общем строю) были встречены шведами столь жестоким артиллерийским огнем, что поначалу попятились в перелесок, под прикрытием которого снова выстроили свои линии. Выйдя из леса уже правильными рядами, они прямо двинулись на сближение со шведами и, подойдя на сто саженей, ответили на огонь шведов дружными залпами. Обе армии стояли теперь не боле нежели в двухстах метрах друг от друга, выстроенные каждая в четыре линии, и меж ними пошел тот огневой бой, который и почитался регулярным боем по тогдашней тактике. Солдаты задних рядов перезаряжали ружья и передавали их в первый ряд, по приказу взводных офицеров плутонги давали залп, и стрельба та так и именовалась — стрельба плутонгами. Места убитых и раненых спешно заполняли солдаты задних рядов, и судьба баталии зависела теперь от того, кто устоит под частым огнем противника.
Огневой бой продолжался без малого боле двух часов, да, видать, нашла шведская коса на русский кремень. Вопреки всем расчетам Левенгаупта, что русские солдаты не выдержат регулярного огневого боя, они стояли непоколебимо, отвечая огнем на огонь, выстрелом на выстрел. Многократные залпы шведов опустошали русские ряды так же, как и залпы русских — ряды шведов.
— Это настоящая бойня, а не баталия! Прикажите моим драгунам атаковать русских в конном строю, и я ручаюсь, что прорву их строй! — подскакал к Левенгаупту лихой кавалерийский генерал Шлиппенбах.
Но шведский командующий отрицательно покачал головой:
— Я начну атаку только тогда, когда возвратится из Пропойска наш авангард! А пока сторожите мост, Шлиппенбах! И помните: там ключ ко всей баталии! — Адам Людвиг сердито натянул поглубже шляпу: пошел снег, задул ледяной ветер, начиналась не осенняя даже, а самая настоящая зимняя круговерть. И невольно Левенгаупту вспомнилась та первая Нарва, когда метель сыграла на руку шведам и уже через час под ее прикрытием был прорван центр русской позиции. Правда, теперь ветер бил шведам в лицо и русские залпы сверкали сквозь снег как молнии.
* * *
— Государь! У солдат так раскалились ружья, что боле невозможно стрелять! Прикажи ударить в штыки на шведа! — подскакал к Петру разгоряченный боем Голицын. Это потом уже, после Лесной и Полтавы, побед Румянцева и Суворова, трехгранный штык стал заветным оружием русской армии. А в ту кампанию 1708 года русская армия впервые заменила неуклюжие багинеты на своих ружьях знаменитым трехгранным штыком. И не было еще ведомо, сколь отличится сей штык в рукопашном бою. И трудно посему было решиться и бросить полки в страшный штыковой бой — а вдруг швед устоит и сломает хребет русской пехоте?
Словно уловив колебания Петра, Голицын рубанул рукой:
— Ручаюсь, государь, пройдем на штыках сквозь шведскую линию!
Петр помедлил и согласно наклонил голову.
И вот в час дня барабаны ударили атаку, и, точно подгоняемые северным ветром, бившим им в спины, русские батальоны пошли в штыковую. Шведы успели сделать только один залп, как русские налетели и опрокинули первую линию, вторую, третью. Левенгаупт двинул в бой резервную линию, но русские на штыках прошли и ее. К трем часам дня главная позиция шведов была взята, и расстроенная шведская пехота спешила укрыться в вагенбурге, составленном из четырех тысяч повозок и фур (еще четыре тысячи повозок с боеприпасами были предупредительно отправлены Левенгауптом к Пропойску).
Сгоряча преображенцы и семеновцы бросились было к вагенбургу, но отхлынули под картечью шведских пушек, густо покрыв побеленное снегом поле зелеными солдатскими мундирами (один Семеновский полк под Лесной потерял половину своего состава).
Отойдя на ружейный выстрел, русские выстроились против вагенбурга, упиравшегося тылом в реку Леснянку. Влево от вагенбурга был единственный мост через Леснянку, охраняемый рейтарами Шлиппенбаха. Петр так же, как и Левенгаупт, понимал, что мост этот — ключ к виктории. Взяв мост, русские лишали шведа последнего пути к ретираде. Но Петр решил повременить с атакой моста, так как вынырнувший из снежной пелены драгунский офицер доложил, что на скором подходе конная дивизия Боура.
— Успел-таки, чертов немец! — весело рассмеялся позади царя Меншиков. А у Петра словно рукой сняло страшное напряжение боя.
— Дать войскам роздых! — приказал он Меншикову.
— И. то верно, мин херц! Люди с четырех часов утра не спавши, не евши, валятся с ног! — Меншиков был весьма доволен царским приказом.
— Дождемся Боура, тогда и ударим на мост! — решил Петр. — Только бы швед прежде не вышел из вагенбурга и не контратаковал.
Но и шведы словно приняли русское «приглашение» к роздыху. В вагенбурге царила такая путаница и сумятица, что надобно было сначала разобраться в частях, смешавшихся при отступлении, прежде чем идти в контратаку. Стонали тысячи раненых, помещенных за повозками, ржали укрытые здесь же лошади. Под покровом усиливающейся метели шведские гренадеры самовольно, не слушая офицеров, разбили несколько фур с бочонками рома и пьяные шатались меж раненых. Генералы и полковники не могли найти свои части, и единственно, о чем сейчас молил фортуну шведский командующий, был скорый возврат трех тысяч рейтар своего авангарда, с помощью которых можно было контратаковать русских. Однако первыми пришли не рейтары, первым пришел Боур с пятью тысячами русских драгун.
* * *
Поставив еще не обстрелянных драгун Боура на своем левом фланге, Петр перебросил сибирских и невских драгун на правый фланг к мосту и приказал Меншикову взять мост в конном строю.
Атака русских драгун шла с холма, а Шлиппенбах по своей природной горячности бросил конницу навстречу русским, но стычка та была недолгой. Полки Меншикова, ударившие сверху, опрокинули шведов и взяли стоявшую у моста неприятельскую батарею. Пурпурный плащ светлейшего, развевавшийся как знамя, замелькал уже на другой стороне моста.
* * *
— Черт! Ничего не видно! — Левенгаупт с досадой передал своему адъютанту подзорную трубу. Однако через минуту, когда к вагенбургу подскакал Шлиппенбах с остатками своих рейтар, в подзорной трубе не было и нужды. Все стало ясно: Меншиков взял мост и ключ к виктории держал теперь в своих руках царь Петр, отрезавший шведам последний путь к ретираде.
Курляндский корпус, как в ловушке, был заперт в вагенбурге. С фронта и с флангов стояли русские, позади река Леснянка, а за ней — непроходимые топи и лесное бездорожье.
Куда девались утренние высокомерие и самоуверенность Адама Людвига Левенгаупта?! Перед Шлиппенбахом стоял сломленный и сразу постаревший генерал, которому ничего не оставалось, как поутру отправиться в русский лагерь, вручить царю Петру свою шпагу и сдать свои войска и обоз.
— Я говорил вашему превосходительству, что позиция у Лесной годится скорее для авангардного, чем для арьергардного боя! — сердито шамкал за спиной Левенгаупта старый начальник его штаба.
— Вот русские и провели свой авангардный бой! Я всегда говорил, что они многому научились у нас в эту войну! — горячился рядом с начштаба Шлиппенбах. А Левенгаупт горько подумал, что теперь все будут упрекать его и в неверной диспозиции, и в недооценке неприятельских сил, и в промахе с мостом. Но главная причина поражения была не в нем, генерале Левенгаупте. Главная причина разгрома шведов заключалась в русском солдате, который выстоял там, где шведский солдат дрогнул.
Оставалась одна надежда — на помощь своего авангарда, который спешно возвращался от Пропойска. И рейтары успели! Левенгаупт даже не поверил сначала своим ушам, когда вновь раздались выстрелы и крики там, у моста.
Шведские рейтары уже глубоким вечером, когда все поле баталии затянула снежная вьюга, внезапно выросли из леса и обрушились на лагерь Меншикова, разбитый было уже на другом берегу Леснянки. Не ожидавшие столь внезапного нападения, драгуны Меншикова были отброшены, и мост снова оказался в руках шведов.
— Мин херц! Да утром я сей мост первой же атакой верну! Ей-ей, верну! — каялся Меншиков.
Но Петр сердито отвернулся от своего любимца и приказал Боуру и Голицыну:
— Выставить крепкие караулы! Всем быть готовым поутру к новой баталии. С места не сходить! Отдыхать тут же у костров! — И, подавая пример, молча закутался поплотнее в плащ и лег на мерзлую землю.
* * *
Левенгаупт не оставил, однако, времени Александру Даниловичу Меншикову для утренней атаки. Хотя рейтары отчаянным нападением и отбили мост, шведский командующий ясно понимал, что его корпус на следующий день не выдержит первого же натиска летучего корволанта русских. Оставался единственный путь — скорая ретирада. А чтобы успешно ее осуществить, пришлось бросить всех раненых и четыре тысячи повозок, окружавших вагенбург. Жертва была велика, но Адам Людвиг Левенгаупт, как старый боевой генерал, здраво рассудил, что важнее спасти остатки войска, нежели обоз. Опять же, начиная отход, он рассчитывал спасти вторую половину обоза (там были фуры с боевыми запасами, в которых армия короля нуждалась больше хлеба), уже стоявшую в Пропойске. Он еще не знал, что в тот самый час, когда его рейтары отбили мост у Меншикова, русские драгуны, отделенные от отряда Боура, сожгли мосты через реку Сож в Пропойске. Ретирада была организована Левенгауптом с продуманной тщательностью. Раненые, оставленные в лагере, поддерживали огонь в кострах, части снимались с бивака бесшумно и молча, друг за другом текли через мост, так что русских удалось, хотя бы при отступлении, обмануть и безопасно выйти на узкую лесную дорогу, ведущую к Пропойску.
И здесь вдруг в войсках вспыхнула паника. По солдатской почте передалась весть, что русские уже в Пропойске и сожгли мосты через Сож. И сразу пронеслось, что русские драгуны взяли уже и сам Пропойск, что их сопровождают сорок тысяч калмыков с арканами и что Меншиков висит на хвосте… И вот те самые бывалые солдаты, которые побеждали с Левенгауптом при Мур-мызе да и вчера бились до позднего вечера, ударились вдруг в нежданное паническое бегство, не слушаясь своих командиров и прямых начальников. На узкой лесной дороге движение часто задерживалось, и тогда задние части наседали на передние, ряды мешались, и скоро вся многотысячная масса шведского войска побежала обезумевшей толпой. Солдаты тузили друг друга, кто кулаками, а кто и прикладами, силой прокладывая себе дорогу, конные наезжали на пеших, и сам Адам Людвиг Левенгаупт под эскортом рейтар с трудом пробирался среди этой ночной свалки.
В Пропойск вошли не регулярные воинские части, а толпы охваченных смятением беглецов. Мосты через Сож к тому времени и впрямь были захвачены и сожжены русскими драгунами, конные разъезды которых гарцевали на другой стороне реки. В сих жестоких обстоятельствах Левенгаупт вынужден был бросить вторую половину обоза и, усадив остатки своей пехоты на обозных лошадей, ударился на рассвете в дальнейшее бегство, спасая уже только людей.
* * *
Еще не рассеялся поутру зябкий осенний туман, когда русские караулы обнаружили исчезновение шведского корпуса. Вместо предстоящей баталии, которая виделась столь же кровавой, как и накануне, можно было триумфовать викторию. Швед ночью не ушел, а бежал, бросив тысячи нетронутых повозок, семнадцать орудий, всех своих тяжелораненых. Словом, виктория была полная, и, отправив в погоню за шведами драгун Пфлуга, Петр распорядился прежде всего дать роздых солдатам своего летучего корволанта, с честью выдержавшим беспримерную погоню за шведом и вчерашнюю столь кровавую баталию.
И скоро вдоль Леснянки задымились солдатские костерки, и начался радостный победный пир. Казалось, сама погода улыбнулась российским воинам: восточный ветер отогнал свинцовые тучи на запад и яркие солнечные лучи озарили русский лагерь.
Расторопный Васька Увалень отменно постарался для своей роты, пригнав из трофейного шведского обоза целую фуру, груженную ветчинами и колбасами, копченой рыбой и бочками с балтийской сельдью. В другую же фуру, с овсом для лошадей, Васька ловко упрятал два бочонка: один с гданьской водкой, другой с ямайским ромом. В солдатских котлах сварилась густая гречневая каша, и скоро солдаты-новгородцы весело уминали гречку с ветчиной, поднимая кружки за викторию и своего добытчика Ваську.
В кругу генералов и своего штаба праздновал небывалую викторию и Петр. Под каждую царскую чашу гремел праздничный салют пушки, и пороховой дым снова поплыл над Леснянкой. А трофеи все умножались и умножались: приносили десятки взятых знамен, везли шведские пушки, перед царским холмом провели сотни пленных. Прискакал гонец от Пфлуга и сообщил, что его драгуны догнали и разбили трехтысячный арьергард Левенгаупта, который разбежался по лесам. Пришла добрая весть и от бригадира Фастмана, что он переправился через Сож, взял Пропойск, где захватил вторую половину шведского обоза. Только часть своего обоза шведы успели уничтожить, взорвав или утопив в реке фуры с порохом.
Доставили в царский шатер и богатую казну Левенгаупта — контрибуции, беспощадно выколоченные шведами с Курляндии и Великого княжества Литовского.
— Явится Левенгаупт к королю гол как сокол: без обоза, без пушек и без денег! — рассмеялся Меншиков. Как всегда, при виде злата лицо светлейшего покрылось застенчивым румянцем.
— А я вот спрашиваю себя, куда дале Каролус пойдет, потеряв такой обоз и половину резервного корпуса? — задумчиво сказал Голицын. — На Москву-то ему без богатого обоза хода теперь нет!
— Я так мыслю, убежит при нынешних конъюктурах швед за Днепр! — снова рассмеялся Меншиков.
— Ни за что, — вскинул голову князь Михайло. — Ни за что шведский король не отступит, уж мы-то его повадки знаем! У Каролуса нет слова «ретирада»! И попрет он не за Днепр, а прямо за Десну, на гетманщину — я о том и брату в Киеве говорил.
— И что тебе брат молвил? — задумчиво спросил Петр.
— У брата, государь, Мазепе веры нет! — честно ответил князь Михайло.
— Что ж, и впрямь надо боронить Украину. Ты, Данилыч, со своими драгунами спроведай пана гетмана. А ты, князь Михайло, бери гвардию и отведи ее в Смоленск для пополнения. Ведь только в твоем Семеновском полку, чаю, половина солдат иль убита, иль ранена? — Петр внимательно посмотрел на Голицына.
— По утренней поверке во вчерашней баталии средь семеновцев полегло солдат и офицеров 141, ранено 664, — четко доложил вскочивший с места Голицын.
— Да ты сядь, сядь! — махнул рукой Петр. И, оглядев своих генералов, заключил: — Что ж, господа, «тут первая солдатская проба была». И наш солдат под Лесной — пробу ту выдержал! А твои семеновцы, князь Михайло, дрались яко львы. За то произвожу тебя в генерал-поручики!
— Мин херц, а я так мыслю, выбить на монетном дворе медали в честь знатной виктории и наградить ими всех солдат летучего корволанта! — вмешался неугомонный Меншиков.
— Добро! — улыбнулся Петр. — У меня и девиз для сей медали есть: достойному достойное! — И не без хитрости оглядел своих генералов. Вспомнил, как князь-кесарь Ромодановский доносил на днях из Москвы, что английский посол Уильям Витворт болтал недавно в шумной компании, что главное несчастие царя в том, что у него нет и трех хороших генералов. А вот сейчас за столом сидели три отменных генерала: лихой Данилыч, расчетливый Боур, так вовремя ударивший во фланг шведам, князь Михайло. — Достойному достойное!
На другой день перед строем объявили о наградах: Михаил Голицын был произведен из генерал-майоров в генерал-поручики, Боур получил поместье, Меншиков — денежную награду (разумеется, из шведских денег).
Все солдаты летучего корволанта награждались медалями в память о славной виктории под Лесной. Многие офицеры были произведены в следующий чин на место погибших в бою товарищей. А Васька Увалень получил за поимку шведского генерала сто рублей и чин старшего каптенармуса Новгородского полка. Правда, отыскали Ваську с трудом — сразил героя под телегой ямайский ром!
В тот же день драгунские полки Меншикова двинулись на Украину, а гвардия пошла к Смоленску.
На поле баталии остались похоронные команды, рывшие братские могилы. И долго еще по окрестным лесам бродили шведские беглецы-одиночки, питаясь сырыми грибами и ягодами. Многие из них сбили обувь и были босы, и пошла с тех пор гулять в тех местах поговорка: «Боси, яко швед». Другая же белорусская поговорка отразила главное следствие славной баталии — утрату шведами всего обоза. «Швед под Лесной сгубив боти и штаны, а у Рудни потеряв и шапку!» — посмеивались в корчмах белорусские мужики.
На Западе виктория при Лесной произвела, впрочем, малое впечатление. Ведь главная шведская армия была цела и невредима и, ведомая своим непобедимым королем-воином, маршировала на Украину. Так что неудача Левенгаупта рассматривалась как частный случай! В конце концов, ведь шведский генерал ушел от русских и присоединился к королю. И только в стране, близкой к Швеции, в Дании, верно оценили все значение потери шведами огромного обоза и десяти тысяч солдат у Лесной. Русский посол в Копенгагене князь Василий Лукич Долгорукий уже в ноябре 1708 года писал Меншикову: «Победу над шведским генералом Левенгауптом здесь приписывают к великой славе ко упрочению интересов царского величества, королю же шведскому к крайней худобе. И не чают, чтоб он, потеряв такой корпус, до конца сей войны оправиться мог».
Петру I это донесение давало надежду на скорое восстановление союза с Данией. Но еще более важным для царя и его канцлера Головкина оказалось воздействие виктории под Лесной на султана Ахмеда и его везира.
Петр Андреевич Толстой, конечно же, поспешил красочно изобразить в Стамбуле сию царскую победу. И результат, как сообщал русский посол, был налицо: всякие толки о войне с Россией при султанском дворе прекратились, «у них все смирно и предуготовления к войне не являются».
«Ну, а не выступит султан, не решится на войну с нами и крымский хан!» — размышлял Петр. Теперь царь мог бросить против Карла XII все свои главные силы. Не только русский солдат, но и его генералы после Лесной твердо уверились, что могут бить шведа! Так что не случайно Петр I назвал впоследствии викторию под Лесной матерью Полтавской победы.
Измена
Ясновельможный гетман Украины Иван Степанович Мазепа осенью 1708 года сидел в своем замке в Батурине, как старый и хитрый лис в глубокой норе, услышавший звуки царской охоты. Давно уже через княгиню Дольскую бывший покоевый короля Речи Посполитой, ставший волею случая и фортуны украинским гетманом, находился в тайных сношениях со Станиславом Лещинским, мечтая возвернуть Левобережную Украину под высокую королевскую руку и получить за то богатое княжество и маетности в Литве и Белоруссии и тем сравняться с такими польскими магнатами, как Потоцкие, Вишневские и Любомирские. Украина в этих расчетах гетмана была лишь разменной монетой, ценой которой он мог войти в круг избранной знати Речи Посполитой. То была золотая мечта, запавшая в душу Мазепы еще в ту пору, когда он служил в покоях короля Яна Казимира. Знатное и независимое положение польского магната-патриция, свергавшего и назначавшего королей, представлялось ему куда почетней и выгодней, чем гетманский чин и служба под командованием московского царя.
Связавшись с королем Станиславом, Мазепа, естественно, сделал и другой шаг — вступил в непосредственные сношения и с хозяином польского королька, Карлом XII. Правда, шведский палладии не удостоил его личной переписки, а вел переписку с гетманом через своего первого министра графа Пипера. Но тот самый Мазепа, который неоднократно пенял Петру на то, что ему отдают приказы Меншиков и Дмитрий Голицын, совершенно не обиделся, когда король свейский ответил ему не самолично, а через министра. Тут было не до местнических обид и пререканий! Главное для Мазепы заключалось в том, что в 1708 году шведы шли на Москву. После победы шведов гетман рассчитывал разорвать связи с Москвой и выйти со всем своим войском на Днепр, навстречу королю Станиславу, чтобы передать Украину под высокую королевскую руку, получив за то все обещанные награды.
Неожиданный поворот шведа на Украину смешал все расчеты Мазепы, лишая его позиции независимого и сильного наблюдателя, который в должный момент выйдет из тени и скажет свое веское слово.
— Чертов швед! — сердито говорил Мазепа своим самым доверенным лицам: генеральному писарю Орлику и племяннику Войнаровскому. — Что ему тут надо? Он помешает моим приготовлениям, приведет за собой москалей и погубит нас!
Старый гетман сердито засопел и выглянул в узкое окошко-бойницу. Гетманский дворец в Батурине, воздвигнутый Мазепой на месте скромных палат его предшественника Самойловича, был построен как слепок с замка богатого польского вельможи и одновременно являлся крепостью и резиденцией. Укрытый за толстыми стенами, сквозь узкие щели бойниц замок угрюмо взирал с холма на гетманскую столицу, представлявшую собой нечто иное, как разросшееся казацкое село, каких немало стояло на берегах Сейма и Псела. Зато во внутренний двор замка выходили широкие окна, сквозь которые весело было глядеть Мазепе на укрытые на его подворье богатства: конюшни с тысячными арабскими скакунами и горскими аргамаками, высокие житницы, переполненные золотистым украинским зерном, богатые закрома, полные, как у рачительного хозяина, всевозможными запасами, расписную скарбницу, где хранилась не только войсковая казна, но и сокровища самого вельможного гетмана.
Не удачливые походы в Крым и Туретчину, как у Сагайдачного, не битвы с польскими панами, как у Богдана Хмельницкого, а трудовая копейка, двадцать лет выколачиваемая у селянства и рядового казачества, мелким, но частым дождем падавшая в сундуки пана гетмана, наполняла скарбницу пана Мазепы. И оттого столь частыми были при Мазепе волнения среди селянства, беспощадно усмиряемые гетманской старшиной и отрядами наемников-сердюков.
И год от года богатели ясновельможный пан и гетманская старшина. Сотни селений и хуторов были отписаны на пана гетмана, и жившие там вольные со времен Богдана Хмельницкого казаки попали в гетманскую кабалу: должны были пасти гетманские табуны, как крепостные работать на гетманской земле.
Всюду достигала казака тяжелая гетманская рука! Вез осенью казак зерно на мельницу, пану гетману причитался за мужицкий помол солидный куш; брел казак в шинок, но и шинок тот был сдан в аренду корчмарю ясновельможным палом гетманом; шел казак в лес за хворостом, но и лес тот принадлежал пану гетману. И хотя числился тот казак на бумаге еще вольным, но от воли той был один шаг до крепостной неволи.
Глядя на гетмана, грабили казаков и селянство и паны войсковой старшины: полковники и писаря, сотники и есаулы. Казацкая старшина все время смотрела за Днепр, где на Правобережной Украине, принадлежавшей Речи Посполитой, царило полное крепостное право и где пан был самовластным хозяином над мужиками. О панских привилегиях и правах мечтала и казацкая старшина, которой ох как мешали остатки казацкой вольницы времен Богдана Хмельницкого! И хотя все меньше становилось тех вольностей, самая нетерпеливая часть старшины готова была перейти под высокую руку польского короля, лишь бы засесть полным паном в своем огороде.
И Мазепа искусно растил эти панские мечты среди казацкой старшины, продвигал на высшие должности в войске в первую голову своих людей: Герциков и Орликов, Чечелей и Быстрицких. Были то в основном полуполяки, полунемцы, полутурки, полуволохи — выходцы из той обширной на Украине массы смешанного населения, что образовалась в результате бессчетных походов и переселений целых народов, что прокатывались по этой земле.
Люди без корней и без родины, они полностью зависели от гетманских милостей и готовы были идти за гетманом и к шведам, и к ляхам, и к самому черту — были бы новые маетности, достаток и добыча. Из таких вот людей Мазепа создал и свою наемную гвардию сердюков. Все сердюки получили справные хаты в Батурине и добрые маетности в окрестностях гетманской столицы, все они жили за счет гетманских щедрот, и пан гетман, обычно скаредный и скупой, не жалел для сердюков своих милостей. Привлеченные этими милостями и щедротами, в гетманскую гвардию записывались и многие польские жолнеры из развалившейся армии Августа Саксонского, и немецкие наемники, и волохи, и буджакские татары… — словом, весь тот кочевой сброд, который продавал свою шпагу и саблю обычно тем, кто больше заплатит. А Мазепа платил своим сердюкам щедро. И гетманская столица представлялась и впрямь цветущим островом среди задавленной гетманом и старшиной Украины. И хаты здесь топились по-чистому, и многая живность мычала по дворам, и тучные стада паслись на заливных лугах, и весело крутились колеса ветряков и водяных мельниц на Сейме. Многие полковники и сотники, часто наезжавшие в столицу Батурин, держали здесь свои дворы и укрывали за высоким батуринским валом свое добро. Батурин представлялся тогда самым безопасным местом на Украине. Вся старшина знала, что гетман свез в свою столицу почитай все войсковые пушки и Батурин стал самой мощной фортецией на Украине. Укрывал здесь свой знатный скарб и сам пан гетман (правда, другую половину своих сокровищ Мазепа держал в Белой Церкви, поближе к Речи Посполитой). А чтобы обезопасить свое добро от всяких неожиданностей, Мазепа стянул осенью 1708 года к Батурину шестнадцать тысяч казаков. И не собирался уходить с берегов Сейма, благо царские приказы были противоречивы и то предписывали гетману идти в Галицию в помощь Сенявскому, то оборонять Киев, то передвинуть войско на Северную Украину… Ссылаясь на разночтивость царских приказов, а также на свои многочисленные хвори и недуги, Мазепа продолжал копить в Батурине войско и готовить измену. В Батурин было свезено около трехсот пушек, огромные запасы пороха, в войсковых магазинах и житницах были собраны запасы овса и хлеба на целую армию, из маетностей гетмана сгоняли в Батурин стада овец, коров, табуны лошадей.
После страшной казни в Белой Церкви Кочубея и Искры все противники гетмана умолкли и затаились, и Мазепа распоряжался на Украине, как ему вздумалось. Даже в русской ставке многие генералы, страшась царского гнева, опасались открыто пенять гетману за непослушание и почтительно посылали к нему не офицеров с решительными приказами, а гонцов с почтительными просьбами.
Один из таких гонцов, посланный Шереметевым, Семен Протасьев, застал гетмана в местечке Борзне прикованным к постели сильным недугом. Мазепа, мол, даже причащался и исповедовался, о чем Протасьев и сообщил Шереметеву и Головкину. Узнав об этом, в русской ставке порешили отправить к гетману самого Александра Даниловича Меншикова, дабы побудить наконец войско Мазепы выйти на Десну и стать против шведа, держащего путь на Украину. Еще раньше Дмитрию Михайловичу Голицыну было приказано идти из Киева с частью пехотных полков «в малороссийский край и стать в Нежине с артиллерией».
Получив разом эти тревожные новости, Мазепа тут же сочинил письмо шведскому министру графу Пиперу, а другое Александру Даниловичу Меншикову. В первом он уведомлял шведов о своем скором переходе, в другом льстиво уверял светлейшего, что «если бы он удостоился сладчайшим лицезрением князя насладиться, то имел бы сие за особое счастье, но, к сожалению, еле жив и соборуется». Первое письмо было отправлено гетманом со шляхтичем Быстрицким, второе с любимым племянником Войнаровским.
В ожидании ответа гетман провел две тревожные ночи. Ему представлялась в те ночи последняя возможность переменить свое решение и соединиться с Меншиковым, чтобы вместе с русскими оборонять Украину от шведа на Десне. Еще не поздно было это сделать. Даже ежели бы его переписка с Пипером была раскрыта, гетман всегда мог оправдаться перед Петром тем, что вступил в переписку, дабы обмануть шведского короля и выпытать о его замыслах. И Мазепа знал, что Петр опять поверил бы ему, Мазепе, как поверил в деле Кочубея и Искры. И не царские подозрения волновали в те октябрьские ночи старого гетмана, волновало другое: а вдруг русские возьмут верх и разгромят шведа? Вечор Орлик болтал в застолье перед старшиной, что-де русские взяли за все свои кампании у шведа один дырявый барабан да чугунную пушку! Но сам-то Мазепа отлично знал, что русские взяли уже в Прибалтике и Нотебург, и Ниеншанц, и Нарву, и Дерпт, били шведа при Калише, а недавно побили и под Лесной. Но все то были частные баталии, а вот встречи с главной шведской силой заканчивались или разгромом русских, как под первой Нарвой, или их отступлением, как под Головчином. Взвешивая все это и так и эдак, Мазепа все же решил в пользу шведа. Ему, как человеку в общем-то не военному, привыкшему боле побеждать в придворных интригах и наветах, нежели в чистом поле, непонятным осталось роковое для шведской армии значение баталии при Лесной и полная потеря подвижного армейского магазина.
«Эко дело, телеги обозные потеряли! Да у меня в Батурине столько собрано разных запасов, пороха и пушек, что хватит снабдить и две шведские армии! — самодовольно размышлял Мазепа, узнав о поражении Левенгаупта. — Сие поражение, — полагал гетман, — как раз даст ему особую силу при соединении с королем шведским — ведь швед полностью сядет на его, гетмана, кошт, и еще неизвестно, кто кем тогда будет вертеть: король Карл Мазепой или Мазепа королем Карлом».
Так примерялся заранее Мазепа к своему будущему положению в шведском лагере и находил в том много для себя утешительного. В то же время в своих мелочных расчетах ясновельможный гетман оставался рядовым обывателем, которому голландские, германские и английские газеты все уши прожужжали о непобедимости короля шведского и его армии. И выходило, что в руках Мазепы окажется непобедимая шведская шпага!
Взбудораженный своими честолюбивыми соображениями, Мазепа не мог спать. Кликнул хлопца и, накинув соболью шубу (подарок с царского плеча), вышел в сад. Небо было ясное, звездное, в полный свет светла луна. С речного откоса хорошо было видно, как лунные блики играли на серебряной волне Сейма. Однако же ночь стояла холодная (в ту осень рано ударили заморозки), и Мазепа поплотнее укутался в царскую шубу. Шуба грела.
— Далеко над Сеймом разносилась казацкая песня. То пели, должно, казаки Полтавского регимента, стоявшего табором у самой реки. Казаки пели о славных походах Богдана Хмельницкого на налов ляхов, о Переяславской Раде, о казацкой воле и славе.
— Что за глупые песни! — Старческая дрожь пробежала по телу Мазепы. — Надобно будет сказать Герцику, дабы запретил петь о Богдане в воинском таборе! И что за дурацкая страна! Всю жизнь я маюсь здесь, среди грязи и мужичья, когда мог бы в Варшаве болтать с прекрасными паненками или в Карлсбаде принимать теплые ванны… — сердито бормотал гетман, возвращаясь в хату борзнянского сотника.
«Нет, пора хотя бы на старости лет найти в себе силы и переменить жизнь, вернуться наконец из сей глуши к европейскому политесу!» — подумал Мазепа и наконец заснул.
А на другой день прискакавший Войнаровский принес известие, что письмо гетмана нимало не задержало светлейшего и что Меншиков мечтает обнять Мазепу и оттого поспешает в Борзну с тремя драгунскими полками. Мазепа, забыв о хворостях и напастях, «порвался яко вихор» и помчался в Батурин. И здесь Чечель, комендант гетманской столицы, доложил другое неприятное известие: в крепость в полном походном снаряжении прибыла из Киева бригада русской пехоты во главе с полковником Анненковым.
Гетман, услышав такое, задохнулся от злобы и, ухватившись за золотую цепь, висевшую на бычьей шее Чечеля, рванул его к себе.
— Прости, батько! — задрав толстый зад, повалился Чечель на колени. — Не знал я, что ты уже решил поквитаться с москалями. Давно пора! Дай саблю, и я тому Анненкову прямо за твоим столом голову срублю!
— Ну и дурак! — Мазепа устало опустился в кресло. — Ты что же, прямо в Батурине решил сечу устроить? Да два полка регулярной пехоты враз выметут всех твоих сердюков из города! Нет, тут потребна иная справа!
И за ужином в замке, к удивлению всей старшины, знавшей уже о намерениях гетмана отуслиться от Москвы, Мазепа усадил русского полковника по правую руку, самолично потчевал его отменной горилкой, холодцом, рубцами по-львовски и нежинскими малосольными огурчиками. А когда простодушный Анненков отменно накачался, гетман приказал отвести его в опочивальню да привести туда же девку покраше.
Ранним утром Мазепа с мнимой тревогой вошел в спальню, где в пуховой постели нежился полковник со смазливой дивчиной, и укоризненно покачал головой:
— Ай-ай! Александр Данилович Меншиков шлет гонца за гонцом, зовет полковника на Десну стоять против шведа, а пан полковник… — Не договорив, Мазепа развел руками. Имя Меншикова произвело на полковника желаемое впечатление, и Анненков в смятении заметался по горнице. Наконец он отыскал свою офицерскую перевязь, укрытую женскими юбками.
— Ну и молодец! Совсем, знать, готов к походу! — Мазепа лицемерно положил руки на плечи полковника. — Такой ты мне боле нравишься, пан полковник! Забудем, что вчера ты отбил эту гарну жинку у моего лучшего сотника! Так и быть, я тебя выручу! Отправишься сейчас навстречу Александру Даниловичу со всеми полками, с музыкой и кумплиментами от моей светлости. А что задержался, скажи, что я, мол, на ночь глядя тебя не пустил! Понятно?
— Понятно! — радостно гаркнул полковник, забыв про все строжайшие предписания Дмитрия Голицына, войдя в крепость, не покидать оную ни под каким предлогом.
И через час бригада Анненкова вышла из Батурина и двинулась навстречу Меншикову с гетманским «кумплиментом». Как только, русское войско скрылось за лесом, собрался в скорый путь и Мазепа. Он спешил со своим войском в Короп, а оттуда к Десне.
— Гетман ведет нас, дабы биться со шведом и не пустить ворога за Десну! — говорили меж собой рядовые казаки. Откуда им было знать, что замыслил Мазепа самое черное предательство — решил вместе со всем войском переметнуться к шведу. За Десной Мазепа выстроил свое шестнадцатитысячное войско и обратился к нему с речью. В ней он глухо говорил о многочисленных обидах, чинимых Москвой казацкому войску. Он, сам порушивший казацкие вольности, уверял теперь казаков, что сделано то было по наущению царя; он, переступивший через все казацкие права, данные Богданом Хмельницким, призывал теперь защищать их от московитов в союзе с непобедимыми шведами.
Из всей темной и туманной речи старого гетмана (а слышали ее немногие близстоящие сердюцкие сотни, а остальные передавали из уст в уста) уразумели казаки главное — гетман ведет их не сражаться с ворогом, который грозит Украине, а переметнуться на сторону этого ворога и тем открыть путь к украинским селам и городам, где живут их жены и дети, родные и близкие, и отдать села и города на полную милость захватчику!
И смутились казачьи сердца! Не будь позади Десны, а впереди тридцатитысячного Шведского войска, может, то была бы последняя речь пана гетмана. Не слышались ни виваты, ни приветственные крики. Молчали казаки. И, уловив это страшное молчание, Мазепа, оборвав свою речь, поворотил коня и помчался к шведам. За ним помчалась старшина и верные сердюки. Большая же часть казаков осталась на месте, а затем по одиночке, десятками и сотнями вернулась обратно за Десну. Так что к шведскому королю Мазепа привел не многотысячное войско, а всего две тысячи сердюков и старшин.
* * *
Дмитрий Михайлович Голицын поспешал к Батурину с пехотной бригадой Яковлева в жесточайшей тревоге. Хотя после казни Кочубея и Искры не было ни одного явного доноса на гетмана, на киевском базаре за месяц до измены Мазепы даже бабы-торговки открыто болтали, что гетман переметнулся иль собирается переметнуться к шведу.
«Народ обмануть труднее, чем царя!» — в тревоге рассуждал князь Дмитрий и самолично отписал о тех базарных толках Головкину. И то ли письмо его наконец достигло цели, то ли постоянные увертки гетмана возбудили подозрение Головкина и Шереметева, но Голицын получил наконец приказ немедля маршировать на гетманщину. И Дмитрий Михайлович не терял ни минуты, отправив передовым отрядом бригаду с дивизионом тяжелых орудий. Притом, вопреки указу Головкина стать в Нежине, он отправил Анненкова прямиком в гетманскую столицу и сам направился туда же с бригадой Яковлева, хотя уходом тем и ослаблял киевский гарнизон. Но Киеву при тех обстоятельствах, когда швед стоял на Левобережье, ничто пока не грозило, а вот увертки гетмана вызывали в те осенние дни особую настороженность Дмитрия Михайловича. И ох как жалел сейчас Голицын, что Кочубей и Искра были посланы царем на расправу пряменько в Белую Церковь к гетману, а не в Киев к Голицыну. Дмитрий Михайлович хорошо знал старого полковника и его друга и не верил, что эти честные люди оговорили Мазепу. Скорее всего, и Кочубей и Искра говорили правду и их последний допрос-покаяние мог ту правду раскрыть!
Вот отчего Мазепа столь упрямо добивался передачи Кочубея и Искры в свои руки, минуя Киев, минуя Голицына.
Подгоняемый сими тревожными мыслями и рассуждениями, Дмитрий Михайлович оставил позади Яковлева с его тяжелыми пушками и налегке, в коляске, сопровождаемый легким эскортом, помчался в Батурин. Не доезжая Десны, у деревни Мены Голицын встретил светлейшего князя с драгунскими полками. Дмитрий Михайлович не кривил душой и открыто поведал Меншикову о своих немалых тревогах и подозрениях.
— Пустое! — расхохотался Меншиков, пересевший для разговора в коляску Голицына. — И потом, какая Ивану Степановичу корысть на старости лет к шведу перебегать? Сам посуди, какой у него чин! А маетности? Да, чаю, ни у тебя, хоть ты и прямой Гедиминович, ни у меня, хоть я и светлейший князь, и в помине нет тех богатств, что имеет старик! — Меншиков даже облизнулся при мысли о скарбнице старого гетмана. — Вот, говорят, у него алмаз есть: пол-Европы купить можно! Нет, такому богачу на старости лет хозяина менять — себя и все богатства потерять. А Иван Степанович, сам ведаешь, скупонек! — Тут светлейший прервал разговор и, показывая на пылившее за Десной неизвестное войско, радостно воскликнул: — Да, никак, Иван Степанович сам, легок на помине, встречать нас вышел? Я вчера приказал через Войнаровского ждать нас на Десне!
Но радость Меншикова была преждевременна, поскольку пылившее за рекой воинство оказалось бригадой Анненкова.
— Приказано передать кумплимент светлейшему князю от его светлости пана гетмана! — приветственно гаркнул полковник, встав во фрунт перед коляской с генералами.
— Ты в чьей команде служишь?! Почему оставил Батурин? — Князь Дмитрий чуть было не с кулаками набросился на глупого полковника, да, спасибо, остановил Александр Данилович:
— И полно, батенька, уйми гнев! Что из того, что послушался полковник гетмана, доставил мне кумплимент! Иван Степанович, почитаю, болен и оттого ждет нас в Батурине! — И коляска дальше покатила к гетманской столице.
Меншиков веселился в предвкушении знатного обеда (гетманская кухня была знаменита!), Дмитрия Михайловича ничто не радовало: ни осенний погожий день, ни укатанная дорога, усаженная тополями и цветистыми по осенней листве кленами, ни здоровый крепкий воздух с запахом яблок из окрестных садов. Черное предчувствие окончательно овладело им, и он ничуть не удивился, когда ворота Батурина оказались на запоре, мост через ров разведен, а на валах выросли, целя мушкетонами, сердюки Чечеля.
Александр Данилович, само собой, пришел в страшный гнев и приказал вызвать для переговоров самого коменданта. Пан Чечель появился на валу и стал надменно, всем своим видом показывая, что ни петушившийся на коне роскошно одетый Меншиков, ни мрачно сидевший в коляске Голицын ему не страшны и что хозяин положения здесь он, Чечель!
— Где ясновельможный гетман, вражий ты сын? — горячился Меншиков по ту сторону глубокого, залитого водой рва.
Чечель ответил насмешливо:
— Пан гетман к вам, москалям, в Короп отъехал!
— Так почему ты не пускаешь нас в крепость? Разве мы шведы?
— На то нет приказа его светлости, пана гетмана! — воровато ухмылялся Чечель в цыганский ус.
— Разве ты не знаешь, кто я? — неосторожно спросил Меншиков, и громкий хохот раздался на валу. То смеялись сердюки Чечеля.
— Да кто тебя не знает? — с ленивым равнодушием ответствовал Чечель. — А только ступай отсюда, светлейший, не то, не ровен час, зашибу тебя со всей твоей кавалерией! — И по знаку Чечеля фейверкеры-немцы угрожающе навели с вала тяжелые пушки.
— А ведь ты, пожалуй, прав, Дмитрий Михайлович. — Меншиков поудобнее устроился в коляске. — Не посмел бы этот сукин сын так себя вести, не перебеги сама сука к шведу. Впрочем, то еще надобно проверить! — И светлейший приказал кучеру: — Гони в Короп!
Однако в Короп поспешать было без надобности. Уже в сельце Обмачеве встретили нестройную толпу казаков, отказавшихся последовать за гетманом в шведский лагерь и возвращающихся с Десны. Оставленный на перекрестке старый сотник поведал Меншикову и Голицыну, что Мазепа и впрямь за Десной переметнулся к шведу.
— А войско? — нетерпеливо спросил Меншиков.
— А вот оно войско! — Кусая седой ус, сотник показал нагайкой на тысячи казаков, отъезжающих от реки в разные стороны, и с горечью добавил: — Нема боле казацкого войска! Все порушил клятый Мазепа!
— И то хорошо, что за ним и двух тысяч казаков не пошло! — сказал Меншиков Голицыну. К нему, бывало, в минуты крайней опасности возвращалось полное самообладание. — Потребно теперь, Дмитрий Михайлович, у предателя главную карту в его предательской игре выбить — взять Батурин!
— Казаки молвят, что у Чечеля в Батурине четыре полка сердюков, три сотни пушек с немцами-фейверкерами да три казачьих полка! Батурин ныне — крепкий орешек! — раздумчиво вымолвил Дмитрий Михайлович.
— Расколем! — решительно махнул рукой Меншиков. — Казаки, чаю, за Мазепу и биться не станут, а наемники, знамо дело, не устоят против твоих гренадер и моих драгун.
— Так оно иль нет, а Батурин взять надо! — согласился Голицын. — Упустим Батурин, там швед второй магазин обретет, поболе того, что тащил ему в сикурс Левенгаупт!
Вечером в придорожном шинке, простившись с Голицыным, ускакавшим поторопить гренадер к Батурину, Меншиков начал писать донесение царю об измене Мазепы.
Свеча совсем уже догорала, когда светлейший наконец дописал последние строки. «И ныне сей новоявленный Иуда при гробе стал изменник и предатель своего народа!» — не без удовольствия перечел свое красноречивое послание, скрепил его печатью и вызвал дежурного офицера. А еще через минуту адъютант светлейшего с десятком драгун из лейб-регимента мчался по ночной дороге в главную штаб-квартиру.
Лунный свет перебегал дорогу всхрапывающим на бегу лошадям, тревожно мелькали огоньки далеких хуторов и окрестных деревень, взад и вперед сновали по пути конные и пешие казаки, шарахались в стороны чьи-то тени, и казалось, вся Украина не спала в ту ночь, потрясенная изменой старого гетмана.
* * *
— Предатель не приносит удачи тому, кто его принимает! — сердито сказал королю полковник Аксель Рамсворд, отказавшийся снять шляпу перед старым гетманом.
«Может, Аксель и прав! Ведь он настоящий викинг! Прямой, суровый, честный! А Мазепа лукав, лжив, коварен. Но, с другой стороны, коль столь хитроумный и многоопытный муж переметнулся без всякого принуждения на мою сторону, значит, фортуна вновь улыбается нам, шведам!» Король Карл зябко передернул тощими плечами, съехал к клубящейся туманом Десне. И тотчас громыхнули шведские орудия с берегового откоса, под прикрытием их огня шведские гренадеры двинулись на плотах через реку. С противного берега раздалась редкая пальба. Карл был доволен: все шло по его плану. Ложная переправа отвлекла главные силы русских, а тем временем к Мезину король за ночь перебросил батареи тяжелых орудий и под прикрытием их огня начал переправу. Пороха было приказано не пожалеть, — Мазепа обещал предоставить в Батурине огромные пороховые погреба, — и давно шведская пехота не слышала столь громогласного говора своих пушек. Подъехавший к королю Гилленкрок с тревогой всматривался в противный берег сквозь холодный туман, стоявший над Десной. Туман смешался с пороховым дымом и образовал прочную завесу над переправой. Скрытые этой завесой шведские гренадеры на многих плотах и лодках дружно шли на тот берег, где лежала гетманская Украина, еще один край, который собирался покорить их король.
Гилленкрок внимательно посмотрел на зябко кутающегося в плащ Карла: король был сильно простужен, и из натянутого по уши мехового треуха (подарок Мазепы) выглядывали слезящиеся глаза и красный длинный нос. Еще дальше от Швеции он уводил свою армию, и кто знает, какие новые испытания ожидали солдат и офицеров там за Десной?
Словно уловив печальные размышления своего генерала-квартирмейстера, Карл рассмеялся:
— Выше голову, Гилленкрок! В Батурине нас ждут теплые квартиры и пуховики. Этот старый лис, Мазепа, накопил в своей столице немалые запасы для моих гренадер! В Батурине мы станем на покойные зимние квартиры и дадим роздых войскам!
— Меня удивляет, сир, отчего гетман сразу не повел нас в Батурин, а столь горячо настаивал на походе к Новгороду-Северскому?
— Ничего, зато теперь мы на верной дороге! — ответил король.
— Да, но мы Сделали бесполезный переход и потеряли на том несколько дней, которыми могут воспользоваться русские!
— Русский медведь слишком неповоротлив, Гилленкрок, а русские генералы не достойны быть и капралами в моих интендантских ротах. Смотрите, этот русский генерал Гордон уже отводит войска, испугавшись одной пушечной стрельбы!
И впрямь, генерал-майор Александр Гордон, командир русской бригады, стоявшей у Мезина, приказал вывести полки из-под артиллерийского обстрела. И этим тотчас воспользовались шведы. Высадившись на берег и беспрепятственно построившись в линию, мокрые и злые, шведские гренадеры с таким бешенством бросились в атаку, что сбили батальоны Гордона и с запасной позиции.
— Извольте видеть, сколь успешен наш натиск! — Карл весело обернулся к Гилленкроку и офицерам штаба. — Прикажите вашим солдатам поторопиться и навести мост! Впереди нас ждет отдых в благословленном крае, не так ли, гетман?
— Ваше величество! — выступивший вперед из кучки казацких старшин Мазепа отвесил низкий поклон королю. — Украина ждет своего вызвольника! Там за Десной я приведу к вам столько казаков, сколько песка на берегах Черного моря!
И в этот момент страшный тяжелый гул донесся со стороны Батурина, и столь сильное красное пламя взлетело над гетманской столицей, что отсветы его были ясно видны даже у отстоящей от Батурина на шесть миль мезинской переправы.
— Что значат сей гул и пламень? — обратился король к окружающим. — Уж не землетрясение ли?
Но то было не землетрясение. Примчавшиеся гетманские сердюки принесли роковое для короля и гетмана известие: Батурин еще 2 ноября взят Меншиковым и Голицыным при прямом содействии его жителей. Все огромные запасы гетмана, припасенные им для шведов, стали русской добычей. Днем и ночью русские солдаты и перешедшие на их сторону казаки (только сердюки остались верны гетману) вывозили из гетманской столицы муку и зерно, пушки и амуницию, выводили скот, переселяли батуринских обывателей. А когда Меншикову стало известно, что шведы приступили к переправе у Мезина, он распорядился взорвать пороховые погреба в гетманском замке, и гигантский столб пламени взлетел над опустевшей столицей.
Занялся страшный пожар, на месте Батурина шведы и Мазепа застали одно пепелище. Обещанных гетманом покойных зимних квартир как не бывало. И, глядя на развалины своей богатой столицы, Мазепа, боле всего скорбевший о потерянных сокровищах, сказал Орлику:
— Злые и несчастливые наши початки!
При сем явно зловещем для них предзнаменовании шведы двинулись в глубь гетманской Украины.
Война на Украине
В ставке Петра I известие о взятии Батурина вызвало глубокое облегчение. И все-таки тревога не покидала царя в первые дни после известия об измене Мазепы. Главная его мысль была о том, как поведет себя украинский народ, узнав о переходе гетмана на сторону шведов.
Надобно сказать, что настроения украинского населения занимали Петра I с самого начала поворота шведской армии на Украину.
«О здешнем объявляем, — сообщал Петр Апраксину 24 октября 1708 года, — что неприятель был у Стародуба и всяко трудился своею обыкновенною прелестию, но малороссийский народ так твердо, с помощью Божией, стоит, чего больше ненадобно от них требовать». Эта высокая оценка «стойкости» украинского народа на «прелестные» шведские воззвания вполне оправдывалась тем сопротивлением, которое шведы встретили в Северной Украине. Плечом к плечу с русскими солдатами сражались казаки у Стародуба, Мглина, а подвиг безвестного украинского проводника, выведшего отряд шведов вместо Почепа на, укрепления Стародубской крепости, аналогичен подвигу Ивана Сусанина. Пока что Петр мог быть доволен.
Но как поведет себя гетманщина после измены Мазепы? Ведь гетману подчинялось все казачье войско на Украине, с ним к шведам переметнулась часть старшины, имеющей широкие родственные и иные связи во всех казацких полках. Вдруг Мазепе удастся вызвать на Украине общее движение? — вот мысль, которая, безусловно, занимала Петра I в эти первые недели после измены гетмана, тем более что сам Мазепа всюду рассылал свои универсалы, призывающие выступать против русских войск. Издан был и универсал Карла XII к украинскому народу, неуклюже состряпанный Мазепой.
Как же действовал царь в этой сложной политической ситуации на Украине? Прежде всего Мазепе надобно было противопоставить нового гетмана. И вот Петр спешно собирает в Глухове казацкую раду. Естественным кандидатом Петра на гетманский пост становится полковник стародубского полка Скоропадский, поскольку стародубцы только что отличились в борьбе против шведов. Скоропадского в Глухове единогласно избирают гетманом. Другой вопрос, который возникает перед Петром, — это вопрос о поведении армии на Украине. Русским войскам еще при вторжении шведов в Северную Украину было приказом строжайше запрещено чинить какой-либо ущерб местным жителям.
«Малороссийский народ как можно оберегаем и до озлобления не допускаем…» — доносил Петру I Шереметев еще 5 октября из Почепа. Соблюдать, однако, «бережение» во время военных действий было трудно. Был сожжен дотла Батурин, такая же участь ожидала и Ромны, когда туда после ухода шведов вступили царские войска. Однако если в случае с Батуриным царь и его фельдмаршал только приветствовали решительные действия Меншикова, не допустившего превращения гетманской столицы в военную базу шведской армии, то в случае с Ромнами реакция Петра была совершенно другой. Царский адъютант Ушаков, который вместе с казачьим отрядом находился при дивизии генерала Алларта драгунских полках бригадира Фастмана, вступивших в Ромны, тотчас сообщил Петру о разорении этого местечка, хотя войска были впущены туда без всякого сопротивления, сразу после ухода шведов. Более того, по сообщению Ушакова «тутошний жители обрадовались приходу нашему… Однако радость их превратилась в печаль: драгуны все дома разграбили по повелению вышних командиров…».
Получив эти сведения от Ушакова, Петр I поручил срочно разобраться в этом деле канцлеру Головкину. Тот сразу же отправил в Ромны майора-преображенца с грозным приказом: «Офицеров в Ромнах по розыску казнить смертью во страх другим, а рядовым буде меньше десяти человек, то казнить третьего, буде же больше, то седьмого или девятого. Также розыскать о главных офицерах, не было ль от них позволения на тот грабеж».
Наказания, последовавшие за грабежом в Ромнах, стали, конечно, известны в войсках, и разор местного населения был пресечен, скифская война на Украине меняет свой характер.
А вот шведы, которые вместе с Мазепой выпускали «прелестные грамоты», очень скоро сбросили маску и выступили как откровенные захватчики и насильники. В тех же Ромнах, по донесению того же Ушакова, «неприятель у жителей всякие харчи и иное покупал дорогою ценою, а по отъезде из Ромен назад деньги отбирал». Впрочем, вскоре шведы вообще перестали как-то платить за провиант и фураж — начался такой же грабеж населения, какой они учиняли в Польше и Белоруссии. Ответом на это стала развернувшаяся зимой 1708/09 года народная война против шведских захватчиков.
В этой войне русские солдаты и украинские казаки плечо к плечу сражались против шведов, что лучше всего доказывает оборона неказистых местных крепостей, ставших перед шведами неприступными твердынями. Так, 20 ноября 1708 года шведов не впустили в свой город жители города Смела, хотя там и не было русского гарнизона.
Одновременно с сопротивлением городов возникают партизанские отряды в сельской местности, и уже в начале декабря шведы вынуждены предпринять против них первую карательную экспедицию. «10 декабря полковник Функ с пятьюстами кавалеристами, — свидетельствует королевский историк Адлерфельд, — был командирован, чтобы наказать и образумить крестьян, которые соединялись в отряды в различных местах. Функ перебил больше тысячи людей в маленьком городке Дрыгалов. Он испепелил также несколько враждебных казачьих деревень и велел перебить всех, кто повстречался, чтобы внушить ужас другим». Однако никакие карательные экспедиции не могли сломить разворачивающуюся борьбу целого народа против захватчиков. Вскоре все дороги для шведов на Украине стали небезопасными от нападений бесчисленных казачьих отрядов. «Неприятель, — вынужден был признать Адлерфельд, — своими непрерывными налетами мешал нам пользоваться изобилием и плодородием этой прекрасной страны в той степени, как мы желали бы. Припасы становились к концу крайне редкими и чудовищно дорогими».
Партизанская война на Украине многократно усиливалась благодаря поддержке русской армии. Петр I сумел учесть важность этого дела, и из регулярных войск выделяются небольшие кавалерийские отряды, подобные отряду Ушакова, составленные из казаков и драгун, которые буквально висят на хвосте шведской армии. Эти отряды были полезны русскому командованию еще и тем, что поставляли крайне важные сведения о всех передвижениях и дислокации шведских войск. Как только шведы стали устраиваться на зимние квартиры, Ушаков, например, срочно сообщил 20 ноября 1708 года Меншикову, что «король шведский пришел в местечко Ромен ноября 18 дня. Изменник Мазепа такожде числа пошел до Гадич и намерение имел воровское, чтоб ему забунтовать запорожцами». О дальнейших передвижениях и дислокации шведов Ушаков пишет 7 декабря 1708 года самому Петру: король «стоит по квартирам против прежнего. Також уведомился через тутошних жителей, генерал-майор Лагер-Крон и Круз очистили квартиры, надеючись по деревням к Конотопу. Знатно, что хотят пространней стать».
Здесь Ушаков очень точно определил стремление шведов стать «пространней», прежде всего для сбора провианта. «Також неприятель провиант в близости выбирает и квитки в приеме отдает; також, где стоит оный неприятель по квартирам, великое чинит разорение…» — заключил он свое сообщение Петру I.
Сбор провианта и с помощью реквизий (когда платили ничего не стоящими бумажками — квитками), и путем прямого солдатского грабежа по квартирам уже в декабре 1708 года, после того как шведы объединили Ромны и Гадяч, становится одной из главных задач королевской армии. Отсюда прежде всего и ее частые передвижения по Украине. В поисках новых, изобильных провиантом местностей шведы, несмотря на суровую зиму, буквально рыскают по Украине, всюду натыкаясь на сопротивление маленьких городков и местечек и активные действия русской регулярной армии.
По распоряжению Петра русские гарнизоны еще в начале кампании 1708 года стояли в Чернигове и Нежине. Теперь регулярные части были введены в Полтаву, Веприк, Ахтырку, а самая главная армия после некоторых перемещений стала в Лебедине, имея запасную позицию в Сумах.
24 ноября Шереметев сообщал Петру: «Из Марковки 25 числа моя дивизия пойдет до Михайловки, чрез мост перебираться будет к Лебедину».
Позиция в Лебедине была центральной, прикрывая дорогу на Сумы и так называемый Бакаев путь на Москву. Драгуны Меншикова действовали против шведов отдельно, закрывая им выходы на Слободскую Украину к Харькову. С юго-востока действия шведов ограничивал сильный гарнизон в Полтаве, на северо-западе гарнизон в Чернигове, а на Правобережной Украине стояли войска киевского генерал-губернатора Дмитрия Михайловича Голицына, которые во второй половине ноября заняли вторую резиденцию Мазепы — Белую Церковь. Занятие правобережной резиденции гетмана произошло мирным путем, о чем 21 ноября Голицын с торжеством сообщал Меншикову: «Чрез способ добра полковника Бурея (у последнего в Белой Церкви было 800 сердюков) уговорил и тот замок Белоцерковный и пожитки Мазепы у него принял и посажены в замок из Киевского гарнизона 300 человек». После занятия Дмитрием Голицыным Белой Церкви у Мазепы не осталось ни одного оплота на Правобережье, и все его «прелестные универсалы» не возымели там никакого действия.
Так, фактически уже в конце ноября шведская армия в Ромнах и Гадяче со всех сторон была обложена русскими войсками, действующими при активной поддержке местного населения. А в середине декабря русская армия провела разработанную Петром I операцию, направленную уже против главной шведской квартиры. По распоряжению Петра Меншиков двинул 16 декабря к Гадячу драгун генерала Ренне. Драгуны ворвались в предместье города, выбив оттуда шведов. На помощь шведскому гарнизону в Гадяче выступил из Ромен, невзирая на жестокий тридцатиградусный мороз, сам король. Воспользовавшись уходом главных сил шведов, к Ромнам подступили драгуны бригадира Фастмана и дивизия генерала Алларта. Узнав о подходе русских, оставшиеся шведы бежали из города. В первый рядах беглецов находился, по донесению Ушакова, гетман Мазепа, который, услышав о подходе русских, «уехал декабря 17 дня за два часа». На следующий день после бегства Мазепы русские войска вступили в Ромны, где не встретили почти никакого сопротивления и взяли в плен десятки солдат, четырех офицеров и даже королевского пивовара с женою. Спешно отступая из Ромен, шведы бросили 12 медных и 5 чугунных пушек.
Главное же, была достигнута основная цель: шведы потеряли самый значительный город в округе и лишились еще одной промежуточной базы. Гадяч никак не мог заменить Ромны. Во-первых, он был значительно меньше, а, во-вторых, драгуны Ренне, которые отступили, узнав о подходе шведской кавалерии во главе с самим королем, уходя из Гадяча, сожгли городское предместье и уничтожили все запасы фуража, находившиеся в нем. В итоге, когда вся шведская армия сосредоточилась в Гадяче, выявилась как острая нехватка жилья для людей, так и фуража для коней.
Нехватка квартир имела очень тяжелые последствия для шведской армии из-за стоявших жестоких морозов. Зима 1708/09 года была очень холодной в Европе. Достаточно сказать, что застыла река Рона в Юго-Восточной Франции и покрывались льдом каналы в Венеции, а на Балтике замерзли проливы Скагеррак и Каттегат. Небывалая тридцатиградусная стужа с 30 ноября стояла и на Украине. Неудивительно, что сотни шведов замерзли на переходе к Гадячу и новые сотни погибли, когда не нашли жилье в полусожженном городе. Всего холода в эту зиму погубили три тысячи шведов.
Ушаков тотчас из Ромны поспешил сообщить Петру, что «неприятель из Липовой долины пошел к Гадячу… И как из Липовой пошел, и сказывают, которые приходят мужики, у неприятеля многие с холоду помирают». Так что в русском штабе знали о крупных потерях шведов от холодов, хотя, конечно, и русские несли потери.
И все-таки положение русской армии, разбросанной на широком пространстве, где имелось достаточное жилье и большие запасы провианта, было предпочтительнее, чем у шведов, загнанных фактически в Гадяч и его окрестности. Неудивительно, что в поисках выхода шведский король предпринимает попытки расширить свои винтер-квартиры. Не о Москве думал в это время Карл XII, а о том, где бы обогреть и досыта накормить своих солдат. Поэтому он идет на прямой штурм Веприка.
30 декабря 1708 года Карл XII двинулся к Зенькову и занял это неукрепленное местечко, хотя даже здесь жители пытались организовать ему сопротивление. Из Зенькова король вначале января подступил к Веприку, где были и укрепления, и гарнизон в 1300 солдат, 100 драгун и 400 казаков. Комендант крепости шотландец Фермер приказал укрепить скаты крепостного вала, облив их водой, которая сразу замерзла на трескучем морозе. Об этот ледяной вал и разбились все три атакующие колонны шведов, когда 6 января двинулись на штурм крепости (Фермор наотрез отклонил предложение короля сдать крепость без боя). Большие потери под Веприком усугублялись тем, что здесь потерпел урон цвет шведского офицерства. Под Веприком был «ранен генерал-майор Штакельбург, контужен в грудь фельдмаршал Реншильд, убит полковник Фриччи, подполковник Мерне, братья графы Шифлингинк, контужен «маленький принц», 18-летний полковник Мак Эммануил Вюртембергский». Всего под этой небольшой крепостью шведы потеряли две тысячи убитых и раненых. Столь высокие потери вызвали смущение в шведских войсках.
Никогда еще недовольство в шведских войсках действиями короля не высказывалось столь громко, как после неудачного штурма Веприка. При таких настроениях армии о походе на Москву не могло быть и речи — ведь надобно было в лоб штурмовать построенные в глубину позиции русской армии. Впрочем, Карл XII и не думал о таком походе. Цель у него была менее значительная — обеспечить зимнюю стоянку своих войск.
Король решает совершить обход русских позиций, перейти Ворсклу и выйти на так называемый Муравский шлях, который тянулся вдоль левого берега этой реки на Ахтырку-Харьков и далее на Белгород-Курск-Орел и Москву. Это был тот самый шлях, по которому часто ходила на Москву из Крыма татарская конница. Нет сомнений, что перейти на Муравский шлях короля склонил прежде всего совет Мазепы, который более всего опасался ухода шведов за Днепр. Недаром старый гетман выехал из Гадяча и примкнул к королю, когда тот 28 января вышел в поход из Зенькова на Опошню. У этого селения шведская кавалерия нанесла поражение драгунам генерала Шаумбурга, отбросив их за Ворсклу.
Петр I вовремя понял замысел шведского короля и спешно перебросил к Ахтырке драгун Меншикова, который спустился затем по Ворскле и соединился с Шаумбургом. В итоге, когда Карл. XII начал наступление на Харьков, перед ним стояла уже многочисленная русская кавалерия. Тем не менее шведский король со своими драбантами и с семью кавалерийскими полками и с полевою артиллерией вступил в Слободскую Украину. При этом Карл не пошел на укрепленную Меншиковым Ахтырку, а свернул на Краснокутск, через который можно было наступать на Богодухов и далее на Харьков. Здесь, под Краснокутском, 11 февраля 1709 года путь шведам преградили 7 драгунских полков генерал-майора Шаумбурга. Драгуны Шаумбурга были снова разбиты, как и под Опошней, и отброшены к Городне. Однако успевший подойти отряд генерала Ренне (6 эскадронов драгун и 2 батальона русской гвардии) так ударил на шведов, что опрокинул их в свою очередь. Сам король с кучкой драбантов укрылся в мельнице, «и только наступившая темнота спасла короля от плена». К вечеру меж тем к шведам подошли резервы Круза, и ночью русские отошли к Богодухову. Однако Ренне отнюдь не был разбит, как о том трубили шведы, а, напротив, занял сильную позицию на дороге на Харьков. Шведы, выйдя из Краснокутска и Городни, сожгли эти городки. Иными словами, в Слободской Украине шведы чинили еще больший раззор, чем в гетманщине.
13 февраля армия короля вышла к реке Коломаку. Здесь и состоялся, по свидетельству Адлерфельда, довольно странный разговор Мазепы с Карлом XII. Желая польстить королю, Мазепа заметил: «Война для вашего величества идет очень счастливо: мы уже дошли только за восемь миль от рубежей Азии». Король отвечал: «С этим не согласятся даже географы!»
Однако географические познания самого Карла были столь туманными, что на биваке он приказал адъютанту идти и «узнать от Мазепы путь в Азию поточнее». Однако неугомонному королю не только не удалось побывать в Азии, но и перейти маленькую речушку Коломак. Внезапно разразилась зимняя гроза с ливнем, громом и молнией. Произошел резкий переход от морозов к оттепели. Распутица приостановила дальнейшее продвижение шведов, и король был вынужден начать отвод своих войск обратно за Ворсклу. Отход был чрезвычайно трудным, снега быстро таяли, дороги покрылись грязью, а маленькие речки превратились в полноводные реки. В результате переправа на реке Мерле шла полтора дня, а переправа через Ворсклу заняла у шведов целых четверо суток.
Однако хотя Карл XII и был вынужден отступить, он не расстался с мыслью выйти снова на Муравский шлях. Причем он хотел оседлать этот путь не столько для немедленного похода на Москву, сколько для связи с Запорожской Сечью и Крымом. Там, на юге, происходили события, которые, казалось, могли повернуть фортуну снова лицом к ее любимцу. Прежде всего, это было связано с переходом на сторону Мазепы и шведов кошевого атамана Гордеенко, получившего изрядные деньги от Мазепы. Подействовало на запорожцев и полученное письмо крымского хана: он давал совет держаться гетмана Мазепы и обещал помогать запорожцам в нужде. 19 марта депутация запорожцев прибыла в шведский лагерь и была принята королем. По дороге запорожцы внезапно напали на русских драгун. 26 марта в королевскую ставку прибыл сам кошевой атаман Гордеенко и был принят сначала Мазепой, а затем представлен и королю.
С переходом запорожцев на сторону шведов у Карла XII появилась надежда, что за ними последует и новый крымский хан Девлет-Гирей, который был известен своею ненавистью к Москве. К тому же Гордеенко рассказал королю и Мазепе о ханском письме, полученном в Запорожской Сечи.
При таких обстоятельствах Мазепе и Гордеенко удалось уговорить короля штурмовать Полтаву, как единственную крупную крепость, мешающую сношениям шведов с Запорожской Сечью и Крымом. Овладев Полтавой, шведы выходили на дорогу Полтава-Харьков-Белгород и приближались к Днепру, из-за которого ожидали подхода Станислава Лещинского и корпуса Крассау, а также могли наладить связи не только с Сечью и Крымом, но и со Стамбулом. Все эти доводы, приведенные Мазепой, и повлияли на решение Карла XII, не особенно любившего, а после потерь под Веприком и боявшегося осады крепостей, решиться на взятие Полтавы.
Полтавская виктория
Петр почти не спал после того, как 20 июня русские войска перешли на левый берег Ворсклы и начали сближаться с неприятелем. Хотя решение о генеральной баталии было принято на воинском совете еще 16 июня, и сам Петр горячо выступил за немедленное сражение, дабы спасти Полтаву и ее героический гарнизон, у которого иссяк порох и другие воинские запасы. Теперь, после перехода армии на другой берег Ворсклы и приближения к шведскому лагерю на четыре версты, баталия становилась неизбежной. И тут Петра начали одолевать сомнения.
«А вдруг новая нарвская конфузил? Тогда за один час потеряем все, чего достигли за девять лет войны. Ведь после Нарвы у русских с главной армией шведов не было ни одной генеральной баталии. Правда, наши войска ныне совсем не похожи на нарвских беглецов, но все же?!» — мучительно размышлял Петр по ночам. Правда, днем наваливалось столько работы, что было не до тревожных мыслей. Петр в те дни был главным фортификатором своей армии, под прямым присмотром царя строили и предмостное укрепление у Петровки, и вагенбург у Семеновки, а теперь, когда спустились вниз по реке, сооружали мощный ретраншамент у деревушки Яковцы. Подступая к шведскому лагерю, русские все время окапывались. И это было не только предосторожностью Петра на случай нежданной ретирады (умелое отступление всегда было в резерве петровской стратегии и тактики), но и желанием бесконечными окопными работами выманить шведов из своего лагеря.
— Глядя, как солдаты наши машут лопатами, король непременно порешит, что мы его испугались, и по своей всегдашней горячности первым бросится в атаку! На том мы его и поймаем, Данилыч… — терпеливо объяснял Петр свой замысел Меншикову, который, как всякий кавалерийский генерал, хотел не возиться с окопами, а идти прямо на сближение со шведом. Еще вчера, 24 июля, драгуны светлейшего лихо отогнали разъезды шведских рейтар, волохов и мазепинцев и прочно оседлали прогалину шириной в полторы версты меж Яковицким и Будищенским лесом. Теперь, кроме узкой лесной дороги прямо через Яковицкий лес, был открыт и широкий шлях на Полтаву. Шведский же лагерь под стенами крепости, как доносили передовые отряды драгун, был почти совсем не укреплен с тыла, и ворваться в него не составляло, по мнению Меншикова, большого труда.
— А о тридцати тысячах шведов, что стоят в том лагере, ты забыл? Окромя природных шведов в том же лагере сидит десять тысяч мазепинцев и запорожцев. У нас же всего 42 тысячи войска. Так что силы почти равные.
— А ежели полтавский гарнизон Келина им в тыл ударит?
— У Келина, как он мне в последний раз доносил, половина гарнизона или перебита, или ранена. Так что в поле он и трех-четырех тысяч не выведет, да и те с ружьями без зарядов.
Донесения полтавского коменданта Келина доставляли в русский лагерь в пустых пушечных ядрах. Обратно летели такие же ядра без запала, но набитые порохом. Благодаря этому изобретению Петра гарнизон Полтавы получил вовремя порох, чтобы отбить два последних ожесточенных неприятельских штурма. Еще две тысячи шведов остались лежать на полтавских валах. Но и силы гарнизона были подорваны, а в крепости, как сообщил Келин, осталась всего одна бочка пороха. Все, казалось, говорило, что прав Данилыч и надо немедля атаковать шведа, но Петр выжидал. За девять лет войны он хорошо изучил натуру шведского короля и знал его всегдашнюю горячность.
«Нет, нет, обязательно сей герой сорвется и бросится в атаку первым. А здесь его и встретит наш ретраншамент, а в нем добрая сотня пушек. Только вот одного укрепления, пожалуй, мало, чтобы отбить первую атаку закаленных шведских солдат. Надобно еще нечто придумать!» Петр тяжело ворочался на узкой походной кровати. Затем понял, что не заснуть, встал, вышел из шатра, присел на полковой барабан, закурил солдатскую трубочку. Ночь была жаркая, южная, с большими яркими звездами. Вдруг по темному небу пролетел какой-то предмет, оставляя за собой серебристый хвост.
«Чья-то звезда сорвалась, чья-то судьба оборвалась! Но чья — моя или короля Карла?» — подумал Петр. И здесь вдруг пришло самое простое (и от того, может, гениальное) решение: а что, ежели загородить прогалину меж Яковицким и Будищенским лесом земляными редутами? Шесть редутов поставить поперек, а четыре вывести вперед, перпендикулярно к основной линии. Они как волнорез и разрежут атакующее шведское войско.
Охваченный радостным нетерпением, Петр вернулся в шатер, приказал дежурному денщику зажечь свечи на столе, расстелил карту и на ней обозначил редуты.
— Ежели что не так, завтра на месте поправим. И устроим шведам добрую встречу! — И, довольный найденным наконец решением, как остановить шведов, Петр снова лег в постель, свернулся по давней, еще мальчишеской привычке калачиком и наконец крепко и безмятежно заснул.
В то самое время, когда Петр раскуривал трубку на полковом барабане и наблюдал за падением метеорита, в шведском лагере возле Полтавы не спал и его главный соперник Карл XII. Правда, причина, по которой не спал шведский король, была совсем иной, чем у Петра. Еще 16 июня при объезде позиций к югу от Полтавы, где у русских на левом берегу Ворсклы стояли казаки Палия, король был ранен случайной пулей в ногу. Ранение было, в общем, пустячное, и король еще покрасовался перед сопровождавшими его генералами и драбантами и, вместо того, чтобы сразу отправиться к врачу, вынуть пулю и сделать перевязку, объехал все позиции на Ворскле и только после того вернулся в лагерь. Сапог был полон крови, и хотя доктор вынул пулю, рана загноилась, и Карла попеременно бросало ныне то в жар, то в холод.
Ранение короля вызвало в шведской армии всеобщее уныние. Ведь за девять лет войны то была первая рана, хотя всем было известно, что во всех баталиях с датчанами, саксонцами, поляками и русскими король был впереди всех, лез в самое пекло. В окружении короля погибли почти все его генерал-адъютанты, пришлось переменить уже две трети драбантов из королевского конвоя, но сам Карл был точно заговорен от пуль, картечи и пушечных ядер.
— Не иначе как за нашего короля заступается наш древний скандинавский бог Один! — говорили офицеры и солдаты, вспоминая древние саги викингов. Король стал живым талисманом шведского войска. И вдруг на поверку оказалось, что помазанник Бога на земле такой же смертный, как и любой человек.
— Рана короля — недобрый знак! — открыто говорили меж собою солдаты и офицеры. Ропот был такой сильный, что по совету фельдмаршала Реншильда короля, лежавшего на носилках, вынесли в лагерь и показали солдатам, что Карл XII жив. Но вид бледного от раны, дрожавшего от лихорадки на носилках венценосца не мог, как прежде, вдохновить войска. Солдаты и офицеры перестали верить в постоянное везение и счастливую фортуну короля. Что касается генералов, то многие прямо говорили, что весь поход на Украину был чистым безумием.
— Единственный выход — немедленная ретирада за Днепр! — открыто заявил на последнем военном совете второй по званию после фельдмаршала Реншильда генерал Левенгаупт.
— Надо бросить все пушки, обоз и ночью тайно сняться с лагеря, посадив пехоту на обозных коней. Тогда мы уйдем от русской погони и успеем переправиться через Днепр.
— У генерала Левенгаупта большой опыт в ретирадах, ведь вот таким манером он успел убежать от даря Петра из-под Лесной… — съехидничал Реншильд.
— А что предлагаете вы, фельдмаршал? — Король на том совете был явно расстроен, и не столько своей раной, сколько положением, в какое попала шведская армия. Пробравшийся недавно из Польши королевский секретарь Клинкострем привез самые дурные вести. Русский заднепровский корпус Гольца соединился с давним и упорным противником шведов, коронным гетманом Сенявским, и под Бродами разгромил наголову войска короля Станислава Лещинского, которыми командовал Сапега.
— После той конфузил король Станислав и шведский генерал Крассау без боя оставили Львов и отошли к Варшаве, ваше величество!
Карл бросил на Клинкострема свирепый взгляд, но тот не подумал отвести глаза, поскольку говорил чистую правду.
Это известие было тяжелым ударом для короля. Ведь он рассчитывал, что войска Станислава и шведский корпус Крассау составит ему у Полтавы добрую помощь и привезут достаточно провианта и боеприпасов. Потому король так внимательно и выслушивал совет Левенгаупта о ретираде за Днепр. Но здесь внезапно вмешался Гилленкрок.
— Ваше величество, я полностью согласен с генералом Левенгауптом, но увы… — Генерал-квартирмейстер развел руками. — Я не хотел ранее огорчать вас, сир, но переправа через Днепр просто невозможна. Отряды киевского коменданта Дмитрия Голицына разорили не только Запорожскую Сечь, но и Переволочну — там не осталось ни одного парома и почти ни одной лодки. Переправляться же через Днепр вплавь, держась за хвосты лошадей, как делают запорожцы, наши рейтары и солдаты просто не умеют!
— Ох уж этот Голицын! — вырвалось у Карла проклятие в адрес киевского генерал-губернатора князя Дмитрия Михайловича. — Вместе с Меншиковым опередил нас в Батурине, где сжег все запасы, сложенные Мазепой к нашему переходу, послал войска спалить Сечь, а теперь, оказывается, разорил и переправу у Переволочны! Словом, загнал нас в угол. И что же ныне прикажете делать, господа? — Король оглядел лица своих смущенных генералов и советников. И тут вперед выступил, конечно, Реншильд. Фельдмаршала, казалось, никакие годы не брали — столько в нем было воинственного задора и воодушевления.
— Ваше величество, разве у нас не та же армия, что наголову разгромила русских у Нарвы? — Фельдмаршал спрашивал короля, но смотрел на лица генералов. Кто-кто, а генералы прекрасно знали, что в 1700 году шведской армией фактически командовал не юный король, которому приписали победу, а он, Реншильд. И снова у него, Реншильда, счастливый случай возглавить армию — король ранен и не может командовать войсками с носилок. Потому фельдмаршал с таким воодушевлением и напевал на совете военные марши: — Вспомните, господа, когда в последний раз русские сталкивались с нашими главными силами? В прошлом году у Головчина. И чем кончилось то сражение? Разгромом дивизии Репнина и конницы фон дер Гольца, а Шереметеву и Меншикову удалось спастись тогда только поспешной ретирадой. Так пойдемте сейчас вперед, сир, и разгромим за пару часов и царя, и Шереметева, и Меншикова. Ручаюсь, завтра мы уже будем пировать в шатрах царя Петра! Вспомните, ведь у нас те же войска, что многократно били и русских, и саксонцев, и поляков, и датчан. Ну а пороху, хотя бы и на одну баталию, у нас хватит. Не так ли, Гилленкрок?
Генерал-квартирмейстер согласно склонил голову:
— Пороха, если не штурмовать боле Полтаву, на одну баталию и впрямь хватит.
— Согласен! — с видимым облегчением наклонил король голову. — Общее командование примете вы, Реншильд, пехотой будет командовать Левенгаупт, конницей — генерал Крейд. Готовьтесь к крепкой баталии!
Но хотя Карл и распорядился готовиться к генеральному сражению, тревога не покидала его. И мучился он бессонницей не столько из-за раны (физическую боль он переносил легко и даже не застонал, пока ему удаляли пулю), сколько из-за тревожного предчувствия. Король не хуже Гилленкрока знал, что войска измучены долгим походом, обескровлены штурмами Веприка и Полтавы, не имеют в достатке ни провианта, ни амуниции, ни боеприпасов. Солдаты сами отливают пули из кусков железа, даже многие офицеры ходят в лаптях и опорках, каждого третьего мучит кровавый понос — в лагере не хватает хлеба, а шведы не запорожцы: не привыкли питаться одним мясом, которого сейчас в изобилии. И все же эти солдаты пошли бы за ним по-прежнему в огонь и воду, будь он на коне, впереди всех. Но эта проклятая рана нарушила все его планы. А Реншильд? На что способен этот старый осел, кроме лобовой атаки? В сражении же с русскими нужны расчет и хитрость. Иначе они ускользнут, как уже ускользнули раз под Гродно, другой раз под Головчино. А при нынешнем положении шведов обязательно нужда полная, а не частичная виктория. Правда, есть еще один выход. Его нынешним вечером и предложили королю граф Пипер и этот негодник Кл инк ос трем. Вошли в шатер и напомнили о последних мирных предложениях царя Петра, сделанных через шведских врачей, ездивших в Воронеж за лекарствами для шведских раненых.
Против всякого ожидания царь сам распорядился бесплатно передать шведам все нужные лекарства, а затем пригласил врачей к себе и передал через шу мирные препозиции. Снова Петр был готов возвернуть шведам и Нарву, и Дерпт, и Мариенбург. Себе он хотел оставить только земли «отич и дедич»: Ижорскую землю и Карельский перешеек.
— В конце концов, почему и не уступить царю невские болота! — напрямик сказал королю этот наглец Клинкострем. — Исторически — это русские земли — Водская пятина Господина Великого Новгорода.
— А вы что на это скажете, Пипер? — Голос Карла задрожал от злости.
Но обычно такой воинственный канцлер на сей раз тоже склонил голову и промямлил:
— Клинкострем прав, ваше величество! И потом, царь Петр готов заплатить за Ингрию контрибуцию. Почему и не оставить им эти болота?
— Но ведь на этих болотах царь соорудил свою новую столицу — Санкт-Петербург! — Голос короля достиг наивысшего накала.
Пипер, как опытный царедворец, это уловил и промолчал, но Клинкострем по-прежнему ломил свое:
— Что ж, Петербург?! Думаю, для нашей большой торговли в том и есть прямая выгода! У русских будет хотя бы один порт на Балтике, и мы прямо через море будем получать из России хлеб и меха. Если мы приложим к мирному договору хорошее торговое соглашение, то можем взять в свои руки всю морскую торговлю из Петербурга. Ведь в Швеции без дела сейчас стоит восемьсот торговых судов, а у русских нет пока на Балтике ни одного купеческого судна. И так же как мы стали главным торговым посредником в польской торговле через Данциг, так мы можем стать главным посредником и в русской торговле через Петербург! — Клинкострем спокойно оглядел лица Карла и графа Пипера. Как ученый секретарь, он верил в силу ученых доводов.
«Он слишком долго жил в Стокгольме и забыл норов нашего короля, мой бедный Клинкострем», — подумал граф Пипер, глядя исподлобья, как вытягивается и бледнеет лицо короля.
— Земли «отич и дедич», «владения Господина Великого Новгорода»?! — все это чушь собачья, Клинкострем! — взорвался король. — Я знаю одно: эти земли завоевал мой великий предок — король Густав Адольф! Слышали о таком? И я не отдам эти земли никакому дьяволу иль черту ни за какие деньги. Да и зачем мне деньги? Пипер вот не хуже меня знает, что у меня в обозе болтаются шесть миллионов талеров, собранных с Саксонии. И еще больше я возьму сейчас, когда после победы войду в Москву. Там, в Москве, я верну себе и Нарву, и Дерпт, и Нотебург, и Ингрию с этим прыщом — Санкт-Петербургом! Ступайте же господа и думайте о нашей скорой победе, а не о позорном мире! — так выгнал он вечор из своей палатки двух нежеланных миротворцев.
«Но выгнать-то легко, а вот как добиться победы? Король даже застонал от всех этих переживаний. Тотчас у постели возник дежурный лейб-медик. Карл недовольно посмотрел на врача, хмуро буркнул: «Не в ране дело!» — и приказал позвать знаменитого знатока саг Гутмана. До самого утра король слушал сагу о славном викинге Рольфе Гетрегсоне, который одолел новгородского волшебника волхва на острове Ретузари, после чего покорил и русскую и датскую земли.
* * *
Утром 26 июня в царский шатер без доклада вошли встревоженные Шереметев и Меншиков (оба имели на это царское соизволение).
Петр уже облился по своему обыкновению холодной водой, денщик Васька ловко сбрил щетину с его лица, и, как никогда, государь чувствовал себя сильным, уверенным, помолодевшим. Все ночные страхи и сомнения улетучились после того, как принято было им решение о постройке редутов.
Ему сначала показалось, что и у его генералов родилась та же мысль, и он даже порадовался за своих полководцев, но оказалось, что генералы прибыли совсем с другой новиной: этой ночью исчез унтер-офицер гвардейского Семеновского полка по фамилии Немчин. Хватались его на утренней перекличке, затем нашли двух солдат, которые видели, как вышел тот унтер вечером к Яковицкому лесу. Солдатам он крикнул, что идет подышать свежим воздухом.
— Не иначе как к шведу перебежал сей любитель прохлады! — насмешливо заметил Меншиков. Дело касалось пехоты, которой ведал фельдмаршал, и Александр Данилович стоял как бы в стороне.
Вызвали Михайлу Голицына, как командира Семеновского полка. Спросили: «О многом ли ведает сей Немчин?»
Князь Михайло, крайне сконфуженный тем, что так опозорен его славный полк, признал честно, что ведает тот Немчин немало: во-первых, унтер наверное знал, что государь порешил дать генеральную баталию 29 июня, в день своих именин, во-вторых, Немчин слышал, конечно, как и все в гвардии слышали, что к русским идет сильная подмога — многотысячная калмыцкая орда; в-третьих, перебежчик знал, что рядом с Семеновским полком стоит полк новобранцев, еще не получивших мундирное платье и одетых в серые мужицкие сермяги.
Петр внимательно выслушал командира семеновцев и порешил быстро и решительно:
— Чаю, получив известие о подходе калмыков, швед атакует нас ежели не сегодня, то завтра! И, скорее всего, атакует ночью или на ранней заре, в расчете на обычный ночной беспорядок.
— Поступит, как и под Головчином? — вырвалось у фельдмаршала.
— Так, Борис Петрович! Но дабы не бежать в одних подштанниках, как бежала дивизия Репнина под Головчином, надобно держать с этого часа половину войска под ружьем. Окромя того, мы господам шведам на подходе некий сюрприз уготовим. — И Петр показал на боевую карту, на коей был отражен его ночной замысел.
— Шесть редутов поперек лесной прогалины и четыре к ним в ряд волнорезом…
— И разобьется та шведская волна у волнореза и редутов на отдельные ручейки!.. — сразу ухватил замысел Петра князь Михайло.
— Верно понял, камрад! — Петр был так доволен сообразительностью младшего Голицына, что даже простил ему побег Немчина.
— Мин херц, даже у дюка Мальборо и славного принца Евгения Савойского не было николи такой полевой фортификации! — разразился льстивыми похвалами и друг любезный Данилыч.
— Замысел великий, но успеем ли те редуты соорудить? — осторожничал, как всегда, Шереметев.
— Мы тотчас с Данилычем на ту лесную прогалину отправимся и место для редутов сами выберем. Ты же, Борис Петрович, поспешай немедля: пришли тысяч пять солдат с лопатами, думаю, к вечеру те земляные работы и закончим! — распорядился Петр.
— А как же с сермяжным полком быть? — смущенно напомнил Голицын.
Петр фыркнул:
— В сем деле самое умное — воинский машкерад! Распорядись, Борис Петрович, сермяжному полку поменяться платьем с новгородцами. Новгородский полк половину Европы прошел: бился со шведом и в Польше, и в Силезии, и в Германии. Солдаты там все один к одному, как каленые ядра. Шведы наверняка попытаются сломить сермяги и порвать там нашу линию, а вместо зеленых новобранцев нарвутся на ветеранов!
— Думают поцеловать молодку, а встретят усы солдата! — рассмеялся светлейший. — Здорово ты придумал, государь!
Петр и сам был доволен, что придумал сей машкерад. Но виду не показал — надобно было спешить строить полевые редуты.
Система полевой фортификации, созданная Петром I на поле Полтавской баталии, и впрямь была новиной для европейской тактики. Даже после наполеоновских войн французский военный теоретик Роканкур писал о Полтаве: «Следует отметить в этом сражении новую тактическую и фортификационную комбинацию. Это именно способом, до тех пор не употреблявшимся, хотя одинаково удобным для наступления и обороны, была уничтожена вся армия авантюриста Карла XII».
И Роканкур знал, что говорил, потому как Шевардинский редут, Багратионовы флеши и батарея Раевского при Бородине, на которых была перемолота в 1812 году половина наполеоновской армии, прямо восходили к полтавским редутам. Ведь Кутузов, проходя курс фортификации в военно-инженерном корпусе, прямо учился на опыте Петра Великого. А Петр был не только прирожденным корабелом, но и передовым фортификатором. Опыт искусного фортификатора он приобрел не только сооружая новые крепости — Северодвинскую, Петропавловскую, Кронштадтскую, — но и беря крепости неприятельские: Азов, Нотебург, Ниеншанц, Дерпт, Нарву.
— Встанешь за сими редутами со всеми 17-ю драгунскими полками, — наказывал Петр Меншикову после того, как они объездили всю прогалину меж Яковицким и Будищенским лесом и учредили редуты. — В редутах установим по батарее пушек, а гарнизоном в них посадим гренадер Ангустова. Чаю, вперед швед пустит рейтар, и те попытаются прорваться меж укреплений. Здесь ты их и встретишь со своими драгунами, как бы второй линией. Токмо смотри, друг любезный, не зарывайся. А как пойдет вперед у шведов пехота, отходи к третьей линии, к ретраншементу, и встань там на флангах.
Так Петр строил под Полтавой русскую оборону в глубину, намного предвосхищая в сем не только свой XVIII, но и век XIX.
Давая Полтавскую баталию, Петр конечно же помнил нарвскую неудачу, где русская армия была построена в одну тоненькую линий длиной в семь верст. Помнил он и опыт первых викторий при Добром и Лесной, убедивших его, что русское войско лучше бьется в лесной местности: русский мужик веками был приучен считать леса своими природными крепостями.
Сравнивая русскую и шведскую армии, один из лучших полководцев Франции Мориц Саксонский, младший современник Петра I, писал в своей работе «Мои мечтания»: «Шведы никогда не спрашивали, сколько русских, но только — где они? Царь Петр, величайший человек своего века, противодействовал с постоянством, ровным величию его гения, неудачам этой войны и не переставал давать сражения, дабы дать боевую опытность своим войскам». Он знал, что «шведы пылки, хорошо дисциплинированны, хорошо обучены и искусны…» Сделать бесполезными эти преимущества Петр I, по мнению Морица Саксонского, сумел, соорудив вдоль фронта пехоты несколько редутов с глубокими рвами, которые он снабдил пехотою и усилил палисадами. Чтобы атаковать эти редуты, шведы должны были разорвать «ярой. Понести потери, ослабеть и прийти в беспорядок, после чего их можно атаковать. Добавим, что, сооружая свой знаменитый волнорез, Петр действовал, хорошо изучив своего противника — он ведал не только о горячности Карла XII, но и о силе первой атаки шведов. Армия Карла XII состояла из ветеранов, безжалостных в рубке, и в то же время отличалась такой выучкой и спайкой, что могла не растеряться и в ночном бою. Она действовала как хорошо заведенный механизм, и сорвать ее атаку могла Лишь такая неожиданность, как линия укрепленных редутов. Напротив, в русской армии было много новобранцев, и хотя Петр и старался приучить их к стойкости, давая частные баталии и штурмуя в Прибалтике крепость за крепостью, но опыта рекрутам еще не хватало. Правда, и солдаты ведали, что Петр сам стоит в первых рядах, и знали его заботу о простом солдате. Всем было известно, к примеру, что царь прожил пару месяцев на солдатском рационе, после чего определил давать солдату каждый день буханку хлеба, два фунта мяса, две чарки юна и кружку пива. Кроме того, на месяц солдат получал два фунта соли, муку и полтора гарнца круп, а на квартирах ему давался сервис: уксус, дрова, свечи, постель. Ежегодно солдату выдавалось и денежное довольствие в шесть рублей, если учесть, что на шесть рублей тогда можно было купить добрую лошадь, то солдат был далеко не самым обделенным человеком в России. По петровскому уставу офицеры должны были смотреть на своих солдат, как родители смотрят на своих детей, и с отцовской попечительностью заботиться о нуждах солдата.
Но и солдат был обязан в учении быть смирным, от пороков удерживаться, в постое хозяев не обижать, стоя в карауле, мушкеты из рук не выпускать и на землю не класть и в руки своему брату солдату и иным посторонним не давать, хотя бы сам генерал иль полковник стали мушкеты просить. Была и жестокая мера: «Кто с караула уйдет перед неприятелем, тому смертная казнь». Но тому же наказанию подлежали и струсившие офицеры. Самым тяжким наказанием для солдат было то, что они, как и офицеры, обязаны были служить «вечно». Но с годами и солдат ждал гарнизонный полк, где они могли жениться и получать даже добавочное жалованье на жену.
Конечно, служба в армии в петровское время была особенно тяжелой из-за Северной войны, затянувшейся на 21 год. Здесь в баталиях и походах солдаты гибли тысячами. Но гибли и офицеры. В офицерах была вечная нехватка, и оттого брали наемников. Но уже к Полтаве, когда офицеров из дворян не хватало на добрую треть, Петр все чаще брал в офицеры и выходцев из солдат и сержантов. В своем регламенте о рангах он закрепил это правило, записав: «…воинским чинам, которые дослужатся до обер-офицерства не из дворян, то когда кто получит вышеписаный чин, оный суть дворянин, как и его дети, которые родятся в обер-офицерстве…» Те же выходцы из солдат, которые получали младшие офицерские чины, получали личное дворянство и стремились отличиться, чтобы стать старшими офицерами. Словом, про петровскую армию времен Северной войны можно было говорить то же, что говаривали потом про армию Наполеона: в сумке каждого лежал ежели и не маршальский жезл, то офицерский патент. И не удивительно, что младшие офицеры поддерживали все Начинания Петра. И когда пишут, что вот-Де Петра в его делах поддерживали только «птенцы гнезда Петрова», то ошибаются. Петра I поддерживала вся его молодая армия и флот.
Конечно же создатель новой армии был ее наставником, но и сам в то же время крепко доверял своим молодым офицерам, прошедшим школу войны. Отсюда и его наставления, что «устава не надобно держаться, яко слепой стены, а поступать по обстоятельствам».
Перед Полтавой царь счел нужным объехать все полки, понимая, что простые солдаты и офицеры в конечном счете и решат поход баталии. Боевой дух войска — залог виктории, и Петр с радостью убедился, что войска уже не боятся неприятеля, как боялись его под первой Нарвой. Когда Петр, выступая перед офицерами, призвал твердо постоять за Отечество от имени всей гвардии, ее командующий генерал-лейтенант Михайло Голицын ответил твердо: «Ваше царское величество изволил труд наш, и верность, и храбрость добрых солдат видеть на Левенгауптской баталии, а ныне войско то же и мы те же и уповаем таков же иметь подвиг!»
В то время как Петр строил редуты и вдохновлял офицеров и солдат, Карл XII принимал посланцев крымского хана.
— Мой хан, Девлет-Гирей, шлет тебе пожелание скорой победы над московитами, о великий король! — Гололобый начальник ханской гвардии — косая сажень в плечах — низко склонился перед сидевшим в удобном кресле королем и протянул ему подарок Девлет-Гирея — острую саблю с клинком из закаленной дамасской стали.
Окружение короля было самым живописным: по левую руку стояли фельдмаршал Реншильд и генералы, по правую — Мазепа в парадном польском наряде и полупьяный с утра кошевой атаман запорожцев Гордиенко в широченных турецких шароварах.
За креслами же, нашептывая королю советы, стояли канцлер Швеции граф Пипер и первый камергер короля Цедергельм.
Карл уже давно знал, что в Стамбуле его союзники-французы прилагают немалые усилия, дабы втянуть Османскую империю в войну с Россией. Посол Людовика XIV маркиз Дезальер немало преуспел в этом начинании. И среди первых успехов маркиза были великие перемены, произошедшие в Крыму. На престол в Бахчисарае, по повелению султана Ахмеда, недавно был посажен, вместо своего брата, воинственный Девлет-Гирей, сразу начавший готовить поход на Москву. Весной были усилены также турецкие гарнизоны в Бендерах, Очакове и Керчи, а за Дунаем, в Румелии стало собираться в поход османское войско. Все, казалось, говорило о скором выступлении против русских могущественной Османской империи и ее вассалов.
— Где ты оставил хана? — спросил Карл нервным, срывающимся после бессонной ночи голосом.
— Моего повелителя я оставил у Перекопа, но думаю, что сейчас орда стоит в низовьях Днепра. Девлет-Гирей только ждет фирмана султана с разрешением соединить вашу конницу с твоей славной армией, король. Скоро вместе будет громить московитов!
— А сколько войска у твоего хана? — осторожно спросил граф Пипер.
— Сто тысяч отборных конников! — высокомерно ответил татарин. И добавил: — После твоей победы, о великий король, мой хан соединится с тобой даже и без султанского фирмана! И тогда, — тут ноздри у татарина хищно затрепетали, — мы вместе пойдем на Москву. Там нас ждет богатый ясырь и добрая нажива! — Глаза ханского посланника заблестели, словно он видел уже, как гонит на рынок рабов в Кафе молоденьких русских и украинских девушек и юношей, как горят украинские и русские города и села, сколько добра возьмут его конники в богатых монастырях и церквах. Уже сейчас, по пути к Полтаве, ханский посланец не выдержал, и по его приказу конвой разграбил несколько украинских хуторов. А какое богатство поджидает в Москве? — татарин даже прищелкнул языком от восхищения и подумал: «А ведь для того нужна самая малость — победа шведского короля над московитами здесь, под Полтавой. Тогда русский щит будет сломлен и по Муравскому шляху на Москву помчится стотысячная орда. Поняли это и Карл, и граф Пипер, и Мазепа.
— Крымцы — это шакалы, которые всегда идут за львом и подбирают остатки добычи! Но после твоей победы ты легко спустишь на Москву их орду. Чтобы грабить, они не будут ждать никакого фирмана султана! — услужливо разъяснил Мазепа после ухода ханского посланца. — Извечные привычки крымских татар.
— Но ведь они разграбят по пути и твою Украину! — заметил король.
— От судьбы не уйдешь! — Мазепа хладнокровно развел руками. — Впрочем, думаю, татары на моей разоренной войной земле не задержатся. Впереди их ждет Москва!
Вслед за ханским посланцем на прием к королю пожаловал волошский полковник Сандул. Отряды легкоконных волохов Карл XII нанял еще в Саксонии, переманив их за хорошие деньги из войска короля Августа. Правда, от волохов в баталиях было мало толку, зато они хороши были в преследовании неприятеля и разведке. Потешу полковник Сандул и был отправлен Карлом к сераскеру Бендер — коменданту мощной турецкой фортеции на Днестре.
Степными дорогами Сандул сумел обойти русские разъезды и выйти к Бендерам, где доставил письмо короля к султану Ахмеду. Сераскер Юсуп-паша тотчас переслал письмо короля в Стамбул и ответ оттуда не замедлил прийти. Великий везир сообщил королю, что султан Ахмед уже сел на коня, что в Румелии собирается великое войско, командовать которым назначен Исмаил-паша, давний и известный ненавистник России.
— На словах сераскер Юсуп-паша просил передать вашему величеству, что в Очаков, Кафу и Керчь морем прибыли большие отряды янычар и что весь турецкий флот, должный плыть к Египту, ныне переведен в Черное море. Сераскер желает вам, сир, скорой победы над московитами! — полковник почтительно склонил голову.
— Итак, Пипер, вот плоды твоей дипломатии. Король Станислав поджидает моей победы в Варшаве, султан Ахмед — в Стамбуле, а хан Девлет-Гирей кочует где-то в причерноморских степях! И заметьте, никто не подаст нам скорой поддержки без нашей победы! — раздраженно выговаривал Карл своему канцлеру после того, как остался в кругу ближайших советников.
— Что ж, если им так нужна наша победа, сир, мы завтра принесем им ее на блюдечке! — беспечно заметил Реншильд.
Среди шведских генералов он один, пожалуй, не сомневался в успехе. Впрочем, в глубине души верил в неминуемую победу и сам король, и потому отдал наконец приказ:
— Двиньтесь на русских этой же ночью, Реншильд. Я не могу ждать подхода к русским калмыков Аюк-хана с их арканами-удавками. Думаю, перебежчик не врал, когда говорил, что царь Петр поджидает подхода калмыцкой орды. Пойдете четырьмя конными и шестью пехотными колоннами. Ударите внезапно, на рассвете. Крейц поведет рейтар. А вы, Левенгаупт, попытайтесь сразу же вломиться в левый фас русского ретраншемента. Русские поставили лагерь над крутым откосом — вот и сбросьте варваров под откос, в реку. Желаю успеха, господа!
На этом совет и завершился. Ни король, ни его генералы не провели никакой новой рекогносцировки русской позиции и даже не знали, что на поле, меж Яковицким и Будищенским лесом шведов поджидал волнорез из десяти редутов.
— А шведским солдатам перед боем даже не дали вечерней похлебки. К чему кормить войско, если и король, и Реншильд решительно заявили генералам: «Завтра мы будем обедать в шатрах у московского царя. Нет нужды заботиться о продовольствии для солдат, в московском обозе всего припасено для нас вдоволь!» Впрочем, шведскую армию не кормили и перед первой Нарвой, и ничего, солдатах дрались только злее.
Новоявленного ротмистра Петухова Меншиков не отправил обратно в Полк, а взял себе вторым адъютантом. Светлейший после викторий под Лесной, Ромнами и Гадячем испытывал к своему «петушку» немалое доверие: у ротмистра был острый глаз и хороший слух. Вот и сейчас Петухов был послан с несколькими драгунами в дальний дозор, поближе к шведскому лагерю. Нужно было сладить за всеми передвижениями шведов и в случае наступления шведской армии сразу дать знать Меншикову.
Оставив коноводов в Яновицком лесу, Петухов и сержант Демид из невских драгун, пользуясь темнотой, пробежали заросшее сорняками поле (поля под Полтавой были не засеяны, так как всех мужиков из окрестных хуторов шведы согнали рыть апроши под крепостью) и сразу натолкнулись на шведский разъезд. И здесь ясно увидели, что все шведское войско уже выступило из лагеря и стоит прямо в ковыльной степи. Роман с тем известием тотчас отослал к Меншикову Демида, а сам продолжал наблюдать.
Ближе к полуночи среди, шведских полков раздались дружные приветственные крики. Это объезжал свою армию Карл XII. Носилки короля подвесили меж двух лошадей, и король обращался с них к солдатам с бодрым напутствием: напоминал им о нарвской победе, славных викториях в Польше и Саксонии.
Полная взошедшая луна освещала ковыльное поле. Ночь была ясная, звездная.
— В такую ночь можно атаковать неприятеля и пораньше и застать русских врасплох! — решил король. Затем снова оглядел свое обтрепанное войско и крикнул с прежним задором: — Солдаты! У нас мало хлеба, совсем нет вина, наши мундиры истрепались, ботфорты и башмаки износились. Русские обозы ломятся от всех этих запасов. Пойдем и заберем все это у московитов! — Приветственные вопли были ответом своему королю. Шведское войско давно привыкло жить за счет разграбления чужих земель и обозов.
— Чего они там орут, господин ротмистр? — Молоденький корнет из рейб-регимента светлейшего, увязавшийся в поиск, выглянул из канавки под кустом, где укрывался вместе с Петуховым.
— Тише ты, дурак, это тебе не пивной шинок! — ротмистр пригнул воробышка, и вовремя: мимо проехал разъезд немецких рейтар — наемников из регимента принца Максимилиана Вюртембергского.
— Король обещает в русском обозе вино и девок, Иоганн! — Рейтар крепко выругался.
— Что ж, до сих пор король Карл всегда исполнял свои обещания! Нас ведет сам бог Марс, а перед богом войны развяжет пояс любая Венера! — весело расхохотался его напарник.
Вслед за рейтарами по дороге прогрохотали шведские орудия.
— Одно, другое, третье, четвертое… — считал ротмистр. Но затем все стихло.
— Где же у шведов остальные пушки? — удивился Петухов, ведавший, что на шведских батареях под Полтавой более тридцати орудий. Но он не мог знать, что Карл XII, как истый викинг, боле всего полагался не на артиллерию, а на рукопашный бой и стремительный порыв своих железных рейтар. К тому же надобно было еще после виктории брать непокорную Полтаву, для чего были потребны и тяжелые пушки, и ядра, и порох.
Вот почему король взял на баталию всего четыре орудия из сорока. Так излишняя самоуверенность лишает разума! Остальные пушки король распорядился оставить в лагере под защитой двух тысяч шведов и восьми тысяч запорожцев и мазепинцев (там же, в своем шатре, остался и Мазепа, сказавшийся перед баталией больным).
Все же о выходе на позиции шведской батареи Петухов решил сразу доложить Меншикову и послал передать о том корнета-воробышка. Тот бесшумно выскользнул из кустов и растворился в темноте ночи.
В шведском стане настала тем временем зловещая тишина, изредка нарушаемая криками часовых.
Тысячи шведских солдат спали, повалившись на потрескавшуюся от жары и пропахшую ковылем и полынью чужую землю. Те, кто не мог уснуть, собирались кучками, вспоминали далекую Швецию, где сейчас стоят белые ночи и не дует испепеляющий все живое ветер-крымчак. Только самому королю Карлу и нравился этот знойный ветер: он напоминал ему, что из Крыма идет стотысячная ханская орда, которую король после скорой виктории спустит на Москву, как острую стрелу из лука!
«Атакует швед иль нет? — размышлял в это время ротмистр, глядя на редкие тревожные огни шведского стана. — Пушек они боле не подвозят, но и с поля не уходят. Нет, пойдут в атаку этой же ночью, господа шведы, непременно пойдут!» И словно подтверждая его мысли, над шведским станом около двух часов ночи прозвучала звонкая команда. По той команде разом поднялись все полки, стали строиться пешие и конные колонны.
— Вот оно, решилось — поднялись шведы! — И Петухов выскочил из кустов, не скрываясь боле, помчался через поле в лес к коноводам: пора было сообщить светлейшему о скорой атаке неприятеля.
— Господин генерал! Идут! — выкрикнул он, издали узнав Меншикова по его громкому, по-кавалерийски раскатистому голосу. Один Александр Данилович мог так властно говорить перед молчаливым строем драгунских полков.
— На начинающего вся напасть! — сердито буркнул в ответ не Меншиков, а долговязый всадник, нескладно, по-пехотному восседавший на огромной кобыле. Ротмистр понял, что в темноте не различил даря.
— Ну, Данилыч, с богом! — Петр перекрестил своего любимца и добавил с сердцем: — Да смотри, особливо не зарывайся! Не угоди в шведский калкан! — Не дослушав ответ Меншикова, царь завернул коня и затрусил рысцой к ретраншементу, где на валу была построена уже пехота Шереметева. Этой ночью почти все русское войско не спало — стояли в строю, поджидая ночной шведской атаки.
— Молодец, петушок! После виктории — серебряная чарка за поиск! — Александр Данилович дружески потрепал Петухова по шее. Судя по всему, в виктории светлейший не сомневался. Ну а чарка-то была еще старомосковская награда за успешную разведку.
И в этот миг все услышали приближающийся гул. Закованные в латы, шведские рейтары мчались так, как летали по полям Европы уже целое столетие, со времен Густава Адольфа. Кровь викингов и фанатичная протестантская вера создали непобедимую шведскую конницу. Всем неприятелям было ведомо: в первую атаку тяжелая шведская кавалерия бросалась так, что сметала все на своем пути. В атаку шли железные рейтары, чьи лица были покрыты страшными шрамами длящейся уже девятый год великой войны. Казалось, этот могучий вал сокрушит любого неприятеля.
Но на сей раз слепое бешенство викингов разбилось о петровскую фортификацию. Внезапно выросшие редуты, словно волнорезом, разрезали могучий вал шведской конницы. С редутов картечью ударили пушки, а русские стрелки взяли прорвавшиеся между редутами полки рейтар под фланговый перекрестный огонь. И все же рейтары прошли редуты и здесь были встречены еще одной русской новиной: конной артиллерией. Сотни рейтар упали под градом картечи. Но такова была ярость первой атаки, что шведы прошли и сквозь картечный огонь. В предутреннем тумане явившиеся из поймы Ворсклы мчащиеся в атаку рейтары казались зловещими великанами.
В этот момент хрипло рявкнул голос светлейшего:
— Драгуны! Так их мать… В палаши!
Протрубили атаку серебряные горны, и дрогнула полтавская земля: семнадцать драгунских полков Меншикова с пригорка устремились навстречу шведам. Яростная рубка была недолгой, потому как ряды рейтар были уже расстроены огнем, а атака русских драгун летела сверху монолитной стеной. Шведы завернули коней, и пошла уже другая, веселая рубка в преследовании. Увлекшиеся погоней драгуны вырвались было за спину редутов. Но здесь их поджидали сомкнутые колонны шведской пехоты. Русских в упор встретили такие мощные залпы, что сотни лихих драгун свалились со своих коней. Упал и светлейший. Петухов подскакал к нему, когда Меншиков, чертыхаясь, вылезал из-под убитой лошади. Увидев ротмистра, он заорал: «Коня мне!» — петушок послушно отдал командующему своего Воронца. Через минуту Данилыч снова уже мчался перед фронтом своих драгун.
Новую атаку рейтар Петухов, оказавшийся спешившимся, наблюдал уже с вала одного из редутов, куда вскарабкался, чтобы не быть задавленным в кавалерийской рубке.
Здесь Роман нежданно угодил в дружеские объятья Луки Степановича Чирикова.
— Здорово, кавалерия! Давненько не виделись! Видел, видел, как ты спас светлейшего! — рокотал бас Луки Степановича. — А я вот со своими стрелками-белгородцами с вала шведов на выбор бью — целим боле в их офицеров.
— Как передовые-то редуты, держатся? — успел спросить Роман старого знакомца.
— Только что был у меня бригадир Айгустов. Говорит, первые два недостроенных редута шведская пехота взяла штурмом. Так что сейчас на нас пойдут штурмом. Мой редут и есть сейчас первый.
Солдаты-белгородцы дружно обстреливали скачущих назад шведских рейтар. Подобрав фузею убитого гренадера, выстрелил и Петухов — свалил шведского офицера. Лошадь у шведа была обучена — как вкопанная встала возле упавшего хозяина.
— Бери трофей, ротмистр! — крикнул ему Чириков и побежал к пушкам — на редут набегала шведская пехота. Ротмистр кошкой перемахнул через вал, схватил коня под уздцы. И тут услышал слабый стон. Он нагнулся над поверженным шведом и увидел бледное, совсем еще юное безусое лицо. Швед был в беспамятстве. Он поднял бессильное тело, перекинул его яко куль через коня и лихо вскочил в седло. К нему уже бежали шведские гренадеры.
— Доставил пленного офицера! — весело отрапортовал Петухов светлейшему, гарцующему перед строем выстроенных для новой атаки драгун.
— Вдругорядь сегодня отличился, петушок! Хвалю! — Данилыч сегодня был в ударе. — Извини только, братец, коня я тебе вернуть не могу. Подо мной уже и твоего убило! — И светлейший хохотнул с задором, как смеется человек, крепко уверенный в своих силах и везении.
— А тебе, петушок, хватит на сегодня судьбу испытывать! Отправляйся в тыл, к государю, с поручением: скажи, что мы и на редутах побьем шведа. Пусть токмо господин фельдмаршал Шереметев пехоту в помощь приведет. Не то кавалерия уже второй час одна в жестоком огне бьется! — Меншиков весело обернулся к офицерам своего штаба: — А Борис Петрович, почитаю, все еще в шатре утренний кофе пьет!
Офицеры штаба светлейшего расхохотались. Смеялись они дружески, как обычно посмеивались кавалеристы над пехотой, а сейчас особенно, от того, что чувствовали — быть их Данилычу за нынешние подвиги вторым российским фельдмаршалом и сравняться наконец с Шереметевым.
— Да, захвати с собой четырнадцать вражеских знамен и штандартов, отбитых моими драгунами, — добавил Мент шиков. — И не забудь и этого молодца с собой взять, рекомендую: Авраам Иванович Антонов — первым под Полтавой неприятельский стяг взял!
— А что с раненым-то делать? — тихо спросил Петухов.
Меншиков мельком взглянул на бледное лицо шведа, поморщился, словно от зубной боли:
— Сами сюда пожаловали, черти! А вообще жаль мальчишку! Доставь его к моему лекарю. Коль стонет — жить будет!
* * *
Странная временная тишина, установившаяся за первыми атаками шведских рейтар, так лихо отбитых драгунами Меншикова, объяснялась недоумением шведского командования: что же делать дале с этими редутами? Эти укрепления в подполье, перед главной позицией русских, противоречили всем правилам тогдашней военной науки. Но самое главное, редуты возникли нежданно, и у шведов для штурма оных не было ни тяжелых пушек, ни штурмовых лестниц. Вот почему Реншильд провел разведку на левом фланге у Яковицкого леса, а король сделал то же самое на правом фланге у Будищенского леса. Командующий же кавалерией генерал Крейц в пятый раз повел в атаку своих рейтар.
Когда Петухов подскакал к Петру, у редутов снова закипела кавалерийская схватка.
— Ты что, не видишь, что швед еще не двинул в атаку свою пехоту?! — Петр рассердился на петушка так, словно перед ним стоял сам Меншиков. — И сокрушить шведских гренадер могут только пушки с валов ретраншемента. Да ладно… — Петр сообразил, что разговаривает с младшим офицером, и махнул рукой: — Скачем сейчас же к светлейшему, по нему дубинка плачет.
Когда царь, разъяренный непослушанием Меншикова, примчался к редутам, Александр Данилович только что вернулся из сечи: одна щека его была поцарапана шведским палашом, треуголка сбита вместе с париком, так что на голове развевались природные кудри. Но Данилыч торжествовал — его драгуны снова отбили рейтар за редуты. Однако, увидев перекошенное в гневе лицо царя, светлейший побелел: судорога на лице Петра Алексеевича была пострашнее удара шведского палаша.
И в это время, к счастью для Меншикова, шведская армия стала делать странный и непонятный маневр: правая ее часть сдвоенными колоннами устремилась в обход редутов, вдоль опушки Будищенского леса, меж тем как две колонны продолжали упрямо атаковать поперечные редуты, отделявшие их от главных сил шведов.
Петр тотчас оценил этот выгодный для русских разрыв шведского строя и, подавив свой гнев, приказал светлейшему:
— Бери пять полков драгун и гони левое крыло шведов к Яковицкому лесу. Я сейчас тебе в подмогу пришлю гренадер Ренцеля! Боуру же вели немедля отходить к остальным драгунам на правое крыло ретраншемента! — И, завернув коня, Петр галопом помчался к пехоте.
* * *
Как это ни странно, но и в шведском штабе тоже не могли понять; почему отделились от, основных сил колонны Рооса и Шлиппенбаха. Король посылал адъютанта за адъютантом, дабы вернуть заблудших. Но отставшие колонны не заблудились в пороховом дыму. В шведской армии под Полтавой случилось наихудшее в бою несчастье: у нее оказалось сразу два командующих. Хотя Карл XII объявил, что командовать в баталии будет Реншильд, но так как сам он не остался в лагере, а последовал за войсками, то генералы и высшие офицеры по-прежнему обращались к королю как к своему настоящему командующему. Тем более что король отдавал приказы и распоряжения, словно не было Рейнгольда. Но ведь и Рейнгольд отдавал свои команды. Ничего, кроме беспорядка и сумятицы, это создать не могло.
Чтобы быть подале от королевской качалки, где сгрудился весь штаб, фельдмаршал ускакал на дальний фланг, где гренадеры Рооса штурмовали поперечные редуты. В пылу сражения ни Роос, ни Рейнгольд не разобрались, что первые два редута гренадеры Рооса успешно взяли лишь потому, что русские не успели их достроить. А теперь старый генерал упрямо штурмовал третий редут, где засели гренадеры Чирикова.
— Прикройте мой фланг рейтарами, и я возьму этот чертов редут! — пообещал он Рейнгольду. И тот своей властью послал на поддержку Рооса конницу Шлиппенбаха.
Так и случилось, что в то самое время, когда шведская армия, выполняя королевский маневр, уклонялась влево, эти две колонны шведов уклонились вправо, все еще штурмуя редуты.
У русских же, когда пять драгунских полков Меншикова и бригада Ренцеля устремились на колонны Рооса и Шлиппенбаха, Боур по приказу Петра стал отрываться от шведов и отводить остальную кавалерию на первый фланг главной позиции. Драгуны отходили на полном аллюре, и густая пыль, поднятая десятью тысячами лошадей, широким шлейфом поднялась к утреннему солнцу.
Командующий рейтарами генерал Крейц, как и рассчитывал Петр, принял отход Боура за бегство и устремился в погоню. Шведы мчались за русскими, поломав строй, и второе пыльное облако смешалось с первым. Русский ретраншемент весь скрылся в пыльной завесе. Под прикрытием этой завесы Левенгаупт, взяв пять пехотных полков, рассчитывал внезапной атакой вломиться в русский лагерь. Ему удалось подойти вплотную, на сто метров к ретраншементу, но здесь с валов по шведской пехоте ударили картечью тяжелые русские пушки.
Ежели Карл был лихой кавалерийский генерал-рубака и кавалерия стояла в его армии на первом месте, то Петр, равно относясь ко всем видам войск, все же имел особую ревность к артиллерии. И не потому даже, что воинскую службу он начал простым бомбардиром под Азовом, но в силу природной любви к огненным потехам. Огонь и вода! — вот две стихии Петра Великого.
Так или иначе, при нем бомбардирское искусство достигло самого высокого градуса, и русские пушки были куда звонче шведских; При Петре, помимо тяжелой осадной, выделилась тяжелая полевая артиллерия, а каждый полк заимел батарею полковых пушек, и даже у драгун появилась своя конная артиллерия.
И под Полтавой по взмаху шпаги петровского генерал-фельдцейхмейстера Брюса сто пушек в упор расстреляли картечью плотную колонну шведской пехоты.
Солдаты Левенгаупта, не выдержав картечи, сломали строй, рассыпались и побежали к Будищенскому лесу. Русская картечь задела и шведских рейтар, и те остановили свою погоню и тоже отошли к Будищенскому лесу, где был уже и король со всем своим штабом.
— Молодец, Яков Виллемович, добрая работа! — Петр на английский манер дружески пожал руку Брюса. Расцеловать не решился, все-таки Брюс потомок шотландских королей, еще обидится невзначай! Затем повернулся к Шереметеву и приказал: — Выводи, Борис Петрович, пехоту из лагеря — самое время строить войска, для генерального сражения.
Ежели следить за действиями Петра в великой Полтавской битве, то поражаешься прежде всего его умению выбрать нужный момент. В удачный срок были выстроены редуты, вовремя полки Меншикова устремились на отставшие шведские колонны, в спокойный час, когда битва как бы затихла, пока шведы перестраивались на лесной опушке, была введена из лагеря пехота и встала в строй. И за всем этим стояла воля Петра.
* * *
Под Полтавой свой звездный час был и у Меншикова. Он сам повел в атаку пять тысяч драгун, которые сразу смяли остатки конницы Шлиппенбаха и врубились в пехоту Рооса. Под Меншиковым убили третью лошадь, прострелили рубаху, во он, не останавливаясь, гнал и гнал шведов до Яковицкого леса. Роос не уступал своему противнику в ярости. Старый генерал сделал, казалось, невозможное: остановил и собрал своих бегущих гренадер на лесной опушке и встретил русских драгун таким жестоким огнем, что те вынуждены были остановиться.
— Скачи к Ренцелю, поторопи пехоту! — приказал Меншиков Петухову. Но Ренцель уже и сам был на подходе.
Пять батальонов русских гренадер молча бросились в штыки. И началась яростная резня в Яковицком лесу. Встретились отборные части: шведские и русские гренадеры. Ренцель сам бился в первом ряду. Мстили шведским мясникам-гренадерам, переколовшим когда-то штыками русских пленных под Фрауштадтом. И шведы дрогнули под натиском свежего русского войска и ударились в бегство. Только в шведском редуте под Полтавой Роос собрал кучку солдат и еще на какой-то миг задержал русских.
Эта задержка и спасла Мазепу. Увидев русских гренадер, выступающих из леса и выходящий им на подмогу полтавский гарнизон, старый гетман не раздумывал ни минуты. Куда девались его тяжкие хвори? Как молодой, он вскочил на коня и со своим конвоем, опережая всех беглецов, помчался к Переволочне, не забыв захватить припасенные заранее переметные сумы с немалой казной.
В отличие от Мазепы, граф Пипер до последней минуты не верил в сдачу шведского лагеря. Ведь здесь помимо двух батальонов шведской пехоты стояло восемь тысяч запорожцев и мазепинцев, хвастливо заверявших короля, что кто-кто, а они-то хорошо знают, як бить тех клятых москалей. Но, заслышав выстрелы в Яковицком лесу, вся эта толпа бросилась бежать в степи, где им ведомы были все тропы и потаенные родники. Запорожцы и не подумали умирать за Мазеру и шведского короля. Впереди всех мчался кошевой атаман Гордиенко, летел продавать свою саблю и казацкую честь новому хозяину — турецкому султану.
Пипер, Цедергельм и Клинкострем не могли бежать, пока не уничтожат секретную документацию. С трудом они разожгли костер. И вот запылала дипломатическая почта, тайная переписка, списки шведских шпигунов и агентов.
Меж тем пальба у редута стихла: раненый Роос, окруженный со всех сторон русскими, сдался с тремя сотнями солдат — все, что осталось от его колонны.
— Граф, они нас всех перебьют! — воскликнул перепуганный Цедергельм, показывая на ворвавшихся в лагерь разъяренных большими потерями русских гренадер.
— Лучше сдаться гарнизону Полтавы, там, по крайней мере, солдаты слушают своих офицеров! — решил Пипер и оглянулся: где же Клинкострем? Но тайный королевский посланец уже исчез — он не любил участвовать в капитуляциях. А через несколько минут перед героическим комендантом Полтавы полковником Келиным появились несколько штатских. Первый из них отрекомендовался через переводчика канцлером Швеции, графом Пипером. И первое, что услышал Келин от главы шведского правительства, было чистосердечное признание:
— В одной из фур в нашем лагере, герр комендант, лежит походная казна короля, миллионы рейхсталеров, собранных нами в Саксонии. Боюсь, как бы не разграбили! — Даже в плену граф Пипер оставался прилежным бухгалтером.
* * *
Хотя две левые колонны шведов были разгромлены и сам шведский лагерь находился уже в руках русских, главная схватка еще предстояла. Петр более всего опасался, что король, завидя многочисленность русских войск, не примет боя и завернет свою армию за Днепр. А там шведы смогут соединиться с королем Станиславом и корпусом Крассау, и снова начнется польская чехарда, в то самое время, когда на южных рубежах назревает война со всей Османской империей.
Вот отчего при построении выведенных из лагеря войск Петр, увидев, что русская линия намного длиннее шведской, немедля приказал отослать шесть драгунских полков Волконского к Решетиловке для коммуникации со стоящими там казаками гетмана Скоропадского.
Борис Петрович, важный, дородный, с Андреевской лентой через плечо, сердито засопел, услышав это распоряжение. Под Полтавой, конечно, не Шереметев, а сам государь вел войска, но ведь по царскому повелению командующим именовался он, фельдмаршал, и случись конфузил — ему первый стыд и позор! Вот отчего Шереметев, обычно не оспаривающий царские приказы, на сей раз возразил твердо:
— Государь, девять батальонов пехоты мы оставили в лагере, пять батальонов Ренцеля отослали к Полтаве, казаков Скоропадского держим у Решетиловки, а сейчас еще шесть драгунских полков выводим из баталии?! Негоже то, государь, негоже! — бубнил фельдмаршал с тем завидным упорством, коим издавна славился род Шереметевых. Говорили, что один из Шереметевых при Иване Грозном двадцать пять лет просидел в ханской темнице в городе мертвых Чуфут-Кале, ноне уронил свое посольское достоинство, не дал крымскому хану выкуп. Едино, о чем попросил стражу — переменить темницу, чтобы окна смотрели на север, на далекую Россию. Так что словечко «негоже» у Бориса Петровича звучало куда как весомо. Но и у Петра была уже счастливая вера, что судьба к нему сегодня милостива и виктория не за горами. Он ясно видел скорую победу и не боялся почитай наполовину разгромленного неприятеля.
— Борис Петрович! Да неужто не побьем шведа равным числом?! — отмел он укоры фельдмаршала.
Петра в этот день преисполняло ощущение той крепости и радостной мужской силы и отваги, которые в тридцать семь лет не похожи ни на мальчишеское «море по колено», ни на лисьи стратегические хитрости, поскольку в разгар мужского лета с силой соседствует глазомер, с отвагой — мудрость!
И потому не стал он слушать и поддержавшего фельдмаршала Репнина, жаждавшего усилить русскую линию.
— Эх, Аникита Иванович, Аникита Иванович! — Петр покачал головой. — Да не атаки шведской я боюсь, а их ретирады. Уйдут за Днепр, бегай за ними потом по Польше, меси киселя! — И приказал твердо: — Немедля отвести драгун Волконского к Решетиловке!
В подзорную трубу хорошо был виден шведский Муравейник у Будищенского леса, где шведы заново перестраивали свои ряды.
Можно было бы сейчас двинуться в атаку, но король, завидев наступление русских, мог просто начать ретираду, прикрывшись сильным арьергардом. И тогда бегай за ним и навязывай сам генеральную баталию. Нет, лучше снова проявить выдержку и подождать, пока по своей горячности король не утерпит и сам двинется против русских.
Петр опустил подзорную трубу и помчался вдоль строя армии. Останавливаясь у каждого полка, царь обращался одинаково и к офицерам и к солдатам. Для него все они были воины, которые грудью заслоняли Муравский шлях на Москву от шведов, татар и турецких янычар, которые не то что разорят, но и вытопчут всю Россию.
До Петра не было такого, чтобы московские цари обращались с призывом к строю своих войск, и Петр I и здесь был первопроходцем.
— Воины! — гремел голос Петра перед полками. — Вот пришел час, который решит судьбу Отечества! Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество! А о Петре ведайте, — здесь, как отметил Михайло Голицын, стоящий перед фронтом своих войск, голос у государя поднялся и дрогнул, — что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для блага вашего!
«Ура!» — крикнул князь Михайло. «Ура!» — дружно поддержали его семеновцы. А затем нарастающий этан крик прокатился по всем полкам: кричали новгородцы, бутырцы, ростовцы, Московский полк. Солдаты кричали весело и дружно, даже не потому, что до всех долетели слова Петра (многие, особенно стоящие во второй линии, удаленной от первой на ружейный выстрел, и не слышали его речи), но кричали уже потому, что видели: сам царь участвует в сражении, и это внушало крепкую веру в неминуемую викторию.
Эти дружные громкие приветствия, в свой черед, говорили Петру и его генералам, что солдаты в сей решающий час будут стоять стеной, а не побегут зайцами перед шведом, как это случалось с дивизиями Трубецкого и Головин на под первой Нарвой.
— А у Каролуса-то не хватило сил построить полки в две линии, государь! — Борис Петрович опустил подзорную трубу и облегченно улыбнулся. — Выходит, у шведов пехоты вдвое меньше, чем у нас. Русские-то полки построены в две линии — один батальон в затылок другому.
Действительно, Карлу и Реншильду для того, чтобы сравнять по фронту свою пехоту с русской, пришлось вытянуть свои полки в одну тонкую линию. Только в одном месте два полка шведов стояли друг за другом. И Петр, в свой черед осматривая неприятельские полки в подзорную трубу, сразу отметил исключение из правила.
— Чаю, нацелил швед свой кулак на наш сермяжный полк! — сказал он озабоченно.
— Вот и нарвется на ветеранов-новгородцев! — весело отозвался присутствовавший на том совете Голицын.
— Ветераны-то ветеранами, но ежели навалится швед двойной силою — может здесь и фронт прорвать! — ответил Петр и решил про себя: надобно в баталии самому приглядывать за атакой.
И в этот момент князь Михайло, снова взглянувший в сторону неприятеля, воскликнул:
— Государь, пошел швед в атаку!
Петр и Шереметев вскинули свои подзорные трубы и ясно увидели, как заколыхалась и двинулась вперед синяя волна шведской пехоты. На флангах, сдерживая пока коней, подравнивая фронт с пехотой, шли, поблескивая сталью кирас, шведские рейтары.
Шведы шли ровно, уверенно, и у Бориса Петровича тревожно екнуло сердце: что в том, что у него вдвое боле пехоты — под первой Нарвой у русских было ее боле в три раза, а все одно — вышла конфузил! Да что Нарва! Еще и года не минуло, как шведы под Головчином растрепали дивизию Репнина, можно сказать, на глазах всей русской армии.
До пригорка, на котором стоял Борис Петрович со всем штабом, стали долетать звуки флейт и гобоев — музыканты шли впереди всех шведских полков. А затем ударили барабаны, и под их тревожную дробь шведские гренадеры взяли ружья наперевес, а рейтары выхватили палаши из ножен.
Глядя на приближающуюся лавину шведских штыков, Борис Петрович с опаской обозрел ряды своего войска: не побежал ли кто?
Кому-кому, а фельдмаршалу хорошо было ведомо, что в русской армии каждый второй солдат — недавний рекрут. И не побегут ли они перед ветеранами Карла XII, которые за 9 лет войны били не только русских, но и датчан, и саксонцев, и поляков, невзирая на их число. Но нет, полки стояли твердо!
И в этот миг по сигналу Брюса ударили с валов ретраншемента тяжелые полевые пушки. Их поддержали полковые батареи, стоявшие за второй линией русской пехоты, С пригорка и Петру и фельдмаршалу хорошо было видно, как тяжелые ядра прорубали целые просеки в шведских рядах. Но шведы быстро смыкали ряды, выравнивали линию и упрямо шли в атаку под мерную дробь полковых барабанов. Казалось, ничто не может остановить надвигающийся вал шведской пехоты. Пушки Брюса били уже картечью, но шведы прошли и сквозь картечь. И в этот миг коротко и тревожно протрубили кавалерийские горны, и в атаку на всем аллюре помчались на флангах железные рейтары.
«Сомнут, ох сомнут наших!» — это чувство было не у одного Бориса Петровича, но и у командующего центром Аникиты Ивановича. Репнина, помнящего еще головчинскую конфузию, и у такого опытного вояки, как генерал Алларт, не сдержавшего своего восторга и бросившего своему адъютанту: «Как идут шведы, как идут!»
Действительно, шведская армия действовала как хорошо выверенный часовой механизм, заведенный крепкой пружиной, и ничто, казалось, не в силах было ее остановить.
Но вот на ходу раздался залп шведской пехоты, другой, третий, четвертый. Русские полки устояли и встретили шведов дружным ответным огнем. А с флангов навстречу рейтарам полетели рубиться драгуны Боура и подоспевшего из-под Полтавы Меншикова. Все поле окуталось пылью и пороховым дымом. Шведская пехота остановилась и отвечала залпом на залп. До штаба Шереметева долетали теперь стоны раненых, проклятия дерущихся, ржание обезумевших в толчее и сече тысяч коней. Густой дым прорезали молнии пушечных выстрелов.
— Командуй здесь, Борис Петрович! Я скачу к войскам! — Петр, как когда-то Дмитрий Донской на Куликовом поле, сам помчался в бой.
Очевидцы впоследствии скажут про Полтавскую битву: Шереметев и Репнин были в центре, Боур на правом фланге, Меншиков на левом. Петр был всюду. Он промчался меж первой и второй линии пехоты, ободряя солдат, уже добрый час ведущих огневой бой со шведскими гренадерами. Русская пехота отвечала залпом на залп, но стояла твердо. А русская картечь производила свои страшные опустошения в шведских рядах. Особенно сильный картечный огонь был на позиции, где стояла петровская гвардия: преображенцы и семеновцы недаром имели бомбардирскую роту. Наступавший супротив гвардии Кальмарский полк был перебит почти полностью. Такая же участь постигла и Упландский полк. Сюда, в самое пекло артиллерийского огня, король Карл и приказал нести свои носилки, чтобы воодушевить еще уцелевших солдат. Драбанты подняли королевские носилки и двинулись в адское пекло.
— Шведы, помните Нарву! — кричал король сквозь пороховой дым. В эту минуту синее пороховое облако прорезали молнии — с вала по сигналу Брюса ударили 32 тяжелых полевых орудия. Русское ядро смело кучку драбантов, носилки с королем упали. Правда, король тут же был поднят уцелевшими телохранителями и усажен на лошадь, любезно предоставленную послом короля Станислава Понятовским.
Но среди солдат, видевших, как упали носилки, мгновенно пролетел слух, что король убит. За кого же теперь сражаться? Ведь солдаты Карла XII, давно оторванные от своей родины, сражались, в сущности, не за Швецию, а за своего короля. Оттого солдаты тех полков, которые видели падение королевских носилок, первыми бежали с поля битвы. Завидев бегство Кальмарского и Упландского полков, Петр понял — швед дрогнул! Он снова примчался к Шереметеву и приказал немедля дать сигнал начать контратаку. И вот вся русская армия под барабанный бой и с распущенными знаменами двинулась навстречу расстроенной линии шведов. Холодно блистала щетина русских трехгранных штыков, выдержавших свое первое испытание в славный час Полтавы.
А Петр уже мчался к новгородцам, уловив чутьем подлинного полководца, что там будет сейчас решающая схватка.
* * *
Ударом против переодетых в мужицкие сермяги новгородцев руководил сам Реншильд. Именно здесь шведский фельдмаршал сдвоил шведскую линию, поставив в затылок к ниландцам королевскую гвардию.
— Атакуйте эти сермяги, граф, и вы увидите — они разбегутся как зайцы! — напутствовал Реншильд графа Торнстона, командира ниландцев.
Их атаку фельдмаршал поддержал огнем своей единственной батареи. Шведские артиллеристы быстро и дружно сняли орудия с передков, развернули, навели, и четыре шведские пушки плюнули картечью по первому батальону новгородцев. Десятки солдат упали на выжженную землю осенними опавшими листьями. Под прикрытием пушек ниландцы бросились в атаку как одержимые и дорвались до рукопашной. Но встретили их не зеленые рекруты, а старые знакомцы по Фрауштадту и Ильменау. Ниландцы не выдержали встречи с русским трехгранным штыком и откатились.
— В чем дело, граф? Отчего вы не могли опрокинуть это сиволапое мужичье? — подскакал к Торнстону разгневанный Реншильд.
Граф был сбит с коня, при падении получил контузию, но все же ответил связно:
— Это не новобранцы, фельдмаршал. Иных я узнал в лицо: они дрались со мною еще в горящем Рэнсдорфе! — Граф и в самом деле узнал полкового адъютанта новгородцев Петьку Удальцова, налетевшего сбоку и выбившего его из седла. Тот яростный взгляд граф Торнстон тотчас вспомнил — ведь он, спасаясь от этого русского медведя в Рэнсдорфе, прыгнул тогда в сточную канаву.
— Отодвиньте ваших ниландцев, граф! — прошипел Реншильд и приказал второй линии: — Гвардия, вперед!
Шведская батарея подкрепила приказ фельдмаршала тремя залпами. А на остатки первого батальона новгородцев двинулся самый блестящий трехбатальонный полк шведской армии — гвардия. Смыкая ряды, гвардейцы прошли сквозь картечи русской полевой и полковой артиллерии и, подойдя на дистанцию, произвели шестикратный залп. Русские слабо отвечали. Первый батальон новгородцев попятился, и шведская гвардия вломилась в русскую линию.
И в этот миг к полковому знамени новгородцев, которое стояло перед их второй линией, подскакал Петр. Он кинулся в самую гущу баталии, понимая, что ежели прорвут и вторую линию, то весь ход сражения может перемениться.
Великие полководцы умеют выбирать решительное место и решительный час в битве. Нашел и это место, и свой час под Полтавой и Петр, когда приказал поднять полковое знамя и повел в штыки второй батальон новгородцев. Рядом с ним скакали полковник Бартенев и Удальцов, а знамя держал в крепких руках Васька Увалень.
Конечно, Петр несказанно рисковал в сей миг. Великан, да еще верхом на лошади, он был прекрасной мишенью для шведских стрелков. И в него делились: одна пуля попала в седло, другая сбила шляпу, третья угодила в золотой крест, висевший у Петра на шее (крест тот был старинный, присланный еще византийской царевной Софьей Палеолог[33] в подарок Ивану III[34], и, по преданию, принадлежал когда-то римскому императору Константину Великому). Военные историки до сих пор спорят, стоило ли Петру так рисковать под Полтавой. Но Петр правильно соотнес в тот миг личную опасность для себя с той опасностью, которая грозит всей России. И так же, как Дмитрий Донской бился на Куликовом поле в первых рядах воинов, Петр бился под Полтавой, потому как победи шведы, Россию ждал бы великий раздор и великая смута.
Второй батальон новгородцев остановил шведскую гвардию. А князь Михайло бросил им во фланг второй батальон семеновцев и обратил гвардию в бегство. Впрочем, бегство шведов стало уже всеобщим. Вслед за Упландским и Кальмарским полком бежали рейтары Крейца, сбитые русскими драгунами. Видя, что кавалерия Меншикова и Боура заходит в тыл, ударились в бегство и остальные полки шведской пехоты. Из девяти тысяч шведов, павших под Полтавой, большая часть была перебита во время этого бегства. Общий поток беглецов захватил и главнокомандующего фельдмаршала Реншильда. Вместе с двумя тысячами солдат и офицеров он попал в плен.
Но сам король, словно забыв о своей ране, сумел доскакать до запасного лагеря, куда Гилленкрок уже успел стянуть из-под Полтавы всю артиллерию. К счастью для Карла XII, регулярные русские части преследовали шведов только до Будищенского леса. Ведь русское войско было истомлено не только битвой, но и бессонными ночами накануне нее. Посему Петр распорядился дать армии роздых. Но уже вечером, как только спал зной, вдогонку шведам была послана гвардейская пехота под началом Михайлы Голицына и драгуны Боура.
Переволочна
Историки обычно охотно останавливаются на славном пире Петра I после Полтавской виктории, некоторый были приглашены не только русские, но и шведские пленные генералы, но меньше уделяют внимания, как было организовано царем Петром I общее преследование разбитого неприятеля.
Петр I после своего знаменитого пира сохранил трезвую голову: и для преследования шведов создал, по сути, такой же летучий корволант, какой был при Лесной. Помимо драгун Боура, в корволант были включены гвардейские и конно-гренадерские полки (так называемая «конная пехота») под общей командой Голицына. И наличие в корволанте «конной пехоты» сыграло под Переволочной не меньшую роль, чем при Лесной. Это был тот костяк, опираясь на который десятитысячный русский корволант по приказу Голицына смело развернулся для последнего сражения с 16-тысячной шведской армией. Навряд ли на это решился бы Боур с одними драгунами.
Удачным оказалось и назначение командующим корволантом Михаилы Голицына — генерала отважного и быстрого, что он уже показал в сражениях при Доброй и Лесной. Именно ему и принадлежат главные лавры в осуществлении успешной операции под Переволочной, приведшей к ночной капитуляции шведской армии.
Впрочем, не ограничившись посылкой «конной пехоты» Голицына и драгун Боура, Петр I на другое утро высылает за ними своего рода резерв, под командой самого Меншикова. Уже одно это усиливает нажим русских на отступающих шведов, и если первоначально их отступление шло еще более или менее организованно, то под давлением севшего им на хвост русского корволанта отступление шведов все более убыстрялось и стало походить на настоящее бегство. Так, если в первую ночь шведы прошли только 30 верст, то на другой день, после того как они сожгли у Новых Сенжар весь тяжелый обоз и усадили часть пехоты, прежде всего раненых, на обозных лошадей, беглецы промчались до Кобеляк 70 верст.
Здесь Левенгаупт попытался было задержать русских, выставив против них 30 пушек, но шведская пехота отказалась прикрывать батареи и продолжала бегство. После совета с королем Левенгаупт приказал затопить пушки в местной речушке.
От Кобеляк шведы все еще могли перейти Ворсклу и уйти степью в Крым. Проводников — и запорожцев, и татар — у шведов было достаточно. Это и предлагал сделать Левенгаупт. Да и король знал, что в степях стоит уже крымский хан Девлет-Гирей, который только что прислал к Карлу XII дружественное посольство.
Несомненно, что, в отличие от очаковского паши, который не позволил шведам даже войти в крепость и тем обрек на уничтожение большую часть королевского эскорта, Девлет-Гирей, всегда слывший ненавистником России, выделил бы для поддержки отступавшей шведской армии и свою конницу, и провиант, и воду… Граница в степи между русскими и татарскими владениями была не размежевана, и хан всегда бы смог оправдаться перед Стамбулом за свою помощь шведам. Между тем перед командующим русским корволантом сразу встал бы уже не военный, а политический вопрос — сражаться или не сражаться с татарской конницей, ставшей между русскими и шведами?
Ни Голицын, ни даже сам Меншиков решить этот вопрос самостоятельно не смогли бы — решить его мог только царь. Но и Петр I, который не хотел войны с Османской империей, вряд ли пошел бы на это столкновение.
Словом, все, казалось, говорило шведам о том, что у Кобеляк надобно переходить Ворсклу и уходить в Крым. Так, кстати, советовал поступить королю и Левенгаупт. Однако король упрямо гнал армию к Переволочив. Еще с дороги он выслал вперед отряд подполковника Сильфергельма наладить там переправу через Днепр. Туда же, к Переволочив, опережая короля, мчался и Мазепа со своим конвоем. Ему, как предателю, угрожала лютая казнь, и Мазепа первым, конечно, явился к разоренной переправе.
Что касается Мазепы, то здесь все ясно: он уходил от русских кратчайшим и привычным для казаков путем — у Переволочны была традиционная запорожская переправа. Небольшому конвою Мазепы переправиться можно было даже у разоренной Переволочны: ведь казаки умели переправляться через реку, держась за хвосты своих лошадей, ну а для старого гетмана была припрятана пара челнов.
Но если у Мазепы был лишь небольшой конный конвой и уйти с ним было легко, то у короля была на руках пусть и разбитая, но армия, не только с конными, но и с пехотными полками и батарейцами. Здесь все обстояло гораздо сложнее, и представляется, что Карл XII взял направление на Переволочну, а не на Крым по двум причинам: во-первых, у него была плохо поставлена разведка и он не представлял себе, насколько разрушена переправа у Переволочны бригадиром Яковлевым, а во-вторых, он и здесь следовал за Мазепой, почитая старого гетмана большим знатоком этих мест. И только оказавшись 29 июня перед широкими водами Днепра и увидев разоренную переправу, Карл XII понял, что он совершил еще одну ошибку, заведя свою армию в ловушку. Король приказал срочно разобрать деревянную церковь и сколотить из досок и бревен плот, но сильное течение сорвало плот и унесло его по реке. И ни за какие деньги в Переволочне невозможно было найти лодки, а ведь для переправы армии нужны были сотни лодок! Наконец отыскали два челна и установили на них карету короля. Карл XII не сразу решился покинуть армию.
Но все-таки он бросил ее, так же, как Наполеон бросил свою армию после Березины. Для полководца-честолюбца, а именно такими были и Карл XII и Наполеон, собственная драгоценная персона была куда важнее погибающих солдат, которые вознесли их некогда к славе.
Передав командование Левенгаупту и отдав ему долгожданный приказ уходить с армией в Крым, король в ночь с 29 на 30 июни переправляется вместе с конвоем через Днепр и спешит к Очакову.
Отдавая армию под команду Левенгаупта, Карл XII не просто сдавал ее старшему по званию генералу, но и как «специалисту по ретирадам», сумевшему после Лесной спасти хотя бы остатки войск. Но что удалось Левенгаупту сделать после Лесной, не удалось у Переволочны. На рассвете 30 июня он увидел, как на холмах, замыкавших Переволочну с севера и востока, появились войска Михайло Голицына. А перейти Ворсклу и уходить немедля на юг от Переволочны было невозможно, поскольку пойма реки Ворсклы была широкой и болотистой. Король, по существу, сам загнал шведскую армию у Переволочны в капкан. Оставалось или сражаться или капитулировать.
Определенное влияние на шведского генерала, несомненно, оказала военная хитрость, примененная его противником. Михайло Голицын, дабы устрашить шведа, приказал растянуть линии, своих войск, расставив по флангам и во второй линии табуны лошадей, дабы создать большее впечатление. И молодому генералу удалось внушить шведам, что у русских около тридцати тысяч солдат, хотя на деле их было не более десяти. То, что Голицын развернул войска к бою, было смелым решением. Ведь он знал, что под первой Нарвой шведы пошли в атаку, не убоявшись 30-тысячной русской армия. Сейчас же у Левенгаупта было 16 тысяч солдат. Но боевой дух шведов был уже сломлен под Полтавой, и это ясно понимал Михайло Голицын.
А у шведов многоопытный Левенгаупт пошел на необычайную меру: стал запрашивать офицеров и солдат по полкам — готовы ли они биться дале за короля. А кто станет биться за короля, который ночью бежал от армии? Только офицеры гренадерского полка ответили, что пойдут в атаку в первых рядах. В остальных полках или мрачно молчали, или прямо заявляли, что дальше биться не будут!
И Левенгаупт отправил к русским генерала Крейца под белым флагом. Встретил шведского генерала, впрочем, уже не Михайло Голицын, а светлейший князь Меншиков, который, узнав о предстоящей капитуляции, примчался в передовой отряд на взмыленном коне. В рапорте царю светлейший, конечно, приписал себе все лавры капитуляции шведов под Переволочной. Михайло Голицын был отодвинут в тень. За Полтаву и Переволочну Меншиков наконец получил чин генерал-фельдмаршала, Голицына же пожаловали именьем. Всего сдалось под Переволочной шестнадцать тысяч солдат и офицеров. Русским досталась и полковая казна в четыреста тысяч рублей.
* * *
Трудно упрекнуть Левенгаупта, как это делал потом Карл XII, в том, что он решился на капитуляцию. Ведь еще у Кобеляк, где шведская пехота покинула свою позицию перед легкоконными казаками, проявилась уже полная деморализация шведского войска.
И потом, даже если шведская армия и превосходила корпус Голицына, то ведь за последним поспешал уже Меншиков, и Левенгаупт, конечно, понимал, что в случае сражения русские будут получать подкрепление за подкреплением, а к нему из-за широкого Днепра на выручку не явится никто. Следует учитывать и то обстоятельство, что в шведских войсках было много раненых и больных. В этих условиях Левенгаупт сделал то, что не решился сделать, скажем, Паулюс, в окруженном Сталинграде: не стал подвергать своих солдат новым мучениям.
Капитуляция Левенгаупта у Переволочны была естественным завершением Полтавской баталии. В итоге славной виктории под Полтавой и ее удачного завершения у Переволочны русские взяли в плен 18 746 человек, включая почти весь генералитет, в их руки попала полевая королевская казна, вся шведская артиллерия, 264 знамен и значков и т. д.
С королем ушел за Днепр только небольшой отряд в 1300 человек, большая часть которого была перебита или Взята в плен драгунами, посланными в преследование, отрядами Кропотова и Волконского возле Очакова.
Армия Карла XII под Полтавой была не просто разбита, а уничтожена. Так Петр I, создав для себя самые выгодные условия стратегией измора, перешел затем к стратегии сокрушения и добился блестящей виктории.
Никогда, ни до, ни после Полтавы, военный гений Петра I не раскрывался так ярко, как в этом сражении. Это был поистине звездный час Петра I как полководца, и так же, как Ганнибал одной своей победой при Каннах навеки утвердил свое место в мировой военной истории, так и Петр I после Полтавы навеки остался бы в памяти народов как великий полководец. Но Ганнибал при всем том проиграл войну, а Петр I свою войну выиграл.
Под Полтавой Петр I проявил себя как талантливый стратег, постепенно добившись изоляции шведской армии на Украине и прервав все ее коммуникации. Петр I великолепно учитывал при этом фактор времени и пространства, он не спешил с генеральным сражением, изматывая шведов на огромном театре военных действий. И уловил час, когда по измотанной и ослабевшей армии шведов можно было нанести сокрушающий удар. И здесь Петр I уже действовал как оригинальный и талантливый тактик. Прежде всего он умело сочетал оборону и наступление. Сражение готовилось им первоначально как оборонительное, причем оборона строилась в глубину: сначала две линии редутов — поперечная и продольная, затем укрепленный ретраншемент. Об инженерном, крайне оригинальном обеспечении поля боя, очень высоко отзывались как его участники, так и военные теоретики.
Сравнивая в этом плане действия Петра и его противника, офицер-француз, служивший у шведов, де Турвиль отмечал, что «Карл поступил как отчаявшийся государь, которому не оставалось ничего боле, как или погибнуть, или вырвать победу шпагой, полагаясь на удачу, у царя, опытного полководца, который, несмотря на превосходство своих сил, не пренебрег тем, чтобы выгодно окопаться, и, кроме того, возвести перед своим лагерем редуты с многочисленной артиллерией, которые защищали подступы к лагерю».
Плоды виктории
Жизнь народов измеряется обычно веками. Тем ярче блестит тот звездный час, когда время как бы уплотняется и судьбы государств и народов решаются в чрезвычайно короткий срок. Таким звездным часом России было Ледовое побоище и Куликовская битва. В XVIII веке таким звездным часом стала Полтавская битва. Гром Полтавы слышался в русской истории, и через полтора столетия после этого сражения Виссарион Белинский[35], думая о его историческом значении, напишет: «Полтавская битва была не простое сражение, замечательное по огромности военных сил, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за существование целого народа, за будущность целого государства».
Сам Петр и его сподвижники, бывшие на поле баталии, если и не сразу поняли исторический смысл Полтавской победы, то сразу же восприняли ее как полный и окончательный поворот в Северной войне.
Именно в те минуты, когда к Петру подводили все новых пленных и несли трофейные знамена и он сам, трижды в тот день спасшийся от неприятельских пуль, возбужденно спрашивал шведских генералов: «А где же брат мой, король Карл?» — у него росло убеждение, что Полтава — не обычная виктория, а победа, предрешившая исход всей войны. И сколько бы ни было затем временных неудач (вроде Прутского похода) и затяжек с подписанием мира, эта вера в окончательную победу над шведами прочно укрепилась после Полтавы и у Петра I, и у всей русской армии.
Полтавскую викторию Петр I сразу увязал с будущим миром, и не случайно через несколько дней после Полтавы, узнав уже точное что Карл XII бежал к туркам и скрывается в Бендерах, Петр посылает к нему пленного королевского камергера Цедергельма предлагая через него скорый почетный мир.
Однако шведский король и в дипломатии был таким же авантюристом, как и в воинской стратегии. Все свои надежды он возложил теперь на Османскую империю, подталкивая ее к войне с Россией. И первый же королевский посланец, прибывший в Стокгольм, привез не только известие о Полтаве, но и требование короля немедленно произвести новый рекрутский набор.
Москва узнала о славной Полтавской виктории через газету «Ведомости», где было помещено письмо Петра I своему сыну царевичу Алексею, находившемуся в столице. Фактически то была официальная реляция о Полтаве.
«Наша армия, — кратко и энергично сообщал Петр, — стала в ордер де баталии… И тако о девятом часу перед полуднем генеральная баталия началась. В которой, хотя и зело жестоко в огне оба войска бились, однако ж долее двух часов не продолжалась, ибо непобедимые господа шведы скоро хребет показали…» Заканчивалась реляция образным сравнением Карла XII с греческим героем Фаэтоном, горделиво вознесшимся на своей колеснице под небеса и низвергнутым оттуда наземь.
«Единым словом, — писал Петр, — вся неприятельская армия Фаэтонов конец восприяла (а о короле еще не можем ведать, с нами ль или с отцы нашими обретается!). А за разбитым неприятелем посланы господа генерал-поручики, князь Голицын и Боур с конницею».
По приказу Петра реляция о Полтавской виктории была напечатана в «Ведомостях» красным цветом, на одной стороне листа, и этот первый в истории России плакат расклеен был по всей Москве.
Однако поскольку до полного просвещения и грамотности россиян было еще далеко, царь распорядился зачитать известие о преславной виктории во всех церквах и монастырях и по три дня служить благодарственные молебны.
На поле битвы, вечером, после праздничного пира, Петр объезжал полки и поздравлял с викторией солдат я офицеров. Громкое «ура» гремело на месте прошедшей баталии. А через несколько дней полтавские поля снова огласили праздничные виваты — пришло известие, что остатки шведской армии, без малого 16 тысяч человек, без боя сдались на Днепре у Переволочны во главе с генерал-аншефом Левенгауптом. Сломленная Полтавой шведская армия сложила ружья к ногам драгун Меншикова и пехоты Михаилы Голицына.
Русское «ура» скоро долетело и до иностранных столиц. В Вене и Лондоне известию сначала было не поверили, но когда достоверно стало известно, что Карл XII и Мазепа бежали с немногим конвоем в пределы Османской империи, а шведская армия полностью сдалась в плен на Днепре, в столицах сих было объявлено о строжайшем нейтралитете. Напротив, в Голландии купечество, несшее немалый урон от захвата шведами шедших в Россию голландских судов, устроило в Амстердаме праздничный фейерверк и салют.
Из тогдашних европейских монархов боле всего радовались побежденные шведами короли: Август Саксонский и Фридрих Датский. Эти монархи немедля разорвали унизительные для них Альтранштадский и Травендальский договоры и согласно объявили войну Швеции. Август со своим войском снова вступил в пределы Речи Посполитой и вернул себе польский престол. Встретясь на Висле со своим непостоянным союзником, Петр многое собирался выговорить своему изменчивому другу, но, увидев сияющее от счастья лицо Августа, выпрыгивающего ему навстречу из лодки, махнул рукой и обнял неверного камрада. Правда, опять же не без усмешки (юмор и хорошее настроение в те первые месяцы после Полтавы не покидали Петра), царь возвернул Августу ту самую памятную шпагу, которую тот передал Карлу XII в замке Штольтен, как раз перед походом шведов на Москву. Вслед за договором с Августом Петр подписал после Полтавы союз с Данией и дружеское соглашение с Пруссией.
Вся Европа, казалось, мечтала теперь заключить русского царя в свои объятия, и даже высокомерный король Франции Людовик XIV отправил к Петру своего посла де Валюза с просьбой о посредничестве России между Францией и странами Великого союза в войне за Испанское наследство.
Однако особенно была потрясена Полтавой европейская общественность, приученная газетами к вере в непобедимость Карла XII. Слава Петра среди европейских философов и ученых доходит до самого высокого градуса. Уже 27 августа 1709 года знаменитый Лейбниц[36] пишет в газетах, что отныне «царь будет пользоваться вниманием Европы и принимать очень большое участие в общих делах». На Петра смотрели теперь не как на чудаковатого царя-плотника, а как на многоопытного правителя, который, как объявил Лейбниц, «может соединить Китай с Европой, создать великие способы улучшения навигации, поставить просвещение и науки на такой уровень, на каком они никогда не были и какого они не могут достигнуть в другом месте, потому что у него для этого есть tabula rasa (чистая доска), и непорядки, укрепившиеся в других местах, могут быть сразу предупреждены добрыми правилами».
В знак уважения ученой Европы Петр был избран во Французскую академию наук. В то же время знаменитый английский писатель Даниэль Дефо писал во второй части своего Робинзона Крузо о Петре I, как «искателе мудрости, изучающем науки и ревностно собирающем для своего просвещения книги, инструменты и ученых из самых цивилизованных частей света».
А любимец Петра, один из героев Полтавы, Александр Данилович Меншиков, получивший наконец за сию викторию чин генерал-фельдмаршала, избран был вдруг в Лондоне действительным членом Королевского общества естествоиспытателей.
Словом, современники рассматривали Полтавскую баталию не как очередную победоносную викторию, а как нечто весьма значительное и по своим масштабам, и следствиям.
И не случайно через несколько десятилетий после Полтавской баталии Вольтер[37], который был в дни Полтавы еще мальчиком, учившимся в колледже святого Людовика, писал: «Из всех сражений, обагривших кровью землю, это было одно, которое вместо обыкновенного своего действия — разрушения, послужило к счастью человеческого рода, потому что дало царю свободу приводить в благоустройство огромную часть света. Ни одна война не вознаграждена добром за зло, которое она сделала; последствием Полтавского сражения было счастие обширнейшей в свете Империи».
В декабре 1709 года состоялся триумфальный въезд победителя при Полтаве в Москву. На Красной площади были установлены триумфальные ворота, кои по замыслу их: создателя представляли храм трудолюбия, подвигов и добродетелей русского Геркулеса. По сторонам храма, на пьедесталах стояли две пирамиды, украшенные эмблематическими картинками. Картины те были написаны Иоганном Таннауэром и его учеником Никитой. На картине Таннауэра Самсон, весьма натурально играя мышцами, разрывал пасть шведскому Льву. (Битва под Полтавой случилась в день святого Самсона, и с тех пор оный святой почитался как покровитель русского воинства.) Никита изобразил легендарного Фаэтона, взлетевшего на колеснице к небу и сраженного молнией. И оттого, что картина его была выставлена как бы на суд тысячи москвичей, вышедших встречать русское войско, — ему было страшно боязно. Однако ничего не случилось. Большая часть народа спешила к Стрелецкой слободе, откуда начиналось шествие, и им попросту было не до картины. А кто останавливался и смотрел, те хвалили, особливо, когда им разъясняли суть аллегории Фаэтона: шведский король, так же как и грек, воспаривший было на крыльях славы, сражен молнией на полях Полтавы.
Кроме ворот на Красной площади, разные сословия воздвигли еще шесть триумфальных ворот по пути царского шествия. Перед домами, стоявшими на пути триумфального кортежа, стояли столы с разными яствами и напитками. Неказистые заборы были прикрыты яркими картинами.
Царский въезд первоначально был назначен на 18 декабря, и полки уже были выстроены за Серпуховскими воротами, когда пришло известие от некоронованной царицы Екатерины о рождении у нее дочери Елизаветы Петровны. Того ради был назначен молебен в Успенском соборе, после коего придворные и послы поздравляли Петра с рождением царевны, как со счастливым предвозвещением вожделенного мира.
Но вот наступило 21 декабря 1709 года, и триумфальное шествие двинулось по Москве. Возвещая его, впереди шли трубачи и литаврщики. Звонко пели трубы в морозном воздухе, ярко сияли литавры на солнце: день был ясный, прозрачный, улицы были убраны свежим, выпавшим за ночь снегом, на деревьях висели сережки из инея.
Вслед литаврщикам маршировал Семеновский полк во главе со своим командиром Михайлой Голицыным.
Поскольку семеновцы половину полка потеряли именно под Лесной, то за этим полком везли трофеи, взятые в той славной баталии. Следом маршировала бомбардирская рота преображенцев, и две лошади, покрытые попонами с вензелем Карла XII, везли королевские носилки, разбитые под Полтавой. За ними, понурив головы, шли шведские генералы и министры: фельдмаршал Реншильд, генерал-аншеф Левенгаупт, граф Пипер, генералы Роос, Крейц, Гамильтон, Шлиппенбах, Штакельберг и Круз. А за ними брела нескончаемая, казалось, толпа пленных шведов — двадцать две тысячи солдат и офицеров, выстроенных по четыре в ряд и охраняемых драгунами.
Петр ехал следом за пленными впереди колонны преображенцев, под звуки полковой музыки. Гремели пушки с валов и бастионов, воздвигнутых против трех самых грозных шведов, что пленными брели сейчас по улицам Москвы. Малиновый колокольный звон заглушал временами артиллерийские салюты.
Каждое сословие Встречало у ворот Петра по старинному русскому обычаю хлебом-солью. На Красной площади, у триумфальных ворот Петр слез с коня и принял благословение митрополита. Затем Петр внимательно осмотрел ворота и особо воззрился на картину Никиты.
— Кто дал тебе сей сюжет? — спросил Петр стоявшего у арки живописца. Должно быть, Петр сразу не узнал его-впервой он видел Никиту в партикулярном платье.
— Сюжет сей, государь, дан мне тобой. Всей Москве ведома твоя реляция о фаэтоновом конце шведского воинства! — смело ответил художник, и было видно, что господину бомбардиру та смелость понравилась.
— Молодец, Никита! — узнал наконец его царь и, обращаясь к Мусин-Пушкину, заметил: — Будешь составлять списки заграничных пансионеров, пиши оного Никиту первым. Воин из него был добрый — верю, добрый будет и мастер!
В тот же вечер были устроены на Красной площади три больших фейерверка, представлявших виктории у Лесной, Полтавы и Переволочной.
Старинная Москва от иллюминации, фейерверков, множества зажженных у каждого дома светящихся огней представлялась в ту ночь европейской столицей.
Виктории под Пелкане и Лапполой
В 1713 году для предстоящей осенней кампании в корпус Михайлы Голицына из Петербурга в Финляндию спешно было отправлено несколько полков, и среди них полк Новгородский. Бартенев присоединил свой полк к корпусу Голицына, когда тот уже ушел маршем на Тавастус. В город сей, точнее на пепелище, оставленное шведами, русские вошли без боя: шведский генерал отступил. Однако уже через двадцать верст драгуны, высланные как передовой отряд по дороге на Таммерфорс, обнаружили всю шведскую армию, занявшую промежуток Меж озер Пелкане-веси и Маллас-веси.
— Как именуют ту деревню? — спросили проводника-финна, указывая на избы и скотные дворы, черневшие на другой стороне озера.
— Озеро зовем Пелкане-веси, потому и деревня Пелкане, а может, наоборот, оттого что деревня Пелкане, и озеро Пелкане-веси, — задумчиво ответил голубоглазый пожилой финн, спокойно покуривая трубочку. Это была не его война, хотя и велась она на его земле. В любом случае умирать за шведского конунга Карла финн не хотел, и потому, когда шведы насильно загоняли финнов в ополчение, он спрятался. Но война все-таки нашла его — русские узнали через соседей, что купец Эйко Виролайен до войны часто ездил в Новгород и немного знает русский язык. Вот его и вытащили из-за прилавка в Гельсингфорсе и определили проводником.
— Простите, господин полковник, — обратился вдруг финн в свой черед к Бартеневу. — Я слышал, ваш полк из Новгорода?
— Верно! — ответил Бартенев, немало удивленный, что его полк известен среди финнов.
— А правда ли, — финн опасливо покосился на ехавшего за Романом Кирилыча, — что весь ваш полк набран из колодников?
— Кто сказал тебе такую чушь? — вспыхнул Бартенев.
— Да сам шведский комендант Гельсингфорса, генерал Армфельд говорил при уходе нашим купцам, что русские приводят из Москвы в Новгород каторжников и колодников, переодевают их там в солдатское платье и посылают грабить Финляндию. — Эйко пугливо оглянулся на Петьку Удальцова, который вплотную подъехал к полковнику и проводнику.
— Чушь и бред! Весь мой полк набран из коренных новгородцев, меж коими нет ни одного каторжанина! — холодно ответил Бартенев.
— А этот дядька с бритой головой — он разве не каторжник? — полушепотом спросил финн, глазами показывая на Ваську Увальня. У Васьки был, однако, отменный слух. Он побагровел от ярости и схватился за палаш:
— Так это я по-твоему каторжник? Зарублю на месте чухонца!
— Да ты, Васька, и впрямь похож сейчас на чистого каторжника! — расхохотался Удальцов. — Говорил я тебе, дуралей, не брей голову! Нет, туда же, за модой погнался! Я, мол, с первого же полоненного шведского офицера парик сниму и буду красоваться перед молодками талантом и кавалером! Вот и докрасовался, каторжный! Ты его сперва достань, полоненного шведа, а потом и в парике красуйся!
— Да что его искать-то, шведа-то, — сердито буркнул Васька, потуже натягивая треуголку на бритую голову. — Вон их сколько за рекой — тысячи! Почитаю, назавтра баталия непременно выйдет и все одно быть шведскому парику на моей башке!
В сей миг показалась делая кавалькада генералов и офицеров во главе с Апраксиным. Генерал-адмирал сидел на лошади по-моряцки — без щегольства, но крепко сцепив ноги. Князь Михайло Голицын на горячем скакуне сидел как влитой, откинувшись немного назад и вытянув ноги: манеру сию он, как и многие русские офицеры, отличные конники, перенял у лихих шведских драбантов.
Адмирал и генерал спорили: можно ли верить проводнику-финну, указавшему брод на реке?
— Я за того финна головой ручаюсь, да и по приметам всем здесь брод есть! — горячился Голицын. Но Федор Матвеевич Апраксин был человек основательный и как моряк желал сперва сделать промеры. «Не зная броду — не суйся в воду!» — твердил адмирал.
Кликнули на промеры добровольцев из числа стоявших у берега новгородцев. Васька Увалень вызвался первым, и Бартенев поставил каптенармуса во главе поисковой команды.
Между тем шведские караулы вдоль реки заметили спускавшихся на рысях к воде русских, и над прибрежными кустами поднялись клубочки дыма. Несладко было лезть в ледяную воду под свист вражеских пуль, но охотники Васьки дошли вброд до самого неприятельского берега.
И здесь шведы не выдержали, приняв поиск за начало общей атаки. Из стогов сена выглянули укрытые там шведские орудия и ударили в упор картечью. Несколько солдат упали в воду, навеки приняв ледяную купель; остальные по приказу Васьки повернули назад.
— Одно, другое, третье, четвертое, восьмое, — подсчитал Голицын шведские пушки, выявленные поиском.
— Ну что я говорил, есть брод для моих солдат! — весело обратился князь Михайло к генерал-адмиралу.
— Брод-то, батюшка, и впрямь есть, но боюсь не про нашу честь! Видел, как крепко прикрыли его шведы пушками? Сие дело обмозговать надобно! — озабоченно ответил Федор Матвеевич. — А новгородцы молодцы! Чем наградить Увальня-то, Бартенев?
— Лучшая награда для него — добрая чарка после ледяной купели! — рассмеялся полковник. И лукаво подмигнул: — Я ведь его еще с Лесной помню. Славно он тогда шведского генерал-адъютанта полонил!
— А чего себе башку обрил? — спросил Голицын.
Пришлось доложить генералам о начавшейся погоне Васьки за шведским офицерским париком.
В генеральской свите рассказ этот вызывал гомерический хохот.
— Ну вот, отсмеявшись, легче и за труды приниматься! — Федор Матвеевич смахнул выступившие от смеха слезы и приказал свите следовать в штаб на военный консилиум.
— Позиция шведов лучше некуда! Дефиле меж озер, менее версты, прикрыто рекой, мост разметан. За рекой шведские непрерывные траншеи в две линии и пушки. Река глубокая, сами видели: на всю реку один брод и тот прикрыт пушками, а на берегу рогатками. В лоб сию позицию брать, чаю, много кровушки-то пролито будет! — степенно размышлял Федор Матвеевич, оглядывая членов совета. Затем вопросил с обычным своим добродушием:
— Каковы будут ваши мнения, господа генералы? — по правде говоря, на суше адмирал чувствовал себя неуютно, как рыба, вытащенная на берег, и потому полностью полагался на сухопутных генералов.
— Может, обойти шведа дорогой на Кангассали, а оттуда выйти к нему в тыл на Таммерфорс? — нерешительно молвил командующий артиллерией Брюс, разглядывая карту, сплошь усеянную зелеными кружочками леса.
— Обойти на Кангассали — значит 120 верст переть по бездорожью. Тут, чаю, Яков Вилимович, мы все твои пушки и гаубицы в болотах утопим! — загорячился Михайло Голицын. А оттого, что загорячился, говорил торопливо и заикаясь. Но то, что он предлагал, было столь новым, что никто и внимания не обратил на его заикание. А предлагал Голицын тайно соорудить плоты, благо леса вокруг хоть отбавляй, посадить на них охотников и отправить по утру десант через озеро Маллас-веси, с тем чтобы высадить солдат в тылу шведской позиции. По общему же сигналу атаковать шведа одновременно и с фронта и с тыла.
— Ну что же, десант — дело по мне знакомое, — оживился адмирал. — Значит, и на суше будем воевать по-моряцки! Полагаю, я, как адмирал, сам и поведу десант!
— Ваше превосходительство, Федор Матвеевич! Вы же наш командующий, куда же вы, батюшка, от войска на хлипких плотах уплывете! — запричитал тут драгунский начальник князь Волконский.
— Согласен с князем! Командующий должен быть на командном пункте, — рассудительно поддержал его Брюс.
— Вот так всегда, адмиралу и поплавать не дают! — сокрушенно развел руками Апраксин. — Так кто же поведет десант?
— Я, — решительно сказал князь Михайло. — Пойдем тремя эскадронами. Генерал-поручик Бутурлин справа, в центре я сам, слева — генерал-майор Чернышев. Выйдем на плотах к деревне Мелькиле, в трех верстах за шведской позицией и дадим сигнал ракетой!
— Быть по сему, князь Михайло, ты придумал десант, тебе и писать диспозицию! А я вспомню меж тем свое корабельное дело — сам прослежу, чтобы плоты были связаны надежно! — На том генерал-адмирал и закрыл военный совет.
* * *
В свите генерал-адмирала было много морских офицеров, и под их наблюдением солдаты в окрестных лесах валили деревья, быстро и споро вязали плоты. Федор Матвеевич слов на ветер не бросал, самолично явился проверить надежность новоявленной флотилии. Ночью плоты перетащили на берег озера и спустили на воду в камышах. Шведы ничего не заметили.
Капитан-лейтенант Соймонов, посланный на лодке в поиск к деревне Мелькиле, сумел взять «языка»-шведа, который в одиночку баловался вечерней рыбалкой. Полоняник объявил, что он — мирный пекарь, и клятвенно утверждал, что кроме армейской пекарни в Мелькиле никаких воинских частей нет. Принес он и еще одну весть: у шведов после сдачи Або поменяли командующего. Вместо склонного к ретирадам Либекера армией стал командовать бывший комендант Хельсинки горячий и упрямый Армфельд.
— А я-то все не понимал, отчего это мой старый знакомец Либекер такую великую отвагу проявил и стал твердой ногой меж озерами! — покачал головою Федор Матвеевич. — А вот теперь все ясно. Так что опасайся, князь Михайло, в час высадки. Армфельд — не старина Либекер, не даст тебе много времени, тотчас атакует!.
* * *
После полуночи 6 октября 1713 года шесть тысяч охотников Голицына (людей кликнули из разных полков) были рассажены на плотах и, едва забрезжил рассвет, отвалили от берега. Первые две версты шли в столь густом тумане, что с плота с трудом различали другие — спереди и сзади. Туман сей был и полезен и губителен. С одной стороны, он надежно прикрывал русский маневр от шведов, а с другой — в этом тумане можно было легко заблудиться и пристать прямо к шведскому лагерю. Князь Михайло вспоминал свою давнишнюю баталию при Добром, когда в таком же вот густом тумане заблудился генерал Пфлуг со своими драгунами. На всякий случай Голицын приказал поднять зажженный фонарь на мачте своего плота, дабы правая и левая колонны не сбились с курса.
Однако ни Бутурлин, ни Чернышев не подвели, и все три русские эскадры почти одновременно подошли к берегу. Шведские пекари и не думали сопротивляться и при виде вырастающих из тумана русских плотов бросились сломя голову бежать в шведский лагерь. Однако генерал-адмирал справедливо говорил, что Армфельд не чета ленивому и нерасторопному Либекеру. Как только до него дошла весть о русском десанте, новый шведский командующий поднял три полка драгун и самолично повел их к Мелькиле. Однако в тумане Армфельд не разглядел подходившие к берегу колонны Чернышева и Голицына и, пройдя через деревню, атаковал правую колонну Бутурлина, которая первой высадилась на песчаный берег. Первый гренадерский, Московский и Троицкий полки отбили конную атаку шведов таким сильным огнем, что Армфельд не решился атаковать боле в конном строю, спешил своих драгун и вступил в перестрелку с русскими, дожидаясь подхода спешно вызванных пехотных полков. Однако первыми пришли на поле баталии отряды Чернышева и Голицына, которые сомкнулись, зашли крылом через Мелькиле во фланг шведам и открыли такой дружный огонь, что шведские драгуны в панике бросились к лошадям и, несмотря на все приказы и уговоры Армфельда, пытавшегося остановить их, ретировались прямо к Таммерфорсу. Подошедшая же с опозданием шведская пехота встретила перед собой уже все три русские колонны, построенные в одну линию. Разгорелся фронтальный бой, во время которого шведы дважды опрокидывали охотников и прорвались уже было к самим плотам, когда русские сумели обойти их с обоих флангов и стали заходить в тыл. «Обошли!» — раздалось среди шведских солдат зловещее слово, и ни Армфельд, ни его офицеры не могли боле сдерживать своих солдат, которые пришли в полную конфузию и по реляции Михайлы Голицына «обратились, яко зайцы, в бегство по лесам».
В это время на холмах, отделявших Мелькиле от шведского лагеря, появились новые полки Конницы.
— Горнисты, тревогу! Всем в строй! — Князь Михайло помчался снова выстраивать свои полки в правильную линию, но в это время увидел, как с одного из холмов на полном аллюре уходит шведский офицер, а за ним гонится, размахивая арканом, не кто иной, как Васька Увалень.
Голицын ухватился за подзорную трубу, и сомнения его рассеялись — стало ясно, что новая конница на холмах — не шведские рейтары, а русские драгуны, переправившиеся через реку с фронта. Солдаты с любопытством смотрели на неслыханное состязание. Швед уходил наискосок от деревни через луг к таммерфорской дороге, и казалось, Васька уже его не догонит, когда вдруг в воздухе мелькнул длинный татарский аркан и выдернул рейтара из седла. Грохнувшийся наземь офицер с ужасом ждал удара драгунского палаша, но вместо этого Кирилыч склонился над ним и сорвал с головы роскошный парик.
— Ай да Васька! — звонко расхохотался князь Михайло, с облегчением опуская подзорную трубу. — Достал-таки себе новую шевелюру! — И по этому облегченному смеху своего генерала и штаб, и стоявшие в строю солдаты поняли, что баталия закончена и виктория полная. И в самом деле, с холмов спускалась целая кавалькада во главе с генерал-адмиралом. Князь Михайло поспешил навстречу отдать рапорт.
Но Федор Матвеевич рапорта не принял, а обнял князя Михайлу по-отечески и расцеловал троекратно:
— Вижу, вижу, батюшка, что из тебя не только генерал, но и моряк отменный. В таком тумане не заблудиться только опытный шкипер может! Впрочем, и мы, — он добродушно рассмеялся, — тоже не дремали. Яков Виллимович своими пушками сбил шведскую батарею у брода, а наши драгуны перешли брод и атаковали шведа в конном Строю. Ну а каптенармус-то, сам, чаю, видел — раздобыл-таки, шельма, парик! Нет, что ни говорите, а надобно наградить Ваську!
Вскоре после этой виктории генерал-адмирал, сочтя, что кампания закончена, сдал команду Михайло Голицыну и отправился в Петербург со многими трофеями. Голицын же пошел к Биернеборгу, где и стал тремя отрядами на зимние квартиры, выдвинув против шведов густую кавалерийскую завесу.
* * *
Князь Михайло расположился на винтер-квартирах широко и надолго. В Тавастгусе были открыты походный магазин и гошпиталь, из подошедших от Киева (после «вечного мира» с турками) конных полков была налажена драгунская почта до самого Выборга, так что письма из Петербурга уже на третий день лежали на столе командующего. Дабы прочнее «отлучить» финнов от Швеции, был издан универсал, где говорилось, что русским войскам запрещено делать всякие незаконные реквизиции и конфискации и потому жители могут жить мирно. По своему войску Голицын отдал грозный приказ, строго запрещавший грабежи и поборы с местного населения. Виновные наказывались палками перед строем.
И очень скоро финские крестьяне, увидев, что русские привели в страну не каторжников и колодников, а самое что ни есть регулярное войско со строгой дисциплиной, сами стали доставлять мясо, молоко, хлеб, получая за все расчет в царских рублях и немецких талерах.
Меж тем наступила зима, и высокие снежные шапки увенчали крыши домов и амбаров, в которых стояли на постое русские войска. По первому же снегу заскользили финские лыжники. Князь Михайло новинок никогда не чурался, сам попросил у своего хозяина, финского пастора, лыжи и наладил их на валенки (добрые русские валенки были выданы всему его войску), а затем вместе с адъютантом пробежался по заснеженному лесу, окружавшему Биернеборг. Эта лыжная прогулка так понравилась командующему, что он тотчас приказал завести при каждой части лыжную команду, закупив для этого у финнов лыжи и прочее снаряжение.
— В снежную зиму нет лучшего средства для действа В лесах, как лыжи! — весело сказал князь Михайло армейскому казначею, жалующемуся на новый неожиданный расход. — Лыжи нам те не для забавы нужны, а для дела!
— Какие еще там дела могут быть зимой? — сердито ворчал казначей из бывших приказных подьячих. — Зимой войско, что твой медведь, на печи лежит и лапу сосет!
Впрочем, не только штатский казначей-подьячий, но и сам великий военный теоретик осьмнадцатого века прусский король Фридрих II считал: «Войну начинают весной, а зимой занимают квартиры». Зимой армия отдыхает на винтер-квартирах.
Однако русская армия, созданная Петром, была новой армией не только по своему составу, но и по духу. Общие правила, предписанные линейной тактикой и стратегией, в ней не только перенимались, но и переменялись. И потому в начале зимы князь Михайло получил от Петра запрос, где стоят шведы «и можно ли их далее отбоярить». После того царского письма-приказа Голицын и стал создавать лыжные команды, готовясь к зимней кампании. И точно, 4 января 1714 года пришел из Петербурга уже приказ генерал-адмирала Апраксина немедля оттеснить шведа «через синус Ботникус или, по меньшей мере, к Торнео».
Князь Михайло тотчас поднял войска на зимний поиск. Седьмого февраля, соединившись у кирхи Моухиярви, русские двинулись к Вазе, в тяжкий зимний поход. Перед выступлением князь Михайло в ледяной кирхе, дуя на иззябшие пальцы, набросал краткое сообщение царю и генерал-адмиралу: «Иду к Вазе. Ежели неприятель будет отдаляться, буду за ним следовать и велю разбить!»
Драгуны под командой бригадира Чирикова шли в авангарде. Дорога была трудная, лошади по брюхо вязли в снегу. Голицын, недовольный медленным переходом, сам прискакал в голову войска, посмотрел, как лошади грудью пашут снег, и распорядился: «Пустить вперед лыжников!» И вот тысячная лыжная команда пошла впереди, крепя дорогу. Армия делала теперь по 25 верст в день.
Вышедший в дальний поиск отряд лыжников под командой капитана Вындомского у местечка Куйве первым встретился со шведами. Шведский командир понадеялся на недавнюю метель и снежные заносы и не выставил даже караулы. А вечером, как снежные привидения, на улочках местечка возникли русские лыжники. Шведские солдаты спешно выскакивали из теплых постелей и бежали к Вазе, не приняв боя. Несколько человек взяли в плен.
Пухлощекий фендрик, взятый прямо в постели, где он занимался амурными шалостями с дочкой трактирщика, предстал перед Голицыным. Русское войско стояло прямо в лесу. Солдаты жались вокруг костров, жевали сухари. На сухарях шли уже неделю: люди были злые, полуголодные, с густой щетиной на исхудавших лицах. Молоденький шведский вьюноша, только что прибывший из Стокгольма и сразу угодивший в полон, взирал на русских драгун как на лесных разбойников из страшных сказок. Особливый страх внушал фендрику могучий казацкий атаман Фролов. Борода у атамана лопатой спадала на ГРУДЬ, мохнатая шапка надвинута на лоб, в глазах мечутся искры костра, отчего глаза красные, как у разъяренного медведя. «Такому пещерному человеку ничего не стоит достать длинный нож, рукоятка коего высовывалась из-под валенка, и погрузить его в молодое сердце!» — трусливо думал фендрик.
— Много ли войска у генерала Армфельда? — спросил Голицын. Вот этого русского фендрик совсем не боялся: чисто побрит, сразу видно, что образован, говорит хотя и плохо, но по-шведски. Фендрик хотел было схитрить, но в этот момент атаман надвинулся на него и рявкнул:
— Отвечай господину генералу, а не то я тебя в раз расшибу! — И могучий кулак атамана коснулся унылого носа фендрика.
Переводить не потребовалось, фендрик тотчас заговорил. При этом он так разговорился, что поведал не только то, что знал сам, но и то, что знал его друг — главный писарь при штабе шведского командующего.
Из слов фендрика выходило, что у Армфельда семь с половиной полков пехоты (два полка свежих, недавно переброшенных из Стокгольма), четыре полка драгун и местное финское ополчение — всего 14 тысяч человек под ружьем.
— Почти в два раза боле, чем у нас! — мрачно заключил генерал-майор Бутурлин. — Чаю, придется нам обратный путь держать, господин генерал-поручик! — Ванька Бутурлин все время напирал на звание генерал-поручик, намекая, что и ему полагается сей чин. Бутурлин и на военном совете выступил против похода, говоря, что не стоит шляться войску зимой, подобно серому волку, по лесам и дорогам! А в Петербург отписать жалобно: дороги, мол, занесло снегом, морозы стоят жуткие — птица на лету замерзает!
— Коль дошли с таким рвением до неприятеля — надобно драться! — первым ответил Бартенев. Его, как полковника, спросили первым, вот он и ответил честно: надобно драться!
— Ежели новые шведские полки из таких запасных фендриков составлены, яко наш пленный, отчего и не драться! — прогудел в бороду казачий атаман Фролов. — Чаю, разбегутся они под Лапполой, как и под Пелкиной, по лесам!
— Но у шведов под Лапполой сильная позиция на холмах, укреплена окопами, уставлена батареями. Армфельд закрыл нам у Лапполы прямой путь на Вазу, — сердито возразил Бутурлин.
— Пленные солдаты бают, что финн воевать не хочет. Потому все финское ополчение Армфельд в дальний тыл, за речку Стор-Кюре упрятал! — своим обычным тихим голосом молвил генерал-майор Чернышев.
— Значит, спишем из четырнадцати тысяч шведов четыре! — весело рассмеялся Голицын. — К нам и впрямь один финн-перебежчик вечор явился. Говорит, что в то ополчение финских мужиков шведы силком загоняли, грозясь спалить их деревни.
— Все одно позиция у шведа крепкая, а числом он и без ополчения имеет десять тысяч, против наших восьми. Да и пушек у него в два раза боле, — твердо стоял на своем Бутурлин. — Посему предлагаю оставить в лагере на ночь разведенные костры, сняться бесшумно и отступать прытко, как шведский генерал Левенгаупт под Лесной.
— Да Левенгаупт под Лесной не отступал, а бежал после крепкой баталии. И я, и Чириков, и Бартенев тому очевидцы! А вы нам предлагаете, господин генерал, действовать еще хуже, нежели злополучный Левенгаупт — бежать ночью, даже баталии не приняв! — вспылил князь Михайло.
Воинский совет зашумел разноголосо.
— Но ежели сию сильную позицию в лоб брать, мы на тех холмах все войско уложим! — властно перекрикнул шум Бутурлин. — А погубим войско — швед Финляндию себе возвернет и к Петербургу выйдет. Чаю, не сносить нам всем после такой конфузии голов — и не столько от шведа, сколько от царского гнева!
«Что, что, а пугать царской расправой Ванька Бутурлин умеет. Недаром у государя в денщиках столько лет обретался. Через эту денщицкую должность и в генералы вышел, всем о том ведомо!» — подумал Голицын и оглядел свой притихший совет. Спросил негромко:
— А кто вам сказал, генерал, что я в лоб на шведа полезу? Разве забыли, как мы Армфельда под Пелкиной обошли. Только там мы обходили его по озеру, а здесь обойдем лесом, выйдем на его левый фланг и заставим переменить фронт! А там прижмем к реке! — Карандаш Голицына уверенно летал по карте.
— Но лесом-то не пройти по великим снегам! — возразил Бутурлин.
— А вот бригадир Чириков уже прошел там поутру, пока мы шведские холмы разглядывали, — весело улыбнулся князь Михайло, показывая великолепные сахарные зубы. Все обернулись к печке-голландке, где, прижимаясь спиной к теплым изразцам, сидел бравый Лука Чириков.
— Пройти можно! — встрепенулся бригадир в ответ на общие взгляды. — После мороза наст в лесу стоит крепкий, даже болота замерзли. Пустим вперед лыжников и пройдем! — уверенно заявил Чириков.
— Вот и славно! — оживился Голицын. И тотчас дал общую диспозицию: — Через те болота я с драгунами и лыжниками выйду лесом к левому флангу Армфельда, а вы, господин генерал Бутурлин, ударите с остальным войском вдоль реки на финское ополчение и зайдете шведу в тыл. Чаю, не выдержат шведы двойного обхвата и вновь побегут, как под Пелкиной. Желаю назавтра успеха всем, господа генералы и офицеры! — С тем князь Михайло и закрыл военный совет.
В тот же день, когда держал свой военный совет Голицын, в Лапполе у шведов тоже заседала консилия. В помещичьем доме было жарко натоплено, за большим столом в зале были разложены карты Финляндии.
— Кто бы еще мог вообразить несколько лет назад, что нам, шведам, понадобится военная карта Финляндии! — мрачно размышлял высокий сухопарый полковник, служивший начальником штаба еще у генерала Либекера. — Ведь со времен короля Густава Адольфа Швеция не вела войн в этих краях. И вот ныне война стучится прямо к нам в двери, и держит запертыми эти двери только наш корпус!
— Веселее, Карл, не вешайте нос! Завтра я со своими рейтарами приведу к вам на допрос этого заику Голицына. Пусть позаикается у нас в плену! — с обычной хвастливостью заявил француз-гасконец на шведской службе, полковник Ла Бар. Позавчера Ла Бар привел два полка рейтар из Умео в Вазу, перейдя по крепкому льду Ботнический залив.
«Это уже вторая по счету помощь из Швеции. В Стокгольме наконец поняли, что значит для них финская армия! — довольно улыбнулся про себя генерал Армфельд. — Теперь у меня не 14, а 16 тысяч солдат под ружьем. Так или иначе, а рейтары Ла Бара стоят всех голицынских драгун — старые, еще дополтавские полки, которые бивали и русских, и саксонцев, и поляков, и датчан!»
Ла Бар сразу стал общим любимцем в шведском лагере. Смотреть на гасконца было одно удовольствие: чисто побрит, ловок, проворен, неутомим, с лица не сходит улыбка, щегольски наряжен, глядит воинственно.
Конечно, француз первым взял слово на военном совете, и слово его было решительное:
— Надобно встретить жестоким огнем из окопов первую русскую атаку, а там я со своими железными рейтарами ворвусь на плечах московитов в их лагерь!
Полковники-шведы, особливо те из них, кто бежал из-под Пелкиной, иронично улыбались на хвастовство француза, но Ла Бар принял те улыбки за одобрение и весело продолжал:
— Клянусь честью, господа, завтра мы устроим московитам новую Нарву, по примеру той, которую устроил им ваш король в начале войны. К вечеру я приведу к вам, — генерал-француз обращался прямо к Армфельду, — русских бояр!
Эта французская хвастливость, как ни странно, ободрила всех. К тому же многие на совете знали, что рейтарам Ла Бара удалось по пути напасть на казачий разъезд и взять пленного. Казак после кнута показал, что у русских и восемь тысяч войска едва ли наберется. «Против моих шестнадцати! — самодовольно отметил про себя Армфельд. — Что ж, Пелкино второй раз не повторится! Я не только отомщу за прошлую конфузию, но и возверну всю Финляндию. И тогда, как знать?! Теперь, когда Стейнбок в Голштинии сдался Меншикову, я единственный генерал, у которого есть своя армия! Кто знает, может, за эту долгожданную викторию король и сенат дадут и мне фельдмаршальский жезл?» — сладко размечтался шведский командующий.
Между тем вслед за французом слово взял квартирмейстер Карл (он же начальник штаба) и нудно, долго стал доказывать, что количество дезертиров все растет, что, прослышав, что русские не убивают, не жгут и не грабят, финские мужики не желают боле сражаться за интересы шведского короля.
— А ведь у нас финны состоят не только в ополчении, но и полки набраны из мужиков-финнов! — заключил свой мрачный доклад начальник штаба.
— Зато среди моих рейтар одни шведские дворяне — ни одного финского мужика! — хвастливо вмешался француз.
— Я говорю не о ваших рейтарах, полковник, — обидчиво поджал губы начштаба, — я говорю о всей армии. И потому советую: боя, имея такой состав войска, не принимать, а отступить на север, к Торнео.
— Можно и еще дале, на Северный полюс! — расхохотался француз. Невольные улыбки появились и у других шведских полковников.
«Надобно после виктории переменить этого незадачливого квартирмейстера. Что может предлагать выученик старого осла Либекера, кроме ретирады!» — твердо решил про себя Армфельд.
— Да что вы твердите нам, Карл, о финских мужиках! — громогласно возразил тучный и краснолицый граф Гилленборг, один из богатейших помещиков в округе. — Вот я сам — швед, но у меня мать — финка, и, поверьте, я знаю, как умеют здорово драться финские мужички. Твердо говорю — моя финская ландмилиция не уступит по смелости драбантам самого короля!
В совете поднялся великий гвалт! Битые под Пелкиной полковники стояли за ретираду, а новоявленные стокгольмцы были за графа Гилленборга.
— Господа! — разрешил спор командующий. — Я должен сообщить вам хорошую новость. Пленный русский казак показал под кнутом, что у Голицына войска не более восьми тысяч. И думаю, казак не соврал. Мы с полковником Ла Баром обозревали сегодня на рекогносцировке неприятельский лагерь и заключили то же.
— Так в чем же дело, пойдем первыми в атаку и перевяжем в лагере всех московитов! — расхохотался граф Гилленборг.
— Никуда мы не пойдем, граф, ни назад, ни вперед! — только усмехнулся Армфельд. — Мы недаром вторую неделю поджидаем русских на нашей крепкой позиции. Подождем еще день-другой, пока русский медведь не засунет свою лапу в ваш капкан! Уверен, что Голицын по своей горячности не выдержит и атакует меня в лоб!
— И расшибет свой медный лоб о стальную шведскую стену! — весело подхватил Ла Бар.
Граф Гилленборг поднялся во весь свой могучий рост и на правах хозяина дома предложил господам офицерам пройти в столовую залу, где уже был накрыт обильный стол.
— До чего я люблю шведский открытый стол! — весело сказал Ла Бар хозяину и вслед за командующим первым вступил в столовую залу.
* * *
Шедшие в обход шведской позиции драгунские полки двинулись до замерзшим болотам. Ночью ударил такой жестокий мороз, что крепкий наст на болотах легко выдерживал конницу. Новгородцы шли в правой колонне, которую вел сам Голицын. Поднялись из лагеря ни свет ни заря, поскольку пройти надобно было добрых пять верст. Князь Михайло весело повернулся к Бартеневу.
— Ежели так шибко пойдем, к рассвету сможем атаковать шведа во фланг!
— Боюсь, как бы в лесу не застрять?! — засомневался Бартенев.
И точно, в лесу намело такие высокие сугробы, что наст стал проваливаться под лошадьми. Тогда Голицын пустил вперед лыжников, и те пошли пробивать путь по заброшенной просеке. Колонна растянулась по лыжне, и движение замедлилось. Только к десяти утра обе колонны пробились-таки на широкую прогалину, выходившую по обеим сторонам замерзшего ручья прямо к левому флангу шведской позиции.
— Сади людей о конь и заходи справа, — приказал Голицын Бартеневу. Полушубок у командующего расстегнут, изо рта валит пар — он сам впереди всех с лыжниками пробивал путь. Но вид веселый, довольный: застал-таки шведа врасплох!
Расходясь по прогалине влево и вправо, выходящие из леса русские части спешно строились поперек ручья в две линии. В передней Голицын поставил пять батальонов охотников и лыжников, во второй — три батальона гренадер. Драгуны встали по флангам. Со шведской стороны не слышно было ни единого выстрела.
Впрочем, шведы и не могли стрелять — вся их позиция была обращена не к ручью, а к дорогам, шедшим по обеим сторонам замерзшей реки Стор-Кюре: атаки во фланг генерал Армфельд никак не ждал!
* * *
— Ваше превосходительство, русские слева, за ручьем! — подскакавший начштаба трясущейся рукой указывал на лес, откуда выходили все новые и новые русские части. И по мере того как число русских все возрастало, генерал Армфельд понял, что это не частная диверсия лыжников, а основное направление удара Голицына. В этих неожиданных обстоятельствах ничего не оставалось, как спешно переменить фронт, дабы принять удар русских лицом к лицу. И, как всегда бывает при перемене фронта, возникла сутолока, обычно предвещавшая разгром. Части перемещались рядами, бомбардиры никак не могли развернуть и поставить на новые позиции тяжелые пушки, закованные в латы рейтары Ла Бара тонули в глубоком снегу.
И не успели Армфельд и его осипший от крика квартирмейстер перестроить свое войско, как из рядов русских поднялась к низкому свинцовому небу ярко-красная ракета: Голицын давал сигнал к общей атаке.
«Не успели!» — с тоской думал Армфельд, видя, как стройно под барабанный бой двинулись от леса русские батальоны. Впрочем, не все еще было, на его взгляд, потеряно. Хотя неожиданный голицынский маневр и заставил шведов выйти из укреплений и вывернул, как перчатку наизнанку, все их войско, усиленное превосходство над московитами стало еще очевиднее, нежели пока шведы укрывались в окопах. На правом фланге шведские рейтары явно охватывали русских драгун, и примчавшийся в штаб Ла Бар весело крикнул:
— Фортуна в наших руках, генерал! Разрешите мне атаковать, и я зайду в русским во фланг! — Чистокровный английский жеребец весело плясал под Ла Баром — всадник и конь казались слитыми воедино.
Армфельд довольно оглядел гасконца и махнул рукой: «Атакуйте, полковник!» И, обернувшись к начштаба, приказал: «Пусть и наша пехота, Карл, ударит в штыки!»
Русские карабкались на холмы снизу, а шведы ударяли на них сверху — на этом строился расчет Армфельда.
И впрямь шведские гренадеры, упавшие с горы как снежный ком, прорвали было левый фланг русских. Подскакавший Голицын сам повел на выручку новгородцев. Шведы были отброшены, и строй восстановлен.
«Какого черта Ванька Бутурлин не атакует? Ведь шведы покинули все укрепления на большом тракте?» — сердито думал Голицын и приказал дать еще одну красную ракету. В это время подскакавший драгун дрогнувшим голосом доложил: там справа рейтары! Но Голицын уже и без того видел, как лавина шведских рейтар заходит в тыл всему его отряду.
* * *
Генерал-майор Бутурлин любил воевать со старомосковской неспешностью. Закутавшись в соболью шубу, он важно восседал на барабане и, обозревая шведскую позицию, неспешно хлебал горячие щи, разогретые поутру расторопным денщиком. В чем, в чем, а в денщиках Бутурлин знал толк: выбирал их толково, не спеша. Он вообще не любил торопливости. Вот и ныне не спешил!
Сперва он рассчитывал, что Мишка попросту заблудится иль утопнет в этих непроходимых болотах и лесах, но, услышав дальние выстрелы и увидев, как шведы покидают укрытия и строятся на холмах поперек поля, понял, что опять улыбнулось его сопернику воинское счастье: продрался-таки сквозь леса!
— Ваше превосходительство, командующий дает сигнал к атаке! — обратился к нему подъехавший Чернышев, второй генерал в отряде. — Прикажете выступать?
Бутурлин посмотрел, как рассыпается над лесом ракета, и буркнул:
— Рано! Сам видишь, шведы еще пушки не сняли…
Но вот шведские бомбардиры пушки выволокли и потащили на холм.
— Да что же это деется? Почему не выступаем?! — подскакал, размахивая нагайкой, атаман Фролов.
— Экая казацкая вольница… — сердито посмотрел на него Бутурлин, но в сей миг над лесом взлетела еще одна ракета, и ничего не оставалось делать Ивану Бутурлину как махнуть рукой: выступаем!
* * *
Лавина рейтар Ла Бара, обойдя новгородцев с фланга, прорвалась в тыл русских, все сметая на своем пути.
— Молодец гасконец! Вот видите, Карл, а вы называли его пустым бахвалом! — Армфельд со своего холма с радостью следил за этой атакой. Но русские, как оказалось, сумели на руках протащить через эти леса даже пушки. И шесть русских орудий ударили картечью по рейтарам Ла Бара. Великолепно начатая атака захлебнулась. А тут еще русские драгуны подоспели, и рейтары не выдержали, начали отходить.
— Ваше превосходительство, ваше превосходительство! Там справа! — тоскливо потянул Армфельда за рукав его начштаба. Тот обернулся и ахнул. По большой дороге вдоль реки мчались русские казаки, а за ними маршировала пехота.
— А мы-то из окопов пушки убрали! — с какой-то легкомысленной отчаянностью махнул рукой Армфельд и понял, что проиграл сражение. Его начштаба еще распоряжался, приказывал спешно: вызывать ландмилицию Гилленборга, завернуть пушки с холма, но Армфельд понимал, что все это бесполезно — битва проиграна!
* * *
Хвастливый Ла Бар вздрогнул, когда на него налетел ревущий драгун с татарским арканом. Он наслышан был об этих страшных удавках и, увидев, как дикарь в роскошном парике что-то завывает и размахивает веревкой, как-то само собой завернул вслед за рейтарами, обгоняя многих из них по пути на своем превосходном жеребце. Позже, на военном суде гасконец оправдывался, что лошадь виновата в его ретираде: унесла его с поля битвы, по своей врожденной прыткости, с испугу. Однако сам прекрасно знал, что испугалась не лошадь, а сдрейфил он, полковник Ла Бар, увидев здоровенного московита, который напал на него, улюлюкая и размахивая веревкой. (Военный суд оправданий не принял и после Лапполы навсегда отчислил его с королевской службы.)
Васька Увалень, глядя с откоса на уходящего по реке нарядного всадника, плюнул и посожалел, что от него ушла столь знатная добыча! Вслед затем он повернул на звуки полкового горна, призывавшего к новому построению.
* * *
Конная ландмилиция графа Гилленборга, к немалому удивлению Армфельда, подоспела вовремя и перерезала путь к мосту казакам и драгунам Бутурлина. К тому же шведы успели повернуть свои пушки и ударили картечью. Конница Бутурлина стала заворачивать коней.
— Сейчас ваше время, граф! — обратился Армфельд к тучному помещику. — Отомстите за вашего друга Ла Бара.
Гилленборг весело склонил голову в тяжелом дедовском рыцарском шлеме и поскакал к своей ландмилиции.
— За мной, мои финские мужички, вперед, за вашим графом! — громогласно возгласил Гилленборг и, вытащив старинный меч, новел ионное ополчение в сечу. Но в это время во фланг ландмилиции ударил присланный Голицыным бригадир Чириков с сибирским полком. Для сибиряков двадцатиградусный мороз был просто безделицей, и, выйдя на широкое поде, они пустили вперед своих крепких и выносливых лошадок наперерез ополченцам. Гилленборг хотел было на ходу завернуть ландмилицию супротив нового противника, но когда обернулся, то увидел, что все его ополченцы несутся сломя голову к мосту через Стор-Кюре. Сам граф не успел завернуть лошадь, как налетевший на него Чириков выбил старинный меч и, приставив к горлу шпагу, Сказал насмешливо: «Хватит кричать, папаша, отвоевался!»
Меж тем шведская пехота, видя, что оба фланга смяты русскими, в панике хлынула вслед за рейтарами и ланд-милицией через Стор-Кюре в сторону Лапполы. Но в деревню уже ворвались казаки Фролова. Пешее финское ополчение и не думало сопротивляться: разбежалось по своим мызам, откуда было насильно согнано шведами на королевскую службу.
Вечером, после славной виктории, русские офицеры собрались в том самом помещичьем замке, в котором накануне так весело ужинал генерал Армфельд. В приемные покои вносили захваченные шведские знамена, во двор сгоняли пленных. Утром пересчитали убитых шведов: их оказалось боле пяти тысяч — особливо много убитых лежало вдоль реки, где их нещадно рубили казаки и драгуны. Русские потери составили полторы тысячи убитых и раненых. Виктория была полная.
К сияющему Голицыну приводили все новых и новых пленных шведских офицеров. Среди них был и граф Гилленборг.
— Я коренной финн, ваше сиятельство! Хозяин здешнего поместья. Шведы силой принудили меня вступить в их войско! — с порога объявил Гилленборг.
— Ну что ж! Тогда вы знаете все свои погреба и тайники! Накормите моих офицеров! — распорядился Голицын. — А я наконец побреюсь после столь долгой битвы.
Когда генералы и офицеры собрались за тем же самым столом, где прошлым вечером столь весело ужинал с Ла Баром генерал Армфельд, к ним вышел, слегка прихрамывая (след татарской стрелы под Азовом), чисто выбритый и одетый в белоснежную рубашку под нарядным кафтаном князь Михайло Голицын. Поднимая бокал с пенистым французским шампанским, услужливо налитым Гилленборгом, князь Михайло весело провозгласил:
— С викторией, камрады! Вот теперь зимняя кампания окончена! Ныне здесь, на суше, мы полные господа! Теперь флоту российскому потребно на море иметь столь же полную и славную викторию, кою армия наша снискала в сей час у Лапполы!
Петр I наградил Михайлу Голицына крупной денежной премией. Получив по весне деньги, князь Михайло всю сумму потратил на новые сапоги для своих солдат. Узнав о сем неслыханном дотоле поступке, светлейший князь Меншиков в Санкт-Петербурге обозвал героя Лаполлы прямым дураком.
Гренгам
На капитанском мостике флагманской галеры «Добрые начинания» собрался весь штаб Михаилы Голицына. Постороннему показалась бы странной мешанина мундирных цветов — синего и зеленого: морские офицеры стояли вперемешку с армейскими. Но для самого Голицына не было в этом ничего удивительного, как и в том, что он, сухопутный генерал, ведет морскую армаду в 60 скампавей[38] к Аландским островам.
Во время войны в Финляндии армия и флот все время подставляли плечо друг другу. И не случайно в морском сражении под Гангутом[39] Михайло Голицын командовал целой эскадрой, хотя стоял в арьергарде и прямого участия в битве не принимал. Пример в команде и армией и флотом подавал сам Петр I, который по чину был и генерал-поручиком и вице-адмиралом. Да и Апраксин неслучайно имел диковинный для иноземцев чин генерал-адмирала, как бы в признание того, что он одинаково способен командовать и на море и на суше.
На днях Голицын получил от Федора Матвеевича весточку о грозном визите англо-шведской соединенной эскадры под Ревель.
«Неприятели явились силой в 35 вымпелов, — сообщал генерал-адмирал, стоявший в Ревеле с русским линейным флотом. — Но на высадку десанта под Ревель мой старый знакомец, адмирал Джон Норрис, не решился, пересчитав ваши вымпелы в гавани и 300 пушек на прибрежных батареях. Посему высадился на острове Нарген, где сжег одну баню и одну избу».
Александр Данилович Меншиков посему посоветовал:
— Разделите сей великий трофей меж союзниками, а именно — баню отдайте шведскому флоту, а избу — английскому!
Голицын рассмеялся. Затем обернулся к своему штабу и сказал уверенно: «Чует мое сердце, господа, учиним мы нынче шведам крепкую баню!» Но начальник штаба капитан-наемник Джемисон только головой покачал:
— С брандвахты у Аланд доносят, что на плесе у Ламеланда стоит целая эскадра вице-адмирала Шеблада, под прикрытием другой, еще более сильной эскадры Вахмейстера. А в открытом море крейсирует британский флот.
— И сколько у него сил? — спросил адъютант Голицына.
Джемисон насмешливо оглядел неучей-московитов и сообщил не без гордости, словно то был его флот:
— У адмирала Норриса 21 линейный корабль и 10 фрегатов! Немногим-меньше и у шведов. Посему наш линейный флот укрывается в Ревеле и мы одни брошены — одни супротив трех неприятельских эскадр! — Затем сухо добавил, обращаясь уже только к Голицыну: — Думаю, генерал, вы знаете, что предписывает в таких случаях морская тактика? — В этот коварный вопрос капитан-наемник вложил все презрение, которое опытный мореход испытывает к сухопутному генералу.
— Поворот «все вдруг» и немедленная ретирада, не так ли, капитан? — Князь Михайло посмотрел на Джемисона не без насмешки. Тот смутился:
— Так точно, сэр! — забыв, что сейчас он служит не в британском, а в русском флоте.
На капитанском мостике все примолкли, ожидая решения командующего. Голицын оглядел своих командиров и остановил взгляд на твердом лице бригадира Волкова, отличившегося еще при Гангуте, где тот вел отряд галер в авангарде.
— Что скажешь на поворот «все вдруг», Александр? — спросил князь Михайло спокойно, не заикаясь — видно, решение было им уже принято.
— Разве мы не те, что были при Гангуте? — вопросом на вопрос ответил Волков. И рубанул рукой: — Прикажи атаковать, и мы Шеблада на такой же абордаж возьмем, на какой взяли под Гангутом Эреншильда!
— Да, но там, под Гангутом, у нас было 90 скампавей супротив 10 вымпелов у Эреншильда, а сейчас у меня всего 60 галер против 15 вымпелов у Шеблада. К тому же к Шебладу на помощь могут прийти эскадры Вахмейстера и Норриса. И ничто им не помешает, поскольку дует крепкий зюйд и нет того штиля, который так вам помог при Гангуте. Нет, надо заманить Шеблада в шхеры, а потом и осуществить поворот «все вдруг», — усмехнулся князь Михайло и оглядел мужественные обветренные лица своих офицеров. Подумал: «С такими и на море воевать не страшно — самого шведского флагмана на абордаж возьмут! Ведь на галерах 10 тысяч закаленных солдат морской пехоты» — И приказал: — Отходить к Ламеланду!
На другой день ветер хотя и переменился на вест, но сила его не убавилась. На новом совете, собранном в адмиральской каюте, князь Михайло решил отвести низкобортные галеры, которые захлестывала высокая волна в глубину архипелага, к острову Гренгам!
— Русские опять уходят! — доложил вице-адмиралу Шебладу капитан флагмана.
— Вижу Аксель, вижу! — на загорелом лице Шеблада появился румянец, словно от лихой скачки на удачной охоте.
— Да они не уходят, сэр! Они бегут! — радостно потирал маленькие ручки сухонький старичок в огромном парике. Это был маркиз Сент-Илер, служивший попеременно на французском, голландском и некоторое время даже на русском флоте. С русского флота его прогнали по именному распоряжению самого Петра, который по поводу фантастических прожектов маркиза наложил суровую резолюцию: «У этого советника не много ума, понеже всех глупей себя ставит!»
Уйдя с русской службы, Сент-Илер поступил на службу британскую, где рассчитывал найти большие возможности насолить царю. Британское адмиральство учло это горячее желание барона и определило его в советники к адмиралу Джону Норрису.
Однако француз так надоел адмиралу-молчуну своей болтовней, что тот с удовольствием откомандировал его «для связи» на эскадру Шеблада.
И вот теперь беспечный маркиз давал советы на капитанском мостике шведского флагмана.
— Не упустите русских, сэр! Поверьте, я знаю петровских сухопутных адмиралов. Сейчас Голицын будет бежать от Гренгама прямо к финскому берегу под защиту батарей Або. Смотрите, сэр, как бы эта дичь не ускользнула от вас! Мой совет — вцепитесь русским в хвост и щелкайте их галеры, как орехи, одна за другой, из тяжелых морских пушек!
И Шеблад, то ли по молодости (после Гангута был переменен весь старший состав королевского флота), то ли по охотничьей горячности, внял совету. Поставив все паруса, сначала четыре фрегата, а за ними и шведский флагман погнались вслед за русской эскадрой.
* * *
— Шведы вошли в шхеры, господин генерал! — доложил капитан голицынской галеры.
— Что ж — сие добрый почин! — Голицын весело рассмеялся, показывая под черными усами удивительно ровные, белоснежные зубы. Ему вдруг вспомнилась та атака под Добрым в 1708 году, когда он разгромил оторвавшуюся от королевской армии колонну генерала Рооса. То был добрый знак под Добрым! И не даром его флагманская галера зовется «Доброе начинание»! Шеблад, как и Роос, оторвался от своих главных сил. Что ж, вот тот миг, который нельзя упустить! Голицын приказал галерам повернуть «всем вдруг» и атаковать шведа в узком проливе.
Когда Шеблад увидел внезапный маневр русских, он решил ответить контрманевром и приказал своим судам развернуться бортом, дабы встретить атаку галер огнем морских орудий.
— Я разнесу их вдребезги, маркиз! — радостно бросил он французу.
— Конечно! Я же говорил, что русский медведь не способен плавать! — Маркиз заложил белыми ручками уши, дабы не оглохнуть от рева тяжелых шведских пушек. Шведский флагман дал еще залп, и было видно, как рухнули мачты на передних русских скампавеях.
— Так, так! Бей их, бей! — триумфовал Шеблад.
И в эту минуту капитан флагмана испуганно доложил своему горячему адмиралу:
— Ваше превосходительство! Там справа фрегаты «Венкерн» и «Шторфеникс» сели на мель!
И действительно, при развороте бортом два самых крупных фрегата шведов крепко сели на мель. И тотчас со всех сторон к ним понеслись голицынские галеры. И хотя от картечи десятки русских солдат и матросов падали в воду, но другие, забрасывая абордажные кошки и разрывая заградительные сетки, карабкались на палубы фрегатов. Скоро с обоих фрегатов были сорваны шведские флаги.
В руках русских оказались 4 фрегата, 407 пленных и 104 орудия. На другой день все шведские и английские паруса на взморье исчезли — узнав о поражении при Гренгаме, эскадры Вахмейстера и Джона Норриса ушли к Зунду, и русские снова стали полными хозяевами на Аландах и оттуда грозили столице Швеции — Стокгольму.
Британский флот оказался бессильным защитить Швецию. Это радостно отметил Петр I, сообщая в Петербург Меншикову: «Правда не малая виктория может причесться, а наипаче, что при очах английских, которые равно шведов обороняли, как их земли, так и флот».
Царь верно понял, что Гренгам «приведет шведов и англичан к другой мысли». И оказался прав. После сей виктории даже английский король Георг I понял, что Россия грозит шведским берегам, и отправил в Стокгольм послание принцу Гессенскому, ставшему к тому времени королем Швеции Фредериком I: «Я заклинаю ваше величество, как верный друг и союзник, заключить мир с царем и устранить, поскольку это от вас зависит, неудобства и опасности, каким подтверждает вас и ваше королевство теперешнее положение».
Переменила свою позицию и Франция, предложившая в августе 1720 года посредничество между Россией и Швецией. Французский посол маркиз Кампредон стал «летать» меж Стокгольмом и Петербургом. В Швеции поняли, что все союзники их покинули и лучше идти на прямые переговоры с Россией. Осенью 1720 года в маленьком финском городке Ништадте встретились русские и шведские представители.
Так Гренгам открыл путь к Ништадтскому миру. Петр I высоко оценил заслугу гренгамской виктории. Как и после Гангута, были выбиты золотые и серебряные медали для участников баталии с поучительной надписью: «Прилежание и храбрость превосходят силу!» Михайло Голицын получил от царя в знак воинского труда «именную шпагу», а за «добрую команду» трость, осыпанную алмазами. Всего из казны на награды было отпущено 8960 рублей золотом. А Екатерина I, вступив на престол в 1725 году, произвела Михайлу Голицына в фельдмаршалы. Впоследствии князь Михайло сел в Киеве в кресло своего старшего брата, переведенного в Санкт-Петербург. Князь Дмитрий в Высшем тайном совете заправлял всеми финансами империи, а его младший брат, князь Михайло, стал командовать самой большой южной армией России, сдерживая турок и крымского хана.
В 1730 году, после кончины императора Петра II, оба брата оказались среди верховников[40]. И хотя их попытка установить в России конституцию не удалась, новая императрица Анна настолько боялась поначалу Голицыных, что князя Михайлу поставила главой Военной коллегии. Правда, к делам он так и не приступил. Умер от старых ранений в том же 1730 году.
Справка об авторе
Десятсков Станислав Германович родился в 1936 году в Петрозаводске. Закончил исторический факультет Ленинградского университета.
Доктор исторических наук, профессор. Автор исторических романов: «Верховники» («Современник», 1980), «Персонных дел мастер» («Лениздат», 1986,1990), «Когда уходит земной полубог» («Армада», 1995).
Исторический роман «Генерал-фельдмаршал Голицын» — новое произведение писателя. Печатается впервые.
Хронологическая таблица
1675 год
1 ноября — в семье смоленского, киевского в курского воеводы Михаила Андреевича Голицына родился сын Михаил.
1687 год
Михаил Голицын начал военную службу барабанщиком в Семеновском полку.
1694 год
Голицын произведен в прапорщики.
1695–1696 годы
Голицын участвует в Азовских походах.
1700–1721 годы
Голицын участвует в Северной войне.
1708 год
30 августа — Голицын, командуя пехотной дивизией, наносит поражение шведскому отряду при селе Добром.
1709 год
27 июня — Голицын командует гвардией во время Полтавского сражения.
1710 год
Голицын принимает участие в осаде Выборга.
1711 год
Голицын принимает участие в Прутском походе.
1714 год
19 февраля — Голицын, командуя войсками в Южной Финляндии, наносит поражение шведско-финскому отряду под командованием генерала К. Армфельда у села Лаппола.
1717 год
27 июля — Голицын принимает участие в Гангутском морском сражении.
1720 год
27 июля — Голицын, командуя отрядом гребных судов, одерживает победу в Гренгамском морском бою.
1721 год
Голицын назначается командующим войсками в Петербурге.
1723 год
Голицын назначается командующим войсками на Украине.
1725 год
Голицыну указом императрицы Екатерины I присваивается воинское звание генерал-фельдмаршала.
1728 год
Голицын назначается президентом Военной коллегии.
1730 год
Голицын за участие в составлении «Кондиций» императрице Анне Ивановне уволен в отставку.
10 декабря — в Москве скончался князь Михаил Михайлович Голицын.
Примечания
1
Софья Алексеевна (1657–1704) — русская царевна, правительница Русского государства в 1682–1689 гг. при двух царях — ее малолетних братьях Иване V и Петре I. К власти пришла с помощью В. В. Голицына. Свергнута Петром I, заключена в Новодевичий монастырь.
(обратно)2
Голицын Василий Васильевич (1643–1714) — князь, боярин, фаворит правительницы Софьи. В 1676–1689 гг. возглавлял Посольский и другие приказы. Участник Чигиринских (1677–1678) и глава Крымских (1687, 1689) походов. В 1689 г. сослан Петром I в Архангельский край.
(обратно)3
Людовик XIV (1638–1715) — французский король с 1643 г., из династии Бурбонов. Его правление — апогей французского абсолютизма. Многочисленные войны, большие расходы королевского двора, высокие налоги вызывали народные восстания.
(обратно)4
Кравчий — почетная должность и придворный чин в Русском государстве XV–XVIII вв. Кравчий служил царю за столом, в его ведении были стольники.
(обратно)5
Бирюч (бирич) — в Древней Руси глашатай, объявлявший на площадях волю князя.
(обратно)6
Мазепа Иван Степанович (1644–1709) — гетман Украины (1687–1708). Стремился к отделению Левобережной Украины от России. Во время Северной войны (1700–1721) перешел на сторону вторгшихся на Украину шведов. После Полтавской битвы (1709) бежал в турецкую крепость Бендеры вместе с Карлом XII.
(обратно)7
Монтекукколи Раймонд (1609–1680) — граф, имперский князь и герцог, австрийский фельдмаршал, военный теоретик. Одержал ряд побед над шведскими и турецкими войсками. Сторонник создания постоянной, хорошо обученной армии и сильной артиллерии.
(обратно)8
Кромвель Оливер (1599–1658) — деятель Английской революции XVII в., руководитель индепендентов. В 1640 г. избран в Долгий парламент. Один из главных организаторов парламентской армии, одержавшей победы над королевской армией в 1-й (1642–1646) и 2-й (1648) гражданских войнах. Опираясь на армию, изгнал из парламента пресвитериан (1648), содействовал казни короля и провозглашению республики (1649). С 1650 г. — лорд-генерал, с 1653 г. установил режим единоличной военной диктатуры — протекторат.
(обратно)9
Яков II (1633–1701) — английский король в 1685–1688 гг. Из династии Стюартов. Пытался восстановить абсолютизм и его опору — Католическую церковь. Низложен в ходе государственного переворота в 1688–1689 гг.
(обратно)10
Валахия — историческая область на юге Румынии, между Карпатами и Дунаем. С XIV в. — княжество, с XVI в. — под турецким государством. В 1859–1861 гг. объединилась с Молдовой в единое государство.
(обратно)11
Вобан Себастьян Ле Претр де (1633–1707) — французский военный инженер, маршал Франции, маркиз. Изложил научные основы фортификации, построил и перестроил свыше 300 крепостей, разработал метод постепенной атаки крепостей, один из основоположников минно-подрывного дела.
(обратно)12
Матвеев Артамон. Сергеевич (1625–82) — боярин, приближенный царя Алексея Михайловича. Участник подавления Московского восстания 1662 г. С 1671 г. руководитель российской дипломатии. С 1676 г. в опале. Возвращен в Москву в 1682 г., убит стрельцами.
(обратно)13
Гирло — местное название рукавов или проток в дельтах крупных рек, впадающих в Черное и Азовское моря.
(обратно)14
Ингрия (Ижорская Земля, Ижора) — историческое название в XII-XVIII вв. территории по берегам Невы и юго-западному Приладожью. С 1228 г. — владение Великого Новгорода, с 1478 г. в Российском государстве. В 1581–1590, 1609–1702 гг. оккупирована Швецией. Возвращена России в 1702–1703 гг.
Корела — название г. Приозерска в Ленинградской области до 1611 г.
(обратно)15
Лойола Игнатий (1491–1556) — испанский дворянин, основатель ордена иезуитов. Выработал организационные и моральные принципы ордена.
(обратно)16
Далмация — историческая область на островах побережья Адриатического моря. Древнее население — далматы (отсюда — название) и др. В VI–VII вв. заселена славянами. В IX в, вошла в Хорватское государство, в начале XII в. — в Венгрию. С 1945 г. в составе Черногории и Хорватии.
Истрия — полуостров в Хорватии, Словении и Италии, вдается в Адриатическое море почти на 100 км.
(обратно)17
Алексей Петрович (1690–1718) — русский царевич, сын Петра I. Безвольный и нерешительный, он стал участником оппозиции реформам Петра I. Бежал за границу, был возвращен и осужден на казнь. Умер в тюрьме.
(обратно)18
Митридат VI Евпатор (132–63 до н. э.) — царь Понта. Вел борьбу со скифами; подавил восстание Савмака в Боспорском царстве. Подчинил все побережье Черного моря. В войнах с Римом был побежден и покончил с собой.
(обратно)19
Лепанто — прежнее название — г. Нафпактос (Греция); около Лепанто у входа в залив Пазраикос 7 октября 1571 г. испано-венецианский флот разгромил турецкий флот; последний крупный флот гребных флотов.
(обратно)20
Штатгальтер — наместник главы государства в Нидерландах, в землях Австрийской империи, в фашистской Германии.
(обратно)21
Порта (Оттоманская Порта, Высокая Порта, Блистательная Порта) — принятые в европейских документах и литературе (в средние века и новое время) названия правительства Османской империи.
(обратно)22
Курляндия (Курзене) — историческая область в Западной Латвии; древняя Курса. В XIII в. захвачена немецкими рыцарями, часть Ливонии: С 1561 г. — Курляндское герцогство, в 1795–1917 гг. — Курляндская губерния Российской империи.
(обратно)23
Зунд (Эресунн) — пролив, соединяющий Балтийское море с проливом Каттегат, между Скандинавским полуостровом и островом Зеландия.
(обратно)24
Эстляндия — историческое название Северной Эстонии. С XIII в. под властью Дании, со 2-й половины XVI в. — Швеции. С 1710 г. Ревельская, в 1783–1917 гг. Эстляндская губерния России.
Ливония — вся территория современных Латвии и Эстонии со 2-й четверти XIII в.
(обратно)25
Голштиния (Шлезвиг-Гольштейн) — земля в Германии, административный центр — город Киль.
(обратно)26
Лифляндия — официальное название территорий Северной Латвии и Южной Эстонии в XVII — начале XX вв.
(обратно)27
Тюренн Анри де Ла Тур д’Овернь (1611–75) — виконт, маршал-генерал Франции (1660). Одержал ряд побед, осуществлял маневрирование войсками в сочетании с решительным ударом. Убит во время рекогносцировки позиций противника.
(обратно)28
Люнет — открытое с тыла укрепление, состоявшее обычно из 1–2 фронтальных валов с рвом впереди и боковых валов.
(обратно)29
Фирман — указ шахов Ирана, султанов Османской империи, других государей в странах Ближнего и Среднего Востока.
(обратно)30
Пуфендорф Самуэль (1632–1694) — немецкий юрист, представитель естественно-правового учения в Германии.
(обратно)31
Макиавелли Никколо (1469–1527) — итальянский политический мыслитель, историк, писатель. Ради упрочнения государства считал допустимым любые средства. Отсюда термин «макиавеллизм» для определения политики, пренебрегающей нормами морали.
(обратно)32
Мальборо Джон Черчилль (1650–1722) — английский полководец и государственный деятель, герцог, генерал-фельдцейхмейстер (1702). Принадлежал к партии вигов. Во время войны за Испанское наследство до 1711 г. главнокомандующий английской армией на континенте.
(обратно)33
Софья Палеолог (?–1503) — племянница последнего византийского императора Константина XI, жена (с 1472 г.) великого князя московского Ивана III.
(обратно)34
Иван III (1440–1505) — великий князь московский (с 1462 г.), сын Василия II. В правление Ивана III сложилось территориальное ядро единого Российского государства, началось складывание центрального государственного аппарата. Присоединил Ярославль, Новгород, Тверь, Вятку, Пермь и др. При Иване III было свергнуто монголо-татарское иго («стояние на Угре», 1480 г.), составлен Судебник (1497), произошло оформление титула — великий князь «всея Руси».
(обратно)35
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — русский литературный критик. Сотрудничал в журналах «Телескоп», «Отечественные записки» и «Современник». Разработал принципы натуральной школы — реалистического направления в русской литературе.
(обратно)36
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ, математик, физик, языковед, основатель и президент Бранденбургского научного общества (позднее — Берлинская АН). По просьбе Петра I разработал проекты развития образования и государственного управления в России.
(обратно)37
Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778) — французский писатель и философ-просветитель. Сыграл значительную роль в развитии мировой, в том числе русской философской мысли, в идейной подготовке французской революции конца XVIII в.
(обратно)38
Скампавея — военное быстроходное парусно-гребное судно русского галерного флота XVIII в., предназначалось для действий в шхерах.
(обратно)39
Гангут — русское название полуострова Ханко (Финляндия). Во время Северной войны 1700–1721 гг. около Гангута авангард русского галерного флота под командованием Петра I 27 июля 1714 г. разгромил шведскую эскадру контр-адмирала Н. Эреншельда и захватил все 10 вражеских кораблей, одержав первую в истории русского флота крупную морскую победу.
(обратно)40
Верховный тайный совет (верховники) — высшее совещательное государственное учреждение России в 1726–1730 гг., состоял из 7–8 человек. Создан Екатериной I как совещательный орган, фактически решал важнейшие государственные вопросы. Пытался ограничить самодержавие в свою пользу, но был распущен императрицей Анной Ивановной.
(обратно)
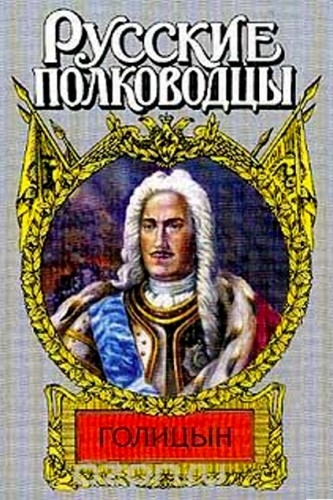

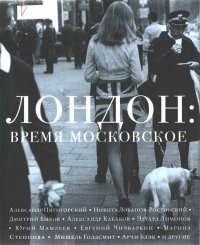
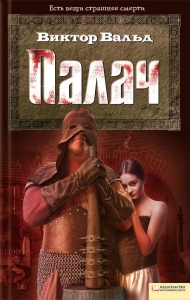


Комментарии к книге «Генерал-фельдмаршал Голицын», Станислав Германович Десятсков
Всего 0 комментариев