Ищите связь...
Издается к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции
ПРОЛОГ
«Участвуют представители судовых комитетов судов «Севастополь», «Полтава», «Гангут», «Грозящий», «Баян», «Ловкий», «Хивинец», «Храбрый», «Самсон», «Меткий», «Страшный», «Пламя», «Республика», «Патрон», «Азард», «Гриф», «Мста», «Ретивый», «Подвижный», «Разящий», «Видный», «Нарова», «Гражданин», «Память Азова», «Выносливый», Свеаборгского флотского полуэкипажа, береговой роты минной обороны совместно с Центральным Комитетом Балтийского флота».
«Пленарное заседание судовых комитетов вышеназванных судов, находящихся в г. Гельсингфорсе, совместно с Центральным Комитетом Балтийского флота, обсудив вопрос о текущем моменте, постановило: твердо стоять на передовых позициях, занятых Балтийским флотом, на защите интересов демократических организаций. По первому зову Центробалта идти и победить или умереть. Во всяком случае, смерть лучше позора…»
Протокол Центрального Комитета Балтийского флота № 103 от 24 октября 1917 года Ц е н т р о б а л т24 октября. Гельсингфорс. Яхта «Полярная Звезда»
— Товарищ председатель Центробалта! Получена радиограмма из Петрограда. Текст: «Центробалт, высылай устав». Подпись — Антонов-Овсеенко.
— Ну-ка, дай-ка ее сюда… Смотрите, товарищи, все точно: «Высылай устав». Значит, надо понимать — началось! Теперь всем за дело, как условлено. Эсминцы — Питеру, без захода в Кронштадт. Матросские отряды — эшелонами по железной дороге. Комиссарам Центробалта на кораблях и в штабе флота присутствовать с этого часа при расшифровке всех телеграмм и отдании приказаний. У кого есть вопросы?
Ночь на 25 октября. Франко-Русский завод. Крейсер «Аврора»
— Как командир вверенного мне корабля я обязан выполнить приказ Морского генерального штаба о выходе «Авроры» в море для испытания машин.
— Приказ отменен Центробалтом. Нам предписано всецело подчиняться распоряжениям Петроградского военно-революционного комитета. Уже поступило распоряжение вывести крейсер к Николаевскому мосту.
— Я не в состоянии этого сделать…
— Ну что же — как комиссар беру командование на себя!
— Однако прошу вас иметь в виду, что без предварительных промеров крейсер не сможет пройти по Неве.
— Ничего, если надо, то мы и промеры сделаем в лучшем виде.
25 октября. Кронштадт. Линкор «Заря Свободы»
— Петр Александрович! Мы вас на судовой комитет вот зачем пригласили: получено распоряжение Кронштадтского исполкома вывести «Зарю Свободы» в Морской канал к 114-му пикету.
— Какова цель?
— Если Керенский двинет войска на Питер со стороны Гатчины, взять под огонь артиллерии весь лиговский железнодорожный узел.
— Что ж, вполне разумно.
— А вы как?
— Что как?
— Так ведь сами понимаете — в открытую против правительства выступаем. Тут уж ходу назад не будет. А с вас — с командира корабля, в случае чего, спрос особый…
— А вот это, товарищи, разговор уже лишний. Я с вами был в июльские дни и во время корниловского мятежа. Почему же мне теперь в стороне оставаться!
— Ну, спасибо вам, Петр Александрович!
— За что же спасибо? Приказ для всех приказ. Вместе и будем выполнять.
25 октября. Смольный. Военно-революционный комитет
— Теперь о моряках. Товарищ Ленин правильно назвал Балтийский флот силой, на которую мы можем опереться. События последних суток это еще раз подтвердили. Из Гельсингфорса направлены в столицу четыре миноносца. Только что получено известие об их швартовке. Сводные отряды кораблей гельсингфорсской базы движутся к Петрограду. А кронштадтцы уже здесь — их десант высажен и занимает намеченную позицию возле Зимнего дворца. Вместе с ними — отряды Гвардейского и Второго балтийского экипажей. Команда «Авроры» еще рано утром прогнала юнкеров с Николаевского моста, и крейсер в любой момент готов открыть огонь по Зимнему. Рядом с «Авророй» находятся прибывший из Кронштадта минный заградитель «Амур» и гельсингфорсские эсминцы. Еще три миноносца встали ниже Дворцового моста. Всего к настоящему моменту в распоряжении Петроградского ВРК находятся в общей сложности одиннадцать боевых кораблей и более десяти тысяч моряков. В случае необходимости Центробалт подошлет новые силы.
25 октября. Петроград. Зимний дворец
— Скажите, адмирал, кто у вас командует Балтийским флотом?
— Не задавайте колких вопросов, коллега!
— Но все-таки, все-таки… Вы же морской министр. Кому, как не вам…
— Да оставьте вы, ради бога, этот тон! Если уж вам хочется четкого ответа, так извольте: сейчас командуют флотом Центробалт, большевики, комиссары, комитеты. Достаточно?
— Благодарю за откровенность, Дмитрий Николаевич. Хоть вы-то смотрите правде в глаза. Так ответьте еще на один вопрос: что будет, если «Аврора» действительно откроет по Зимнему огонь?
— Что будет? Известно что — от Зимнего клочья полетят.
— Бог мой, бог мой! Кто мог думать, что доживем до такой ситуации — члены законного революционного правительства под огнем флотских пушек!
— Это вы так считаете, что революционного. У них свое мнение. Революция там — за этими стенами. А здесь, в Зимнем, как говорят французы: сов ки пё (спасайся кто может).
— Вы еще шутите в такой миг! Но когда же, когда мы упустили контроль, выпустили события из рук? В марте? В июле? После корниловского мятежа? Когда матросов и офицеров разделила глухая стена?
— Э, коллега! Вон вас куда потянуло… Не ко времени этот разговор, но только скажу вам, что стена, о коей изволите говорить, куда раньше возникла. Сами мы ее и возводили. А если о флоте говорить, то у матросов путь к осаде Зимнего не сегодня и не вчера начался. «Потемкин» еще в девятьсот пятом был. Потом «Очаков», «Память Азова», восстания в Свеаборге, в Кронштадте, во Владивостоке. Если все считать, со счета можно сбиться. А вы спрашиваете «когда». Да еще пять лет назад — в девятьсот двенадцатом году корабли Балтфлота чуть было не пришли в Неву под красными флагами. Может быть, только случайность и помешала тогда.
— Ах, Дмитрий Николаевич! Не до истории сейчас…
— Так сами же на этот разговор натолкнули. А без истории и нынешнее не понять. Так-то, господин министр иностранных дел!
25 октября. Петроград. Арка Главного штаба
— Едва тебя разыскал, Серега! Вместе теперь будем Зимний брать.
— Да ты что же, голова садовая, никак со съезда сбежал? Зря, что ли, мы тебя делегатом выбирали от Балтфлота?
— Да никуда не уйдет съезд. Еще и на завтра хватит заседать. И к тому ж, пока Зимний не возьмем, никаких резолюций не будет. А я, может, этого часа все пять лет каторги ждал. Не пробились мы сюда в девятьсот двенадцатом — так теперь уже никто нас не свернет. А помнишь, Серега, как тогда в Гельсингфорсе ты говорил: «Содрогнутся под жерлами орудий царские дворцы и троны»? Здорово! До сих пор ведь я не позабыл. Вот и дождались.
— Царский трон еще в феврале — тю-тю…
— Так это формальный момент, Серега! А главное-то сегодня решится. За это главное-то мы голов своих не жалели, по тюрьмам да каторгам мыкались.
— Да, есть что вспомнить!
— Да… Вот сейчас тут у нас, погляди, какая силища собралась — рабочие, матросы, солдаты. Тысячи! А из Зимнего защитнички все бегут и бегут, осталась юнкеров горстка. Я так думаю, что, когда сигнал дадут — мы их мигом сомнем. Но ведь в нашей победе неминучей и та кровь зачтется, что раньше была пролита. Сколько же мы народу потеряли, пока сюда дошли! А ежели о товарищах говорить, то больше всего помню Думанова. Человек был какой! Перемололи его тогда жандармские жернова…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРОГНОЗ РОТМИСТРА ШАБЕЛЬСКОГО
В 1911—1912 годах в Гельсингфорсе действовал подпольный Военно-революционный комитет, состоящий из десятка рабочих-большевиков, ведущих революционную пропаганду среди моряков Балтийского флота.
(По воспоминаниям членов Гельсингфорсского подпольного Военно-революционного комитета — И. Воробьева, А. Тайми, А. Шотмана.)Штат расположенных в Гельсингфорсе Финляндского жандармского управления, Гельсингфорсского жандармского отделения, Свеаборгской крепостной жандармской команды в 1912 году насчитывал: полковников — 1, подполковников — 3, поручиков — 1, ротмистров — 2, вахмистров — 5, унтер-офицеров — 67, переводчиков — 3, писарей — 4.
(По данным «Списка общих чинов отдельного корпуса жандармов», 1911 г.)Рейд, где стояли броненосные корабли российского императорского флота, был совсем недалеко от облицованной гранитом набережной Гельсингфорса, и поэтому с берега легко было разглядеть палубные надстройки, темные раструбы вентиляционных труб, круги иллюминаторов, линии лееров над бортами, черные неподвижные фигурки часовых возле повисших кормовых флагов. Когда со стороны моря налетал порыв студеного режущего ветра, складки флагов оживали, расправлялись, начинали струиться по воздуху, и тогда на белых полях полотнищ отчетливо проступали перекрещенные синие полосы.
Тяжелые, глубоко сидящие корабли словно застыли, оцепенели в ледяной весенней воде. И только движение черных фигурок на палубах да мягкий хрустальный перезвон колоколов, долетавший с рейда каждые полчаса, напоминали о том, что корабельная жизнь идет своим чередом.
К вечеру, когда с моря наплывали синие сумерки, линейные корабли и крейсеры теряли объемность, превращались в силуэты — сначала четкие, а потом расплывчатые, зыбкие, словно растворялись в наступающей темноте. Но слиться с ней не успевали — на высоких мачтах разом вспыхивали огни, над палубами загорались осветительные лампы, а вдоль бортов золотистыми цепочками желтели иллюминаторы. Все это созвездие огней переливалось, змеилось неверными бликами в черной маслянистой воде.
Может быть, в другой вечер — не такой промозглый и ветреный, как этот, — по набережной слонялись бы прохожие, любуясь карнавальной красотой разноцветных огней, причудливо отраженных морем, но при таком пронизывающем сыром ветре даже привыкшие к холодам финны предпочитали сидеть по домам. Да к тому же по гельсингфорсским понятиям было уже поздно — стрелки часов подходили к десяти. В это время чинный и строгий, одетый в гранит Гельсингфорс уже отходил ко сну, в окнах домов гас свет. Лишь в ночных ресторанах и клубах за толстыми зеркальными стеклами, прикрытыми плотным, подсвеченным изнутри шелком портьер, маячили неясные тени поздних посетителей — приезжих из Петербурга, морских или сухопутных офицеров. А на улицах было безлюдно.
И поэтому трудно сказать, сколько людей видело, да и видел ли кто-нибудь вообще, как взметнулся над рейдом, прорезал тьму голубоватый луч прожектора, уперся в клубящуюся кромку низкого облака, словно увязнув в нем, а потом заплясал огненным зигзагом, неожиданно описал крутую дугу от моря к городу, беззвучно скользнул по темным стенам и крышам и вдруг остановился, высветив купол собора. Ослепительно вспыхнул, засиял в бездонной черноте неба золотой прочерк креста, словно поплыл, плавясь и пылая, навстречу высветленным лучом клочьям низких облаков.
Но если на берегу, может быть, и некому было взглянуть на сверкающий крест, то матрос второй статьи линейного корабля «Цесаревич» Сергей Краухов видел его как на ладони. Да и кому другому было его видеть, коли он сам только что собственными руками навел луч прожектора на купол?
Матросу невдомек было, что из-за этого прожектора в течение последних суток получили нагоняй несколько человек и что теперь наступала его очередь.
А началось все накануне вечером, когда после пробного плавания возвращался в гавань крейсер «Рюрик», шедший под флагом командующего морскими силами Балтийского моря. С крейсера световым семафором был передан на «Цесаревич» приказ адмирала, но вопреки строгим морским правилам ответное подтверждение о том, что приказ принят и понят, не было получено. Случилось же это из-за неисправности прожектора. Пока расчехляли запасной, командующий успел прийти в бешенство и выдал командиру «Цесаревича» фитиль такой эмоциональной окраски, что вахтенные офицеры с соседних кораблей, читавшие семафор, пришли в изумление. Пострадавший по чужой вине командир тут же на мостике учинил разнос старшему офицеру, сказав, что бардака на корабле терпеть не намерен. Старший офицер, в свою очередь, язвительно распек штурманского электрика лейтенанта Артемьева.
Следующим в этой цепочке должен был стать унтер-офицер Малыхин. Однако штурманский электрик нашел в себе силы погасить вспыхнувший гнев. Из всех его подчиненных лучшими специалистами были Малыхин и матрос второй статьи Краухов. Как назло, только что поступил приказ о переводе обоих в Кронштадт, и служить им под его началом оставалось что-то около суток. Ругать унтер-офицера, а тем более наказывать его, в сложившейся ситуации было никак невозможно, потому что в отместку он сделает вид, что чинит прожектор, а на деле проволынит с ним, а потом уедет, бросив все как есть. А в чем заключалась причина неисправности, лейтенант, по правде сказать, и сам не знал. Здраво взвесив все обстоятельства, он решил не только не ругать подчиненных, а, напротив, постараться задобрить их.
Вот почему его приказание Малыхину и Краухову прозвучало в тоне совсем не строгом. И тут же лейтенант добавил, что назавтра намерен дать обоим увольнение в город для того, чтобы они смогли сделать все, что им нужно перед отъездом. Конечно же, о ремонте прожектора и увольнении на берег было сказано так, будто одно с другим вовсе даже не связано, но электрики прекрасно поняли, что к чему.
С прожектором они начали возиться сразу же после обеда. Разобрали все чуть ли не по винтику, прощупали провода и контакты, проверили рубильники и крепления графитовых стержней, а причину поломки так и не обнаружили. Час проходил за часом, и электрики изрядно продрогли на студеном ветру, но греться не уходили. Нетерпеливый и порывистый Краухов в открытую злился, раздраженно кусал губы. Спокойный в обычное время Малыхин хмурил брови, вполголоса чертыхался.
Незаметно сгустились сумерки, стало еще холоднее. Краухов сбегал в шкиперскую, принес лампочку-переноску, и они продолжали возиться при ее тусклом свете. Иззябшие, усталые и приунывшие, они уже хотели кончать, так и не найдя причину неисправности, когда Малыхин решил на всякий случай заменить графитовые стержни. Краухов снова врубил ток, и на этот раз, к великой их радости, в глубине зеркального рефлектора сверкнула искра, соединив концы параллельных графитовых цилиндриков. Вспыхнула нестерпимым пламенем, пошла полыхать, сухо потрескивая под стеклом, вольтова дуга. От направленного в зенит отражателя встал голубоватый столб света, уперся в клубящееся дно проплывающего облака.
Краухов чуть тронул круглый корпус прожектора — и луч послушно отклонился. И вот тогда-то у матроса мелькнула вдруг шальная мысль о том, что этот голубоватый свет как бы изливается из его рук и что он может попасть лучом в любое место, куда захочет, и не промахнется. Так было однажды в детстве, когда он с ребятами гнался за мальчишками с другой улицы. Противники успели проскочить земляной вал, за которым проходила уже их территория, и оттуда стали швыряться камнями. Друзья в нерешительности остановились, отступили на безопасное расстояние, а Сережка поднял с земли небольшой плоский камень-голыш, прикинул его на ладони и вдруг почувствовал, что если он сейчас бросит его, то обязательно попадет куда надо. Он ощущал такую уверенность, словно голыш был не простым, а волшебным, полностью послушным его руке. Он даже заколебался тогда, кидать или нет, может быть, камень и в самом деле необыкновенный и еще пригодится ему в жизни. Но все же решился и с каким-то незнакомым себе лихим вскриком швырнул камень вперед, метясь в рыжего предводителя противников, и снова ощутил, что обязательно попадет.
Голыш описал необычно высокую дугу и угодил вожаку противников прямо в лоб, отчего тот взвыл и, забыв о своем достоинстве, в голос заревел. Потрясенные невиданным броском, а может быть, и слезами своего предводителя, мальчишки с соседней улицы позорно бежали, а Сергей весь остаток дня купался в лучах нежданной славы и безоговорочного восхищения друзей.
С той поры прошло лет двенадцать, и вот сейчас нежданно Краухов ощутил в себе послушную силу. Он крутнул прожектор, отчего луч метнулся, прорезал мрак. Озорно прищурив глаз, Сергей вдруг спросил Малыхина:
— Ну? Хочешь, с одного маху крест собора лучом накрою?
Не дожидаясь ответа, он резким движением развернул прожектор влево и остановил луч точно на верхушке купола. Глаза Сергея торжествующе блестели.
— Сдурел ты, что ли, Серега? — торопливо сказал Малыхин. — Вахтенный офицер заметит.
Но предупреждение запоздало — с палубы послышался окрик:
— Эй, на мостике! Кто там дурить вздумал? Немедленно вырубить ток и подойти ко мне!
Сергей резко дернул рубильник на себя, и голубоватый, почти осязаемый луч сразу исчез. Продолжала светить лишь переносная лампочка, и в ее свете Краухов увидел, как укоризненно покачал головой его товарищ. Без слов стало ясно: поминай увольнительную как звали! Однако раздумывать было некогда — раздражение в голосе вахтенного подхлестывало обоих. Первым скатился по трапу, грохоча башмаками, Малыхин, а за ним так же быстро Краухов. Печатая шаг, подошли к офицеру, дружно щелкнули каблуками, застыли с выпяченными подбородками. Подошли четко, как на царском смотре. Надеясь, что молодцеватая выправка, столь ценимая начальством, хоть как-то смягчит гнев офицера.
Он томительно долго рассматривал обоих, брезгливо кривил губы. Лицо как бы подернулось дымкой скорбного недоумения по поводу того, что приходится смотреть на таких законченных идиотов. Сбоку и чуть позади офицера словно врос в палубу боцман Хопров, ухмылялся в ожидании шикарного фитиля — мичман Корецкий был самым известным на корабле мастером издевательского разноса. Знали об этом и провинившиеся.
Но на этот раз ожидаемый боцманом спектакль не состоялся. Откуда-то вдруг вывернулся лейтенант Артемьев, спросил торопливо:
— Случилось что-то, господин мичман?
— Цирк! Дивертисмент! Феерия! — пожал плечами Корецкий. — И кроме этого — ничего.
— Не понял?
— Да понимать в це’ом нечего. Вот эти о’ухи, — мичман кивнул в сторону вытянувшихся матросов, — только что резви’ись подобно несмыш’еным отрокам. А как именно — пусть сами до’ожат…
— Вполне резонно, — согласился Артемьев. Коротко приказал Малыхину: — Давай ты рассказывай.
— Дозвольте доложить, ваше благородие, — сказал, кашлянув, унтер-офицер, — главная неисправность в прожекторе полностью устранена. Вольтова дуга горит и дает положенный луч!
— Так! Ну а дальше что?
— А дальше… Дальше мы провели проверку на круговое движение прожектора, однако повели луч слишком низко и случайно высветили часть берега.
— И это все?
— Никак нет, ваше благородие! Как раз в этот момент поворотный круг заклинило и луч на соборе остановился…
— Все?
— Все, ваше благородие!
Мичман Корецкий хмыкнул, с усмешкой хлопнул снятыми перчатками о ладонь.
— Ве’ико’епное объяснение! Видите, они с’учайно высвети’и берег. Это нам просто посчаст’иви’ось, что они прожектор чини’и, а не пушку, а то ведь мог’и с’учайно выпустить снаряд в собор…
Как и все офицеры на корабле, лейтенант Артемьев знал, что мичман Корецкий, несмотря на молодость, страшенная зануда и если его не остановить, то тирада будет длиться до бесконечности. Он умело воспользовался паузой, позволившей ему войти в разговор, не перебивая собеседника.
— Согласен с вами, мичман, целиком — безответственность полнейшая. Оба заслуживают наказания. Итак, отменяю обоим завтрашнее увольнение на берег. А теперь соберите инструменты — и марш в кубрик!
У Сергея дрогнуло сердце — дождался-таки… И черт же его дернул поозоровать напоследок — и себя подвел, и товарища…
Они снова поднялись на мостик, Малыхин молча и, как всегда, аккуратно укладывал инструменты в гнезда брезентовой сумки, не говорил ни слова. Сергей видел по лицу товарища, что тот сердит и огорчен до крайности, и оттого чувство вины становилось еще острее — уж лучше бы отругал его Денис в сердцах.
Когда отнесли инструменты в шкиперскую и уже подходили к кубрику, Краухов не выдержал, нарушил молчание:
— Не серчай ты на меня, ради бога! Не подумавши я поступил, сам не знаю, как это получилось…
— То-то и оно, что мало думаешь! — неожиданно зло сказал Малыхин. — Правильно про тебя мичман сказал — отрок ты и есть… тебе не службу нести, а с мальчишками по улицам озоровать…
Слова товарища укололи Сергея. Он особенно был уязвлен оттого, что Денис высказался о нем как бы заодно с Корецким. Но в глубине души понимал, что за дело и по справедливости его ругают, и от этого становилось не легче, а еще горше.
Он хорошо знал и причину злости товарища — была у того на берегу знакомая девушка, работала табельщицей в портовой мастерской, и Малыхин как-то признался ему, что хочет жениться на ней. А теперь они уедут в Кронштадт, не побывав на берегу, и Денис не сможет повидаться с нею, предупредить об отъезде. Да и у самого Сергея была причина во что бы то ни стало побывать в увольнении. Но о том, почему это было так необходимо, он не имел права сказать даже Малыхину.
В кубрике, где после дня, проведенного на верхней палубе, воздух казался особенно спертым, при свете синей ночной лампочки Сергей подвесил на крючья парусиновую койку, тихо, чтобы не обеспокоить спящих товарищей, поставил к переборке тяжелые ботинки, привычно быстро разделся и улегся под одеяло.
Несмотря на усталость, сон долго не приходил к нему. Лежа с открытыми глазами, он все думал о своем неудачливом характере, из-за которого столько раз попадал впросак. И надо же было ему уродиться на свет с такой натурой!
На характер свой Сергей сетовал не зря. Еще с малых лет ему постоянно попадало за озорство и строптивость, за дерзкий язык. Самый младший в большой семье Крауховых, он был общим баловнем, что, впрочем, не спасало его от порки. Из всей семьи только самый старший брат Терентий никогда не тронул Сережку и пальцем, но именно его-то мальчишка уважал, побаивался больше всех, а с остальными был колюч и дерзок.
Вся улица знала его как первого заводилу и драчуна. Он вроде и силенкой особой не отличался, но был отчаянно смел, цепок и увертлив, что давало ему в драках заметное преимущество даже перед более крепкими ребятами. Зато хитрости, осмотрительности или хотя бы осторожности в нем не было ни на грош, и поэтому не раз он попадался в ловушки, расставленные продувными сверстниками.
Живя всего в полуверсте от главной проходной Путиловского завода, на котором работали чуть ли не все жители окрестных улиц, Сережа с малых лет был в курсе заводских событий, знал, что такое стачки, видел, как разгоняют демонстрации и как арестовывают забастовщиков. Однажды (ему тогда еще и десяти не было) встрял в борьбу своими собственными средствами — он и двое таких же отчаянных его приятелей забрались на крышу склада и оттуда обстреляли из рогаток зловредного околоточного надзирателя Фомина. Затея обернулась нешуточным делом: железная гайка угодила полицейскому в глаз, отчего он окривел. Полиция проводила специальное следствие, опрашивала подряд всех жителей в округе, но улица была своя — не выдала.
Год спустя Сергея с треском вытурили из четырехклассного городского училища, после того как дознались, что это именно он насыпал в чернильницу директору карбиду, отчего чернила вспучились лиловыми вонючими пузырями и в комнате надолго установился тошнотворный запах. Быть бы Сережке нещадно выпоротому, да как раз старшего брата Терентия провожали на службу в царский флот, и на очередное озорство махнули рукой. Вскоре отец определил его учеником в скобяной магазин в надежде, что хотя бы один его сын вырастет обеспеченным человеком. Но три дня спустя Сергей надерзил хозяину и был выгнан взашей. Боясь показаться домой, он ушел бродить по берегу реки и неожиданно для себя сговорился на причале с хозяином буксира идти к нему в юнги за харчи и рубль жалованья в месяц. С июня по октябрь буксир таскал тяжелые пузатые баржи по Неве в Ладогу и обратно, но, когда похолодало и пароходик загнали в затон, Сергей все же вернулся домой. И тогда его устроили учеником клепальщика на путиловскую верфь.
Три года подряд изо дня в день накалял он на горне заклепки, подавал их длинными щипцами клепальщикам, одуревая от чада угля и горелого металла, от тяжкого грохота пудовых кувалд. А летом того года, когда Сергею уже исполнилось пятнадцать лет, домой вернулся со службы старший брат Терентий. По письмам о нем знали, что служил он на знаменитом крейсере «Варяг», участвовал в известном бою с японскими крейсерами возле корейского порта с чудным названием Чемульпо. И вот воскресным днем, когда все братья и сестры были в сборе, открылась дверь, и вошел Терентий в белой форменке с синим воротником, в матросской бескозырке. На груди у брата красовался на оранжево-черной ленте Георгиевский крест.
Сергею крест показался удивительно красивым, но Терентий, едва утихли восторги нежданной встречи, отцепил «Георгия» от рубахи, небрежно бросил на подоконник, сказав, что царских побрякушек носить не будет. В семье его слова приняли спокойно — после Кровавого воскресенья здесь если и говорили о царе, то только со злобой. Все же мать бережно подобрала награду, завернула в белую тряпицу и спрятала в сундучок.
С приездом Терентия судьба Сергея переменилась — старший брат, определившийся электриком на верфь, забрал его к себе подручным. Сам обучившийся новому для себя делу во время флотской службы Терентий сразу же был признан как отменный специалист и теперь терпеливо учил младшего Краухова всем известным ему тонкостям. Спустя полгода Сергей уже мог но только тянуть проводку, установить рубильники или выключатели, но даже разобрать или собрать динамо-машину.
К тому времени их братья и сестры обзавелись своими семьями и своим жильем, разъехались по разным углам Питера. И когда в двух комнатушках маленького покосившегося домика осталось всего четверо, приходилось только удивляться — как это прежде здесь могли размещаться девять человек?
Старший брат учил младшего не только тонкостям своей профессии. От него Сергей впервые услышал, что такое классовая борьба, капитализм, эксплуатация и еще многое другое. Терентий как-то по секрету рассказал, что посещает политический нелегальный кружок, но, когда Сергей попросил повести туда и его, наотрез отказал, прибавив при этом:
— Я тебя люблю, и ты это знаешь. Однако прямо тебе скажу: не дорос ты еще до серьезного дела. Характер у тебя скверный — слишком ты горяч и невыдержан. Стыдно даже сказать людям, что ты до сих пор еще в уличные драки встреваешь, как недоросль какой! Вот если сумеешь перемениться и посерьезнее стать, тогда и поговорим насчет кружка. А пока и не проси.
Как ни обидно было Сергею, но вынужден был он проглотить пилюлю, понимая справедливость этих слов. Что и говорить — выдержки у него было до крайности мало, и не случайно приятели звали его Серега-кипяток. Целых две недели после памятного разговора он терпеливо воспитывал свой характер: после работы сразу шел домой, избегая лихих дружков, слонявшихся вечерами возле Петергофского шоссе. Взялся читать одну из книжек Терентия — об английских рабочих союзах под названием тред-юнионы, но она показалась ему безмерно скучной, и он с трудом одолевал ее.
К концу второй недели примерной жизни, возвращаясь домой со смены, он услышал в переулке истошный крик «наших бьют», не раздумывая ринулся в свалку и был изрядно помят в ней. Наутро Терентий, увидя у него заплывший глаз и ссадину на скуле, только вздохнул и безнадежно махнул рукой.
И все же Сергей дождался своего заветного часа. Однажды в воскресенье Терентий велел ему выучить наизусть один адрес и отнести пакет, передать из рук в руки человеку по фамилии Горский. Выполнив поручение, младший Краухов почувствовал себя на седьмом небе от сознания, что брат начал ему по-взрослому доверять. После этого он еще несколько раз приезжал к Горскому, привозя ему бумаги или устные сообщения. Но потом Горский куда-то исчез.
А летом девятьсот восьмого Терентия арестовали. Жандармы пришли за ним ночью, устроили обыск, перевернули все вверх дном, но ничего запретного не нашли. Все это время Терентий сидел на табурете посреди комнаты, а за спиной его, не спуская с арестованного глаз, стоял огромный усатый жандарм. Сергею и родителям велено было сидеть на лавке в углу под иконами и не сходить с места. Старый Краухов угрюмо смотрел из-под мохнатых седых бровей, как перетряхивают их немудреный скарб, мать беззвучно вздрагивала — плакала в платок.
Потом брата увели, Сергей бросился было следом за ним в безумной надежде отбить, помочь убежать, но загородивший дверь усатый жандарм легко отшвырнул его в угол.
Так и остались они втроем в маленьком домике. После того как брата арестовали, судили и сослали куда-то в Зауралье, Сергей поклялся, что разыщет его товарищей по подполью. Но сделать этого не удалось — то ли не умел он искать, то ли ему еще не доверяли, но следов подпольной организации на заводе он так и не нашел. А тут подоспело время самому идти на службу.
Трудно пришлось ему в матросской шкуре, и особенно на первых порах. Он тяжело переживал всякую обиду — свою и чужую, вспыхивал гневом, видя любую несправедливость. А обид в матросской службе трудно было счесть…
Служил Краухов после окончания школы в Кронштадте электриком на линейном корабле «Цесаревич». И не миновать бы ему дисциплинарных рот, а то и суда, если бы товарищи по службе, любившие Сергея за добрый и справедливый нрав, не оберегали его, сдерживая гневные порывы, успокаивая его вечерами в тесном матросском кубрике. Однажды Сергей не выдержал — кинулся на боцмана, обругавшего его грязным словом. Но ударить не успел — схватили за руки товарищи. Конечно, и за это могли бы отдать под суд матроса второй статьи Краухова, да вступился за него штурманский электрик, ценивший в своем подчиненном редкостное профессиональное умение с ходу разбираться в самых сложных электрических схемах, быстро устранять любые неполадки.
Но все же ходил молодой матрос по острию ножа — были в самом его облике, в манере отвечать начальству независимость, вызывавшая раздражение офицеров, привыкших к показному матросскому рвению. И несмотря на благосклонность лейтенанта Артемьева, дважды уже побывал Сергей в карцере.
На корабле Краухов не мог не обратить внимание на то, что матросы словно невзначай сходятся группами в укромных местах, иногда на ходу торопливо о чем-то договариваются, но, если он пытался подойти к ним в это время, они сразу умолкали и расходились. Он понимал, что среди них есть какой-то сговор, но так и оставался непосвященным до той поры, когда во время увольнения на берег не столкнулся нос к носу с тем самым подпольщиком Горским из Петербурга, к которому не раз заходил по поручению старшего брата.
Горский теперь носил фамилию Шотман. Подпольщик, расспросив матроса о его службе, посоветовал ему в удобный час подойти к комендору Афонину, передать ему условные слова и в дальнейшем во всем слушаться его.
Краухов был просто поражен тогда. В жизни не пришло бы ему в голову, что тихий, на редкость дисциплинированный и исполнительный Афонин может оказаться подпольщиком, и не простым даже, а одним из руководителей.
Так он наконец связался с подпольщиками, стал бывать на нелегальных собраниях, а совсем недавно был посвящен в тайну, от которой зависела не только его собственная судьба, но и судьба всей эскадры.
И надо же было в такой момент попасть под перевод в Кронштадт, да еще и не имея возможности предупредить об этом товарищей на берегу!
Когда матрос второй статьи Краухов навел прожектор на город, он не подозревал, что луч на мгновенье зальет светом комнату, в которой сидит человек, имеющий к его, крауховской, жизни самое прямое отношение.
Но надо сказать, что человек этот, одетый в синюю жандармскую форму, был слишком углублен в бумаги и не осознал даже, что его кабинет был на миг высвечен лучом прожектора.
Настенные часы в коридоре пробили четверть одиннадцатого, когда он поставил точку, тяжелым пресс-папье промокнул чернила и с удовольствием взглянул на большой лист бумаги, исписанный убористым, аккуратным почерком. Откинувшись на спинку стула, он еще раз перечитал заключительную фразу:
«Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сейчас на кораблях флота сравнительно спокойное состояние и тенденции к усилению революционного брожения среди нижних чинов не наблюдается».
Завтра он передаст этот рапорт начальнику управления полковнику Утгофу, который, как это было и раньше, отдаст перепечатать писарю, не внеся никаких поправок.
Конечно, обидно, что подпись будет не его, Шабельского, но что поделать — служба. Придет время, когда и он станет поручать подчиненным писание бумаг, а сам будет лишь ставить под ними несколько небрежную, но достаточно четкую подпись. А пока хорошо и то, что начальство довольно им, явно выделяет его среди других сотрудников управления. Не случайно же именно ему доверено писание рапортов полковнику фон Коттену — новому начальнику Петербургского охранного отделения. Предшественникам Коттена хватало и того, что в сведениях с мест давалось состояние дел на текущий момент, но этот хитрый немец — ставленник самого министра двора барона Фредерикса — требовал, чтобы каждый рапорт содержал в себе и элемент некоторого предвидения. Полковник любил повторять, что настоящий жандарм должен уметь заглядывать вперед событий.
Шабельский засунул рапорт в картонную папку и запер ее в новенький, поблескивающий красной эмалью несгораемый шкаф. Этот добротный стальной ящик с хитроумным запором тоже был плодом деятельности фон Коттена. По его приказанию новые сейфы закупили не где-нибудь, а у солидной немецкой фирмы. Правда, злые языки поговаривали о том, что начальник охранного отделения тем самым дал возможность подзаработать родственнику своей жены, служащему той самой фирмы. Однако на эти разговоры ротмистру было наплевать, тем более что сейфы действительно были отменного качества.
Надев новенькую шинель с серебристыми погонами и фуражку, Шабельский погасил в кабинете свет, вышел в безлюдный коридор — все сотрудники давным-давно разошлись по домам, и, миновав добрый десяток дверей, завернул в туалет с единственной целью: глянуть лишний раз в зеркало, чтобы еще раз убедиться, как ладно сидит на нем недавно сшитая шинель. С полминуты ротмистр разглядывал свое отражение, радуясь, что шинель и впрямь хороша. Стервец портной Хамлялайнен дерет за шитье втридорога, но дело свое знает. Ротмистр довольно улыбнулся своему двойнику в зеркале, лихо крутнул острые копчики усов и уже совсем в преотличнейшем расположении духа покинул туалет.
Дежурный вахмистр, сидевший у конторки в вестибюле, вскочил при его появлении, но Шабельский, махнув рукой, сказал отеческим топом:
— Сиди, ради бога, голубчик, сиди… Не утруждай себя. У тебя еще вся ночь впереди, а я свое дело закончил и скоро уже почивать буду. Держи ключ от кабинета — и будь здоров.
— Желаю всего наилучшего, господин ротмистр, — отозвался вахмистр, который, хотя ему и разрешили сидеть, стоял вытянувшись в струнку.
Прогулка по вечерним хорошо освещенным и чистым улицам Гельсингфорса доставляла удовольствие — улицы были безлюдны, в окнах редко где горел свет. Эти белобрысые долговязые инородцы (все сотрудники в разговорах между собой называли их чухонцами) ложились спать чрезвычайно рано. Зато, правда, и вставали чуть свет.
Служа в финляндской столице, ротмистр никак не мог привыкнуть к образу жизни местного населения, да, собственно, и не пытался. По отношению к финнам он вел себя точно так же, как все другие представители российской администрации, посланные служить в эту своеобразную страну, упорно именуемую в официальных российских документах великим княжеством финляндским. Чиновники и офицеры выказывали полное пренебрежение к финскому языку, местным традициям и нравам, получая в ответ почти не скрываемое презрение. И не только они сами, но даже их семьи были отделены от местного населения глухой стеной неприязни.
Однако любой чиновник прекрасно знал, что презиравшие их чухонцы с охотой укрывали врагов российского престола. И благо бы только рабочие — те давно спелись со своими русскими собратьями, — а то ведь и порядочные люди в лице коммерсантов и промышленников, охотно прятали от сотрудников охранного отделения всех этих террористов, «бомбистов» и прочих революционеров.
Задумавшись о столь досадных вещах, Шабельский постепенно потерял хорошее настроение. И теперь умытые улицы города уже не казались ему приятными. В их чистоте и прямолинейности чудилось что-то враждебное.
Сворачивая за угол, ротмистр нос к носу столкнулся с долговязым финским полицейским, от неожиданности вздрогнул. А полицейский вместо того, чтобы уступить дорогу офицеру, невозмутимо продолжал двигаться, словно перед ним было пустое место. Шабельский вынужден был торопливо сделать шаг в сторону.
Кровь ударила ему в голову, и ругательства готовы были сорваться с языка, но ротмистр сдержался. Ругаться было бесполезно. Это русский городовой вытягивается и замирает как истукан при виде офицерского мундира. Тому и в морду можно врезать при нужде. А попробуй чухонца-полицейского не то чтобы пальцем тронуть, а хотя бы обругать — хлопот потом не оберешься. Нет, что ни говори, а все-таки прав этот бешеный бессарабский помещик Пуришкевич, который недавно в Государственной думе требовал приструнить зарвавшихся финляндцев, лишить их остатков самоуправления, к черту разогнать сейм и полицию, заставить их уважать законы империи…
Шабельский уже подходил к дому, когда навстречу попался еще один запоздалый прохожий. Они поравнялись возле уличного фонаря, и ротмистр успел разглядеть худощавое лицо с торчащими усами, спокойные усталые глаза, профессионально обратил внимание на то, что пальто и шляпа прохожего изрядно поношены, а из-под пальто видна косоворотка. Не будь ее, можно было бы принять человека за мелкого конторщика, обремененного семьей. Но по косоворотке сразу видно — рабочий. Все это Шабельский отметил в уме машинально. И еще мелькнула мысль, что он где-то видел это лицо. Мелькнула и тут же пропала, уступив место другой: что приготовила сегодня на ужин Ариша — баба, исполнявшая в его семье роль горничной и кухарки одновременно.
Шабельский был уже близко от своего подъезда, и мысль об ужине заслонила все остальные. Почему-то ему показалось, что ждет его тушенная с кореньями и специями баранина, приготовлять которую Ариша умела с отменным мастерством.
Когда он открыл дверь своим ключом, ему вновь представилось лицо прохожего и опять подумалось, что он где-то видел этого человека. Но в прихожую, заслышав щелканье замка, уже вплывала Ксения, привычно заботливая супруга.
— Ах, Стась, ты заставил свою половинушку поволноваться. И ужин совсем простыл. Ариша сделала сегодня твой любимый бигус!
Внутренне поморщившись (он недолюбливал эти «половинушки» и прочую сентиментальщину), Шабельский привычно ткнулся усами в тугую щеку жены и окончательно забыл прохожего.
Человек в поношенном пальто и шляпе тем временем вышел на Хенриксгатан, дождался на остановке трамвая и покатил в сторону парка Тёлё. Маленький аккуратный вагончик был почти пуст.
Ах, если бы Станислав Шабельский не был тогда уставшим и смог бы вспомнить лицо прохожего, то не поедал бы он так спокойно жирный бигус. Встреченный им человек был одним из тех, за кем ротмистру надлежало охотиться денно и нощно. К тому обязывала его профессия жандарма, дававшая ему в жизни достаток, чины и ордена, сулившая солидную пенсию к старости, по требовавшая за все это постоянного бдения, служебного рвения и известного профессионального нюха.
Встретившийся ротмистру прохожий по своему социальному положению был мещанином, то бишь принадлежал к сословию хотя и повыше, чем крестьянское, но тем не менее в глазах официальных властей низкому. А что касается положения имущественного, то тут вообще говорить было не о чем — все его богатство состояло в покрытых мозолями руках.
Именно из таких, как он, состоял костяк российской социал-демократической рабочей партии, которую охранка с полным на то основанием считала единственной из всех существующих в России партий, представлявшей серьезную опасность для самодержавия. Их — непреклонных, неподкупных, самозабвенно верящих в правоту своего дела — охранка боялась куда больше, чем шумливых эсеровских боевиков — «бомбистов».
Подлинное его имя было Эдмунд Сантори. Он был родом из семьи поселившегося в Петербурге финского рабочего и, еще не достигнув совершеннолетия, поступил на Обуховский завод. Там еще юношей получил боевое крещение, участвуя в знаменитой Обуховской обороне, когда забастовавшие рабочие булыжниками отбивались от городовых и казаков. По специальности он был слесарем. Но была у него и вторая профессия, которая не давала никаких материальных благ, но зато совершенно точно сулила неизбежные аресты, тюрьмы, ссылки, а в крайнем случае и виселицу. Это была профессия революционера.
Еще в конце девятнадцатого столетия он связал свою жизнь с социал-демократической рабочей партией, когда ее состав исчислялся только десятками людей, и с тех пор служил своей партии верой и правдой.
На трудном пути подпольщика он успел сменить несколько фамилий, был Бергом, Горским, в последнее время числился по документам Александром Васильевичем Шотманом. Под этим именем он работал в мастерской Свеаборгского порта, начальнику которой и в голову не приходило, что старательный, молчаливый слесарь возглавляет подпольный партийный комитет рабочих Гельсингфорса…
В отличие от Шабельского Шотман обладал превосходной зрительной памятью. Столкнувшись с жандармским офицером под фонарем на Владимирской улице, он мгновенно вспомнил, где и при каких обстоятельствах видел его.
Тогда он жил в Одессе. Вместе с женой снимал комнату в большой квартире доходного дома на Пересыпи. В этой же квартире жили еще несколько семей. Однажды ночью к соседу, Семену Приходько, работавшему на паровой мельнице, перебудив всех жильцов, нагрянули с обыском жандармы. Рабочие мельницы в то время бастовали, Семен входил в стачечный комитет. Возглавлял жандармов грузный полковник, а подручным у него был молодой ротмистр с лихо закрученными усами — тот самый, которого Шотман встретил теперь на улице Гельсингфорса. Обыск был долгим. Уже под утро жандармы увели с собой Приходько. На всю жизнь запомнил Шотман, как молодой ротмистр ткнул согнутым локтем в живот жену Семена, когда она кинулась было, чтобы напоследок обнять мужа…
Пустой вагончик трамвая бойко катил в сторону парка Тёлё. Шотман взглянул сквозь заднее стекло на убегающую вдаль улицу и убедился, что она пуста. Возможность слежки, видимо, исключалась. Впрочем, ее не должно быть. Однако нежданная встреча с жандармом на Владимирской улице невольно заставила насторожиться.
Возле железнодорожных складов, где трамвай затормозил на повороте, Шотман спрыгнул на ходу, сопровождаемый укоризненным взглядом пожилого кондуктора, юркнул в ворота, быстро миновал проходной двор. Теперь перед ним был глухой забор. Он уверенно подошел к нему, нащупал нужную доску, державшуюся лишь на верхнем гвозде, отвел ее в сторону и пролез в образовавшуюся щель. То же самое он проделал на другом конце пустыря, выйдя наружу возле железнодорожного пути. Отошел от лаза метров на полсотни и, прижавшись к доскам там, где темень показалась погуще, постоял несколько минут. Если кто-то шел по его следу, то должен был воспользоваться тем же лазом.
Но все было тихо. Шотман, с трудом различая тропинку под ногами, пошел в сторону железнодорожной сторожки, темневшей неподалеку от полотна. Окна ее, прикрытые плотными ставнями, не пропускали света. Казалось, что обитатели дома спят или отсутствуют. Однако, когда он несколько раз стукнул в дверь, она тотчас без скрипа открылась. Кто-то, невидимый в темноте, взял его за руку, провел сквозь мрак тамбура и отворил вторую дверь. Свет керосиновой лампы заставил его зажмуриться, но секундой позже он разглядел людей, сидевших за покрытым облезлой клеенкой столом.
Кроме встретившего его железнодорожника, здесь находились трое матросов. Всех он знал в лицо, Поздоровавшись с каждым за руку, он тоже присел к столу.
— Заждались тебя, товарищ Шотман, — сказал плечистый светловолосый матрос, — думали уже, что не прядешь… А скоро на корабли возвращаться надо, срок подпирает.
— Знаю, товарищи, но не обессудьте — так уж получилось. По секрету скажу, что приезжал в Гельсингфорс один товарищ из Петербурга, договаривался о распространении новой рабочей газеты. Слышали уже, наверное: название «Правда». С товарищем мы быстро договорились, да вот беда — хвост он за собой привел. Еле-еле помог ему от шпика избавиться… Ну да ладно об этом. Давайте быстрее, что у вас нового.
— А нового у нас, товарищ Шотман, почти ничего и нет, — сказал светловолосый. — Одно только новое: решили матросы восстание до осени не откладывать, а начинать его сейчас.
— Это как понимать «сейчас»? — озабоченно спросил Шотман. — Ты о чем?
— А вот о чем. Ребята на кораблях сказали: «шабаш». Нету им больше мочи издевательства «их благородий» терпеть. Баста, хватит!
— Но ведь, позвольте, товарищи. — Шотман заволновался. — Это анархия получается. С восстанием шутить нельзя, подготовка нужна самая тщательная…
— А нам и не до шуток. Всю эту грамоту мы и без тебя знаем. И опять же за свои ошибки не школьными отметками расплачиваться будем, а собственной шкурой. Я тебе больше скажу: согласен я с тобой, что не совсем момент для восстания подходящий. Но ты и другую сторону дела осознай: кончилось у матросов терпение, все как есть вышло. Ты же лучше нас знаешь о том, что на Ленских приисках произошло. После того как там безоружных рабочих постреляли, нет у матросов больше мочи терпеть. Еще недавно можно было людей удержать, а сейчас никак невозможно… А когда матросы прослышали, как царский министр обещал в Думе, что и впредь нас расстреливать будут, — тут уж озверели ребята, не удержать больше… В общем, решай, товарищ Шотман, как хочешь, но мы меж собой уже порешили. Через пять дней назначен выход кораблей гельсингфорсского отряда в море. В этот выход мы и начнем. Поможете нам — век благодарить будем, а не поможете — зла не попомним…
Никогда еще Александр Васильевич не бывал в таком смятении, как в эти минуты. Более нелепого положения, чем сейчас, невозможно было представить себе: он, который всего себя отдавал революции, вынужден уговаривать матросов повременить, не браться за оружие. И хотя он знал, что доводы его правильны, что они и не могут быть иными, но и ему передалось настроение матросов, и он, стараясь быть внешне спокойным, загорячился, глаза заблестели, на бледных щеках проступили яркие пятна.
Прощаясь с представителями кораблей, Шотман заверил их, что сегодня же ночью сообщит об их решении членам гельсингфорсского комитета и будет советоваться с ними.
…Полчаса спустя он поднял с постели двух товарищей по комитету. Сначала Исидора Воробьева, а потом вместе с ним Адольфа Тайми. У него на квартире они проговорили битых два часа, но так и не пришли ни к какому решению.
— А может быть, все-таки уговорим? — еще раз с надеждой переспросил Воробьев.
— Какое там!.. — Шотман резко махнул рукой. — У матросов так накипело, что того и гляди начнут офицеров за борт бросать. Сами знаете, что у них за житье. У нас хоть от одного хозяина к другому уйти можно, а у них как в тюрьме, никуда не денешься.
— Это уж точно, — кивнул Воробьев. — Но не время начинать сейчас… На смерть пойдут матросы, если без поддержки питерских рабочих выступят.
Воробьев, опустив голову, замолк.
— Без связи с питерцами ничего не выйдет, — поддержал его Тайми. — Начинать надо сразу и здесь и в Питере. Только тогда на успех можно рассчитывать. Да чего я тебе об этом говорю — сам все понимаешь. Неподготовленное восстание ведет к верной гибели…
Шотман, сузив глаза, сказал жестко:
— Возможно, и гибель. Так что же, по-вашему, получается — пусть без нас, сами по себе борются и гибнут? А мы в стороне останемся?
— Да не о том речь… Остановить матросов надо.
— Ладно, хватит! Остановить уже не получится. Матросы так просили передать: или мы с ними, или они без нас! Выступать все равно будут. Мы понимаем, что восстание преждевременно, условия не созрели еще. Но что можно сделать, если массы дошли до крайней степени терпения? Надо смотреть правде в глаза. Решать — быть или не быть восстанию, мы уже не можем — без нас все решено. Теперь о другом подумать надо: беремся ли мы за оружие вместе с матросами?
Тайми вскочил со стула, рубанул ладонью воздух.
— Если вопрос только так стоит, тогда нет никакого вопроса! Пойдем с массами. Я только одного хотел, когда об отсрочке говорил, — чтобы все удачнее вышло. А на баррикады первый пойду!
— Ты погоди горячку пороть, — прервал его рассудительный Воробьев, — коли восстание неизбежно, так давайте все-таки прикинем, как нам в этих условиях обеспечить максимальную помощь и поддержку питерских товарищей. Сколько у нас дней в запасе? Четыре? За это время еще многое можно сделать! Прежде всего надо немедленно кому-то в Питер ехать.
БУДНИ ТИМОФЕЯ ДУМАНОВА
«Наши матросы, имея стоянку в финляндских водах, спускаясь на берег, весьма часто встречают распропагандированных рабочих, которые ведут их, часто обманным образом, на разные революционные собрания…
Таким образом, находясь в Финляндии, матросы попадают в революционные очаги, и это, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока наше правительство будет безразличными глазами смотреть на все происходящее в Финляндии, где наши матросы и солдаты делаются, как в данном случае, жертвами той агитации и того подпольного движения, которое вот уже столько лет ведется в Финляндии».
(«Новое время», 30 апреля 1912 г.)С Тимофеем Думановым Шотман познакомился незадолго до нового — 1912 года. В тот вечер вместе с женой они только что поужинали. Катя ушла в кухоньку мыть посуду, а он разложил перед собой на столе петербургские газеты. Была среди них и единственная легальная рабочая газета «Звезда», которую он читал не только от первой и до последней строки, но и старался почерпнуть кое-что между строк.
Как раз в тот момент, когда он взялся за «Звезду», в дверь энергично постучали. Шотман невольно вздрогнул — стук в квартиру подпольщика мог таить разное… Но, даже зная, что в самый нежданный момент к нему могут нагрянуть жандармы, он никогда не колебался перед дверью, не справлялся о том, кто стучит. И на этот раз, как всегда, Шотман сразу повернул ключ.
На лестничной площадке стоял незнакомый человек — высокий, сутуловатый, в пальто и шапке, облепленных не успевшим растаять снегом.
— Александр Васильевич? — справился незнакомец глуховатым голосом. — А я к вам от тети Марты. Она просила передать теплые вещи.
Это были условные слова, с которыми прибывали товарищи из-за границы. Когда гость вошел в крохотную прихожую, он прежде всего извинился с застенчивой улыбкой за мокрое пальто и обувь, и Шотман почувствовал, что перед ним человек стеснительный и деликатный. Позднее он имел много случаев убедиться в том, что первое впечатление оказалось верным.
Приезжий решительно отказался от предложенного ему ужина, но сказал, что с удовольствием выпил бы горячего чаю. По тому, как он пил, было видно, что человек изрядно продрог. Да и мудрено было не продрогнуть — Шотман успел заметить, что у него потертое пальтишко и совсем легкая, не по финской зиме, шапка.
На вопрос, как он доехал, гость сказал, что вполне благополучно. На шведской границе его документы сомнений не вызвали, и слежки за собой он не обнаружил. В Гельсингфорс он приехал из Парижа и имеет задание на время осесть здесь и ждать дальнейших распоряжений.
Пока Думанов рассказывал, Александр Васильевич ловил себя на мысли, что никак не может определить его возраст. Судя по резким морщинам на худом лице, поседевшим волосам, неторопливой, спокойной манере держать себя, ему можно было дать под пятьдесят, но, когда лицо освещала мягкая улыбка, казалось, что ему и тридцати нет. Только позже Шотман узнал, что Думанову как раз и есть три десятка — состарила его прежде времени нелегкая жизнь…
Обычно Шотман сходился с людьми непросто, ему нужно было обвыкнуть с незнакомым человеком, не раз послушать его, поглядеть на него в деле, а потом уже как-то сами собой складывались отношения — с одним суховато-деловые, с другим теплые и дружеские. А с Думановым получилось иначе — Александр Васильевич как-то сразу почувствовал расположение к этому усталому, пожалуй, даже измученному, но удивительно спокойному и мягкому человеку. Это чувство рождалось то ли от его доброй улыбки, то ли от глуховатого низкого голоса, в котором проскальзывали застенчивые нотки, а может быть, от выражения глаз, полных благожелательного внимания к собеседнику. Во всяком случае, не прошло и получаса, как Александр Васильевич ощутил, как в нем поднимается волна теплоты и доверия к приезжему и что он чувствует себя с ним, как с давним другом. А к концу разговора он понял, что приехал полезный для комитета работник — бывалый, опытный, да к тому же и много знающий, обученный в партийной школе в Лонжюмо.
Шотман с удовольствием использовал бы его целиком для комитетских дел, которых по мере развертывания работы все больше прибывало, но это было невозможно, и потому, что требовалось легальное прикрытие для жизни в Гельсингфорсе, и потому еще, что нужно было зарабатывать на эту жизнь, заботиться и о хлебе насущном.
Думанова удалось устроить на работу не без труда — зимой в порту царило затишье. Когда начальник мастерских согласился испробовать приезжего, он сделал это скорее для того, чтобы отвязаться от просителей, и для испытания поручил ему проточить сработавшиеся шейки коленчатого вала дизеля. Шотман знал, что начальник мастерской лишь накануне отказался ремонтировать эти шейки, объяснив судовому механику, что в своей мастерской он такую работу выполнить не сможет, разве что на заводе-изготовителе сумеют. Так что дело с коленчатым валом, как понял просивший за нового товарища Шотман, было гиблым. Но, к его удивлению, Думанов согласился попробовать.
Уже по тому, как приезжий уверенно и быстро закрепил вал, наблюдавшие издали рабочие почувствовали, что перед ними опытный токарь. Вся загвоздка в порученной работе была в том, чтобы точно выдержать центровку — без этого не стоило и браться. А выдержать ее можно было только на специальных заводских станках. Однако Думанов протачивал шейки так уверенно, будто всю жизнь только этим и занимался. Только щурившиеся глаза да стиснутые зубы выдавали его напряжение.
Думанов весь ушел в работу и не замечал даже, что рядом сгрудились рабочие. Смотрели молча, обменивались восхищенными взглядами. К концу работы подошел начальник мастерской и тоже стал наблюдать. Потом, он долго, придирчиво проверял вал, развел руками и сказал:
— Не знаю, братец, как это у тебя получилось, но то, что получилось, — это непреложный факт. На работу ты принят. Виртуоза грех терять.
Товарищам по работе новичок пришелся по душе не только потому, что был всеми признанным мастером токарного дела, но прежде всего оттого, что всегда и во всем готов был бескорыстно помочь людям — разобраться ли в сложном чертеже, выручить ли деньгами, написать ли неграмотному письмо или же подменить на работе занедужившего соседа.
Его ценили еще и за то, что намного лучше других разбирался в событиях. В последнее время русские газеты отводили по полстраницы, а то и больше Государственной думе. Рабочему человеку, читавшему думские отчеты, трудно было понять, куда разные ораторы клонят, — вроде бы все за правду, только каждый по-своему. Но Думанов умел объяснить, какой депутат на чью мельницу воду льет и какая партия кому служит.
Многие поражались, откуда у человека, окончившего всего-то четырехклассное церковноприходское училище, такие знания. Думанов отшучивался, говорил, что читать надо побольше, а водки пить поменьше. Читал он действительно очень много и иногда вечера напролет просиживал в читальном зале Народного дома.
В Гельсингфорсском комитете, куда его ввели по предложению Шотмана, он быстро стал полезным человеком. На нем лежала обязанность обеспечивать доставку и распространение нелегальной литературы, поступающей в Финляндию через шведскую границу, листовок и прокламаций, приходящих из Петербурга. А кроме того, он выполнял множество разовых поручений комитета: выбирал места для нелегальных собраний и обеспечивал их охрану, организовывал явки, выявлял людей, которых можно было бы приобщить к работе комитета, налаживал связи с кораблями, собирал деньги для новой рабочей газеты «Правда», которая вот-вот должна была появиться на свет. Все это он делал спокойно, без суеты, но всегда успевал в срок.
Товарищи видели, что он отдает себя работе целиком, и ценили это. Им нравилась его манера общения, добродушный юмор, благожелательная внимательность к людям, стремление понять чужую точку зрения, даже если он не был согласен с ней. Короче говоря — его не только приняли в свою тесную группу, но и полюбили.
В бессонную долгую ночь на двадцать первое апреля, когда совещание ревкомовцев подходило уже к концу и осталось только решить вопрос — кого именно нужно послать в Петербург для связи, Воробьев назвал фамилию Думанова. Неожиданно для других в названной кандидатуре засомневался Тайми, хотя все знали, что о Думанове он всегда отзывался с теплотой.
— А что тебя, собственно, смущает? — осведомился Воробьев. — Какие сомнения есть?
— Какие? В общем человек он во всем подходящий, но… как бы это сказать? Тут человек-кремень нужен. А Думанов слишком уж деликатный, как барышня. Я бы сказал, уступчивый… Не растеряется ли в случае чего?..
— А почему ты думаешь, что он растеряться может?
— Да слышал я как-то один разговор… — замялся Тайми.
— Ну, раз слышал что-то, так давай выкладывай! — сердито сказал Шотман. — Что там еще у тебя?
— Да дело в общем такое… Это с месяц назад было, когда вместе с матросами мы с нелегального собрания в город возвращались. Был с нами парень один — Сергей Краухов с «Цесаревича».
— Знаю его! — кивнул головой Шотман.
— Так вот Краухов сказал тогда, что во время восстания всех офицеров, как на «Потемкине», за борт покидать придется. Думанов тогда ему отвечает, что неправильно это. Нельзя, говорит, всех скопом топить, потому, мол, и среди них люди разные есть. И потом еще, что без специалистов все равно не обойтись в море. Краухов вспыхнул, рассердился, говорит, что Думанов матросской жизни не хлебал и потому такой добренький. И вообще революцию в белых перчатках не делают. Ну тут и я вступился, матроса поддержал. Если мы уже сейчас о жалости думать начнем… Враги нас не жалеют!
— И это все? — со злостью спросил Шотман.
— Что — все?
— Насчет ненадежности Думанова?
— В общем-то все…
— Тогда я тебе так скажу: глупость Краухов порол. Я этого парня еще с Петербурга знаю. Парень он боевой и смелый, а вот в голове еще ветер гуляет. Его еще учить надо. А вот то, что ты — член комитета — не поддержал правильного мнения Думанова, за это еще с тебя спросить надо! Да только не время об этом сейчас. Думанову я доверяю полностью и верю, что не подведет.
— Я — тоже! — подал голос Воробьев.
— В таком случае и я присоединяюсь… — отступил Тайми.
— И еще учти, кстати: Краухов еще мальчишкой был в революцию, а Думанов в это время на баррикадах Пресни дрался. И совсем не в белых перчатках. Он и пулю там в грудь получил. Чудом жив остался.
— Да ну!
— Вот тебе и «да ну!». Не надо на стороне кремни искать, лучше хорошенько возле себя посмотри…
Человек, о котором говорили Тайми и Шотман, в ранний утренний час был уже на ногах. В последнее время он беспокойно спал, поднимался чуть свет, но товарищам об этом не рассказывал, понимал, что в глазах рабочего человека бессонница — это нечто непонятное, барское. Вот и сегодня, когда проснулся и зажег керосиновую лампу, часовая стрелка на настенных часах-ходиках еще не подошла к пяти. Он не спеша оделся, сполоснул над тазом лицо и руки, стараясь лить воду из кувшина тонкой струей, чтобы не беспокоить соседей.
Дощатые перегородки между комнатами были слишком тонкими, и сквозь них можно было слышать буквально все. Собственно, это был не дом, а сарай, не предназначенный для жилья. Домом он стал после того, как главную базу Балтийского флота перевели из Кронштадта в Гельсингфорс и для портовых мастерских, обслуживающих боевые корабли, пришлось привезти рабочих из России.
Приехавших токарей, слесарей, столяров, литейщиков и их семьи нужно было обеспечить жильем. Вот тогда-то портовая администрация и приобрела в рабочем районе города вместительный сарай, который был в срочном порядке переоборудован под жилье. Но сарай так и остался сараем, хотя в нем поставили перегородки, настлали полы и потолки, прорубили окна в стенах. При сильном ветре деревянное сооружение скрипело, как старый баркас, из щелей немилосердно дуло.
Думанову выделили отдельную маленькую угловую комнатку, где с трудом умещались кровать, столик и две табуретки.
Вечером шумел за стенкой пьяный сосед и бил сына, но быстро угомонился — видимо, завалился спать, и Думанов смог уснуть более или менее спокойно. Однако проснулся чуть свет. Первым делом надо было напоить молоком кошку, доставшуюся ему от прежних, уехавших в Россию жильцов.
Полгода назад, у старых хозяев, кошка была худющей, грязной и пугливой, но за прошедшее время распушилась, залоснилась, и появилась у нее этакая степенность. Товарищи, иногда заглядывавшие к Думанову после работы, посмеиваясь, говорили, что, видимо, весь свой заработок он тратит на кошачьи разносолы, а сам живет впроголодь и оттого такой тощий да костлявый. Он мягко отшучивался, выставлял бутылку водки и немудреную закуску, хотя сам никогда не пил и лишь пригубливал для приличия.
— Тебе бы, Тимофей, красной девицей родиться, — говорили товарищи, — не пьешь, не гуляешь, все только книжечки почитываешь… вот только что куришь по-мужски.
— Да уж с девицей меня не сравнишь, — с улыбкой возражал Думанов. — Самый обыкновенный бобыль, только прокуренный насквозь.
— Срочно женить тебя надо, Тимофей!
— Э, бесполезно! — махал он рукой. И снова на его лице появлялась добрая, чуть виноватая улыбка.
Когда Думанов улыбался, трудно было поверить в то, что этот человек когда-либо способен рассердиться. И в самом деле, товарищи по работе ни разу не видели, чтобы он гневался, выходил из себя. В любой словесной перепалке, в самых бурных спорах он не перебивал других, не повышал голоса, не злился, если не понимают его. На шутки не обижался. И никто даже не подозревал, что разговоры о женитьбе болью отзывались в нем.
О семье, о детях он мечтал еще тогда, когда был молодым парнем, жил в Москве на Пресне и работал токарем на фабрике Шмидта. А потом, уже во время русско-японской войны, вдруг как-то сразу и до конца понял, что если и будет кто из фабричных девчонок матерью его детей, так это только Маруся — младшая сестренка его сменщика по станку. Тимофей начал встречаться с нею, открыто провожал ее домой, подчеркивая этим всю серьезность своих намерений. Но внезапно накатились, закрутили парня горячие события революции, бросили его на одну из баррикад рабочей Пресни. А потом пришел страшный субботний декабрьский день, когда шальная пуля пробила Марусино горло и как подкошенная упала девушка лицом в почерневший снег. И в тот же самый день другая пуля досталась ему самому. Но он жив, а ее похоронили где-то там, на самом близком от Пресни кладбище — Ваганьковском.
А жизнь после девятьсот пятого пошла такая, что и некогда было на девушек глядеть: ссылка, побег, эмиграция… А главное, был он по натуре однолюбом и никому, кроме Маруси, своего сердца не отдал.
Сегодня утром он опять вспомнил о ней. Да и как было не вспомнить, если сегодня, двадцать первого апреля, будь Маруся жива, ей было бы двадцать восемь лет… Совсем молодая. Ему отчетливо представилось ее решительное разрумянившееся лицо в тот день, когда он видел ее в последний раз. Маруся прибежала тогда к ним на баррикаду у Горбатого моста и рассказала, что от прохоровцев скоро прибудет подкрепление. А потом так же стремительно унеслась по заснеженной улице.
Подкрепления они так и не дождались, и Марусю он больше уже не увидел.
Как всегда, едва Думанов вспомнил о боях на Пресне, у него стала саднить старая рана. Глухая, часто напоминавшая о себе боль таилась в его теле без малого семь лет с того страшного декабрьского времени.
Он подошел к темному стеклу окна, на минуту прикрыл глаза…
До начала работы оставалось еще добрых два часа, но Думанов, как всегда, решил выйти пораньше. Ему нравилось, придя в мастерскую до начала смены, когда в полутемном помещении еще никого не было, осмотреть не спеша станок, лишний раз протереть его, вставить в держатель нужный резец и минуту-другую прогонять станок на холостом ходу, вслушиваясь, как шуршит приводной ремень трансмиссии, дребезжит и постукивает вращающийся вал — станок старенький, но работать на нем вполне можно.
Выйдя из дому, Думанов пошел к трамвайной остановке по безлюдной в этот час улице и все не мог успокоиться — как это можно большому и сильному человеку бить безответного ребенка? А ведь что сделаешь? Колюша прав: забьет его отец, если вмешаешься. И никто заступиться не имеет права. И что тут можно предпринять — ума не приложить.
Так и не придумав толком, чем же можно помочь мальчугану, он дошел до проходной, и тут его остановил невесть откуда-то взявшийся Шотман. В желтом свете уличного фонаря Думанов увидел осунувшееся, встревоженное лицо товарища, и сразу нахлынуло на него ощущение беды.
Шотман увлек за собой, сказав, что на работу идти не надо, и тогда предчувствие беды стало еще острее. Он сразу подумал о том, что местные жандармы вышли на его след, пронюхали о его нелегальном приезде из-за границы. Но действительность, о которой по пути домой поведал ему Александр Васильевич, оказалась куда сложнее — решение матросов начать восстание раньше срока ставило на карту судьбу всего гельсингфорсского подполья, жизни сотен людей. И первый же его вопрос к Шотману был о том, каким же образом можно срочно предупредить Петербургский комитет партии, Русское бюро ЦК?
— Вот в этом-то и вся загвоздка! — сказал Шотман. — Сейчас у нас задачи важнее этой нету. И по решению комитета ехать придется тебе.
Александр Васильевич помолчал, давая товарищу время осознать и продумать неожиданное предложение. Он готов был привести необходимые доводы, рассказать, чем мотивировал комитет свое решение. Но ни о чем этом говорить ему не пришлось. Думанов повернул голову, спокойно, как о чем-то обыденном, спросил, когда надо выезжать.
Шотман объяснил, что связь надо искать через Полетаева — депутата Государственной думы от рабочих и издателя новой рабочей газеты «Правда», которая, судя по объявлениям, днями должна выйти в свет. И как депутат Думы, и как издатель газеты Полетаев общается со многими людьми — главным образом с рабочими петербургских заводов. Конечно, охранка ведет за ним слежку, но следить за всеми, кто приходит к нему, она попросту не в состоянии, и именно поэтому есть самый реальный шанс увидеться с ним, не попав самому под наблюдение.
Сложнее было другое. Совершенно ясно, что Полетаев встретит незнакомого ему человека с недоверием, а к тому же у него надо просить связи с кем-то из работников Петербургского комитета или Русского бюро ЦК. Два года тому назад, когда Александр Васильевич жил еще в Петербурге и Полетаев хорошо знал его под кличкой Горский, они оба попали под слежку опытного филера и долго не могли оторваться от него, пока наконец Шотман не вспомнил, что на Сампсониевском проспекте есть чайная, имеющая второй выход во двор. Воспользовавшись им, они и ушли тогда. Если Думанов передаст привет от Горского и напомнит об этом самом случае, о котором никто из посторонних и знать не мог, Полетаев должен будет поверить, что перед ним свой человек.
— И еще одно, — сказал Шотман. — Я знаю, что у тебя приличного костюма нет. Так я тебе с женой свой перешлю — почти новый совсем. А Тайми обещал дать крахмальную сорочку и галстук. И не возражай — будешь ехать для конспирации не в третьем классе, а в спальном вагоне. Тебе и вид соответствующий надо иметь, а то не ровен час жандармы на пограничной станции Белоостров к тебе привяжутся…
Шотман простился с Думановым неподалеку от парка Тёлё и решил забежать домой, чтобы хоть кофе выпить после бессонной ночи. На работу можно было выйти сегодня попозже, потому что хозяин мастерской был в отъезде и должен был вернуться не раньше чем к обеду.
Александра Васильевича беспокоила одна мысль — помимо товарищей из Питера, надо было уведомить и кронштадтцев о решении гельсингфорсских матросов. В Кронштадте большой гарнизон, Балтийский флотский экипаж, учебные корабли, береговые батареи. Состояние солдат, а в особенности матросов таково, что в любой момент можно ждать взрыва, как в паровом котле, где давление давно перешло допустимые пределы, а предохранительные клапаны уже вышли из строя. Правда, охранка принимала свои меры — число арестованных росло, исчислялось сотнями человек. Со своей стороны, флотское начальство изымало «неблагонадежных», отправляя их в дальние гарнизоны, рассовывая по дисциплинарным командам.
И все равно Кронштадт всегда оставался взрывоопасным. Шотман нисколько не сомневался в том, что матросы и солдаты, узнав о восстании на кораблях, поднимутся тоже. Но лучше будет, если о выступлении эскадры подпольная организация Кронштадта узнает заранее и она сумеет предупредить гарнизон. Но вот каким образом можно выйти на связь с кронштадтцами?
После завтрака, вызванные штурманским электриком, Краухов и Малыхин явились к нему в каюту в сопровождении вестового. Артемьев сидел за маленьким столиком и что-то писал на листке бумаги. На приветствие коротко кивнул головой, сказал, чтобы минутку подождали.
Оба электрика были здесь впервые и теперь с любопытством рассматривали помещение. Может быть, штатский человек увидел бы в этой каюте образец спартанской простоты и непритязательности, но для матросов после их тесного, душного кубрика она казалась просторной. За шторой виднелась прикрытая верблюжьим одеялом койка, у иллюминатора откидной столик, за которым можно работать, в углу умывальник с зеркалом, на переборке полка с книгами, а над нею портрет красивой женщины. Кругом, как на всем корабле, чистота.
Окончив писать, Артемьев сложил листок вчетверо, велел вестовому отнести записку вахтенному офицеру, а потом в раздумье мгновение рассматривал подчиненных.
— Вот что, братцы, — сказал он наконец, — не хочу вникать в то, что там у вас вчера получилось и отчего вы прожекторным лучом в город залезли. Факт нарушения налицо, и наказание вы заслужили. Вместе с тем до завтрашней отправки в Кронштадт вы оба пока еще под моим началом. Так что на сегодняшний день поручаю вам забрать на берегу в лаборатории находящиеся там на проверке два прибора. А еще нужно будет купить в магазине десятиметровый моток шведского провода. Это уже на мои собственные деньги. Скажете писарю, чтобы оформил увольнительную до двадцати трех ноль-ноль.
Электрики покинули каюту в состоянии некоторого удивления. Чтобы выполнить поручение лейтенанта, требовалось от силы часа два, а он отпускает их, в сущности, на весь день и при этом подчеркивает, что своего вчерашнего приказа об отмене увольнения на берег для обоих он не отменяет. Вот и разберись, в чем тут дело? Впрочем, ни у того, ни у другого не было никакого намерения сейчас разбираться в этом. Главное было в том, что они так или иначе получили возможность побывать на берегу. Чуть ли не бегом кинулись в кубрик, чтобы переодеться.
Когда уже готовые — в перепоясанных ремнями шинелях, в одинаково надвинутых на правую бровь бескозырках, в блестевших башмаках, в отутюженных брюках, они подошли к трапу, Краухова вдруг задержал вахтенный офицер, сказав, что пуговицы на шинели несколько потускнели и в таком виде на берег нельзя. У Сергея даже сердце захолонуло — неужели из-за такого пустяка так и не удастся побывать в городе? Он готов был от отчаяния сорваться на крик, но узнал, что через полчаса катер пойдет на пирс вторым рейсом и пока еще есть время привести себя в порядок.
Краухов торопливо условился с Малыхиным о встрече в лаборатории в двенадцать тридцать и помчался обратно в кубрик.
Когда он подошел к трапу вторично, пуговицы сверкали на шинели, как маленькие солнца. Строгий вахтенный даже хмыкнул от удовольствия.
В мастерской на берегу Шотмана не было, как выяснилось, он еще не приходил с утра. И Сергей отправился к нему домой. Проискал дом довольно долго, а найдя, застучал в дверь с такой силой, что сам же испугался — не слишком ли громко получилось.
Дверь отворилась рывком. На пороге стоял Шотман. Увидев, кто к нему пришел, он молча махнул рукой, приглашая войти. И только когда захлопнул дверь, сказал несколько ворчливо:
— Тарабанишь в дверь так, будто целая орава этих…
— Не серчай, Александр Васильевич, — попросил гость, входя в комнату. — Такая штука получилась: усылают меня из Гельсингфорса.
Только сейчас Шотман заметил, что Сергей взволнован.
— А куда усылают-то?
— В Кронштадт, на новый корабль «Император Павел I».
— Куда, куда? — переспросил Шотман. — И когда же?
— Завтра уже на новом месте должен быть.
— Ну, парень, знаешь — это сама судьба тебя ко мне направила. Я сижу голову ломаю, а ты тут как тут! Так вот — садись и слушай. Ты, наверное, помнишь, как к твоему брату Терентию захаживал высоченный парень из пушечной мастерской?
— Костя, что ли?
— Он самый и есть Константин. А сейчас он на этом самом «Павле» служит. Уразумел?
— Да, вполне, — загорелся Сергей. — На новом месте свой человек!
— Именно свой. Это во всех смыслах. Он с тамошним подпольем должен быть связан. Постарайся его на корабле завтра же разыскать и передай от моего имени, что срок восстания переносится к моменту выхода кораблей гельсингфорсской эскадры на учения. Но, кроме него, об этом, смотри, чтобы никто…
— Да что я — не понимаю, что ли? — обиделся Сергей. — Разве я когда…
— Лишний раз предупреждаю. Дело ведь такое… Не дай бог, пронюхают. И еще к тебе дело есть. Как там твои старики — одни сейчас живут?
— Как есть одни!
— Тогда надо будет, чтобы они на пару дней нашего товарища приютили. Петербург он плохо знает, знакомых у него нет, а в гостиницах ему не след останавливаться — замести могут.
— Так что за вопрос, Александр Васильевич!
Думанов глядел на себя в маленькое тусклое зеркало, висевшее на стене, и с трудом прилаживал непривычный галстук. Костюм, который передал ему с женой Шотман, оказался по длине в самый раз, но явно широковат. Ворот сорочки тоже оказался велик — между ним и тонкой думановской шеей свободно можно было просунуть обе ладони. Словом, наблюдательный человек сразу заметит, что одежда с чужого плеча. Может быть, лучше отправиться в своем обычном поношенном костюме? Но тогда в спальный вагон, конечно, нечего соваться — сразу на себя внимание обратишь…
Чем больше он обдумывал предстоящую поездку, тем сложнее она начинала казаться. Даже если переезд границы пройдет благополучно, то в Петербурге будут свои трудности. Поезд прибывает ночью, и где-то надо дожидаться утра, чтобы потом разыскивать в незнакомом городе редакцию газеты. Но хуже всего, если Полетаева почему-либо не окажется на месте.
Мысли его прервал стремительно влетевший в комнату без стука Сергей Краухов. Лицо матроса раскраснелось, глаза возбужденно блестели.
— Уф-ф, — отдуваясь, заговорил он, — ну и бежал я, чтобы дома застать!
Думанов вопросительно смотрел на него.
— Да ничего не случилось, — махнул рукой Сергей, — просто встретил я Александра Васильича и от него узнал, будто ты в Петербург собрался.
— Точно, собрался.
— Потому я и прибег. Сам-то я — питерский, и родители мои там живут. Шотман просил передать, чтобы ты у моих родителей переночевал — самое надежное место. Батя у меня до сих пор еще работает на Путиловском в пушечной мастерской… Очень тебя прошу зайти к нам домой, передай весточку, а еще и поклон от Александра Васильича.
— Да ведь удобно ли, Сергей? — замялся Думанов.
— Еще бы неудобно было! Ночевать тебе где-то надо? Так заночуй у наших. У них сейчас свободно совсем — сам я, как видишь, на флотской службе, братишка Алеша в солдатах служит. Другие братья — Петр и Василий своими семьями обзавелись, живут в другом конце города, а старший наш братан — Терентий — подале всех сейчас. Он ссылку отбывает…
— Да сколько же вас — братьев?
— Пятеро и есть! А еще две сестры — Настя и Люба, но у них тоже свои семьи теперь. Так что сейчас отец и мать в своем домишке вдвоем остались.
— Ишь буржуи! — засмеялся Думанов. — Значит, и дом свой имеете?
— Да какой там дом — название одно! Хибара, да и только! Там за Нарвской заставой таких развалюх — десятки. Но отцовский дом все знают. Дай листок бумаги и карандаш — я нарисую, как от трамвайной остановки пройти.
Думанов внимательно выслушал объяснения. Записывать ничего не стал по старой конспиративной привычке.
— Обидно до слез, — сказал на прощание Краухов, — что в такое время из Гельсингфорса отсылают, что без меня восстание начнется. Так этого часа жду!
— Ничего, — утешил его Думанов, — если все по плану пойдет, так через несколько дней восставшие корабли в Кронштадт придут.
Утром, едва начальник Финляндского жандармского управления полковник Утгоф прибыл в свой кабинет, он первым делом потребовал к себе Шабельского, осведомился, как обстоят дела с рапортом фон Коттену. Заранее ожидавший этого вопроса ротмистр шагнул к столу, положил перед начальником тонкую картонную папку.
— Вот здесь он, извольте ознакомиться, господин полковник.
Он скромно потупил глаза, ожидая, что Утгоф скажет: «похвальная оперативность» или что-то в этом роде. Но полковнику было сейчас не до тонкостей обращения. С утра у него нудно и отвратительно болела печень (не помогли даже карлсбадская соль и грелка), после завтрака его поташнивало. Но свою усилившуюся болезнь он тщательно скрывал от коллег, знал, что с этим народом надо держать ухо востро: того и гляди настрочат в Петербург, намекнут, что не только по возрасту, а уже и по здоровью начальнику управления пора на пенсию. А как раз на пенсию он и не хотел, хотя и знал, что пособие установят ему приличное — он боялся потерять единственное, что ему доставляло глубокую радость в жизни: обладание реальной и большой властью, возможность распоряжаться судьбами людей.
Утгоф сухо кивнул Шабельскому, предложил ему присесть, подождать, пока он ознакомится с текстом. Тот послушно присел на краешек стула, терпеливо приготовился ждать — знал, что начальник будет мусолить текст долго-долго, по нескольку раз перечитывать каждую фразу, и уж если обнаружит запятую не на место, то начнет своим скрипучим голосом объяснять, как тщательно надо готовить документацию.
И действительно, три страницы Утгоф читал чуть ли не полчаса, так что Шабельский успел впасть в тоскливое уныние. Изредка он бросал взгляд на лицо начальника и видел, что тот болезненно морщится. Теперь уже ротмистру вовсе не казалось столь очевидным, как накануне вечером, что текст у него получился удачным. И вообще черт его знает, чего мог углядеть этот желчный старик?
Кончив наконец читать, Утгоф поднял водянистые глаза, поглядел на подчиненного, пожевал тонкими губами.
— В общем-то вы эту штуку удачно написали… но только вот, — сказал он, — не слишком ли вывод здесь категоричный? Ну, насчет того, что на кораблях спокойное состояние и что брожение не будет усиливаться? Вы же видите, ротмистр, что в Петербурге-то делается. Забастовка за забастовкой — такого уж давненько не бывало. А у нас, в Гельсингфорсе, выходит, тишь да гладь?
— Господин полковник! — живо отозвался ротмистр. — Я, конечно же, понимаю, что тишь да гладь в нашем деле не бывает. Но то, что у нас куда спокойнее, чем в столице, — это по всему видно. У нас даже кривая арестов книзу пошла. Да и сообщения агентуры успокаивают — на кораблях все в допустимых рамках, матросы ведут себя в целом спокойно, нервозности в нижних чинах не наблюдается.
— Ох, ротмистр, не нравится мне это флотское спокойствие. Этот флот, между нами говоря, пороховая бочка.
— Но ведь, господин полковник, мы за последние годы сколько превентивных арестов сделали. И как агентурную сеть расширили! Вот результаты-то и сказываются. И мне, например, просто приятно, что именно под вашим руководством финляндское управление добилось таких результатов. Пусть начальство и поглядит — пока у него под носом в столице черт-те что делается, у нас все в законных рамках!
— Ну тут вы, Станислав Казимирович, пожалуй, в целом правы, — поддался на лесть Утгоф, — кое-что мы действительно сделали. Может быть, даже в чем-то и больше, чем другие управления. Рапорт я подпишу в таком виде, как есть. Когда думаете его отправить?
— Сегодня суббота. Может быть, с нарочным завтрашним вечерним поездом? Как раз в понедельник утром пакет будет на месте…
— Э, нет, Станислав Казимирович! Зачем откладывать. Я прослышал о том, что фон Коттен и в воскресные дни в присутствии бывает. Отправьте нынче же с вахмистром Ярыгиным. Пусть едет дневным курьерским. Но только напомните, чтобы утра он не ждал, а сразу же по прибытии отвез пакет и сдал ночному дежурному. А вас лично благодарю за похвальную оперативность.
Шабельский легко поднялся, щелкнул каблуками, сказал почти по-солдатски:
— Рад стараться!
Он и действительно был рад в эту минуту.
СВЯЗНОЙ ГЕЛЬСИНГФОРССКОГО КОМИТЕТА
«Наша газета появляется в тот момент, который справедливо может считаться гранью, разделяющей два периода рабочего движения в России… Рабочее движение перешло грань».
(«Правда» № 1, 22 апреля 1912 г.)«22 апреля на газету «Правда» наложен арест». «23 апреля на газету «Правда» наложен арест». «24 апреля на газету «Правда» наложен арест».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Из сообщений петербургских газет в апреле 1912 г.)Состав медленно катил по дамбе через мелководный залив Тёлё. Колеса погромыхивали на стыках рельсов, маленький вагон ощутимо вздрагивал. Прозрачные струйки змеились снаружи по чистому, недавно вымытому оконному стеклу, причудливо искажая перспективу. Из окна видна была тусклая серая поверхность залива и изломанная линия мокрых камней на берегу.
Миновав дамбу, поезд набрал ход, бойко помчал по узкому, вырубленному в скалах узкому ущелью. Темные от влаги косые срезы гранита мелькали почти у самого окна. Состав вынырнул из гранитного коридора, миновал лесистую равнину и снова покатил сквозь скалы. Здесь — между Гельсингфорсом и полустанком Огельбю — железная дорога прорезала один за другим четыре каменных кряжа.
В другое время Думанов, который находился в пути в полном одиночестве, наверняка залюбовался бы суровым ландшафтом. Однако сейчас ему было не до пейзажа. Он сидел, откинувшись на спинку узкого диванчика, смотрел в окно рассеянным взглядом, не улавливая открывавшейся перед ним красоты. Думанов чувствовал себя неловко и стесненно в чужой одежде, хотя костюм был даже просторен, и даже слишком. Жесткий воротник белой накрахмаленной рубашки безбожно царапал шею. Такие сорочки рабочие с усмешкой называли «глаже-манже». Товарищи наскребли денег и купили ему билет в спальный вагон второго класса. Билет в переводе на русские деньги стоил семь с лишком рублей и был попросту не по карману рабочему человеку. Даже мелкие чиновники, учителя гимназий, приказчики обычно пользовались вагонами третьего класса. Но решающую роль сыграло соображение о том, что полиция меньше обращает внимания на пассажиров второго класса.
Думанов расстегнул воротник, ослабил галстук и с улыбкой взглянул на свои пальцы. Хотя он в пяти водах мыл утром руки, не жалея мыла, и скреб пальцы щеткой, заусеницы у основания ногтей так и остались темными. Любой профессиональный сыщик без труда узнает до этому признаку руки рабочего-металлиста…
А откуда могли его руки быть другими, если с одиннадцати лет он имеет дело с металлом — режет, пилит, сверлит, паяет, шлифует, гнет его… Трудные достались ему учителя — пришлось изведать побои, унижения. Но как-то сумел он в суровую для себя пору не озлобиться, не зачерстветь сердцем. И может быть, оттого что собственное его детство было таким нелегким, с особой заботой относился он к мальцам, работавшим учениками.
Но сейчас, в поезде, везущем его в Петербург, Тимофей подумал о себе лишь мельком, его мысль вновь вернулась к заданию, которое возложили на него товарищи, к плану матросского выступления, назначенного на 24 апреля.
План этот был дерзок и смел. Когда берега Финляндии скроются за горизонтом, в назначенный час матросы «Рюрика», «Цесаревича» и «Славы», а за ними и других кораблей нападут на командный состав, вооружившись чем придется. Наиболее ненавистные офицеры полетят за борт, других запрут в каютах, а штурманов силой заставят вести эскадру на Ревель. Стоящие там корабли под угрозой артиллерийского обстрела присоединятся к восставшим, и тогда усиленный отряд вернется к Гельсингфорсу, заставит капитулировать командование Свеаборгской крепости. Обеспечив себе тыл, отряд пойдет к Кронштадту, где матросы наверняка присоединятся к восставшим. И тогда откроется путь на Петербург… Если все пойдет по плану, то под жерлами мощных морских орудий войска столицы вынуждены будут сложить оружие, а правительству ничего не останется больше, как принять все требования восставших.
Прошлой ночью члены подпольного комитета решили, что во время восстания они должны быть на кораблях. Работая в портовых мастерских вместе с другими рабочими, они в последнее время бывали на кораблях, устраняя последние неполадки. Накануне выхода в море, им с помощью матросов предстояло спрятаться в корабельных отсеках, чтобы в час восстания возглавить выступление.
Таков был план. Конечно же, выполнить его будет трудно, наверняка встретятся непредвиденные случайности. Одно было несомненным: если восстание начнется, как намечено, матросов уже не остановишь ничем. Они будут драться до победы или же погибнут. В самом крайнем случае, если удастся поднять только меньшую часть кораблей Балтийского флота, всегда есть возможность уйти от расправы в порты Швеции или Норвегии…
И вот эти-то чрезвычайной важности сведения Думанов вез в Петербургский комитет, который даже не подозревал о том революционном взрыве, который через несколько дней должен был по воле балтийских матросов потрясти всю Россию. Никто из Гельсингфорсского ревкома не посмел доверить эти сведения бумаге, даже прибегнув к шифру. Думанову предстояло передать их устно, при соблюдении строжайших правил конспирации.
В случае ареста он обязан был начисто забыть все то, о чем знал, и вести себя так, чтобы ни одна жандармская ищейка не могла даже учуять, что имеет дело с человеком, имеющим такую информацию.
В Мальме в вагон сел еще один пассажир. Думанов слышал его разговор с кондуктором сквозь неплотно прикрытую дверь в купе. Кондуктор объяснял, что в вагоне полно свободных мест, можно занимать любое. Но пассажира это предложение не устраивало.
— Голубчик, — слышался его тонкий голос, — ну посудите сами: в такую слякотную погоду — ехать одному? Это ж с тоски скиснуть…
— Позалуйста, — отвечал с заметным финским акцентом кондуктор, — могу предложить вам второе купе, где едет один пассазир. Ну, только вы сами смотрите, как вам попутчик показется…
Думанов мгновенно насторожился. Конечно, за просьбой незнакомца могло скрываться вполне естественное желание к общению. Человек просто не любит одиночества. А если это только предлог? А ведь в Гельсингфорсе были приняты все меры предосторожности…
Но думать обо всем этом было уже некогда. В раскрывшуюся дверь купе протиснулся толстый мужчина в темно-сером добротного сукна пальто, черном фетровом котелке и с черным новеньким саквояжем в руке. По покрою и отделке одежды его можно было принять за иностранца, если бы не типично русская физиономия. И маленькие заплывшие глазки, и потерявшийся в жирных складках кожи подбородок, и торчащие, как у кота, усы — все это могло быть в облике любого европейца; но вот утвердившийся меж лоснящихся щек нос картошкой мог принадлежать только соотечественнику.
Вошедший бросил на сиденье саквояж, снял котелок, обнаружив при этом огромную лысину, вытер платком вспотевший, несмотря на прохладную погоду, лоб и, отдуваясь, стащил с себя промокшее пальто. Потом с явным облегчением плюхнулся на мягкое сиденье и только тогда остановил свои маленькие глазки на Думанове.
— Милостивый государь, — сказал он тонким голосом, — вы уж простите меня, ради бога. Я осмелился потревожить ваше одиночество лишь в силу крайней нелюбви к путешествию в одиночестве.
Фразу эту он произнес столь гладко и быстро, словно заранее прорепетировал ее. И тут же добавил:
— Впрочем, если только вы нуждаетесь в одиночестве, я еще раз прошу прощения. На нет, как говорится, суда нет, и в таком случае выражаю полную готовность перейти в соседнее купе.
Про себя Думанов отметил, что это было предложено уже после того, как толстяк повесил пальто и котелок.
— Отчего же… — сказал он, — я совсем не против. Вдвоем действительно веселее путь коротать.
— Это вы совершенно справедливо изволили заметить, — обрадовавшись, заговорил незваный попутчик, — и хорошо, что именно с соотечественником своим. А то ведь, Знаете, коли с местными жителями ехать придется — уставятся на тебя водянистыми главками и молчат как заколдованные… с ума сойти можно! И, понимаете, никогда в толк не возьмешь, отчего эти финны молчат — то ли и впрямь молчаливы, то ли именно с тобой говорить не хотят. Я вот и за границей побывал, а нигде, кроме Финляндии, такого пренебрежения к русскому человеку не встречал… А вы, кстати, по какой части изволите служить?
— Совладелец плавучей мастерской, — коротко ответил Думанов.
— Как же, слышал. Это значит по ремонту судов в Гельсингфорсе. И большое дело у вас?
— Три станка, разметочная плита, семь рабочих да нас двое совладельцев.
Давая этот ответ, он был почти предельно точен. Оборудованная на старом портовом буксире плавучая мастерская, где работал Шотман, именно так и выглядела.
— И какова, простите, прибыль?
— А вот это уже секрет фирмы.
— Понимаю, понимаю. Вы уж не обессудьте за любопытство. Я ведь по профессии любопытен — коммивояжер в компании «Зингер». Швейные машины по всей матушке-Руси распространяем, несем в нашу отечественную глушь европейскую культуру. Платят хорошо… не жалуюсь, но, конечно, в зависимости от того, сколько продашь.
Думанов слушал болтовню назойливого попутчика, что называется, вполуха, а иногда и совсем терял смысл произносимых толстяком слов. Настороженность его постепенно прошла. Непохоже было, чтобы шпик мог так искусно притвориться. Немного смущала манера попутчика неожиданно, в лоб задавать вопросы, но это скорее всего привычка умелого коммивояжера. Повторив мысленно эти доводы, Тимофей успокоился. Он совсем перестал слушать собеседника, невнятно и не к месту отвечал на его редкие вопросы, а потом и вовсе задремал.
Не имея привычки спать сидя, он неожиданно заснул глубоко и спокойно, а проснулся лишь в сумерки, когда поезд подходил к Выборгу. Толстяк все еще был в купе. Увидев, что Думанов смотрит на него, он развел руками.
— Ну и мастак вы спать, — сказал он добродушно, — этак часа четыре кряду в узах Морфея провели. И все небось оттого, что мой рассказ на вас дрему навел. Не обессудьте — болтуном стал… А вот спать в дороге не могу. А вам можно и дальше дремать. А я уже приехал, мне в Выборг надо. А не хотите спать, так я газеточки вам оставлю. Вчерашние, петербургские. Всего хорошего, господин совладелец мастерской. Спасибо за компанию, мне пора выходить.
Ему действительно пора было выходить, потому что поезд уже минуты три как стоял у перрона выборгского вокзала. Лицо толстяка было красным от возбуждения, маленькие глазки сверкали. Бросив «Новое время» на сиденье, он торопливо подхватил саквояж и выбежал из купе.
Думанов увидел сквозь мокрое стекло, как он небрежно отмахнулся от носильщика и, величественно подняв голову, прошествовал к выходу. И только сейчас он почувствовал, как надоел ему своей болтовней назойливый пассажир. Только бы в Выборге еще кого-нибудь не подсадили бы в купе!
Но здесь никто не садился. Когда поезд тронулся, Думанов взял с диванчика брошенную попутчиком газету, чтобы свернуть ее, но тут взгляд его машинально выхватил из текста слово: «забастовка». Наверное, обычный читатель «Нового времени» скользнул бы по этому слову равнодушными глазами. Но для рабочего, уже не раз познавшего на своей шкуре все то, что связано с забастовкой, — и испуганные, мятущиеся взгляды жен, и впавшие щеки день ото дня недоедающих детей, и тревожные мысли по ночам, бесцеремонные набеги полиции на рабочие кварталы, и ожоги от казацкой нагайки, — это слово наполнялось особым смыслом.
Рабочие, как правило, бойкотировали «Новое время», не покупали и не читали. Но на этот раз Думанов развернул газету. Корреспонденты с мест сообщали — в Луганске забастовали рабочие заводов Гартмана и Патронного, в Нижнем Новгороде — рабочие Сормовского, под Москвой — рабочие Коломенского. Все стачки, как одна, были связаны с недавними событиями на Ленских приисках, люди требовали наказания виновных в кровавом расстреле, они знали, что в далеком Бодайбо как ни в чем не бывало разгуливал на свободе, занимался привычными делами фатоватый жандармский ротмистр — прямой виновник массового убийства. Газета сообщала, что Трещенков занимается обысками рабочих и политических ссыльных, производит аресты. Правительство демонстративно не трогало жандарма-убийцу, и это вызывало боль и ненависть у рабочих. И эти же боль и ненависть переполняли сейчас сердце Думанова.
Газетные заметки вновь заставили его задуматься о поручении, с которым он ехал в столицу, и снова груз чудовищной ответственности навалился на него.
Толстяка, ехавшего с Думановым в одном купе и сошедшего в Выборге, по-видимому, хорошо знали здесь. С ним, приподняв фуражку, почтительно поздоровался носильщик на перроне, ему благосклонно кивнул железнодорожный жандарм в станционном зале, а портье небольшой гостиницы близ привокзальной площади встретил его радушной улыбкой, назвал по имени-отчеству — Поликарп Нилыч, отвел приличный и недорогой номер с окнами, выходившими на тихий дворик. Служащего компании «Зингер» ценили и за его положение, и за щедрые чаевые.
Что-что, а денежки у него всегда водились. Его знакомые не подозревали даже, что черпает он их сразу из трех источников. Официальное содержание он получал в отделении фирмы, расположенном в Петербурге на Невском. Кроме того, он получал разовые суммы из германского посольства от лиц, с которыми встречался тайком и которым сообщал кое-какие сведения о русских военных кораблях, почерпнутые в общении с женами морских офицеров, с домашней прислугой, с портовыми служащими. С год назад к двум источникам дохода прибавился еще один. Как-то раз в Гельсингфорсе с ним будто бы случайно встретился в ресторане одетый в штатское платье жандармский ротмистр и предложил сообщать ему регулярно об услышанных среди обывателей разговорах, затрагивающих политическое положение, о встреченных во время поездок подозрительных людях.
Поликарп Нилыч Евстафьев не стал отнекиваться, охотно написал требуемую расписочку. Что ж он, дурак, что ли, чтобы от даровых денег отказываться? Сведения об услышанных разговорах он сообщал с тех пор регулярно. Однажды уведомил и о некоем господине в пенсне, ехавшем из Стокгольма и уж больно нервно следившем за одним из своих чемоданов. Сойдя с поезда в Выборге, Евстафьев доложил о своих подозрениях уполномоченному Финляндского управления. Позднее знакомый ротмистр рассказывал ему, что чемодан того господина досмотрели на пограничной станции Белоостров и обнаружили в двойных его стенках антиправительственные эсеровские книжки. Правда, задержанный оказался петербургским адвокатом и вовсе не из числа революционеров. За границей его уговорили перевезти чемодан, за которым потом явятся к нему на квартиру. Литературу изъяли, а через несколько дней удалось выследить и того, кто за ней явился в Петербурге.
Сегодняшний сосед по купе тоже показался Евстафьеву подозрительным. Едет во втором классе, одет прилично, а вот руки как у рабочего. Да и костюм не по плечу — мешковат. Но потом, когда попутчик сказал, что он совладелец небольшой плавучей мастерской, подозрение стало рассеиваться. Во время своих поездок Евстафьев встречал владельцев буксиров, которые несли вахту вместе с матросами, хозяев мелких мастерских, пошивочных, булочных, работавших вместе со своими слесарями, портными и пекарями. В небольшом деле не всякий может позволить себе в конторе рассиживаться. А этот, может быть, из инженеров даже или же недоучка. Но хозяйство, однако, знает. И насчет доходов с мастерской с достоинством ответил. А главное — никакой нервозности в нем не было. Вишь — заснул даже во время разговора с незнакомым.
Нет, тут дело такое, что опростоволоситься можно. Потом тебя же носом ткнут. Так что пускай жандармы в Белоострове сами разбираются, отчего человек с мозолистыми руками вдруг во втором классе едет, а не заметят мозолей — так это их печаль. А уж он о попутчике сообщать не станет. Ему, Евстафьеву, и отдохнуть сегодня не мешает, закатиться в уютный ресторанчик, а потом и поспать вволю. Назавтра ждут нужные переговоры насчет новой партии зингеровских машинок.
В то время, когда везущий Думанова экспресс покидал Выборг, в Петербурге по адресу Ивановская, 14, в доме, где помещалась типография «Художественная печать», шел неприятный разговор между издателем новой газеты Полетаевым и метранпажем Приходько.
— Нехорошо у нас получается, Николай Григорьевич, — говорил метранпаж, — растрезвонили на всю Россию о газете, а печатать-то, оказывается, не на чем. Не знаю, может, и будет время, когда газету по телефону или телеграфу передавать будут, а пока ее без бумаги не выпустишь… И как это могло случиться такое? Ума не приложу…
Полетаев, сидевший за столом, прикрыв бородку согнутой ладонью, ничего не ответил. Его осунувшееся лицо с синевой, легшей под глазами, было усталым. Заботы о составе первого номера, наборе статей, верстке полос поглотили без остатка все время. Все, казалось, подходило к благополучному завершению, как вдруг все застопорилось из-за причины, которую никак нельзя было предвидеть. Хозяин типографии неожиданно заявил, что запас бумаги вышел и нет никакой надежды вовремя его пополнить. День был субботний, и чем ближе он подходил к концу, тем меньше оставалось надежд на то, что бумагу удастся раздобыть на каком-нибудь складе.
Через застекленную перегородку конторки Полетаев видел бесцельно слоняющихся возле ротации печатников. Время от времени кто-нибудь из них наклонялся к машине, подвинчивал что-то или лишний раз капал куда-то из масленки. Но обе машины — на одной должна была печататься уже известная читателям «Звезда», а на другой новорожденная «Правда» — стояли…
— Эх, Григорьич, — продолжал говорить метранпаж, — по городам да по заводам подписные деньги собрали, а теперь — на-кась выкуси? Откуда же уважение от читателей будет?
— Да брось ты нудеть! — в сердцах сказал Полетаев. — И без тебя тошно.
Он встал из-за стола, рывком открыл дверь в помещение типографии. Его сейчас же окружили рабочие.
— Ну, что, товарищ Полетаев, ничего не слышно?
Он медленно покачал головой и как раз в этот момент увидел ворвавшегося в типографию до крайности возбужденного и взъерошенного Гертвига. И, еще не услышав от него ни слова, уже по одному радостному выражению его лица Полетаев понял, что пришло спасение. Печатники увидели, как просветлело его сумрачное лицо, глаза по-молодому заблестели.
Гертвиг объяснил, что автомобиль с бумагой стоит во дворе и нужно срочно разгрузить его. Людей не надо было уговаривать — повеселевшие, перекидываясь на ходу шутками, они побежали во двор. Рулоны по наклонным доскам быстро закатили в помещение, не теряя ни секунды, заправили в машины. И только тогда Полетаев удосужился спросить, где же, собственно, достали бумагу.
— Да в типографии «Биржевки»! — расплылся в улыбке Гертвиг.
— Что-что?! — ошеломленно спросил Полетаев, не веря своим ушам.
— Именно там! — охотно подтвердил Гертвиг. — Самая что ни на есть буржуазная газета — издание российских финансистов — поделилась с пролетарскими газетами. Да ты не пугайся — я не с банкирами договаривался и не с издателем Проппером. Выручил нас мой знакомый, он у них заведующим хозяйством работает. Под свою ответственность в долг дал. На два дня нам хватит, а в понедельник что-нибудь придумаем. Не из таких положений выход находили.
Полетаев с одобрительной улыбкой поглядел на товарища, дружески хлопнул ладонью по его спине. Уж кто-кто, а он и сам умел находить выходы из положений, казавшихся безвыходными. И именно это качество было учтено при выдвижении его кандидатуры на пост издателя новой рабочей ежедневной газеты, о которой вот уже столько лет страстно мечтал находившийся в эмиграции Ленин.
Впервые создавалась газета ежедневная, способная быстро откликаться на события. Совсем недавно создание такой газеты казалось делом утопическим хотя бы потому, что неоткуда было партии взять денег на ее издание.
А Полетаев раздобыл! Расшевелил людей, сочувствующих делу партии, умело организовал подписку среди рабочих, договорился с хозяином типографии о новой ротационной машине, и в результате всей этой работы, требовавшей не только сообразительности, но и определенной коммерческой хватки, его товарищам по партийному делу с полной очевидностью ясным стало — лучше Николая Григорьевича издателя и не найти.
Одному только удивлялись: откуда у простого рабочего такие недюжинные коммерческие способности?
А Полетаев был перегружен без меры. Уже одно то, что он являлся членом третьей Государственной думы, наполняло каждый день мешаниной всякого рода встреч, визитов, разбором письменных и устных жалоб и претензий. А к тому же еще и в заседаниях надо было участвовать. И все же, кроме Николая Григорьевича, ставить официальным издателем «Правды» некого было. Так что пришлось ему впрягаться…
Издание газеты было подготовлено в невероятно короткий срок. И уже хотелось с облегчением сказать, что вопреки пословице первый блин не получился комом, но не тут-то было… Последние сутки все вдруг пошло наперекос и заклинилось так, что поправить никак не представлялось возможным. Едва успели порадоваться тому, что счастливо разрешился вопрос с бумагой, навалилась новая беда — ротационная машина, которую только что с успехом гоняли вхолостую, теперь, когда в нее заправили рулон, начала рвать бумагу.
Печатники в который раз обрезали бумажную ленту, бережно заправляли ее в вальцы, пускали механизм — и опять белая лента превращалась в клочья. Снова обрезали и вправляли — и снова все рвалось…
Час проходил за часом, и люди уже отчаялись что-либо сделать. Уже подошел рассвет, уже был отпечатан почти весь тираж «Звезды», а на новой ротации еще ни одного номера не отпечатали. Всю ночь понапрасну ждали столпившиеся на лестнице мальчишки-газетчики, представители заводов, которые должны были разнести «Правду» засветло по рабочим районам Петербурга. Но наступило утро, а машина по-прежнему немилосердно рвала бумагу. Ругаясь и зевая в кулак, разносчики газет стали постепенно расходиться. И только тогда, когда почти никого не осталось, когда стрелки часов показывали десять утра, машина вдруг потащила бумажную ленту ровно и бережно. Первые номера новой газеты поплыли по транспортеру.
К этому моменту Полетаев вообще ничего не соображал. Голова стала тяжелой, словно чужой. Он встряхивал головой, тер веки, бил себя по щекам, но ничего не помогало. Даже когда он говорил с метранпажем стоя, его язык внезапно заплетался, глаза сонно стекленели.
Никогда еще Полетаев не чувствовал такого непреодолимого желания спать. Все вокруг воспринималось сквозь какую-то пелену. Даже радость от того, что машина заработала, показалась нереальной. Превозмогая себя, он сказал товарищам, что отпечатанную газету надо немедленно выносить, не дожидаясь, пока пришлют в типографию визу цензора. Каждый, кто кончил работу, пусть уносит пачку. Наконец, не выдержав, он почти на ощупь добрался до стола в конторке, сел, опустил отяжелевшую голову на руки и мгновенно погрузился в блаженство сна.
Разбудила его чужая властная рука, безжалостно толкавшая в плечо. Громкий голос назойливо трубил в ухо:
— Милст… государь… извольте проснуться… от имени закона…
Полетаев резко тряхнул головой, открыл глаза и увидел перед собой пышноусого полицейского пристава, глядевшего на него грозно и непреклонно. От этого совсем не райского видения Николай Григорьевич мгновенно пришел в себя, с максимальной вежливостью осведомился, чем бы он мог быть полезен.
— Милст… государь… член Госдарственн… думы! Распоряжением господина цензора из комитета по печати… номер газеты, именуемой «Правда», арестуется!
— Арестуется?!
— Так точно-с! Целиком весь тираж!
— А на каком, собственно… — начал было Полетаев, по тут же осекся. Спорить с приставом было бесполезно — тот лишь выполнял установленные правила. Но вот тираж… Как мог он проспать тираж?
Полетаев уже начал было произносить уничижительный внутренний монолог, направленный исключительно против себя самого, но вовремя заметил, что печатники, стоявшие неподалеку за спинами городовых, как-то странно поглядывают на него и улыбаются. Он перевел взгляд в угол и увидел, что там, где обычно штабелями лежали пачки газет, остались три-четыре связки. И он понял: успели вынести до прихода полиции!
А остальное, черт побери, не страшно!
Подходя к нужному ему дому, Думанов заметил человека, стоявшего в подворотне на другой стороне улицы, и понял, что перед ним шпик. Причем внимание его было явно обращено на парадную дверь того самого дома, куда направлялся Тимофей. Думанов миновал подъезд и пошел дальше по улице. Тут он заметил второго шпика, одетого, как и первый — то же суконное пальто, надвинутая на глаза фуражка, смазные сапоги… Сомнения не оставалось — дом взят под наблюдение.
Что делать? Конечно, он сам, поскольку не вошел в подъезд, не остановился около него, не должен был попасть в поле внимания шпиков — мало ли прохожих появляются на Николаевской улице. Наверное, это так, но как же все-таки связаться с товарищами?
Свернув на Загородный проспект, Думанов вскоре наткнулся на маленькую пирожковую, разглядел сквозь мутноватое стекло, что внутри сидели только двое посетителей — здоровенные бородатые мужики в поддевках. Видимо, ломовые извозчики, наверное, это их телеги стояли на мостовой напротив входа в пирожковую. Лучше места для того, чтобы приткнуться и обдумать положение, ему не сыскать. Он вошел, взял у краснолицей бабы, стоявшей за прилавком, два пирожка с ливером, стакан крепкого чаю и сел за столик в уголке, положив шляпу на соседний стул.
Обдумывая создавшееся положение, он пришел к выводу, что присутствие шпиков возле дома, где помещалась редакция «Правды», было делом неизбежным. Несомненно, им дано задание «засекать» нелегалов, но уследить за всем потоком посетителей, идущих в редакцию, невозможно. Его в лицо они не могли знать, о том, что он прибыл из Гельсингфорса, тоже не знали, а потому не надо обращать внимания на их присутствие и идти в редакцию не скрываясь.
И Думанов, вернувшись на Николаевскую, не таясь вошел в подъезд дома под номером тридцать семь. Грязная каменная лестница вела наверх. Он миновал несколько выходивших на лестничные площадки дверей, пока не нашел нужную. Она была полуоткрыта, а стало быть, ни звонить, ни стучать не было необходимости. Пройдя узкий квартирный коридор, он вошел в комнату, до того полную сизого табачного дыма, что сразу запершило в горле. За столом, заваленным бумагами, сидел человек атлетического сложения, с косматыми бровями и почти запорожскими усами. Рядом с ним стоял высокий худощавый человек в пальто, видимо, только что пришедший с улицы. Оба вопросительно взглянули на Думанова. Он спросил у них, может ли увидеть кого-нибудь из сотрудников редакции.
— К вашим услугам, — отозвался человек за столом, на короткое время вынув трубку изо рта. — Я заведующий редакцией. Еремеев. Чем могу служить?
— Я приехал из Гельсингфорса, — заговорил Думанов, — и мне необходимо видеть депутата Государственной думы Полетаева… Он ведь издатель вашей газеты.
— Да, — подтвердил Еремеев. — Но если вы насчет материала для номера, то скорее со мной дело иметь.
— Нет, это не связано с газетой. Я по делу гельсингфорсских матросов.
Он успел заметить, что Еремеев и высокий человек быстро переглянулись.
— Вы меня поймите… — продолжал Думанов.
— Ну ладно, — прервал его Еремеев, — можете и прямее говорить. Этот товарищ, которого вы видите, член Государственной думы. Шурканов. Может быть, слышали? Тоже рабочий депутат.
Думанов с любопытством посмотрел на высокого. Вот он какой, Шурканов — депутат Государственной думы! Среди думских деятелей, о которых немало писали российские газеты, рабочих была малая горстка. И один из них — рабочий петербургского завода «Новый Айваз», член социал-демократической фракции — стоял сейчас перед ним. Впрочем, фамилия Шурканова была хорошо знакома связному Гельсингфорсского комитета, он встречал ее не раз на страницах газеты «Звезда» — предшественницы «Правды». Думанов еще в Париже слышал о том, что два большевистских депутата — Полетаев и Шурканов, используя свое положение и неприкосновенность, ведут в Петербурге большую работу, осуществляют связь между подпольными и легальными организациями, помогают изданию социал-демократических газет и журналов.
— Очень приятно, — сказал Думанов, — в таком случае могу сказать, что к Полетаеву меня Горский направил. По делу совершенно безотлагательному.
Он назвал ту самую фамилию, которую посоветовал назвать ему Шотман.
— Горский? — переспросил Шурканов, скользнув по лицу Думанова цепким взглядом. — Доводилось мне о Горском слышать. Так, значит, ты от него?..
— Не только от него лично. Но раз вы о нем слышали…
— Э, — поморщился Шурканов, — кончай церемонии, вижу же, что свой брат рабочий и не просто рабочий, а наверняка партиец. Так что давай не будем друг другу «выкать».
— Давай! — легко согласился Думанов.
— Я, конечно, понимаю, что зря человека Горский в Петербург не пошлет, и понимаю, что дело деликатное — не всякому расскажешь. Но вот как раз сейчас я собираюсь идти в типографию, где в данное время находится Полетаев. Могу и тебя проводить. Так ведь, дядя Костя? — добавил он, обращаясь к Еремееву.
— Конечно же, проводи.
— А коли так, то пошли.
— Но… — замялся Думанов, — там внизу наружное наблюдение, сам видел филеров, когда шел сюда.
Еремеев с Шуркановым снова переглянулись, но на этот раз с улыбкой. Заведующий редакцией встал из-за стола, подошел к окну, поглядел на улицу, ткнул мундштуком трубки во что-то видимое ему.
— Вон он стоит, голубчик. Но только ты, товарищ, не обращай на него никакого внимания. Если бы мы на них смотрели, то и газету нельзя было бы выпускать. К нам за день сотни людей приходят, с заметками, с предложениями, за всеми не уследишь… Ну а тебе, как приезжему, в случае чего поможем следы замести. Так что ступайте прямиком. Впрочем, если есть желание, идите через черный ход. Но, по-моему, это хуже, подозрительнее покажется.
Провожая Думанова на Ивановскую улицу, Шурканов успел рассказать коротко об обстановке: рабочие окраины столицы кипят, политические забастовки вспыхивают одна за другой, и почти все — по поводу ленских событий. Такой накал наблюдался, пожалуй, лишь в преддверии революции, семь лет назад. Он поинтересовался, как обстоят дела в Гельсингфорсе, кто из старых партийцев ведет сейчас пропаганду у местных рабочих, есть ли связи с финскими социал-демократами.
Так незаметно дошли до типографии. Но Полетаева на месте не оказалось. Разделавшись с формальностями, связанными с наложением ареста на первый номер газеты, он подписал протокол, распрощался с полицейскими, а потом уехал, не сказав куда, но предупредив, что вернется в типографию к концу дня. Шурканов попробовал тут же из кабинета хозяина типографии позвонить Полетаеву домой. Но звонок оказался безрезультатным — телефонистка сказала, что номер не отвечает. Тимофей заметно приуныл, потому что дорог был каждый час, а время встречи с кем-нибудь из Петербургского комитета отодвинулось по крайней мере до вечера.
Они молча вышли из типографии.
— Я вижу, ты расстроился, товарищ, — участливо сказал Шурканов. — Может, я чем-нибудь смогу помочь?
Думанов замялся: говорить или нет? Но ведь время… Вот что сейчас ценно. В конце концов, решил он, Шурканов такой же партийный работник, как и Полетаев, и должен быть связан с Петербургским комитетом, и такому человеку он может довериться. Промедление сейчас смерти подобно. И он сказал, что должен встретиться с представителем Петербургского комитета. Когда Шурканов услышал об этом, глаза его сузились, худощавое лицо стало строже.
— Ты вот что, не сердись на меня, товарищ, но сам понимать должен… Ты приехал без явок, без рекомендаций. Я честно скажу: такую ответственность на себя принять не могу. Дождись лучше Полетаева, пусть Николай Григорьевич сам разберется…
— Да пойми ты, товарищ Шурканов, здесь время никак упускать нельзя!
— Да что за спешка такая? Ведь не восстание же готовится?
— Да, восстание.
— Что?!
Шурканов круто остановился, настороженно оглядел улицу. Она была почти пустой. Лишь по противоположной стороне ковыляли две старушки в серых шерстяных платках и облезлых плюшевых жакетах да вдалеке сворачивала за угол извозчичья пролетка.
— Какое восстание? Где? Когда?
Думанов начал было рассказывать, но Шурканов нахмурился, прервал его.
— Вот что, товарищ, мне сейчас в Государственную думу. Это в Таврический дворец. Хотя день и воскресный, но там для меня кое-какие материалы оставлены. У меня такое предложение. Пройдемся вместе пешком. Хотя и далековато, но зато будет время обо всем поговорить. Согласен? Ну и хорошо!
Они почти все время шли улицами тихими, немноголюдными, только изредка пересекая шумные проспекты. Шурканов объяснил, что сейчас они должны сделать два дела — установить, есть ли за ними хвост, и договориться о встрече с представителем Петербургского комитета. Он попросил сообщить ему кое-какие подробности, пояснив, что, прежде чем организовать встречу, должен будет предупредить членов комитета, о чем идет речь, и заранее убедить их в важности затеваемого дела.
Слушая рассказ Думанова о подготовке выступления, он изредка задавал ему короткие вопросы, уточняя детали. Потом надолго задумался. Минут двадцать шли молча.
Миновав очередной проходной двор, они вышли к ограде Таврического сада, и Шурканов предложил зайти туда. Он выбрал очень укромное место — видимо, не раз бывал здесь. Сад выглядел безлюдным, да и кому была охота гулять в такую промозглую погоду? Стылый ветер с Невы, по которой вот уже дня два шел ладожский лед, раскачивал черные голые ветви деревьев, рябил воду в лужах. Они присели на скамью, стоявшую в глубине длинной пустынной аллеи.
Шурканов, отогнув полу пальто, достал из кармана брюк массивный металлический портсигар, раскрыл его, протянул собеседнику.
— Папиросы «Лаферм» — марка не демократическая, — сказал он, улыбнувшись, — и для рабочего кармана накладная. Но, получая депутатское содержание, стал изредка позволять себе такую вольность, хотя почти все деньги сдаю в партийную кассу…
Думанов взял папиросу, не разминая, прикурил от поднесенной спички, глубоко затянулся. Может быть, в иное время он уловил бы вкус дыма незнакомого дорогого табака, но сейчас ощущал лишь кисловатую горечь — сказывалось не покидавшее его последние сутки нервное напряжение, накопившаяся усталость. Он затягивался глубоко и непрерывно. Его собеседник курил неторопливо, но видно было, что и ему неспокойно — лоб прорезала глубокая складка, под сдвинувшимися бровями почти совсем скрылись небольшие цепкие глаза, их взгляд неподвижно был устремлен в одну точку.
Они молчали все время, пока дымились папиросы, словно сам процесс курения мешал говорить. Когда окурки были брошены за спинку скамейки на мокрую пожухлую прошлогоднюю траву, Шурканов нарушил молчание.
— Прежде чем идти к товарищам, мне важно уяснить еще одно обстоятельство — нет ли все-таки какой-либо возможности удержать матросов от выступления, повременить хотя бы недели полторы… Ведь такие вещи, сам понимаешь, никогда с кондачка не делались. Чтобы подготовить рабочих Петербурга — на это время нужно… Твое сообщение будет как снег на голову для всех.
— Понимаю. Я хорошо понимаю. — Думанов отозвался с такой тоской, будто сам был виноват в сложившейся обстановке. — И комитетчики наши все понимают, но только поверь, товарищ Шурканов, невозможно матросов удержать.
— Да что же — новички у вас, что ли? Или уже разучились на людей воздействовать? Кто там еще у вас в комитете, кроме Горского?
Услышав имена названных Думановым членов комитета, он задумался ненадолго, нерешительно сказал:
— Пожалуй, из этих никого не знаю, но чувствую, что у вас там и впрямь страсти изрядно разгорелись…
— Вот то-то и оно! Ко мне перед отъездом знакомый матрос заходил — Сергей. Молодой парень совсем, по службе — первогодок, но ты бы видел, товарищ Шурканов, как он в драку рвется, горит весь, готов голыми руками биться, горло грызть…
Думанову показалось, что собеседник зло усмехнулся:
— Вот-вот, голыми руками… Так у нас и получается — мы голыми руками, а нас пулями, да снарядами. У нас в государстве Российском веками учились, как с бунтами расправляться. У правительства армия обученная, полиция, а тут голыми руками… На рожон лезем!
— Так ведь я к слову, что голыми руками. Если матросы корабли захватят, так это какая силища! Под наведенными орудиями и царский дворец закачается.
Возражая Шурканову, Думанов и не заметил даже, что повторил слова Сергея Краухова, которые он слышал всего сутки назад. Но тогда он возражал матросу, а сейчас был заодно с ним, словно за последние сутки что-то невидимое, но неразрывное связало их помыслы. Отправляясь с заданием уведомить Петербургский комитет партии о восстании, Думанов тем самым как бы давал согласие идти до конца с теми, кто три дня спустя в открытую схватится с врагом, и теперь он невольно прибегнул к их аргументу.
— Если корабли захватят, — задумчиво повторил его слова Шурканов, — если это удалось бы… Ну да ладно — не будем сейчас попусту гадать, как и что получится. Понимаю, что дело настолько неотложное, что промедление смерти подобно. Вот что: брошу я к черту все дела, займусь только твоим, вернее вашим, гельсингфорсским. Только скажу прямо: трудную задачу ты задал. Не могу поручиться, конечно, что именно так и будет, но только почти уверен, что товарищи из Петербургского комитета незамедлительно по этому делу соберутся и наверняка с тобой встретиться захотят. Давай условимся таким образом: сегодня я разыщу кого смогу, а завтра опять встретимся или же я кого-нибудь от себя пришлю. Ночевать-то есть где?
— Есть. У знакомого с Путиловского.
— Тогда так договоримся. Дам я тебе один адресок, куда тебе завтра явиться надо. Там тебя надежный товарищ встретит и проведет куда надо. Где живет твой знакомый с Путиловского?
— На Петергофском шоссе, за Нарвской заставой.
— Ну так это примерно в том же районе. Ни номера дома, ни квартиры никому не называй, квартира глубоко законспирированная. Тебе, в силу обстоятельств, доверяю. И еще одно: в Питере нынче осведомителей развелось видимо-невидимо. Охранка свирепствует. А потому никому ни слова, даже знакомым.
— Это для меня ясно и без совета…
— Ладно, не обижайся. Время такое, когда всего опасаться приходится. Я и сам уже опасаться начал — пойду, думаю, к товарищам советоваться, а вдруг среди них провокатор? Оторопь берет от одной мысли… А случиться такое может. Словом, давай договоримся: и ты и я вдвойне осторожными будем.
Перед расставанием Шурканов написал на клочке бумаги адрес, посоветовав выучить его наизусть, а бумажку уничтожить. Рассказал, где можно за небольшую плату перекусить по дороге, и поинтересовался, не нуждается ли Думанов в деньгах. Услышав, что не нуждается, он с сомнением покачал головой.
— Ты это не от щепетильности? Нашему брату, рабочему нечего друг друга стесняться. Сегодня я тебя выручу, завтра — ты меня. И все-таки не надо? Ну гляди… А теперь давай условимся, как расходиться будем. Хвоста за нами вроде бы и нету, но береженого бог бережет. Сейчас пройдешь прямиком на соседнюю улицу, свернешь налево и через три дома арку увидишь. Там еще один проходной двор. Но только там проход не прямиком пойдет, а коленом вправо свернет и выведет тебя на улицу, где трамвай ходит. Как раз подле остановки и выйдешь. На трамвае и уедешь. Уяснил?
— Уяснил, товарищ Шурканов, а ты сам как же?
— А я в подворотне первого двора задержусь. Если все же за нами опытный шпик увязался, которого мы не заметили, то, увидев меня, он мимо по улице пойдет, а коли во двор сунется, то я его задержу. А сейчас пошли, а то совсем продрогли…
Уже миновав подворотню, ведущую во двор, Думанов оглянулся и увидел, что Шурканов, сложив ладони, прикуривает на сквозном ветру.
ДОЛЯ МАТРОССКАЯ
«Я не остановлюсь перед крайними крутыми мерами, если потребуется, введу вместо розги плеть, вместо одиночного строгого заключения — голодный недельный арест, но, должен сознаться, опускаются руки… Вчера я посетил крейсер «Диану», на приветствия команда ответила по-казенному, с плохо скрытой враждебностью. Я всматривался в лица матросов, говорил с некоторыми по-отечески; или это бред уставших нервов старого морского волка, или я присутствовал на вражеском крейсере, такое впечатление оставил у меня этот кошмарный смотр».
(Из письма адмирала Вирена графу Гейдену)Темные клочковатые облака нескончаемой чередой проплывали над Финским заливом, просыпая местами косой холодный дождь на тусклую морщинистую поверхность моря, на редкие подтаявшие льдины. С палубы ледокола, державшего курс на Кронштадт, линия горизонта совсем не просматривалась — расплывалась в серой дымке. В пустынном море — ни корабля, ни рыбацкой лодки. Лишь ноздреватые, потерявшие белизну льдины время от времени попадали под острый форштевень ледокола. Не сбавляя хода, корабль легко врезался в рыхлый лед. Раскрошенные куски проплывали вдоль борта, быстро терялись из вида в белесой воде.
Порывистый ветер гудел в снастях корабля, сдувал с двух его труб столбы черного дыма, подрезая их у самого основания, свивал в жгут, рвал в клочья, заставляя стелиться дым над самой водой. Порою ветер швырял холодные крупные капли дождя в лицо Сергея Краухова. Бескозырка и шинель быстро набухали от влаги, становилось знобко. Но идти вниз, к четверым попутчикам-матросам в душный кубрик, покинутый полчаса назад, Сергею не хотелось. Однако новая дождевая туча все же заставила его перейти на другой борт, укрыться от дождя и ветра за палубной надстройкой.
Здесь, на корабле, Краухову не с кем было поделиться своими мыслями. Товарищи, с которыми он проходил службу на «Цесаревиче», остались в теперь уже далеком Гельсингфорсе, а с теми матросами, вместе с которыми его переводили в Кронштадт, он пока еще не успел познакомиться — все они были с разных кораблей. Только старшего группы — унтер-офицера Малыхина знал по службе на «Цесаревиче».
Малыхин внешне нетороплив, но чрезвычайно собран, малоразговорчив, всегда спокоен. На корабле вошла в поговорку его недюжинная физическая сила. Сергей сам был свидетелем, когда однажды на берегу Малыхин на спор легко, без видимых усилий разломил лошадиную подкову.
С Крауховым они сошлись и быстро подружились на почве общей любви к технике. Оба прекрасно знали свое дело, но Сергей признавал, что у Малыхина знаний все же побольше. До службы он работал в Москве на маленькой электростанции фирмы «Вестингауз», посещал бесплатные курсы, организованные для рабочих энтузиастом-инженером, читал специальную литературу по электротехнике. Кроме этих книг, никаких других в руки не брал. Однажды Сергей притащил с берега переданную ему Думановым нелегальную брошюру, но Малыхин только перелистал ее и тут же возвратил, сказав, в политику лезть не хочет. Однако Сергей чувствовал, что доверять ему можно всецело, и как-то рассказал ему о митинге на берегу. Малыхин внимательно выслушал его, но потом махнул рукой и сказал, что все это ерунда на постном масле, плетью обуха не перешибешь. Сергей злился, но Малыхин осадил его, не дал разгореться запальчивости.
Так и случилось, что вроде бы и были по-товарищески близки они друг другу, а вот о восстании знал из них только один.
Здесь, на мокрой палубе, на холодном ветру ледокола, Сергей особенно остро почувствовал себя одиноким. Ох, как нужно было ему сейчас, чтобы рядом находился кто-нибудь из своих, посвященных, как и он, в тайну грядущего события, которому суждено вскоре потрясти всю Россию. Но событие должно было произойти где-то там, в десятках миль на запад, где-то на переходе из Гельсингфорса в Ревель, и произойдет оно без него, матроса второй статьи Краухова, которого приказ по службе вырвал из среды друзей, из привычных уже условий и погнал на новое место — в Кронштадт.
Мысль Сергея все время возвращалась к одному — к тому, что должно было произойти через два дня. Он представил идущую к Петербургу эскадру — растянувшиеся в кильватер серые корабли, над которыми реют красные флаги. Один за другим входят они в устье Невы, разворачивая орудийные башни, и от них трусливо разбегаются городовые, скачут прочь от города испуганные казаки. А набережные Невы заполняются густыми толпами ликующего народа…
Он так задумался, что даже не заметил подошедшего. Мичман в мокрой шинели и надвинутой на нос набухшей от влаги фуражке неторопливо прошел мимо Краухова, скользнул по нему равнодушным взглядом, небрежным взмахом руки ответил на приветствие и пошел вдоль борта. Сергей, вытянувшийся по стойке «смирно» при виде офицера, теперь расслабился, прислонился спиной к переборке. Над матросом второй статьи Крауховым, как и над каждым из его товарищей, возвышалась целая пирамида начальства — командир отделения и взводный, старший офицер и командир корабля, командующие бригадой, эскадрой, флотом, а потом еще и морской министр. Каждый офицер, начиная от мичмана-взводного, был для матроса не просто командиром, но человеком из другого, враждебного ему мира, где не знают заботы о куске хлеба, живут в сытости и достатке, всасывают с молоком матери чувство пренебрежения к мужичью.
Офицером флота Российской империи мог быть только дворянин — иные сословия в эту касту не допускались. Так было заведено еще два века назад, так было и сейчас. А вот состав матросов за каких-нибудь два десятилетия изменился коренным образом. Когда корабли ходили под парусами, матросов поставляла флоту российская деревня. В ту пору все на корабле делалось вручную, и более всего в матросе ценилась физическая сила и ловкость. Вчерашние мужики, одетые в матросскую форму, видели в офицере привычного и понятного им с детства барина. Отношения между ними складывались в устоявшихся рамках. Привычными были и барский окрик, и подзатыльник, и розга… И хотя все это вызывало чувство внутреннего протеста, но ощущалось оно как бы глухо, резких форм не принимало и увязало как в тине в воспитываемой веками покорности.
Иная обстановка сложилась, когда на смену деревянным кораблям пришли стальные, начиненные машинами, механизмами, сложной аппаратурой. Тогда-то и выяснилось, что полуграмотный крестьянский парень попросту не в силах постичь никогда не виданных им машин. На флот пошли новобранцы из городов — с заводов и фабрик. Они прекрасно разбирались в паровых котлах и турбинах, в минных аппаратах и динамо-машинах, но зато принесли с собой дух свободомыслия, внутреннего непокорства, противодействия, рабочую солидарность.
В стальных коробках кораблей оказались лицом к лицу представители самых враждебных друг другу классов России. И между ними то и дело возникали столкновения, принимавшие самые резкие формы.
В революции 1905 года царизм спасла оставшаяся верной ему армия. Но флот тогда почти весь поднялся против самодержавия. Вслед за «Потемкиным» были восстания на «Очакове», на крейсере «Память Азова». С оружием в руках поднялись матросы Кронштадта, Свеаборга, Севастополя, Владивостока… Восстания были подавлены верными царю воинскими частями с помощью пушек и пулеметов. Но и после революции, когда огромная страна «умиротворенно» задыхалась в пеньковой удавке столыпинской реакции, когда силы народного сопротивления были подорваны, на флоте по-прежнему не было спокойствия. Машина репрессий работала вовсю, но и ей оказалось не под силу преодолеть матросское сопротивление…
За год службы Краухов насмотрелся многого. Провинившихся матросов оставляли месяцами без увольнения на берег, сажали в карцер, отдавали под суд, направляли в дисциплинарные команды, где официально разрешались наказания розгами, сажали в специально для нижних чинов построенные тюрьмы. Но не проходило месяца, чтобы не проявлялось бы вновь матросское неповиновение. Сам Сергей, уже дважды изведавший карцера, только чудом удерживался от вспышек гнева. А вот его товарищ — всегда угрюмый нижегородец Фома Соленов — сорвался. Доведенный до отчаяния издевательством мичмана барона Груббе, который называл его не иначе, как свиньей и грязным недоноском, матрос однажды вечером подкараулил обидчика в коридоре и ткнул его заточенным напильником в шею. Барон отлежался в офицерском госпитале в Петербурге, восстановил силы в имении у тетки близ Ревеля, а матроса первой статьи Соленова по приговору военно-морского суда повесили на специально оборудованном плацу неподалеку от пристани Лисий Нос.
Вспоминая о погибшем товарище, Сергей каждый раз утешал себя тем, что уже недалек час расплаты.
Промерзнувший на палубе, Краухов уже хотел было спуститься в кубрик, но в этот момент матросы из его группы вместе со старшим поднялись наверх.
Малыхин подошел к Краухову, молча стал рядом, вглядываясь в сумеречную даль Финского залива.
— Гляди, Серега, Толбухин маяк прямо по курсу.
Но напрасно Сергей пытался разглядеть его — на горизонте все пропадало в дымке. Но через несколько минут впереди над самой водой вспыхнула желтая звездочка — открылся Толбухин маяк. Малыхин пояснил, что до Кронштадта остался еще час с небольшим ходу.
Однако прошло еще добрых три часа, прежде чем ледокол миновал внешний рейд и уже в полной темноте пришвартовался в самом конце причала Купеческой гавани.
Тусклый свет фонаря освещал наваленные на деревянном причале ящики, бочки, бухты троса. Стоявший под фонарем высокий офицер приложил руку к козырьку, приветствуя кого-то на борту ледокола, спросил с ленцой:
— Как дотопали, Николинька?
— Как летучие голландцы, — с такой же ленцой в голосе ответили с палубы, — в гордом одиночестве. Но, кстати, льды уже не в счет, можно на Маркизовой луже летнюю навигацию открывать…
Сергей уже знал, что Маркизовой лужей офицеры называют Финский залив из-за его крайнего мелководья. Но продолжения разговора он не услышал, потому что Малыхин приказал всем забирать из кубрика свои вещи и выходить на берег.
Они сошли по трапу на пристань, поставили вместе рундуки. Малыхин подошел к стоящему возле фонаря офицеру, лихо козырнул, доложил, что команда матросов имеет назначение на линейный корабль «Император Павел I». Офицер коротко ответил, что идти надо на Пароходный завод, корабль ошвартован у заводской стенки.
Гулко топая по доскам причала, они направились к выходу в город, миновали часового и вышли на мощенную булыжником улицу. Слева ярко светились окна таможни, справа темнел берег Итальянского пруда. Обогнув пруд, команда, следуя за старшим, перешла мостик и очутилась на широкой Макаровской улице. Сергею показалось странным, отчего Малыхин ведет их не по плитчатому тротуару, а по булыжной мостовой, где ноги, обутые в жесткие матросские ботинки, скользят по мокрой округлой поверхности камня. Но когда он попытался спросить об этом, Малыхин жестко, по-начальничьи прикрикнул:
— Отставить разговоры!
Краухов с обидой глянул на товарища, но, увидев его посуровевшее настороженное лицо, понял, что обижаться не надо. В поведении Малыхина чувствовалась необычная напряженность, словно подстерегала на кронштадтских улицах неведомая опасность.
Матросы шли молча, в затылок друг другу. Сергей шагал вторым вслед за Малыхиным. По обеим сторонам улицы тянулись одноэтажные каменные дома, напоминавшие казармы. Окна безжизненно чернели, круги тусклого света под редкими фонарями ложились на мокрые каменные плиты мостовой, на глянцевитые зерна булыжника, за светлыми пятнами все пропадало в темноте.
Они уже миновали два перекрестка, а когда подошли к третьему, услышали в переулке слева цокот лошадиных копыт, который быстро нарастал и резко оборвался возле них. Малыхин остановился, и его зычная команда «смирно» приковала к месту остальных. Однако застигнутые врасплох матросы смешались, не зная, что делать — поставить ли рундуки на мостовую или же держать их в руках? Сергей быстро поставил рундук на мостовую, развернулся влево и застыл, как положено матросу по команде. Лишь после этого увидел поблескивающую в свете фонаря пароконную, крытую черным лаком коляску. На заднем сиденье сидел прямой, как палка, с торчащими усами старик. На черной его шинели виднелись широкие адмиральские погоны.
Краухову, кончавшему в Кронштадте школу электриков, не надо было объяснять, кто это. Главного командира Кронштадтского порта вице-адмирала Вирена знал в лицо каждый здешний матрос.
Вирен помолчал, внимательно оглядел матросов.
— Матросики, — спросил негромко, — куда путь держите, кто старший?
— Ваше превосхо-дит-ство! — с силой гаркнул Малыхин. — Команда электриков из Гельсингфорса следует согласно предписанию на линейный корабль «Император Павел I»! Старший по команде — унтер-офицер Малыхин!
Адмирал приподнялся над сиденьем. Под его холодным взглядом Сергею сделалось не по себе.
— Ну, что ж, голубчик, Малыхин… надеюсь, ты понимаешь, что ведешь не баб на базар, а матросов?
— Так точно, ваше превосхо-дит-ство!
— А коль понимаешь, то потрудись… — адмирал замолк, еще раз оглядел матросов и неожиданно закончил по-мирному фразу: — Потрудись привести в порядок свою команду.
Он ткнул тонкой, обтянутой белой перчаткой рукой в широкую спину кучера. Кони резво взяли с места, и через минуту-другую цоканье копыт затихло вдали. Еще не понимая, что произошло, матросы расслабились, с облегчением вздохнули.
— Что за старикашка подъезжал? — спросил высокий электрик с «Рюрика». — Отставной, что ли?
— Если бы отставной! — сплевывая на мостовую, зло отозвался Малыхин. — Это собственной персоной Роберт Николаевич Вирен.
— Да ну! — поразился матрос. — Неужто тот самый?
— Вот те и ну! Конечно ж — тот!
— А ты думал — еще один такой есть? Моли теперь бога, чтоб все обошлось. А то ведь он и из дома позвонить насчет нас может. Будем надеяться, что пронесет… Обычно он на месте меру наказания определяет… И надо же нам было на него нарваться!
Махнув рукой, помрачневший Малыхин зашагал дальше, за ним потянулись и остальные. Шли молча. У Сергея не выходила из головы нежданная встреча. Наверное, не было на Балтике матроса, который не знал бы имени Вирена.
С тех пор как царь утвердил Роберта Николаевича главным командиром Кронштадтской крепости, не было у матросов большего врага, чем этот сухой, жестокий адмирал. У Вирена была своя система взаимоотношений с нижними чинами, основанная на собственной теории. Адмирал считал, что революционные настроения на флоте, которых — увы! — никак нельзя было не заметить, возникают прежде всего в силу распущенности матросов и что, истребив эту самую распущенность, можно было подорвать и сами корни революционных настроений. А потому и нужно было, с точки зрения Вирена, ужесточить дисциплину до такой степени, чтобы у матроса и времени не оставалось для «политической дури». Он требовал от офицеров, чтобы они не скупились на дисциплинарные взыскания, и сам сыпал их направо и налево. Он останавливал матросов на улицах, заставлял по часу маршировать по мостовой, а то узнавал, с какого корабля матросы, и если с миноносца, приказывал проползти по-пластунски расстояние, равное длине миноносца. Если он видел матроса с девушкой, то непременно требовал, чтобы ему были показаны казенные метки на нательной рубахе и кальсонах.
Не бывало случая, чтобы он отпустил матроса с миром. Любая встреча с Виреном на улице кончалась наказанием.
На этот раз Сергею и его спутникам попросту повезло — Вирену сейчас было не до них — всего четверть часа назад он получил известие чрезвычайной важности. Сам министр двора барон Фредерикс уведомлял его в собственноручном послании о том, что согласно монаршей воле главный командир Кронштадтского порта приглашается вместе с супругой на открытие памятника почившему в бозе родителю его императорского величества, царю-миротворцу Александру III. Открытие состоится в первопрестольной столице в середине мая. Роберт Николаевич, ошеломленный оказанной ему неслыханной честью, спешил домой, чтобы поделиться радостью с женой. Он остановил пролетку возле матросов лишь по укоренившейся привычке. Пожалуй, впервые за время службы в Кронштадте он не стал наказывать нижних чинов за то, что они встали «во фронт» вразнобой и без всякого равнения. Но мысль об этом скользнула как бы по краю сознания и исчезла. В этот вечер он попросту был не в состоянии думать ни о чем ином, кроме как о неожиданном и столь радостном для него письме Фредерикса.
Значит, помнит о нем и не забывает его государь император!
Прибывших из Гельсингфорса электриков писарь внес в список личного состава, потом их отвели на камбуз, накормили из общего бачка стылой пшенной кашей и компотом. Пока они ели, усевшись за оцинкованным столом, на котором разделывают продукты, кряжистый боцман принес новенькие матросские ленты с вытисненной золотом надписью: «Император Павел I».
— На утренней поверке чтоб в новых. Ясно?
— Так точно, ясно! — за всех ответил Сергей.
Во рту у него был изрядный ком каши, и ответ получился невнятным. Боцман сердито хмыкнул.
— Это тебя на «Цесаревиче» научили отвечать с набитым ртом? Аль ты, как салага какая, службы вообще не нюхал?
— Никак нет, господин боцман, год служу!
— Так что ж тогда позволяешь себе?
— А вы объясните, господин боцман, — осторожно начал Сергей, — как в таком случае поступать? Вот вы спрашиваете, а у меня, к примеру, рот набит. Ежели я стану кашу заглатывать, то заставляю вас ждать ответа. А ежели сразу отвечу, то куда кашу девать?
Матросы насторожились, ждали, как поведет себя боцман. Тот исподлобья взглянул на Сергея, медленно согнул руку в локте, сжал кулак, потряс им.
— За такие вопросы — знаешь?.. На то ты и матрос, чтоб из любого положения выкрутиться… Но чтоб ясность была, отвечу. Вернее будет, чтоб в таком случае подождать — пока матрос не поест…
Все облегченно заулыбались. Этот, видимо, не из тех шкур, которые к нижнему чину по всякому поводу придираются. С этим, наверное, служить можно.
— А вы не скальтесь! — загремел боцман, тряхнув кулаком. — И живо в кубрик!
Кубрик был почти таким же, как на «Цесаревиче», — тесным. Новичков встретили тепло. Матросы окружили их, пожимали руки, дружески похлопывали по плечу. Первым делом интересовались, кто откуда родом. У матроса и у солдата земляк, известное дело, вроде родственника. Есть о чем вместе вспомнить, о чем поговорить, на кого опереться, если что… Для призванного на царскую службу, оторванного от дома, от друзей парня земляк был словно частицей его родных мест, по которым он тосковал. И тот из земляков, кто приходил на службу позже, был источником свежих новостей, соприкасавшихся хоть краешком с чем-то своим личным, близким.
В группе, с которой прибыл Сергей, помимо москвича Малыхина, оказались тверич, архангелогородец, муромчанин и двое ревельских. И у всех, кроме муромчанина, оказались в кубрике земляки. А питерских, как сразу сообщили Сергею, жило в кубрике сразу пятеро, и один из них, как и он, с Путиловского завода. Вот-вот вернется с вахты.
И вскоре в кубрике появился статный матрос. Сергей, как глянул на него, так и обмер от радости. Это был Костя Недведкин — друг старшего брата Терентия, человек, с которым велел связаться Шотман!
Когда утихла радость встречи, Недведкин увлек Сергея из кубрика на верхнюю палубу. Нечего, мол, ребятам своими разговорами мешать. А на баке и покурить и поговорить можно.
Они устроились прямо на палубе. Сейчас здесь, кроме них, не было никого — приближался отбой, и матросы были в кубриках. С палубы перед ними угадывался укрытый темнотой Финский залив. На ближайшем берегу залива мерцали огни Ораниенбаума, а далеко влево — там, куда уходил фарватер, мрак уступал место зыбкому белесому зареву. Там на берегах Невы раскинулся Петербург, родной их город.
Сергей рассказал Недведкину о своей службе на «Цесаревиче», о встречах с Шотманом и его товарищами на берегу.
— Александр Васильевич ничего для меня не передавал?
— Как же, передавал…
Сергей оглянулся и понизил голос:
— Через два дня на кораблях гельсингфорсской базы начинается восстание…
Недведкин вцепился в отворот крауховского бушлата, резким движением подтянул парня к себе, хриплым от волнения шепотом спросил:
— Ты что? Как это — через два дня?
— Да так через два. Там такое у нас получилось. В общем, думали сначала на осень, а потом ребята после Ленского расстрела словно бешеные стали. Перенесли срок на двадцать четвертое апреля. И товарищ Шотман не смог отговорить. Так что теперь начнется. Вот об этом и велено передать. Предупредить кого надо.
— Что же ты сразу не сказал? — с упреком бросил Недведкин. — Сейчас каждая минута дорога. До утра надо всех наших на корабле предупредить. А завтра тот, у кого увольнение, понесет весть на другие корабли и на берег. Однако же может и так случиться, что завтра аврал вдруг начальство объявит. Тогда с корабля никто не уйдет. Вся надежда на эту связь тогда лопнет. Надо все продумать. А обстановочка и у нас до предела. Людей удерживать все труднее. В каждое мгновение из-за любого пустяка огонь вспыхнет. Потому важнее важного — если уж выступать, так всем сразу. Нам, большевикам, надо быть с матросами вместе. Верят в нас, Сергей. Нас тут всего несколько человек. Пойду попробую по цепочке передать о встрече, может, удастся собраться нынешней ночью в условном месте.
Они поспешили обратно в кубрик, но не успели еще дойти до люка, как над палубой поплыл серебристый, чуть печальный звук. Горнист играл отбой.
После отбоя прошел уже час, когда вахтенного офицера вызвали в боевую рубку, к телефонному аппарату. Недоумевая, кому это вдруг понадобилось звонить в самую полночь, он поспешил к телефону. Звонил адъютант главного командира Кронштадтского порта. В трубке отчетливо слышался его размеренный, лишенный выражения голос:
— Его превосходительство приказал мне передать, что сегодня он на Макаровской улице встретил группу, следовавших на линейный корабль «Император Павел I» матросов, прибывших из Гельсингфорса. Означенные матросы встали «во фронт» вразнобой и без должной выправки. Его превосходительство предлагает подвергнуть всех виновных во главе с унтер-офицером дисциплинарному взысканию в установленном порядке.
Вахтенный офицер в задумчивости положил трубку на рычаг. И вышел из рубки. Он не мог знать, что Роберт Николаевич после долгого радостного разговора с женой о полученном лично от министра двора приглашении уже направлялся в спальню, когда ему вдруг стало неловко от того, что он, неукоснительно призывавший всех к строгой дисциплине, позволил себе расслабиться в приятную для себя минуту и отступиться от собственных требований, от заведенного образцового кронштадтского порядка. Как же он может требовать от других, если сам позволяет послабления?
Вирен прошел в кабинет, снял трубку телефонного аппарата и поднял с постели своего адъютанта…
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА
«Следует всегда иметь в виду, что один даже слабый секретный сотрудник, находящийся в обследуемой среде («партийный сотрудник»), несоизмеримо дает больше материала для обнаружения государственного преступления, чем общество, в котором официально могут вращаться заведующие розыском…
Поэтому секретного сотрудника, находящегося в революционной среде или другом обследуемом обществе, никто и ничто заменить не может».
(Из служебной инструкции охранного отделения)Это была обычная петербургская квартира средней руки — столовая, спальня да кухонька, обставленные обшарпанной мебелью. От других квартир доходного дома она отличалась лишь тем, что деньги на ее оплату шли из фонда Петербургского охранного отделения. Но об этом, впрочем, не знал даже сам домовладелец, регулярно получавший квартирную плату от нелюдимого, угрюмого жильца, числившегося конторщиком в отделении Русско-Азиатского банка.
Конторщик часто брал работу на дом, и потому никого не удивляло, что на службу ходил не каждый день.
В этот хмурый апрельский понедельник жилец сидел в столовой, занимаясь привычным делом — набивал табаком папиросные гильзы «Катык» с помощью жестяного желобка и оструганной палочки. Неожиданно в маленькой прихожей прозвучали три длинных звонка, а за ними совсем короткий, оборванный, словно точку поставили. Звонки были условными, а потому жилец заторопился, не спрашивая, кто звонит, открыл дверь.
В прихожую вошел высокий человек в потертом пальто и дешевой шляпе. Молча кивнув жильцу, он, не раздеваясь, прошел в столовую, присел к столу, отодвинул на край коробку с гильзами и пачку табаку, положил перед собой шляпу. Замешкавшийся в прихожей жилец зашел было в комнату, чтобы перенести в кухню свое доморощенное табачное производство, но в этот момент вновь раздались условные звонки. На этот раз в дверях появился приземистый краснолицый крепыш с военной выправкой. Этот не спеша разделся, обнаружив под пальто синий двубортный сюртук с серебряными погонами, снял с сапог и поставил в угол новенькие калоши и только тогда направился в столовую, подав жильцу знак, чтобы тот шел в кухню.
— Сердечно рад встретиться, господин Лимонин! — заговорил жандарм, не успев переступить порог. — Когда вы вызвали меня по телефону, я понял, что случилось нечто весьма важное… Ведь угадал же, а?
Лимонин, не поднимаясь, едва заметно пожал плечами, сказал деловито:
— Попрошу вас, господин ротмистр, срочно записать все то, что я сейчас сообщу.
Жандарм прикусил губу, глянул исподлобья, хотел было что-то сказать, но промолчал. По правилам ему полагалось бы сейчас осадить агента — инструкция департамента полиции строго-настрого предписывала не давать излишней воли секретным сотрудникам, ни в коем случае не идти у них на поводу. Ротмистр наизусть помнил:
«Особенно опасаться следует влияния на себя сотрудника и его эксплуатации. С сотрудником должны поддерживаться хотя близкие и деликатные отношения, но требования по сообщению розыскного материала и недопуску провокации должны быть абсолютными».
Однако поди-ка подступись к такому, как Лимонин, попробуй одерни его. Нет, Лимонин ему не по зубам. Этого агента берегли как зеницу ока. Сам начальник столичного охранного отделения фон Коттен говорил однажды, что существование этого агента — крупнейший успех последних лет.
А потому ротмистр не стал возражать Лимонину, послушно достал из стоявшего в углу облезлого комода лист бумаги, чернильницу и вставочку, с готовностью сел к столу.
— Пишите! — сказал Лимонин глухо. — Вчера в столицу из Финляндии прибыл человек, называющий себя Думановым. Он приехал по заданию подпольной организации гельсингфорсских социал-демократов, чтобы информировать Петербургский комитет партии и Русское бюро ЦК о том, что через несколько дней на кораблях Балтийского флота начнется вооруженное восстание. Выступление приурочено к моменту выхода гельсингфорсской эскадры на учение. Среди матросов созданы судовые ячейки, с которыми поддерживают постоянную связь социал-демократы Горский, Тайми, Воробьев, Кокко и другие местные большевики. О результате своих переговоров в Петербурге Думанов должен сообщить в Гельсингфорс шифрованной телеграммой. Она же послужит сигналом для начала решительных действий…
Ротмистр записывал с лихорадочной быстротой, делая помарки, не дописывая слова. Черт с ними — с помарками! Набело он потом все перепишет, а сейчас важно ничего не упустить. Первый раз за всю свою службу он получил такие неслыханно важные вести. Если бы в это время Лимонин стал грубить ему, немилосердно хамить — он и это снес бы безропотно. Что там самолюбие и требование инструкции, когда само везение в руки прет! И еще какое везение! Материал, добытый Лимониным, и на его, ротмистровых, делах скажется — ведь не кто иной, как он вручит переписанную собственной рукой записку фон Коттену. Он будет первым! А это оценится, обязательно оценится.
Начальник Петербургского охранного отделения закончил чтение рапорта, поступившего из Финляндского управления, подчеркнул красным карандашом заключительную фразу:
«Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сейчас на кораблях флота сравнительно спокойное состояние и тенденции к усилению революционного брожения среди нижних чинов не наблюдается».
Фон Коттен с удовлетворением отметил, что работники в Финляндии начали постепенно приобщаться к новому делу, пытаются как-то предвидеть, куда могут повернуть события. Конечно, вывод в конце рапорта слишком категоричен, но опирается он на факты. А факты сообщались такие, что можно было почувствовать некоторое затишье в социал-демократической пропаганде и в деятельности социалистов-революционеров. Предвидеть развитие событий — дело чрезвычайно сложное, но главное сейчас в том, что все-таки приобщаются постепенно!
Он был еще во власти приятных раздумий, когда ему доставили агентурную записку Лимонина с пометкой в углу, означавшей, что эту бумагу надо читать незамедлительно. Фон Коттен так и поступил. Но едва он стал ее читать, как выражение удовлетворенности на его лице, вызванное чтением рапорта из Финляндии, исчезло, стерлось, уступив место крайней озабоченности, а затем и несвойственной ему растерянности. Если верить сведениям, о которых сообщал агент, хотя бы наполовину, то и тогда по степени своей важности они заставляли отложить все остальные дела.
Он еще раз бегло просмотрел донесение агента, подчеркнув фамилии членов Гельсингфорсского военно-революционного комитета. Фразу — «восстание начнется в день выхода судов на маневры» — подчеркнул дважды и поставил на полях восклицательный знак.
За всю свою карьеру фон Коттен, славившийся в жандармском корпусе редкой выдержкой, ни разу не был в таком смятении. Проморгать подготовку восстания но флоте — это слишком! И что за безмозглые идиоты сидят в Финляндском управлении? Нашлись дельфийские оракулы! С такими нелепыми предсказаниями и революцию проморгают, прорицатели! Этого выжившего из ума кретина, подписавшего рапорт, полковника Утгофа надо немедленно на пенсию. Сегодня же он доложит об этом товарищу министра внутренних дел…
Шеф столичной охранки резко встал из-за стола, но тут в затылок ударила волна боли, в глазах потемнело. Еще только этого не хватало! Он с силой зажмурился на несколько секунд, потом быстро расцепил веки. Нехитрый, не раз испытанный прием помог и сейчас — черные точки перед глазами рассеялись, уплыли куда-то. Но тупая боль в затылке не проходила. Фон Коттен подошел к подоконнику, отлил в стакан воды из массивного хрустального графина, достал из плоской жестяной коробочки таблетку, морщась, проглотил.
«Надо спешно принимать меры. В Гельсингфорсе членов комитета можно взять собственными силами. Арестует их финская полиция по представленному списку. Хуже дело обстоит с изъятиями нижних чинов на кораблях. Морское начальство сразу начнет ставить палки в колеса, будет доказывать, что никакой опасности нет, что охранное отделение раздувает дело, что агентура дает неверную информацию… Моряки, как всегда, потребуют доказательств, и, как всегда, заранее. Не показывать же им секретное агентурное донесение! Позже доказательств будет сколько угодно, но это уже после ареста матросов и их допроса.
Конечно, морскому ведомству вся эта история хуже лимона во время изжоги, ибо дать согласие на аресты — это означало расписаться в собственном ротозействе. Но если смотреть правде в глаза, то и охранное отделение оказалось в щепетильном положении, узнав о восстании всего за два дня до назначенного срока!
Ну и узелок завязался, черт бы его побрал!
С одной стороны, из всей этой истории можно и капиталец извлечь, но недолго и на неприятности нарваться. Волей-неволей придется встать поперек дороги морскому министру Григоровичу, а у того сейчас такие связи, что лучше с ним не ссориться. Флот за него горой, Государственная дума с ним нянчится, но самое главное, что он любимец государя. А как умудрился стать любимцем, непонятно — в интригах не искушен, к дворцовым кругам не близок. Разве только слава порт-артурского героя помогла? Во всяком случае, царь с ним всегда ласков и ко мнению его прислушивается. Нет, с Григоровичем лучше не связываться.
Лучше пусть с моряками имеет дело кто-то из начальства — хотя бы Белецкий, этот хитрый лис. Уж он-то умеет выкручиваться! Другие столыпинские ставленники после того, как Петра Аркадьича застрелили в прошлом году, полетели с государственных постов, а этот не слетел, а даже на полступеньки поднялся — из вице-директоров департамента полиции стал исполняющим дела директора. Вот ему и карты в руки. Пускай сам с Григоровичем конфликтует. А столичное охранное отделение все равно в выигрыше будет — это оно с помощью своих агентов первым обнаружило опасность».
Постепенно на лице фон Коттена появилось обычное выражение сосредоточенности, за которым ни один черт не мог бы разобраться, что за настроение сейчас у начальника охранного отделения.
Исполняющий дела директора департамента полиции Белецкий только что просмотрел свежий номер новой рабочей газеты «Правда», и у него испортилось настроение. Эти безмозглые чинуши из комитета по печати дают разрешение на заведомо социал-демократический листок, своими руками поддерживают новый очаг опаснейшей пропаганды. Первый же номер цензура предписала конфисковать. Но каким-то образом проникают номера газеты на заводы и в рабочие кварталы. Номер, лежащий перед ним, тоже конфискован. Да и как было его не изъять, если в нем чуть ли не в открытую революционные призывы даны.
Взять хотя бы этот, лежащий перед ним номер — сплошные сообщения о забастовках протеста против Ленского расстрела, письма-протесты с мест в адрес социал-демократической фракции Думы. А в каком тоне о государственном режиме пишут! Вот заметка под невинным названием «Пустяки», но сколько яду вложено, что не по себе делается.
Белецкий снова склонился к газетному листу.
«Когда со стачечниками расправляются залпами, — медленно читал он, — тогда меркнут все другие способы подавления рабочего движения. И русская действительность привела к тому, что нет того насилия над рабочими, которое бы не показалось «пустяком» в сравнении с еще более зверской формой расправы. Арест в участке за стачку «пустяк» по сравнению с высылкой, высылка «пустяк» перед расстрелом…»
Просто непостижимо! Это же готовый материал для партийного агитатора. Зачитать эти слова вслух в рабочей среде — это все равно, что бросить горящий факел в пороховую бочку. Нет, надо с этим решительно кончать, конфисковывать зловредные номера со всей твердостью…
Рассуждения Белецкого прервал телефонный звонок. Начальник Петербургского охранного отделения просил принять его немедленно по делу, не терпящему ни малейшего отлагательства.
Фон Коттена Белецкий изрядно недолюбливал, считая наглым выскочкой. Хоть и кончил он академию генерального штаба, а солдафоном так и остался — тяжелый, грубый человек, любитель солдатских анекдотов. В сыскном деле дилетант, а карьеру сделал. Всего пять лет как перешел из артиллерии в корпус жандармов, а уже успел побыть начальником охранного отделения Москвы, а теперь и столичным отделением заправляет. Крепкая рука его поддерживает — сам министр двора Фредерикс. Ну да ладно — и не таких Степан Петрович вокруг пальца обводил. С самим генералом Курловым — жандармом из жандармов — и то мог потягаться!
Самым любезным тоном он справился у фон Коттена — нельзя ли перенести встречу часа на два: у него через десять минут начинается совещание. Однако его собеседник настаивал. Поняв по его тону, что дело слишком серьезно, Белецкий не стал больше колебаться.
Встретил он фон Коттена с показным радушием, вышел из-за стола, предупредительно показал полковнику на стоявшее в углу обитое черной кожей массивное кресло, сам сел напротив, свободно откинувшись на спинку, расслабленно положил руки на подлокотники. Вицмундир сидел на нем как влитой, стоячий воротник подпирал полные щеки. Карие живые глаза смотрели открыто и благожелательно. Но фон Коттен отлично знал, что нет и не может быть в этом человеке ни открытости, ни благожелательности. Зато есть гибкая изворотливость и хищная хватка, умение опутать, оплести собеседника, скрыть главное за второстепенным, затемнить свои намерения и выудить все о намерениях другого. Зная об этом, он чувствовал себя в разговорах с этим интриганом куда напряженнее, чем с шефом корпуса жандармов или с самим министром внутренних дел.
— Итак, Михаил Фридрихович, — начал Белецкий, — готов выслушать вас с превеликим вниманием, ибо понимаю, что лишь нечто из ряда вон выходящее толкнуло вас на просьбу прервать проводимое мной совещание с чиновниками по особым поручениям…
— Так точно, ваше высокопревосходительство, дело действительно неотложно…
— Но-но-но, — махнул рукой Белецкий, — убедительно вас прошу без церемоний.
— Слушаюсь, Степан Петрович! Я принес агентурную записку, содержание коей требует принятия мер безотлагательных. Но, впрочем, убедитесь сами, — фон Коттен протянул бумагу начальнику, — и простите великодушно — не стал отдавать на перепечатку. Насколько понимаю, здесь дороги и минуты.
Осторожно взяв за краешек лист плотной александрийской бумаги, исписанный бисерным почерком, Белецкий углубился в чтение. Фон Коттен видел, как менялось лицо начальника — сначала брови удивленно взлетели вверх, потом сдвинулись к переносице.
— И это все серьезно? — спросил Белецкий, поднимая от бумаги глаза.
— Как нельзя более серьезно, Степан Петрович. Наш агент Лимонин представляет исключительно точную информацию.
— Да-да, это вы справедливо изволили заметить… да-да… Лимонин точен… да-да…
Белецкий замолчал, задумавшись, словно забыл о собеседнике. Внезапно он хмыкнул, коротко хлопнул ладонью руки по подлокотнику. Фон Коттен насторожился, понял, что решение принято. И действительно, на лице Белецкого вновь появилось выражение благожелательности.
— Итак, насколько я уяснил, выступление матросов назначено на послезавтра утром.
— Совершенно верно, Степан Петрович!
— Учитывая то обстоятельство, что сейчас уже вечер, в нашем распоряжении остаются две ночи и один день.
— Совершенно верно.
— Ну и что мы можем практически предпринять? Есть ли у нас возможность изолировать всех причастных к восстанию?
— Что касается тех, кто на берегу, — достаточно дать телеграмму. Имена, как видите, известны.
— А имена нижних чинов флота? Их имена — как?
Этим вопросом Белецкий бил в точку. Ответить на него фон Коттен не мог. Нечего было отвечать. Начальник, выдерживая паузу, смотрел в упор.
— Имена нижних чинов, к сожалению, пока неизвестны, — медленно сказал фон Коттен. Под глазом его дернулась жилка.
— Вот именно, милейший Михаил Фридрихович! Вот именно! А посему мы имеем ситуацию следующую: послезавтра утром на кораблях бунт, а кого изъять, чтобы предотвратить его, мы не знаем. И у нас нет никакой уверенности в том, что арест большевистского комитета на берегу сколько-нибудь повлияет на решение матросов. Конечно, предупрежденное нами командование флота примет соответствующие меры на послезавтра: перекроет доступ к корабельному оружию, вооружит унтер-офицерский состав и еще что-нибудь сделает… Но заметьте, Михаил Фридрихович, это чистейшей воды паллиатив. Если мы не изымем зачинщиков сейчас, они могут нанести удар позднее, причем неожиданно. Вот в чем соль проблемы, любезнейший Михаил Фридрихович… Мне поначалу показалось, что вы пришли ко мне с каким-то решением… или я ошибаюсь?
— Я вижу решение в том, Степан Петрович, чтобы срочно пересмотреть на месте списки неблагонадежных матросов и арестовать… или…
— Не то, не то, Михаил Фридрихович! Мысль-то вашу отчетливо понимаю: забросить невод мелкоячеистый, выловить всю рыбку, а потом мелочь обратно выпустить. Да ведь кто же нам позволит такой ловлей заниматься? Никто не позволит! На флоте не мы командуем… Если уж изъяли кого, так надобно доказать потом, что точно того и взяли, кого надо! А иначе — ох как на нас отыграются! Вот ведь в чем дело, милейший Михаил Фридрихович!
Фон Коттен все больше наливался злостью. Начальник почти в открытую издевался над ним, отчитывал, как мальчишку. Но что можно было возразить? Только и утешало — и он и Белецкий одной веревочкой повязаны. Случись бунт — обоим несладко придется. Так что пусть себе пока поупражняется в красноречии, потом все равно сообща действовать придется.
Но Белецкий, словно поняв, о чем думает подчиненный, сказал вдруг совсем иным тоном, в подчеркнуто официальной манере:
— Пока мы с вами разговоры ведем, часовая стрелка еще на одно деление передвинулась. А время, сами же говорите, не ждет, торопиться надо. Я попрошу вас, полковник, представить мне максимально быстро списки неблагонадежных по судам, имеющим базирование в Гельсингфорсе. А сейчас честь имею.
Сложную задачу предстояло решить исполняющему дела директора департамента полиции. Но к чести Степана Петровича надо сказать, кто-кто, а он решать задачи такого рода был приучен. Ситуация, с которой его познакомили, была предельно ясна для него. Прост был и способ, который, видимо, поможет разрядить нежданную мину. Решение, в сущности, подсказал сам фон Коттен, хотя Белецкий и виду не подал, что заметил в доводах подчиненного нечто ценное для себя. Ничего иного, кроме того, что предлагал фон Коттен, в сложившейся обстановке предпринять нельзя было. Единственный выход — изъять подозреваемых. Дальше уже все было проще, даже при условии, что в сети попадутся непричастные к преступному сообществу матросы, каждый попавший в руки охранки так или иначе что-то даст для следствия. Любой матрос при умелом подходе следователя наговорит такого, что его нетрудно будет подвести под соответствующую статью. В этом смысле трудностей он не видел. Иное дело — преодолеть сопротивление морского ведомства. Моряки, понятное дело, полезут в амбицию. А потом еще печать… Даже самые верноподданные не удержатся, чтобы не лягнуть — они, мол, единственные, кто денно и нощно печется о безопасности государства Российского. А левые газетки — те сразу же визг поднимут, будут политический капиталец себе наживать.
Чтобы и волки были сыты, и овцы целы — о таком Степан Петрович и думать не мог, — понимал, что этого не бывает. Иное дело — волков вовремя накормить. Тут уж они присмиреют. И надо было действовать так, чтобы репутация служащих министерства внутренних дел не пострадала. И еще одно надо было предусмотреть — чтобы не было во всем деле заслуги самодовольного Коттена. Впрочем, докладывать министру будет Белецкий сам, а потом и все раскрытие заговора станет его заслугой. Что же касается чинов морского ведомства, то надо ошеломить их нежданным известием, не дать времени на размышление, взять за горло и не выпускать. Пока задним числом разберутся — дело будет сделано.
С начала тысяча девятьсот двенадцатого года в столице один за другим, раз, а то и два в месяц, проводились «Дни цветов». В Петербурге развелось слишком много благотворительных обществ, но у них, как правило, было мало денег. «Дни цветов» и предназначались для выкачки средств из петербургского обывателя.
Сама организация «дней» была делом нехитрым. Благотворительное общество, пожелавшее провести свой «день», прежде всего создавало подготовительный комитет, куда непременно включали какого-нибудь князя или сенатора, известного певца или писателя, супругу высокопоставленного лица, богатого финансиста или купца. Комитет закупал цветную бумагу, проволоку, картон, клей. Десятки барышень — институтки, гимназистки, воспитанницы частных учебных заведений — клеили картонные кружки для сбора денег, мастерили из лоскутов шелка и из цветной бумаги искусственные цветы.
О проведении «дня» заранее объявлялось в газетах, и, когда он наступал, сотни дам-добровольцев устремлялись на улицы города, в присутственные места, на вокзалы, в парки, в магазины, в кафе и рестораны, в трамвайные вагоны — предлагать петербуржцам матерчатые и бумажные цветы. Цена за цветок не устанавливалась. Покупатель опускал в прорезь кружки сколько хотел или мог, а за это ему на грудь прикалывали цветок — своего рода индульгенцию, освобождавшую его от назойливости остальных сборщиц, поджидавших прохожих на каждом углу. Репортеры столичных газет в «Дни цветов» дежурили в излюбленных местах, чтобы на следующий день петербуржцы могли прочитать о том, что министр К. отдал за цветок пятьдесят рублей, а купец первой гильдии М. отвалил двести целковых.
…В воскресенье 15 апреля общество борьбы с туберкулезом провело в Петербурге «День белого цветка». Мария Михайловна фон Эссен — жена начальника морских сил Балтийского моря — состояла в организационном комитете и потому всю неделю занималась вместе с другими подведением итогов. Дело было хлопотливым, потому что в большинстве кружек лежали медяки и подсчет отнимал уйму времени. Конечно, сама адмиральша мелочь не пересчитывала — на это отрядили институток, но дел у нее и без того хватало. Надо было дежурить в помещении комитета, принимать хроникеров, гасить вспыхивающие среди институток ссоры, определять, сколько рублей передать в ту или иную неимущую семью, где были туберкулезные больные.
Когда при вскрытии очередной кружки обнаруживалась крупная купюра, в комитете наступало оживление. Чаще всего было известно, кем она положена, но иногда приходилось гадать.
Вот и сегодня уже к концу дня обнаружили довольно крупную сумму. Вся кружка была забита бумажными купюрами. Больше всего было десятирублевых, но среди них была и свернутая трубочкой сторублевка. Тут же выяснилось, что в «День белого цветка» с этой кружкой находилась в кулуарах Государственной думы баронесса Икскюль, и потому учредители комитета обратились к ней за разъяснениями.
— Теперь я все понимаю! — воскликнула экспансивная баронесса. — Именно о чем-то подобном я и подозревала. Ну, конечно же, это он — известный деятель думы, октябрист Звегинцев… такой стройный, подтянутый человек… Говорят, что он в молодости был моряком. Я подошла к нему с кружкой и спросила, в какую сумму оценивает он белый цветок? Но он улыбнулся такой тонкой улыбкой и сказал, что не нужно называть сумму — он так не любит шумихи! Он от всего сердца отдаст все, что есть в наличии. Достал портмоне, вынул все, что там находилось, оставил себе только серебряный рубль на извозчика, а остальное положил мне в кружку. Я хорошо помню, что там было два червонца, пять рублей, а одна купюра была свернута трубочкой. Господин Звегинцев так ее и опустил. Я узнаю ее! О, благородный и скромный человек! Теперь я все понимаю — он не хотел привлекать к себе дешевого внимания прессы.
Пока баронесса произносила восторженный монолог, никто из членов комитета, кроме адмиральши, не заметил, что юркий репортер из «Петербургской газеты», вертевшийся в помещении, что-то занес в свою записную книжечку.
Разошлись в этот день поздно — в восьмом часу, и, когда адмиральша ехала на извозчике домой, на улицах уже стемнело. Пересекая Невский, она обратила внимание на огромный транспарант, установленный на крыше Гостиного двора. Ярко горевшие электрические лампочки образовывали контуры императорской короны, внутри которой располагались две буквы: АФ.
Ну, конечно же! — завтра день тезоименитства государыни Александры Федоровны.
В суматохе комитетских дел адмиральша за весь день ни разу не вспомнила об этом, но теперь мерцающий вензель напомнил ей о том, что завтра она должна быть на торжественном молебне в Казанском соборе. Дома придется сразу же поручить горничной проверить белое парадное платье и, если надо, подгладить его. А что касается перчаток, то у нее есть две пары новых, присланных недавно из Ганновера дальней родственницей мужа графиней Гейдрих. Белые туфли тоже совсем новые. Но надо будет завтра с утра пораньше послать кого-нибудь из прислуги на Невский в цветочный магазин мсье Жерома — небольшая орхидея хорошо украсит ее платье.
Подъезжая к дому, она увидела стоящий у парадной двери черный закрытый автомобиль, поняла, что Николай Оттович дома. Это было приятным сюрпризом. Не далее как сегодня утром он звонил из Кронштадта и предупредил, что приедет завтра прямо к богослужению. Значит, что-то изменилось в его планах, и Мария Михайловна была очень рада этому. В последнее время, с тех пор как ее супруг назначен командующим морскими силами Балтийского моря, она слишком редко видела его дома.
Николай Оттович встретил ее на крыльце, поцеловал в щеку, открыл перед нею дверь и сам, отослав горничную, снял с жены пальто, повесил в гардероб.
— Что-нибудь случилось, Николя́? — спросила она. — Ты же собирался быть завтра…
— Ничего особенного — завтра утром еще до молебствия надо будет обговорить несколько дел, связанных с новыми кораблями, но тебе это, вероятно, неинтересно. Расскажи лучше, что у тебя нового в комитете? Много денег удалось собрать?
Марию Михайловну порадовало, что муж, как всегда, внимателен к ее делам. Отдав распоряжение об ужине, она прошла с мужем в гостиную и рассказала о сторублевой купюре октябриста Звегинцева.
Николай Оттович слушал ее, как всегда, со вниманием, но отнесся к рассказу скептически.
— Дешевые штучки, — сказал он, пожав плечами. — Знаю я этого Звегинцева — надут, как павлин, а скромником прикидывается. Уж кто-кто, а он прекрасно знает эту несносную трещотку Икскюль и уж совершенно определенно рассчитывал, что она всем растрезвонит о его великой добродетели. Расчетливость политического деятеля — не более того. И ведь смотри — в газете небось пропечатают завтра же о благородстве этого господина. А ему как раз реклама более всего и нужна.
— Скажи, Николя́, — поинтересовалась адмиральша, — он и в самом деле моряком был?
— Ну, как сказать? Он действительно кончил Морской корпус, служил что-то около двух лет, потом ушел в отставку. Но с тех пор себя великим знатоком флота считает, поучает нас в газетах, какие нам корабли строить и как их вооружать. Чаще всего банальности пишет, но с его мнением считаются. Как же! Он член думской комиссии по обороне! Будь моя воля — я бы эту безграмотную комиссию дилетантов к чертовой матери!
— Но, Николя́…
— Ах, прости… Привыкаешь на палубе к крепким выражениям, потом в приличном обществе и появляться неудобно.
В гостиную заглянула горничная, сообщила, что стол накрыт. Они перешли в столовую — квадратную комнату со стенами, облицованными темными дубовыми панелями. Большой овальный стол, покрытый накрахмаленной белоснежной скатертью, окружали два десятка массивных с высокими спинками стульев, обитых черной кожей. Над столом нависала причудливой формы венецианская люстра вся в хрустальных подвесках, давний свадебный подарок светлейшей княгини Ливен.
— Ты уж извини, — сказала адмиральша, — поскольку тебя не ждали к ужину, то специально не готовили. И предложить тебе почти нечего — есть холодная телятина, анчоусы, балык, ну, еще твои любимые маслины…
— И это ты называешь ничего? — улыбнулся Эссен.
Они сели за стол рядом. Адмирал, привычно заправив угол накрахмаленной салфетки, с аппетитом принялся за телятину. Впрочем, сколько знала его Мария Михайловна, он никогда не страдал отсутствием аппетита. Сама адмиральша вечерами по своему обычаю почти ничего не ела. Она ограничилась тонким ломтиком балыка и крошечным кусочком французской булки. Зато Эссен, как и положено здоровому мужчине, расправлялся с ужином за двоих.
В последний год во время его редких наездов домой она каждый раз видела его усталым, но сегодня это было особенно заметно — он непривычно ссутулился, под глазами набухли мешки. Ей показалось, что и седины у него прибавилось. Обрюзг он и постарел… А не так давно, всего восемь лет назад, в порт-артурские времена, он мог фигурой с юношей поспорить, а ведь уже тогда он был капитаном первого ранга, командовал крейсером. Чудеса храбрости творил на своем «Новике». Газеты — те безо всякого окрестили его героем Порт-Артура… Но она плохо представляла себе мужа в служебной обстановке, окруженного грубыми матросами, которые всегда казались ей на одно лицо.
В кабинете зазвонил телефон. Прибежавшая в столовую горничная сказала, что звонит адъютант морского министра.
— Какого черта я понадобился ему в такой час? — недовольно проворчал Эссен. Он бросил скомканную салфетку на стол и быстро прошел в кабинет. Вернулся очень скоро, и адмиральша обратила внимание на то, что муж чем-то озабочен.
— Странно, — сказал он, пожимая плечами. — Просил немедленно приехать в адмиралтейство. Хорошо, что я шофера не отпустил, приказал накормить на кухне… Скажи ему, чтобы шел к автомобилю.
Григорович встретил Эссена в дверях своего огромного, размером с теннисный корт, кабинета, крепко пожал руку.
— Слава богу, что ты в Петербурге оказался. Я уже хотел тебя из Кронштадта по аппарату Юза вызывать.
— А что за спешка, Иван Константинович? Случилось что-то?
— Понимаешь, Николай Оттович, навалилось такое… хуже чем в кошмарном сне. Врагу не пожелаешь… Был у меня только что Белецкий. Ты его знаешь — видный мастер полицейских дел. Сообщил, что прошляпили мы с тобой серьезнейшую беду. Ты не девица, в обморок не упадешь, так что скажу тебе сразу без подготовки: на судах гельсингфорсской эскадры подготовлено восстание.
— Да ты что, шутишь?!
— Хотел бы шутить… Но обстоятельства донельзя серьезны… Иди сюда к карте.
Он подвел Эссена к висящей на стене карте Балтийского моря и, взяв в руки тонкую полированную указку, провел ею от Гельсингфорса к Ревелю, от Ревеля — к Кронштадту, а затем к столице. Со слов Белецкого он рассказал, что именно таков маршрут восставших кораблей в случае успеха. Белецкий уверял, что если не принять немедленных мер завтра, то день спустя успех заговорщиков может быть вполне вероятен. Исполняющий обязанности директора департамента полиции предлагал не позднее чем завтра произвести аресты на кораблях по спискам, которыми располагает Финляндское жандармское управление, изолировав тем самым всех зачинщиков.
Эссен, слушавший министра не перебивая, мрачнел с каждой секундой. Невидящим взглядом он уставился в карту, словно глядел сквозь нее вдаль. Лицо его побагровело, седоватая бородка несколько раз дернулась, ибо Николай Оттович непроизвольно для себя сделал несколько жевательных движений челюстью (приобретенная еще в детстве привычка). Вялой рукой достал из кармана носовой платок, вытер лоб и лысину и так же машинально засунул платок обратно.
Успевший оправиться от нервного потрясения, вызванного сообщением Белецкого, Григорович смотрел на сослуживца и друга с сочувствием. Он понимал, какая сумятица чувств обуревала его сейчас. Прежде всего командующий морскими силами Балтийского моря нес личную ответственность за все, что может случиться на судах. Но дело было не только в этом. Эссен никогда не боялся ответственности и не уклонялся от нее. Сейчас в нем были потрясены его лучшие чувства. Он любил морское дело до самозабвения, был ревностным служакой, ценил превыше всего порядок и дисциплину.
Григорович хорошо знал, что в отличие от большинства немецких дворян, составлявших значительную часть офицерства русского военного флота, Эссен служил царскому дому не за страх, а за совесть. Николай Оттович всегда от души переживал, если встречался с малейшим беспорядком на корабле, с малейшим нарушением дисциплины. За недолгое время командования флотом он сумел добиться многого — укрепил начальствующий состав, резко поднял уровень обучения нижних чинов. Его предшественники заботились больше о парадной стороне дела, упирая на строевую подготовку и то главным образом на берегу. Корабли в ту пору месяцами стояли у причалов. При Эссене они стали плавать, проводить маневрирование, стрелять, ставить мины — словом, делать все то, что положено им делать. Впервые за долгие годы разваленный еще до Цусимы и потрепанный Цусимой российский флот стал приобретать черты боеспособности. Сравнительно небольшие силы Балтийского моря на глазах превращались в крепкое ядро будущего флота.
Теперь все это могло полететь к черту. Вместо стройности, дисциплины, порядка — кровавая анархия бунтовщиков, распад флота, выведение его на долгие годы из боевой готовности…
— Нет, Иван Константинович, — стряхнув с себя оцепенение, хрипло сказал Эссен, — не могу поверить во все это… Не могу! Чтобы целый отряд судов подготовить к восстанию, а мы ничегошеньки об этом не знали! Не могу поверить, хоть убей. Да и потом, какого дьявола жандармы, если у них действительно есть сведения и даже списки, молчали до сих пор? Им-то в первую очередь надо заботиться о своевременной ликвидации крамолы. Гром меня разрази, тут что-то не то! Уж не провокация ли жандармская здесь? Ты же знаешь их привычку раздувать опасность, чтобы потом лавры пожинать…
— Думал я и о такой возможности, Николай Оттович, думал. Но вся беда в том, что охранное отделение сейчас нас за горло держит. Каковы бы ни были его действительные намерения, наш ответ сейчас может быть только один: немедленно дать согласие на аресты. У нас нет возможности поступить иначе после того, как Белецкий официально уведомил о том, что послезавтра на кораблях начнется бунт… Конечно, давая свое согласие, мы тем самым косвенно признаем, что сами прошляпили. А что делать, коли в самом деле прошляпили? Есть у меня смутное подозрение о том, что и жандармы что-то прозевали, слишком поздно получили информацию. Но, с другой стороны — откуда у них могут быть готовые списки? На это же время надо! А потом, Николай Оттович, боюсь я, что это не провокация. Слишком взвинчен был Белецкий, мне показалось, даже напуган… И коли разговор о восстании серьезен, то сам понимаешь, есть от чего испугаться. Ты помнишь, как «Потемкин» всему одесскому гарнизону свою волю диктовал — и казаки и солдаты ничего поделать не могли. С корабельными пушками не шутят… Ты представь себе, что не все корабли, а хотя бы «Слава» и «Цесаревич», захваченные бунтовщиками, к столице прорвутся…
— Не могу я такого себе представить! — стукнул ладонью по столу Эссен.
— Не можешь… Я бы вот тоже не хотел бы, а приходится с такой возможностью считаться… Давай-ка, Николай Оттович, присядь за стол, возьми себя в руки и попробуем вместе план действий набросать. Время не терпит…
— И вот еще что, — уже спокойнее сказал Эссен, — не могут «Слава» и «Цесаревич» в Неву войти… и «Рюрик» с «Олегом» не войдут — осадка не позволит.
— Это, дорогой, слишком слабое утешение для нас, моряков, — махнул рукой Григорович. — Большим кораблям и не к чему в Неву входить — достаточно встать в Морском канале у 114-го пикета. Оттуда весь Петербург под огнем держать можно.
Дощатый дом стариков Крауховых стоял на краю утонувшего в грязи рабочего поселка. На незамещенной улице земля совсем раскисла, и прохожих лишь частично выручали лежавшие поперек луж почерневшие доски. Проходя мимо покосившихся хибар с подслеповатыми окнами, Думанов старался ступать как можно осторожнее, но все равно, когда он добрался до места, ботинки его были сплошь залеплены грязью. Перед домом, который он узнал без труда по описанию Сергея, была замощена обломками битого кирпича и хорошо утрамбована небольшая площадка, маленькое крылечко тщательно вымыто. Думанов ощутил неловкость оттого, что ему придется ступить на чистые доски своими ботинками, но потом он заметил лежащую перед дверью рогожу, шагнул на нее и постучался. Открыла дверь маленькая старушка. Услышав, что он от Сергея, она всплеснула руками.
— От Сереженьки? Вот радость-то бог послал! Да заходи же ты, милый человек, скорее…
Войдя в небольшие сени, Думанов начал разуваться.
— Да уж ты напрасно это, мил человек, оботри ноги и проходи! — заволновалась хозяйка. — Зачем ботинки снимаешь — пол-то ведь холодный!
— Нет, мамаша, и не уговаривайте! — твердо сказал Думанов. — У вас тут такая чистота, что грешно в обуви…
Он прошел в носках в комнату и увидел отца Сергея — жилистого худощавого старика с седыми волосами и аккуратно расчесанной седой бородой. Он сидел на лавке за столом и чем-то вроде кривого ножа ковырял деревяшку. Думанов разглядел, что это деревянная ложка. Кучка уже готовых лежала на краю стола.
Когда гость рассказал все, что знал о Сергее, о его службе и как мог ответил на вопросы, старший Краухов, убирая инструменты в ящик, пояснил:
— Это я тут на свободе промыслом занялся. Еще в деревне мальчишкой научился ложки резать. Вот теперь и пригодилось. Нам ведь пособий и пенсий, как господам чиновникам, не выдают. Сыны и дочки, конечно, помогают чем могут, да у них свои семьи, ребятишек кормить надо… Вот я и занялся. Нарежу ложек, шкуркой да стеклышком отшлифую, лачком покрою, а потом на Сенной рынок в воскресенье отвожу. Платят опять же мало, но на ситники хватает, а когда и шкалик себе позволить можно… да и нос в табаке… Только что-то трудновато работать в последнее время стало. Однако чего это я заболтался? Соловья, известно, баснями не кормят. Давай-ка, мать, накрывай на стол чем бог послал, а я пока в печку дровишек подкину, чайничек поставлю…
Пока старики возились, Думанов оглядел комнату. Была она довольно большой, но пустоватой. Приткнутый к стенке некрашеный стол с двумя лавками по бокам, лавка у противоположной стены, большая, крытая лоскутным одеялом кровать с грудой подушек в сатиновых наволочках, сундук да полка — вот и вся ее обстановка. На окнах — пестрые ситцевые занавески. В углу аккуратно прилажена икона с лампадкой под ней, а в простенке — несколько фотографий. Комната напоминала Думанову избу, в которой ему доводилось жить во время ссылки.
Перехватив взгляд гостя, старший Краухов сказал:
— Это все, что ты видишь, своими руками сделано, да и сам дом тоже. Я ведь в молодости и столяром и плотником неплохим вроде был. Зарабатывал крепко в то время. А сейчас вот в пушечной мастерской дежурю, пропуска на вход и выход проверяю. Ну да ладно — давай садись поближе. Пока старуха с картошкой возится, мы с тобой под корочку за знакомство по стопке хлопнем. Шкалик я на пасху берег, да ведь с приездом гостя полагается…
— Спасибо, но только я не пью, — улыбнулся Думанов.
— Это как? — поразился тот. — Ты же сам говоришь, что токарь. А рабочему человеку разве ж в наше время без водки мыслимо? Так совсем и не потребляешь?
— Совсем.
— Ну-ну! — покачал головой Краухов. — Дела!
От печки подала голос жена, сказала с укоризной:
— А ты бы сам тоже не пил! Сам же только что говорил, что сердце щемит…
— Так это за работой, а сейчас-то что? Гость в доме — стало быть, праздник. Я уж за его здоровье пригублю немного, а остальное, как намечали, на пасху оставим. А то, что ты, мил человек, не пьешь — так это и хорошо. Ты на мои слова внимания не обращай. Это в мое время рабочий человек как свинья напивался, поди, кажную получку. А нынче многие рабочие достоинство блюдут. И, по правде сказать, мои сыновья тоже особенно этим не балуются. А Терентий, который в ссылке, тот и вовсе вроде тебя трезвенник. Одними книжками душу веселит. А я уж за твое здоровье стопочку выпью.
— Спасибо! — сказал Думанов.
Хозяйка поставила на стол горячую картошку «в мундирах», селедку, постное масло в блюдечке да ржаной хлеб, присела сама.
Беден был этот стол, но как радушны, как внимательны к гостю были хозяева! Мать Сергея заботливо подкладывала кусочки селедки, самые крупные и гладкие картофелины, положила в его стакан чая большущий кусок колотого сахара. Тимофей не любил сладкого, но сейчас не признался бы в этом ни за что. Он обычно стеснялся, когда оказывался в центре внимания, тут видно было, что хозяева от души хотят сделать ему приятное, и чувствовал себя свободно. Нервное напряжение минувшего дня постепенно сошло, уступило место расслабленности и покою.
Ему нравилась манера старшего Краухова разговаривать. Он после выпитой стопки по-хорошему захмелел, немного петушился, задорно тряс седой бородой. Жена одергивала его, но без раздражения, а с доброй усмешкой. А старик вдруг вспомнил, как собирались в прежние времена «стенка» на «стенку», какие были кулачные бойцы и как сам он когда-то на невском льду сшиб с ног первого заводилу противников. Слушая его рассказ, Думанов невольно вспомнил Сергея и понял, откуда у парня лихой нрав — видно, в батю пошел.
А мать, подождав, когда старый Краухов выговорится, опять свела разговор к делам сына, снова стала расспрашивать о подробностях его матросского житья, сетовала, что мало пишет. Ее очень обрадовало, что сына переводят служить в Кронштадт — все же это близко от Питера. Глядишь, как-нибудь сумеет и домой вырваться хоть на часок. Может, даже и скоро…
Думанов знал, что стоявшие в Кронштадте линейные корабли скоро уйдут в учебное плавание, и поэтому вырваться домой Сергею вряд ли придется, но он не стал говорить об этом, чтобы не расстраивать стариков. Вот если удастся выступление, если матросы в назначенный срок смогут захватить корабли — тогда Сергея ждать недолго. Но о намеченном восстании Думанов не имел права даже заикнуться.
После ужина гостю постелили на полу матрас, дали теплое ватное одеяло, и он неожиданно для себя заснул крепким сном и проснулся только в восемь часов утра, когда старик Краухов ушел уже на дежурство. Думанов быстро оделся, ополоснул у висевшего в сенях рукомойника лицо, выпил предложенный ему матерью Сергея чай с хлебом и, прощаясь, сказал, что если и придет ночевать, то, наверное, уже поздно вечером, так что к ужину его ждать не надо. Может и так случиться, что ему сегодня же срочно придется выехать обратно в Гельсингфорс.
Собственно говоря, связному Гельсингфорсского комитета задерживаться в столице незачем было. Коль скоро в конспиративной квартире по адресу, указанному вчера Шуркановым, ему удастся свидеться с представителем Петербургского комитета и передать ему всю информацию, тогда какой смысл оставаться здесь. Он вполне успеет вернуться к сроку намеченного восстания. Но, конечно же, условную телеграмму для Шотмана надо отправить сразу же после встречи на конспиративной квартире.
Хотя Петербурга Думанов совсем не знал, однако, проинструктированный накануне Шуркановым, нашел нужную ему улицу и дом без труда. Дом был четырехэтажный, с облупленным фасадом и единственным подъездом. Перед тем как войти в него, он по привычке подпольщика оглянулся и увидел идущих следом двоих людей. Что-то в их обличье мгновенно насторожило его. Лучше пока пройти мимо подъезда и, только убедившись, что это не слежка, вернуться сюда снова. Он пошел вперед, не ускоряя шага. Наверное, подумал Думанов, это все же не филеры, уж слишком открыто они шли за ним. Но тут из-за угла, к которому он направлялся, вышли еще двое, чем-то похожие на тех, что были сзади, не спеша двинулись навстречу ему.
И тогда сердце у него захолонуло — это уже было похоже на ловушку. На узкой безлюдной и незнакомой улице деваться ему было просто некуда.
В это мгновение Думанов поравнялся с подворотней и остро ощутил, что, может быть, именно здесь единственный для него шанс спастись. Не раздумывая, стремительно кинулся в подворотню, выскочил во двор. И тут под ноги ему кинулся человек. Думанов перелетел через него, попытался вскочить, но на него уже навалился, подмял под себя здоровенный дворник.
Думанов не отличался силой, но сейчас, пронизанный отчаянием, злостью, рывком подтянул колени и рванулся так резко, что дворник на мгновение ослабил медвежью хватку. Невероятным усилием Тимофей стряхнул его с себя, ударил ногой в живот, вскакивая, успел увернуться от наседавшего филера, который только что сбил его с ног, и метнулся к каменному высокому забору. За ним уже бежали, топали сапогами влетевшие с улицы преследователи. У забора Думанов напружился, подпрыгнул, успел ухватиться за верх, но руки соскальзывали, и ему никак не удавалось подтянуться.
А преследователи уже подскочили, вцепились в ноги, стащили его на землю, навалились. Думанов еще раз отчаянно рванулся, приподнял их, но на большее уже не было сил, и он обмяк, ткнулся лицом в холодную землю, обессиленно затих.
Филеры подняли его, крепко держа за руки, потащили на улицу. Там уже ждал подкативший к арке закрытый тюремный экипаж, куда его грубо втолкнули. Да, вся эта операция была тщательно продумана. Экипаж долго колесил по петербургским улицам. Когда его снова вывели, он заметил неподалеку очертания колокольни с острым шпилем и понял, что привезли его в Петропавловскую крепость.
В небольшом помещении, куда его сначала привели, начались знакомые тюремные формальности — его тщательно обыскали, отобрали все карманные вещи, сфотографировали в профиль и анфас, потом, макая поочередно пальцы в черную краску, сделали оттиски на специальном бланке. Он механически выполнял все распоряжения, но мысли были заняты другим — что могло случиться и что могут знать о нем в охранке?
После выполнения всех процедур Думанова отвели в соседнюю комнату, где стояли ничем не покрытый деревянный стол и два табурета. Здесь его оставили одного, но через несколько минут вошел высокого роста и плотного сложения человек. У него было одутловатое лицо, большие навыкате глаза, глядевшие живо и, пожалуй, даже весело.
Вошедший сел за стол, предложил сесть Думанову, достал из кармана коробку папирос, протянул арестованному. На мгновение Тимофей поколебался, но потом все те закурил. А человек пододвинул к нему блюдечко, заменявшее пепельницу, спросил небрежно:
— Надеюсь, ты понимаешь, почему тебя арестовали?
— Не имею понятия! — ответил Думанов. — Ошибка, наверное.
— Ах, вот как…
— И к тому же на каком основании меня называют на «ты»?
— Ух, ты какой, голубчик, — человек за столом присвистнул. — Не желаешь, стало быть, фамильярности. А на каком, собственно, основании не желаешь? Людям твоего сословия отродясь «тыкали», а к тому же я статский генерал, между прочим… Но опять же, между прочим, это никакого отношения к делу не имеет… Ладно, в интересах того же дела, которому служат отнюдь не одни бурбоны, могу просьбу уважить. Итак, возвращаюсь к вопросу: вы понимаете, почему вас арестовали?
— Нет, не имею понятия! — теми же словами ответил Думанов.
— Что же, придется объяснить. Мудрец в древности очень метко заметил, что тайна, в которую посвящено более одного человека, перестает быть тайной. От этого изречения мы и будем танцевать. Представим себе такую ситуацию: в один город из другого города прибывает человек, которому нужно связаться с кем-то, объясняет ему причины срочности встречи. Тайна уже становится достоянием троих. А затем она переходит как бы по цепочке — к четвертому, пятому, шестому… Одно звено цепочки — это наш человек. От него сведения попадают ко мне… Ну как, теперь разумеете, в чем дело?
— Пока не очень, — ответил Думанов, хотя из рассказа все стало предельно ясным — в каком-то звене сведения просочились к провокатору.
Правда, охранка могла узнать о причине его приезда лишь в общих чертах. Деталей она знать никак не могла. Значит, надо выстоять.
Полный чиновник, словно угадав его мысли, развел руками, с улыбкой сказал:
— Только, ради всевышнего, вы уж нас за дилетантов, то бишь за любителей, не считайте. У нас здесь специалисты работают… Вот представьте себе: узнаём мы о приезде гонца из Гельсингфорса в Петербургский комитет, везет он вести о восстании на кораблях, но его неожиданно хватают. Он надеется, что полиция всего не знает, начинает юлить, скрывает все. Но ведь лишнее это. Подумайте, голубчик, о такой ситуации: мы уже несколько месяцев ведем слежку в Гельсингфорсе, заметьте — и за вами, и за вашими товарищами. Узнаём, что готовится серьезное выступление, а потому усиливаем наблюдение опять же за вами и за вашими товарищами, ну, например, за Тайми…
Чиновник бросил в блюдечко окурок, молча закурил вторую папиросу. Молчал и Думанов, хотя мысли его лихорадочно метались. Выходит — имя Тайми им известно. А может быть, и других? Но кого именно? Неужто всех? Но если это так, то почему его схватили, не дав связаться с членами Петербургского комитета? Им же выгоднее было его проследить… Ловчит, подлец!
Но собеседник будто опять угадал его мысли.
— Вас, наверное, удивляет, почему мы арестовали вас, не дав связаться с членами Петербургского комитета? Могу сказать вполне откровенно, ибо по ряду причин имею редкую возможность на откровенность. Нам они известны все до единого. Мы их не трогаем чисто по тактическим соображениям. Вас же арестовали только потому, что наступило время ликвидации всей гельсингфорсской социал-демократической группы, которую вы изволите называть ревкомом. Именно мне поручено произвести этот арест, имеющий место произойти завтра утром. Перед отъездом же мне хотелось поговорить с вами, хотя в известной мере это чисто формальный момент, ибо и без того в результате наблюдения известны имена всех ваших сотоварищей.
— Так о чем же тогда говорить?
— Э-э, голубчик! Для полиции любая подробность будет нелишней. А потом есть у меня относительно вас одна идейка… Но об этом мы позже. Сейчас мне хочется только одного: чтобы вы четко уяснили для себя свое собственное положение… С вами я буду предельно откровенен и жду того же от вас.
Чиновник сказал Думанову, что за участие в революционной организации, ставящей себе целью подготовку вооруженного восстания, направленного на свержение существующего строя, обеспечено, как минимум, лет пять каторжных работ. Условия на каторге известно какие — каторга она и есть… Без туберкулеза, желудочных болезней, ревматизма оттуда редко кто выходит, если вообще выходит. Одно только может облегчить Думанову его участь — чистосердечное, добровольное признание во всем, указание имен, адресов, явок, каналов связи с кораблями, мест подпольных собраний и так далее и тому подобное. В случае такого признания Думанов может отделаться совсем легко — кратковременной ссылкой, а то и вовсе могут его оправдать. Причем не надо будет никаких протоколов подписывать, ничего письменно излагать, а всего-навсего рассказать сейчас с глазу на глаз все, что он знает, — и дело с концом.
Говорил чиновник доброжелательно, как будто даже с сочувствием, а когда Тимофей наотрез отказался сказать хоть слово, сокрушенно покачал головой.
Он посоветовал Думанову поразмыслить пока в одиночестве, ибо им придется вернуться к разговору день-два спустя, нажал кнопку звонка, вызвал часового и приказал увести арестованного.
Его переодели в тюремную одежку — серую суконную куртку, такие же штаны, войлочные туфли и отвели в одиночную камеру Трубецкого бастиона. В таких камерах ему сидеть еще не доводилось. По первому взгляду она показалась непомерно просторной — он даже вымерил ее шагами. Их оказалось десять в длину и пять в ширину. Потолок высокий, сводчатый. Пространства и воздуха здесь на одного человека вполне хватало. И все же в нем постепенно нарастало какое-то давящее ощущение. Все здесь было одинаково серым — пол, потолок, стены, одеяло на привинченной к полу железной койке. Серый свет из высоко расположенного окошка, перекрещенного толстыми железными прутьями, едва освещал камеру, в углах ее плавал полумрак. Тусклость, лежащая на всем, давила на сознание. Угнетала и мертвая тишина. Не слышно даже, как ходят надзиратели за дверью — там в коридоре лежали половики, а служащие тюрьмы носили мягкую обувь. Бесшумно отодвигалась снаружи заслонка «глазка», когда хотели понаблюдать за ним. Ну да черт с ними, пусть наблюдают сколько хотят, нервничать от этого он не станет. Нервы еще пригодятся ему на допросах. Главное сейчас — это сосредоточиться и обдумать, какую еще каверзу ему могут устроить и откуда только им стало известно так много?
Думанов мучительно думал о том, что могло произойти в Гельсингфорсе и как там его товарищи? Думал о предателе, донесшем в охранку о приезде связного Гельсингфорсского комитета. Шурканов ли, не ведая, передал сведения в руки провокатору либо кто-то другой? Кому по цепочке попали они в руки?
В душе нарастала тревога. Ведь арестовали его накануне назначенного срока восстания. Толстый, с рачьими глазами чиновник, который его допрашивал, прямо сказал, что известен срок выступления, известны имена. Но даже если это правда, не могли они узнать все. А значит, будут допрашивать его снова и снова.
Он ходил по камере из угла в угол. Потом надзиратель молча принес скудный тюремный обед, так же молча забрал после еды оловянную посуду. Разговаривать с ним не полагалось — об этом предупредили еще в канцелярии. Есть не хотелось, но Думанов заставил себя. Неизвестно, сколько еще придется просидеть, и надо было беречь силы.
…Ночью Думанов проснулся от ощущения давящей тишины. Он несколько минут лежал прислушиваясь. Но ни один звук не доносился сюда снаружи, ни один шорох не слышался из тюремного коридора. И если бы не знать, что за стенами в таких же оштукатуренных камерах, на таких же металлических койках не спят другие арестанты, то вполне можно подумать, что ты один замурован здесь в затхлой каменной полости Трубецкого бастиона.
Он приподнялся, сел, опершись спиной о холодную стену, и почти тотчас же ощутил на себе чужой взгляд. Искоса глянул на темную дверь и в слабом свете мерцавшей под потолком лампы заметил, что «глазок» снаружи отодвинут. Видимо, до ушей дежурного надзирателя долетел слабый скрип железной койки, и тот поспешил проверить, чем занят арестант. Ну и черт с ним — пусть смотрит сколько влезет, у него служба такая. Думанов сидел не шевелясь и через какое-то время скорее почувствовал, нежели услыхал, что «глазок» на двери снова закрылся.
Но Тимофей уже и не думал о притаившемся снаружи надзирателе. Перед мысленным взором вновь встало бритое холеное лицо говорившего с ним следователя. По манере держаться, неторопливым движениям рук, уверенному взгляду сразу видать барина. Да он и сам сказал, что ходит в генеральском чине. Скорее всего статский или даже тайный советник при министерстве.
Едва Думанов вспомнил о Гельсингфорсе, об оставшихся там товарищах, как вновь навалилось на него ощущение тревоги и сжалось сердце. Неужели жандармам и в самом деле известно все и они успеют произвести аресты, помешать восстанию? Следователь как раз на это напирал, но что-то в его объяснении было не так. Но что именно? Во всяком случае, если бы пронюхали обо всем раньше, то давно бы уже проявили себя. Ясно, что сведения о вооруженном выступлении поступили к ним совсем недавно, а точнее сказать, уже после приезда Думанова в Петербург.
Следователь, собственно, и не скрывал этого. Он совершенно ясно объяснил механику дела: когда сведения от связного Гельсингфорсского комитета передавались по цепочке людей, они попали в руки оказавшегося среди них сотрудника охранки.
Первым в цепочке (остальные ее звенья Тимофей пока не знал) был Шурканов. И об этом надо любыми способами постараться передать оставшимся на свободе товарищам. Пусть начинают расследование с него, проверяя звено за звеном, пока не выйдут на провокатора. Конечно, они и без него поймут, что внезапный провал произошел сразу же после отъезда Думанова в Петербург, и неизбежно придут к мысли о провокаторе. Однако никто из них пока не знает, в чьи руки передал Думанов по приезде сведения о восстании. И прежде всего Шотман, ничего не подозревая о разговоре с Шуркановым, обратится к Полетаеву, к которому он посылал связного.
И тогда окажется, вдруг подумал Тимофей, что Полетаев и в глаза не видел никакого Думанова. И что посланный связной непонятным образом исчез, не передав сведений тому, кому должен был передать. А вслед за его исчезновением начались аресты. А это значит, неумолимо продолжал он свое рассуждение, что подозрение товарищей прежде всего падет на него самого.
Когда следователь сказал сегодня о том, что в цепочке, по которой передавались сведения, могло быть человек шесть, он наверняка старался запутать арестованного, понадежнее укрыть своего осведомителя. Чем больше рассуждал об этом Тимофей, тем яснее становилось, что цепочка от Шурканова к кому-то из членов Петербургского комитета не могла быть многозвенчатой. Скорее всего следовало предположить, что Шурканов связывается с комитетом с помощью одного человека. А если это так, то круг поисков значительно суживался…
Да… да… Может быть, это и так, но сейчас прежде всего товарищи из Гельсингфорса: они могут быть арестованы, подготовленное моряками восстание под угрозой.
«УЗЕЛОК» НАДО РАСПУТАТЬ
«Без хорошего провокатора не сделаешь карьеры. Только там, где есть солидные сотрудники, выдвигаются жандармы».
(Раздумья ротмистра Саратовского жандармского управления Мартынова)«Весь секрет успеха в борьбе с революцией — это достаточно быстрый отбор п р е с т у п н ы х элементов из неизмеримой массы н е д о в о л ь н ы х».
(Газета «Новое время», 21 апреля 1912 г.)Вечером ветер усилился, начался крупный холодный дождь. Миноносец упрямо преодолевал встречные волны, вздрагивал под их ударами. На траверсе маяка Родшер корабль пошел тише. Близилась полночь, когда он оказался у входа в Гельсингфорсский порт. С мостика миноносца замигал сигнальный фонарь. Вахтенные стоявших на рейде кораблей пытались разобрать текст, но не смогли — он был зашифрован. Из глубины гавани замелькали ответные вспышки. Миноносец на малом ходу пошел к берегу, но не туда, где стояли у стенки эсминцы дивизиона, а поближе к причалам, куда обычно подходили пассажирские пароходы. Когда миноносец пришвартовался и был спущен трап, на берег первым сошел высокий человек в плаще. На причале его ждали офицер-моряк и жандарм. Прибывшего проводили к автомобилю, стоявшему невдалеке, и вежливо открыли дверцу. Услужливость вполне попятная, если учесть, что чиновник для особых поручений департамента полиции Александр Ипполитович Мардарьев прибыл в Гельсингфорс с широкими полномочиями.
…Александр Ипполитович Мардарьев — старший сын известного московского адвоката — в юности никак не полагал, что свяжет свою судьбу с политическим сыском. Напротив, будучи еще гимназистом, он представлял свою судьбу связанной с теми, кто геройски стрелял в царских министров и в самого царя. Как человек способный и начитанный, он поступил на юридический факультет Московского университета, быстро связался там со студентами, образовавшими так называемую «боевую группу действия». Побывав несколько раз на подпольных встречах, он понял, что его новые товарищи не обладают разработанной программой действий и, видимо, не принадлежат ни к одной из известных партий. Он узнал, что его друзья готовят покушение на московского генерал-губернатора и организовали с этой целью домашнюю мастерскую по производству нитроглицерина. Познакомился постепенно с составом группы, но, конечно, знать не мог, что самый активный ее участник и чуть ли не главный инициатор ее создания — Михаил Копысов — был провокатором московской охранки. Студенческая группа была вскоре арестована, и вместе с нею в Бутырскую тюрьму угодил Мардарьев.
В общей камере «Бутырок» молодой Мардарьев, может быть, впервые в жизни всерьез задумался над своей судьбой. До сих пор в его жизни трудностей не было. Родители его баловали, ученье давалось ему легко, окружающие благодаря его общительному и веселому праву относились к нему хорошо. Александр был признанным жизнелюбом, не отказывал себе в удовольствиях, ценил комфорт. Воспитанный матерью с детства в культе чистоты и аккуратности, брезгливый по натуре, он с первых минут пребывания в камере начал задыхаться от смрадной вони параши, от запаха немытых тел арестантов. В первую тюремную ночь он вскочил с деревянных нар как ошпаренный, когда его начали кусать клопы. Его, в жизни не видевшего клопа, едва не стошнило, когда, раздавив пальцами одного из них, он почувствовал едкий противный запах. Мардарьев так и не смог себя заставить лечь в эту ночь. Находившиеся в камере вместе с политическими арестованными уголовники, увидев в нем чистюлю-барчука, попробовали было сделать из него объект для изощренных тюремных издевательств, но выручили товарищи-студенты.
Вот тогда-то, в переполненной камере Бутырской тюрьмы, в одну из бессонных ночей под храп и сопение арестантов, вдруг остро и отчетливо понял молодой Мардарьев, что тюремная жизнь — это не для него. И если революционная деятельность почти для всех неизбежно связана с тюрьмами, ссылками, с грязью, вонью, полуголодным существованием, с побоями и издевательствами, то подальше надо бежать от этой самой деятельности. Пусть ею занимаются другие — у кого воля покрепче да и кожа потолще. А ему надо кончать с опасной и совсем не романтической игрой в революцию.
Именно после этой ночи на допросе Александр предельно четко рассказал жандармскому подполковнику все, что он знал о своих товарищах. Сопоставив его сведения с теми, которые он имел от своего агента, подполковник был поражен почти полным их совпадением, но вынужден был признать, что психологические характеристики Мардарьева куда более глубоки, чем у агента. Заинтересовался он и тем обстоятельством, что Мардарьев путем логических умозаключений сам пришел к выводу, что в группе был провокатор, и даже точно указал, кто именно.
Подполковник доложил об интересном арестанте начальнику Московского охранного отделения, и тот пожелал сам переговорить со студентом. Так состоялась первая встреча Мардарьева с известным Зубатовым, который определил, что имеет дело с человеком незаурядных способностей.
Предложение стать внутренним агентом Александр отверг и предложил свой вариант — по получении юридического образования стать официально штатным работником Московского охранного отделения. «А вы уверены, — спросил его Зубатов, улыбаясь, — что у вас будет возможность продолжать образование?» — «Уверен, Сергей Васильевич», — также улыбаясь, ответил Александр. — «А почему?» — «Потому что вижу это по тону и характеру наших разговоров». — «Ну что же, может быть, — сказал тогда Зубатов. — Знающие люди нам нужны. Я сам порой чувствую, что мне недостает образования».
Товарищи по «боевой группе» пошли в Вологодскую ссылку, а Мардарьев вместе с тремя студентами из этой же группы вернулся в университет. Троих выпустили по мотивировке «за недоказанностью улик» специально для прикрытия Александра. Что касается провокатора, то его тоже отправили в ссылку, чтобы не раскрывать до поры до времени. Услышав об этом, Мардарьев лишний раз порадовался тому, что не стал на трудный и сложный путь внутреннего агента.
Три года спустя Зубатов официально взял его работать в охранное отделение и немало повозился с ним, видя в нем прилежного, старательного, а главное, очень быстро схватывающего суть дела ученика. Он питал к Мардарьеву некоторую слабость и благоволил к нему оттого, может быть, что видел в молодом сотруднике в какой-то мере повторение своей судьбы. Он так же в свое время начинал свой путь в революционном кружке, а потом свернул круто и пошел по стезе политического сыска, дослужившись до помощника начальника Московского охранного отделения, а потом неожиданно для всех стал начальником. Неожиданность заключалась в том, что на этот пост обычно назначались только офицеры отдельного корпуса жандармов, а Зубатов был человеком штатским.
Под руководством опытного мастера полицейских дел Александр Ипполитович пошел в гору.
Рос он поразительно быстро. Через несколько лет даже завистники стали признавать, что в распутывании трудных дел Мардарьев — умелец. Очень способствовало его карьере раскрытие двух эсеровских групп. Но особенно памятным для всех был случай, когда он раскрыл подпольную типографию, причем сделал это, не выходя из кабинета. Он затребовал тогда все сообщения об изъятых и расклеенных прокламациях, изучил донесения дворников и агентов наружного наблюдения, отметил по карте Москвы районы расклейки, некоторые трамвайные маршруты, узнал, где живут задержанные с листовками. И в результате указал улицу, где могла находиться типография, попросил послать в тот район самых опытных филеров. И действительно очень скоро типография была обнаружена.
Многие сотрудники, привыкшие к работе с помощью засланных в революционные организации агентов, только диву давались. Правда, злые языки поговаривали, что не все тут чисто с этим «анализом», что попросту Александр Ипполитович «выбил» на допросе у кого-то из арестованных нужные ему сведения, а в протокол их не внес. А потом, уже зная точный адрес типографии, затеял весь этот «анализ», пустил пыль в глаза.
Вскоре Зубатова перевели в Петербург, назначив начальником особого отдела департамента полиции, и он взял Мардарьева своим помощником. Начальство по-прежнему благоволило к Александру Ипполитовичу, не обходило его ни чинами, ни наградами. Но наступил день, когда над головой всесильного патрона нависли тучи — он осмелился вместе с князем Мещерским повести подкоп под тогдашнего министра внутренних дел Плеве, а тот каким-то образом пронюхал об этом. Однажды министр вызвал Мардарьева к себе и прямо спросил его о том, не хочет ли он сесть в зубатовское кресло? Но для этого Александр Ипполитович должен сообщить такие сведения о своем патроне, на которые можно было бы опереться при его увольнении. Мардарьев было заколебался, но тут же мысленно обругал себя «сентиментальной бабой» и здесь же в кабинете предложил министру план действий.
В то время Зубатов носился с идеей создания легальных рабочих организаций под контролем полиции. На для того чтобы привлечь в них рабочих, ему приходилось поддерживать какие-то их требования к хозяевам. Он даже дал согласие на то, чтобы в Одессе его ставленники возглавили экономическую стачку. Однако в ходе забастовки рабочие вышли из уготованных им зубатовских рамок и, помимо экономических, предъявили политические требования. На этом и решил сыграть Мардарьев, предложив министру выставить Зубатова как организатора политического выступления, направленного против самодержавия. Плеве обеими руками ухватился за эту возможность и при первом же докладе царю выложил соображения о неумной игре начальника особого отдела, которая привела к тому, что Зубатов оказался в одном строю с врагами самодержавия. Царь вскинул на министра свои водянистые глаза, пожал плечами и сказал, что это слишком…
Вернувшийся из дворца Плеве вызвал к себе Зубатова и в присутствии нескольких сотрудников грубо накричал на него, называя его неучем, бездарью, зарвавшимся интриганом и вообще опасным для полиции человеком. Взбешенный Зубатов хлопнул дверью, написал в тот же день рапорт об отставке.
Место его в особом отделе занял Мардарьев.
Александр Ипполитович шел по служебной лестнице уверенно, дорос до действительного статского советника, занял пост чиновника по особым поручениям при директоре департамента полиции, выполняя самые деликатные поручения.
С годами укрепилась в нем вера в постоянную свою удачливость. Фигура его приобрела округлость, налилась жирком, на затылке появилась плешь, щеки обвисли, а глаза, бывшие и в юности навыкате, вылупились еще больше. Но при своей полноте и появившейся одышке он оставался подвижным, быстрым на подъем жизнелюбом, умел со вкусом поесть и хорошо выпить, а главное, не терял профессиональной хватки.
Было в натуре Мардарьева свойство, выделявшее его из среды сослуживцев, — он держал себя подчеркнуто независимо перед начальством, но в то же время был внимателен к тем, кто был ниже его по службе, всегда вежлив и предупредителен с ними. Это обстоятельство позволило ему утвердить прочный авторитет среди мелких служащих департамента, охотно выполнявших его просьбы и поручения.
В отношении к сослуживцам была у Мардарьева еще одна характерная черта, которую он тщательно от всех скрывал, — ненависть к жандармским офицерам. Ненавидел их за спесь, самодовольство, за то, что равные ему по чину получали содержание больше, чем он, за то, что их в первую голову назначали на лучшие посты. Эта ненависть тлела в нем постоянно, но он никогда не давал ей воли, не раскрывал ее. Но если доводилось ему по службе ткнуть кого-то из жандармов носом в их собственную неграмотность и неумение, он делал это с превеликим удовольствием.
Командировка в Финляндию была для Мардарьева лишним доказательством того, что начальство его по-прежнему ценит. Накануне отъезда он имел доверительный разговор с Белецким и получил от него указание: во что бы то ни стало «зацепить» на кораблях хотя бы нескольких матросов, связанных с подготовкой восстания.
Прибыв в Финляндское жандармское управление, Александр Ипполитович не стал тратить ни секунды на формальности. Еще не успев снять плаща и фуражки, попросил, чтобы ему подобрали сведения о всех неблагонадежных матросах, донесения агентуры за последние два месяца, сведения о наблюдениях за прошедший день. Рапорты, которые еще будут поступать от филеров в ближайшие часы, приказал немедленно передавать ему в руки.
Начальник управления Утгоф любезно предложил приезжему расположиться в его кабинете, осведомился, успел ли он поужинать, а если нет, то тут неподалеку есть место, весьма недурно готовят. На это Мардарьев с заметной для всех иронией ответил:
— Я понимаю, господин полковник, что аппетит в отличие от женщины нужно ублажать постоянно, но — увы — государственная служба иной раз, согласитесь, и жертв требует. Об ужине мы поговорим попозже, возможно, он пригодится нам завтра на завтрак. А что касается вашего личного кабинета, то, помилуйте, зачем же стал бы я вырывать вас из привычной и необходимой для работы обстановки? Вы уж определите меня в комнату, где размещена картотека, чтобы все под рукой было, и отрядите мне в помощь вашего писаря — он ведь быстрее, чем кто-либо, нужную бумагу разыщет… А остальных работников управления попрошу оставаться на своих местах до особого на то распоряжения.
Начальник управления, выслушав эту тираду, набычился, покраснел. Возражать, однако, не посмел и отвел гостя в помещение картотеки, где стояли два простых стола, стеллажи с делами и огромный, во всю стену, шкаф. Усевшись за столом возле окна, Мардарьев самолично задернул тяжелую серую портьеру, попросил принести ему все необходимое для работы и, если можно, настольную лампу. Просьба была исполнена незамедлительно. Прежде чем приступить к делу, чиновник для особых поручений справился у писаря Феофанова, курит ли он, и, узнав, что нет, попросил разрешения закурить, чем страшно удивил мелкого служащего, у которого отродясь ни один работник управления ни на что не просил разрешения. Польщенный Феофанов — человек и без того старательный и безотказный — стал помогать приезжему со тщанием, доселе небывалым. Он мгновенно доставал нужное дело, разыскивал нужную карточку, клал на стол рапорт или фотографию. Постепенно перед Мардарьевым вырастала груда папок и отдельных листков, в блюдечке росла гора окурков, а записная книжка заполнялась все новыми заметками.
На этот раз Александру Ипполитовичу предстояло дело крайне трудное. Правда, оно облегчалось тем, что из агентурной записки Лимонина известны были члены подпольного комитета, а также конечная цель заговорщиков и предполагаемый срок их выступления. Главное, нужно было выяснить имена тех, кого надлежит изъять с кораблей. В своем разговоре с морским министром Белецкий солгал, сказав, что известны имена зачинщиков и что за ними давно уже ведется наблюдение.
Имена как раз и предстояло узнать Мардарьеву, имевшему в своем распоряжении всего одну ночь.
В своих поисках Александр Ипполитович исходил из одной четкой посылки: матросы, занесенные в картотеку Финляндского жандармского управления как лица неблагонадежные, почти наверняка связаны с подпольем. Всех, конечно, забрать невозможно, но арест наиболее подозреваемых, несомненно, разорвет связи заговорщиков, сделает невозможными их согласованные действия. А затем, уже не спеша, можно будет вылавливать остальных.
Мардарьев выбрал несколько десятков карточек. Смущало его одно обстоятельство — почти все матросы в той или иной степени были связаны с эсерами, тогда как сведения, сообщенные Лимониным, не оставляли сомнений в том, что подпольный комитет состоит из социал-демократов. Совместные действия представителей двух партий вполне могли иметь место, примеры тому уже бывали. Непонятно было другое: социал-демократы все из гражданских лиц, а среди моряков шли сплошные социалисты-революционеры. Должны же быть и на кораблях представители социал-демократической партии или люди, сочувствующие ей?
Всего из числа отобранных он отметил пятерых матросов, которые еще до службы были замечены в связях с акциями, проводимыми социал-демократами, и одного подозреваемого в том, что именно он пронес обнаруженную на крейсере «Рюрик» листовку Петербургского комитета РСДРП по поводу Ленского расстрела. Конечно, это далеко не все. Но по давнему опыту известно, что дело конспирации у социал-демократов поставлено лучше, чем у эсеров. Не случайно же Финляндское жандармское управление прошляпило целый революционный комитет, действующий у него под носом.
И еще одно обстоятельство не давало покоя Александру Ипполитовичу. Удалось сразу же установить адреса подпольщиков и место их работы, но исключение составлял Горский. В паспортном столе полиции Гельсингфорса человек с такой фамилией не числился. Но должен же существовать — явка к Полетаеву была как раз от него! Скорее всего Горский жил в городе под другой фамилией. Но под какой? Установить это возможно будет лишь после ареста и допроса других членов подпольного комитета.
Некоторый свет проливало сообщение завербованного в агентуру матроса Орлова с «Рюрика». В своем донесении, помеченном первым апреля (надо надеяться, что это не первоапрельская шутка!), Орлов писал, что гальванер Терентьев сказал во время разговора с товарищами, что человек, с которым он встретился возле пристани, оказался старым знакомым его старшего брата и он видел его в Одессе. При этом Терентьев намекал, что человек это не простой, а делал большие дела, «когда в России все кипело». Фамилия его Горовской или Горской. Орлов издали видел его и передал приметы: небольшие усы, в пальто и шляпе.
И все. Словесного портрета на основе таких примет, к сожалению, не составишь. Видимо, Горского пока придется оставить.
Из отобранных Мардарьев выделил двадцать три человека, принадлежность которых к какой-либо партии не прослеживалась. В донесениях говорилось о том, что эти люди резко выражали свое недовольство флотскими порядками, вспоминали броненосец «Потемкин», грозили покидать «драконов-офицеров» за борт, задевали священную особу государя императора, непочтительно и дерзко отзывались о церкви.
Александр Ипполитович понимал, что, имей охранка возможность заглянуть в душу любому матросу, она обнаружила бы там нечто подобное. Те, кого он выделил, выражали свои мысли наиболее определенно, остро, озлобленно, и можно не сомневаться в том, что хотя бы часть из них была втянута в подготовку к восстанию, а другая часть что-то знала о нем.
Видавшие виды старинные часы в деревянном футляре с висевшими на потемневшей цепочке цилиндрическими латунными гирями гулко пробили двенадцать, когда в дверь осторожно постучали. В комнату бочком протиснулся Стась Шабельский, скользящим шагом приблизился к Мардарьеву, доложил, что поступили свежие донесения, и вручил ему несколько листков. Писарь с удивлением глядел на своего начальника. Внешне это был тот же молодцеватый, отменной выправки ротмистр с высоко поднятой головой, с лихо закрученными усами. Но обычное выражение самоуверенности на лице будто кто тряпкой стер, а в глазах, как у нашкодившего кота, — смесь вины и настороженности.
Александр Ипполитович видел Шабельского впервые, но он был тертым калачом, сразу почувствовал что-то неладное и, несмотря на всю свою погруженность в аналитическую работу, отметил, что ротмистр в чем-то изрядно провинился. У него даже мелькнула смутная догадка — в чем именно, но он отогнал ее. Сейчас не до того было. В одном из рапортов, принесенных Шабельским, говорилось, что сегодня днем в мастерскую к Никандру Кокко приходил матрос с «Рюрика» и забрал с собой какой-то пакет. Матрос был прослежен до парка Тёлё, где встретился с тремя другими матросами с «Цесаревича», которым и передал означенный сверток. Позже агент наружного наблюдения прошел за ним до причалов, где указал на него судовому агенту. Фамилия матроса оказалась Терентьев. Фамилии же трех матросов с «Цесаревича» будут известны несколько позже. Второй рапорт сообщал о том, что на квартире члена подпольного комитета Тайми к вечеру собрались несколько рабочих. Их имена: Воробьев, Кокко, Ермаков. Были там, кроме того, двое матросов. По надписям на бескозырках один с линкора «Слава», другой с крейсера «Громобой». Фамилии их могут сообщить на кораблях.
Осмыслив эти сведения, с которыми он ознакомился в присутствии Шабельского, Мардарьев довольно улыбнулся, замурлыкал нечто напоминавшее «Гром победы, раздавайся».
— Ну что же, милейший ротмистр, — сказал Александр Ипполитович, благожелательно глядя на Шабельского, — видимо, настало время обговорить план действий. Прошу вас сообщить начальнику управления, чтобы он созвал всех сотрудников. Через пять минут я буду у него.
В просторном кабинете Утгофа собрались офицеры управления и вызванные по просьбе Мардарьева начальники расположенных в Гельсингфорсе жандармских команд — железной дороги и Свеаборгской крепости. Приглашенные сидели на расставленных вдоль стен стульях. Мардарьев обвел взглядом всех. Одинаковые темно-синие двубортные мундиры с серебряными погонами, одинаковое выражение почтительности и сосредоточенного внимания на усатых лицах.
Александр Ипполитович попросил всех к столу для заседаний, занял место у торца и, не садясь, разложил на зеленом сукне листочки с заметками.
— Итак, господа, — начал он, — я собрал вас здесь, чтобы сообщить вам чрезвычайное известие…
Он на мгновение замолчал, мысленно усмехнулся, поймав себя на том, что почти повторяет слова городничего из «Ревизора» — те самые, которыми начинается пьеса, — и тут же подумал, что через несколько секунд увидит и повторение финальной сцены.
Господи! До чего же все пошло повторяется! Все эти обтянутые мундирами обыватели, которые только и умели, что пугать штатских обывателей, считая себя грозными янычарами империи, в сущности, ничуть не ушли вперед от идиотских гоголевских чиновников. Настолько тупы, что и удовольствия не получишь, ткнув их носом в собственную их глупость.
Но ткнуть носом во имя воспитания все же надо было.
— Итак, — медленно заговорил Мардарьев, — дело заключается в том, что, по полученным Петербургским охранным отделением неопровержимым сведениям, завтра (а точнее, уже сегодня утром) на судах, стоящих сейчас в Гельсингфорсской базе, должно начаться вооруженное восстание матросов.
Александр Ипполитович не ошибся: услышав его слова, офицеры оцепенели. Утгоф так и застыл с раскрытым в испуге ртом, а Шабельский втянул голову в плечи, словно увидел занесенный над ним кулак.
Позволив себе несколько мгновений понаслаждаться общей растерянностью, Александр Ипполитович продолжал:
— О причинах, в силу которых здешнее жандармское управление, призванное быть в курсе революционных событий, оказалось совершенно неосведомленным, сейчас я распространяться не буду. Хочу только довести до вашего сведения меры, принятые столичным охранным отделением, департаментом полиции и морским командованием для предотвращения любых эксцессов на военных судах. Имею также поручение исполняющего дела директора департамента полиции обсудить с вами план совместных действий на ближайшие часы.
С четкостью профессионального военного он изложил план, распределил обязанности, обговорил время действия и предложил немедленно заняться каждому своим делом. Начальника управления попросил задержаться.
Когда офицеры разошлись, Александр Ипполитович, не спрашивая разрешения, закурил, хотя видел, что ни на письменном столе, ни на столе для заседаний нет ни одной пепельницы — верный признак того, что в этом кабинете не курят. С удовольствием сделал несколько затяжек, стряхнув пепел на ковровую дорожку, с любопытством посмотрел на стоявшего возле окна жандармского полковника, который явно не знал, куда себя девать в своем собственном кабинете, не спеша подошел к Утгофу вплотную.
— И все же, Карл Карлович, и все же… — начал он, растягивая слова, — несмотря на всю крайность сложившейся обстановки, удовлетворите, ради бога, смиренное мое любопытство.
— Чем могу быть полезен, ваше превосходительство? — настороженно спросил Утгоф.
— Пустячок, сущий пустячок, Карл Карлович… Последняя сводка фон Коттену вами ведь подписывалась, не правда ли?
— Как всегда, когда я на месте.
— Но при этом вы, наверное… только заранее простите великодушно — нисколько не сомневаюсь в этом, но спрашиваю лишь на всякий случай, — когда вы подписываете бумаги, вы предварительно читаете их?
— Простите, ваше превосходительство, не понял вас, — забормотал побагровевший Утгоф. — За все годы беспорочной службы… Я ведь всегда с полным тщанием… прежде чем подпись поставишь…
— Нисколько не сомневался в том, Карл Карлович! Но при этом, простите, мне одно непонятно, как могли вы, опытный жандармский офицер, своею рукой расписаться под тем, что в ближайшее время, на военных судах не наблюдается склонности к нарастанию революционных событий. Это лишь одно мне и непонятно, Карл Карлович! Вот и любопытствую — как же такое случиться могло?
Ответа на вопрос не последовало, да и что можно было ответить?
Выждав с минуту и поняв, что Утгоф успел мысленно попрощаться со службой, Александр Ипполитович положил окурок в вазу, стоявшую на подоконнике, спросил почти дружески:
— А теперь, полковник, скажите, по-простому, как сослуживец сослуживцу: какой идиот составлял вам эту сводку?
— Ротмистр Шабельский, — выдавил из себя Утгоф.
— Это такой красавец — шатен с заостренными усами?
— Так точно, ваше превосходительство, он самый.
— Ну, мне так и показалось, — удовлетворенно сказал Мардарьев. — Именно так! Но, впрочем, для нас с вами в данный момент это обстоятельство не должно иметь никакого значения. Давайте займемся делами куда как более неотложными. Попрошу вас, господин полковник, соединить меня с оперативным дежурным Гельсингфорсской военно-морской базы.
Утром Шотман проснулся раньше обычного и, осторожно, чтобы не потревожить спящую жену, встал, натянул брюки и носки, по скрипучему полу прошел в кухню. Вопреки обыкновению (он очень любил пополоскаться под краном) на этот раз только лишь плеснул водой в лицо. Керосинку зажигать не стал, отрезал ломоть хлеба, густо намазал его сливочным маслом и посыпал его, как это делал в детстве, сахарным песком. Торопливо жуя бутерброд, он прихлебывал из чашки холодный вчерашний чай.
Сборы заняли всего с четверть часа, но за это время за окном стало заметно светлее. Уже надев пальто и шляпу, он заглянул в комнату, но, увидев, что Катя еще спит, уткнувшись лицом в подушку, не стал ее будить. Прислушался к ровному дыханию жены, мысленно попрощался с ней — мало ли что могло случиться за нынешний день, — плотно, без шума закрыл дверь комнаты.
Уже от двери, поколебавшись секунду, он вернулся в кухню, достал из ящика стола финский охотничий нож — «пукко» в потертом кожаном чехле, сунул его в карман пальто. Оружие может сегодня пригодиться. С ним и чувствуешь себя как-то увереннее и спокойнее.
Сегодня день будет горячим. Может быть, придется драться врукопашную. Что ж, он готов к этому. Разве не ради решающей схватки вели они всю свою работу с моряками? И драться он будет не хуже других.
Товарищи привыкли видеть в нем человека спокойного, а он в душе остался таким же драчуном, каким был в юности. Кулаки у него и сейчас здоровы, а тогда еще крепче сжимались, сам он был подвижнее и ловчее. Классовую борьбу тогда понимал очень прямолинейно и всегда лез вперед, когда возникала заварушка. Схватка лицом к лицу была ему больше по душе, чем неторопливая пропагандистская работа.
В юности Шотман уже участвовал в стычках с власть имущими. Потом был бой с войсками и полицией во время Обуховской обороны. Были аресты, тюрьмы, издевательства жандармов. Борьба шла тяжелая. С тех пор как он вступил в нее, ему пришлось похоронить не одного товарища — кто погиб от пули на баррикадах, кто растерзан погромщиками, кто умер от чахотки в тюрьме. Он и сам не раз смотрел смерти в глаза.
Во дворе сразу почувствовал сырость, поежился от пронизывающего ветра. За ночь похолодало, ветер гнал над черепичными крышами редкие клочковатые облачка, рябил воду в стылых лужицах. Он быстро миновал переулок, втиснулся на остановке в трамвай, идущий в сторону порта. В этот ранний час в трамвае были одни рабочие: Люди ехали хмурые, невыспавшиеся, угрюмо молчали, но терпеливо переносили давку. Недалеко от Эспланады Шотман с трудом пробрался к выходу, сошел на пустынной улице и направился коротким путем, минуя громаду православного собора. Не успел еще дойти до угла, когда услышал сзади цокот копыт. Конные полицейские обогнали его и свернули вправо.
Шотман почувствовал смутную тревогу.
Обогнув собор, он вышел на широкую гранитную лестницу, спускавшуюся к берегу моря. Отсюда порт и рейд как на ладони. Открывшаяся перед Шотманом картина заставила его застыть на месте — подходы к порту были перекрыты цепями солдат, державшими в руках винтовки с примкнутыми штыками. По причалу прохаживались вооруженные гардемарины, стояли группы морских офицеров.
Жандармы успели упредить матросов и первыми нанесли удар. Опыт подпольщика научил Шотмана принимать решения быстро. Прежде всего нельзя торчать на виду у солдат и полицейских. Повернуться и уйти назад? Но это сразу же бросится в глаза и вызовет подозрение стоящих возле собора полицейских. И так они уже пристально смотрят на него. Неподалеку он заметил группу ранних зевак, глядевших на то, что делается в порту, не спеша подошел к ним, остановился рядом и сделал вид, что тоже любопытствует.
Однако полицейские его заметили. Один из них подошел, козырнул, вежливо попросил предъявить документы. Зеваки сразу же торопливо отодвинулись в сторону, отмежевываясь от него. Шотман не торопясь достал пропуск, протянул полицейскому. Ну, вот сейчас… Еще несколько секунд… Если охранка успела нащупать комитет, то его имя вместе с именами товарищей сообщено финской полиции, и тогда — немедленный арест. Если же его имя не вызовет никакой реакции — тогда жандармам известно не все… Но прежде всего спокойствие.
Он видел, как придирчиво рассматривал полицейский его пропуск, как остро глянул в лицо, сличая с фотографией.
— Отчего остановился? — спросил он по-русски.
— Так ведь солдаты там… И уж не знаю, можно ли в порт пройти?..
— Можно. Кто работает там — можно! Солдаты пропускают.
Полицейский, снова козырнув, возвратил пропуск. Шотману теперь ничего не оставалось делать, как идти в порт. Впрочем, чем, собственно, он рискует? Имя его не вызвало подозрений. Кстати, если бы приказ об аресте был, то к нему пришли бы еще ночью на квартиру… Надо идти в порт. По пути его дважды останавливали гардемарины, придирчиво проверяли пропуск, но каждый раз разрешали идти дальше. Наконец он дошел до причала, у которого стоял старый продымленный буксир, переоборудованный под плавучую мастерскую. Возле трапа прохаживался хозяин мастерской — инженер Медведев. Он был в пальто, но в военной фуражке с лакированным козырьком. Медведев в отличие от другого начальства хорошо ладил с рабочими, прекрасно знал свое дело и не раз, бывало, засучив рукава, сам вставал к токарному станку, чтобы выточить особо сложную деталь. Был он человеком огромной физической силы, немногословным, спокойным. Но он совершенно преображался, если заходила речь о его давнем увлечении — французской борьбе. Когда он говорил о прошедших или будущих встречах, глаза его разгорались, широкая ладонь рубила воздух, наголо бритая голова живо поворачивалась то к одному, то к другому собеседнику. Он знал на память имена всех чемпионов России и многих иностранных, вел переписку со знаменитым борцом Иваном Заикиным, а также с писателем Куприным, с которым познакомился на одном из крупных матчей в петербургском цирке «Модерн».
Шотман заметил, что сейчас инженер взволнован. Медведев поздоровался и торопливо оглянулся по сторонам.
— Вы еще ни о чем не слышали? — глухо спросил он.
— Нет. Я видел солдат и полицейских, но что, собственно, произошло? Вы, наверное, что-то знаете?
— Да, знаю, хотя и совсем случайно. Когда я шел сюда, знакомый чиновник предупредил меня, что сегодня под утро арестованы двое портовых рабочих. Кто именно, он не сказал, но я думал…
— Вы думали, что и меня тоже… — невесело улыбнулся Шотман.
— Нет, я не то хотел сказать, но, знаете, всякое может случиться… Вот об этом я и хотел вам сообщить.
— Спасибо, Аполлинарий Петрович, — сказал Шотман, — но, может быть, поскольку вы уже что-то обдумали, вы что-нибудь сможете подсказать и мне? Конечно, никакой вины за мной нет, но согласитесь: когда начинаются аресты, любой рабочий чувствует себя неуверенно — мало ли что может случиться. Вот и вы даже намекнули…
— Нет-нет! — заторопился инженер. — Вы меня не так поняли. Я ни о чем таком не хотел сказать!
— Аполлинарий Петрович! Может быть, мне уехать куда-нибудь на время? Или же отъезд вызовет необоснованные подозрения — отчего это вдруг Шотман заторопился в день арестов?
— А вы знаете, пожалуй, есть у меня идея! — оживился инженер. — Напишите-ка заявление на мое имя, отметив его, скажем, позавчерашним числом. На нем я резолюцию поставлю вчерашним числом. А сегодня вы будто сюда и не приходили.
— Но о чем заявление?
— Это вы уж сами должны знать. Мало ли что случается! Родственник у вас заболел в другом городе или еще что. Мое дело разрешить вам отпуск без сохранения содержания. Поедете, посмотрите, как и что, а коли все окончится благополучно, вернетесь сюда. Гарантию могу дать, что на работу снова приму.
— Спасибо, Аполлинарий Петрович! — сказал Шотман.
— Да что там! Вы бы лучше поторопились в отпуск. Заявление не обязательно самому приносить. Пришлите с кем-нибудь.
— Спасибо.
— Ладно-ладно! Поторапливайтесь!
Медведев махнул на прощанье рукой, круто повернулся и пошел на буксир.
Весь день Шотман кружил по городу, взбудораженному арестами. Возвращаться домой он боялся, искать товарищей в рабочем районе Сернэс тоже не решался — все улицы, ведущие к нему, были перекрыты полицией. Идти в Народный дом, где помещались профсоюзные организации, тоже было опасно: наверняка они находились под наблюдением охранки, а бродить без цели по улицам, в общем-то, тоже рискованно. Шотман полдня провел в читальном зале русской библиотеки. А теперь куда? И вдруг он вспомнил. И как он раньше не подумал об этом человеке! Депутат сейма, руководитель шведского рабочего движения в Финляндии Вийк — вот кто ему нужен сейчас! Он ведь не раз помогал русским большевикам, устраивал ночлег, перевозил нелегальную литературу. Из помещения почтовой конторы Александр Васильевич позвонил Вийку, договорился о встрече и спустя полчаса уже был у него в уютной квартире.
Хозяин — человек с густой взъерошенной шевелюрой и с воинственно торчавшим под губой клочком бородки — был до крайности возбужден. Однако не забыл справиться, поел ли где-нибудь Шотман, выпьет ли он чашечку кофе? В маленькой кухоньке, возясь с кофейником, Вийк рассказал, что на кораблях эскадры произведены аресты. Охранка взяла несколько десятков человек, и все небольшими группами отправлены на миноносцах прямо в Петербург, минуя тюрьмы Гельсингфорса и Кронштадта. На берегу аресты среди рабочих производила финская полиция, но, разумеется, по указанию охранки. На квартирах взяты Тайми, Кокко, Николаев, приказчик Сидоров. Их отправили в местную тюрьму. Полиция произвела обыск на квартире у Воробьева, но тому удалось в последний момент перед приходом полицейских скрыться. Большое удивление в городе вызвал арест председателя финляндского профсоюза металлистов Саксмана. Схватили его на мосту, соединяющем район Сернэс с центром города, когда он шел в Гельсингфорсский народный дом. Социал-демократическая фракция сейма уже обратилась в полицию с запросом о причинах ареста.
— Саксман?! — удивленно переспросил Шотман. — Ничего не понимаю! Какое отношение он мог иметь ко всем этим делам?
— Никто этого и не понимает, — развел руками Вийк. — Всем ясно, что аресты связаны с революционными событиями на кораблях, но всем также ясно, что миролюбец Саксман, всю жизнь уповающий лишь на парламентские формы борьбы, не имеет к военному флоту никакого отношения. Видимо, здесь какая-то ошибка. Не исключено, что Саксмана просто перепутали с кем-то другим.
«Постой, постой, — чуть не вырвалось у Шотмана. — Уж не со мной ли его спутали? Товарищи не раз говорили, что внешне мы напоминаем друг друга. Но с другой стороны, если искали именно меня, то могли утром арестовать дома. А может, опоздали?.. Чертовщина какая-то получается. Но в любом случае, ищет меня полиция или нет, необходимо скрыться».
Затем Шотман рассказал Вийку о предложении инженера Медведева и попросил передать с кем-нибудь его заявление начальнику мастерской. План этот Вийк одобрил, хотя внес в него некоторые коррективы, сказав, что самым целесообразным сейчас будет ехать не в Выборг, как это намеревался сделать Шотман, а за границу, в чем он окажет содействие. Возражение о том, что на такую поездку понадобится много денег, он решительно отмел и вручил Александру Васильевичу пачку шведских крон. Что касается пристанища, то пусть Шотман без всякого стеснения располагается в его квартире, благо одна из комнат пустует. А пока с помощью верных людей он проверит, не приходила ли полиция на квартиру Шотмана, и постарается незаметно передать записочку жене.
Вийк действовал напористо, быстро, умело. Спустя каких-нибудь три часа у них уже была информация о том, что заявление инженеру Медведеву вручено, что на квартире Шотмана никто из полиции не был, записка жене передана, билет на Стокгольм будет завтра утром. Поздно вечером один из знакомых Вийку депутатов сейма, позвонив по телефону, рассказал, что председатель профсоюза металлистов Саксман отпущен домой.
Утром Вийк сам проводил Шотмана на стокгольмский поезд.
КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«Среди членов комиссии государственной обороны царит твердая уверенность, что по крайней мере на этот раз жандармская полиция действовала вполне основательно и подметила то, что по доброй морской традиции прозевало по обыкновению морское начальство».
(«Вечернее время», 27 апреля 1912 г.)Исполняющий дела директора департамента полиции Белецкий вполне мог быть доволен собой. После двух часов напряженного раздумья в кабинете (ни о ком не докладывать и ни с кем не соединять по телефону, кроме прямого начальства из министерства) он почувствовал, что, пожалуй, найден способ выкрутиться из сложной ситуации.
Очень важно было не допустить сведений о подготовленном восстании на страницы газет. Аресты, понятное дело, не скроешь. «Русское слово» уже напечатало телеграмму своего корреспондента из Гельсингфорса о том, что на боевых кораблях взяты под стражу матросы. Бесспорно, будут и другие сообщения. Пойдут разные догадки, но надо сделать так, чтобы в них никоим образом не фигурировало слово «восстание». В наэлектризованной политической атмосфере, когда все вокруг так напряжено после ленских событий, когда малейшие трения с рабочими высекают искры недовольства, когда того и гляди может вспыхнуть большой пожар, само слово «восстание» обладает опасной силой.
Но это была лишь одна сторона дела. Вторую же он видел в том, что опубликование точных сведений в газетах сразу бросит тень на деятельность людей, денно и нощно призванных заботиться о безопасности существующего строя. Признать тот факт, что восстание, в сущности, уже было подготовлено, — это значило признать и то, что долгое время работа революционных организаций была вне поля зрения охранного отделения, что оно практически оказалось слепым и только в последний миг благодаря случайности узнало о готовом разразиться бунте. Разумеется, прежде всего будет спрошено с работников Финляндского управления, потом с фон Коттена. Но и на него, Белецкого, ляжет тень недоверия. А к чему ему эта тень, когда и без того второй год его оставляют исполняющим дела и не утверждают директором департамента?
А тут еще морское начальство. Он же видел, с каким скрипом оно согласилось на аресты. Только довод о том, что завтра уже будет поздно, заставил Григоровича решиться. Но теперь, когда дело сделано, а арестованные матросы упрятаны в Петропавловскую крепость, придется делать вид, что никакого восстания вроде бы и не готовилось.
А может быть, удастся убедить Григоровича в том, что восстание действительно готово было разразиться, но не в интересах морского министра обнародовать такой факт. В общем-то Григорович и сам должен это понимать и помалкивать. В сегодняшней газете появилось сообщение о том, что на запрос корреспондента заместитель начальника Главного морского штаба адмирал Зилотти ответил, что ни о каких арестах ему не известно. Белецкий понимал, отчего адмирал дал уклончивый ответ — он попросту не знал, как ему объяснить все это. Нелегко и морскому министру — вот-вот его начнут атаковывать газетчики и думские депутаты. Недаром утром Белецкому доложили о том, что адъютант Григоровича просит аудиенции. Он приказал ответить, что сможет принять адъютанта не ранее полудня, выгадывая время для выработки версий и собственной линии поведения.
Составив наконец план действий, он пошел к товарищу министра[1] внутренних дел Золотареву, изложил свое мнение о том, что для широкой публики версию о восстании нужно полностью устранить. Товарищ министра согласился с этим сразу. Без возражений принял он и версию, подготовленную для печати. Но когда Белецкий попросил Золотарева принять адъютанта морского министра и лично дать ему официальное разъяснение, тот насторожился, почуяв за этой просьбой какую-то хитрость.
Однако Белецкий настаивал. Дескать, он является всего лишь исполняющим дела, лицом полуофициальным. Да, да, пусть не возражает Игнатий Михайлович, но это так. Да, совершенно справедливо замечание Игнатия Михайловича о том, что это он, Белецкий, фактически провел всю эту акцию, отстранив от участия в ней медлительного фон Коттена, но надо ли об этом знать широкой публике? Ему достаточно и того, что об этом знают министр внутренних дел и самый опытный из его помощников — Игнатий Михайлович. А о популярности у публики он, Белецкий, никогда не заботился. Более того, ему вообще не выгодно, чтобы его имя фигурировало в печати. Если уж говорить откровенно, то слишком иного у него недоброжелателей — людей, ненавидевших Столыпина, а по этой причине и его, Белецкого, некогда связанного с Петром Аркадьевичем узами доброжелательства и дружбы. Пусть уж лучше официальным представителем министерства в деле об аресте матросов предстанет такой известный обществу государственный деятель, как Игнатий Михайлович Золотарев.
Получив согласие товарища министра, Белецкий в прекрасном настроении вернулся к себе, позвонил адъютанту Григоровича.
— Должен извиниться, — сказал он, — что не смогу увидеться с вами. Обычно я с величайшим удовольствием встречаюсь с моряками. Всей душой готов был и на этот раз, но, к сожалению, начальство ввиду крайней важности информации взяло все дело в свои руки. Вас хочет лично видеть у себя товарищ министра внутренних дел Золотарев. Сами понимаете — идти против его воли я не мог. Так что еще раз покорнейше прошу извинить.
Повесив трубку, он нажал кнопку вызова и, когда в двери почтительно застыл секретарь, велел передать корреспонденту «Утра России», что ждет его в час пополудни. А пока пусть пригласят Мардарьева.
Когда подчиненный зашел, Белецкий предложил ему сесть в глубокое кожаное кресло, стоявшее перед столом, сам сел напротив. Прежде всего его интересовало мнение Мардарьева о том, насколько произведенные аресты подорвали революционное движение на кораблях и не может ли в ближайшее время вновь произойти какое-то обострение.
Удобно расположившись в кресле, Александр Ипполитович излагал свою точку зрения. Иному начальнику его поза могла бы показаться слишком свободной, но Белецкий на такую мелочь не обращал ровным счетом никакого внимания. Нельзя было сказать, что он не ценил лесть и почтительность. Но Мардарьев ему не для подхалимства нужен. Ценен он тем, что умеет анализировать события.
Сейчас Александр Ипполитович утверждал, что в ближайшее время ни о каком взрыве не может быть и речи. Хотя бы потому, что ликвидирован революционный комитет Гельсингфорса. Правда, Воробьеву удалось скрыться, а Горского не обнаружили, но тем не менее комитет перестал существовать. Важно и то, что аресты на кораблях вырвали из матросской среды большую группу наиболее активных и наиболее озлобленных людей. Конечно, на кораблях еще остались матросы, причастные к подготовке восстания. Но они после арестов прекратят активную работу, станут налаживать новые связи, а тем временем надо на кораблях будет усилить внутреннее наблюдение агентуры. И еще одно соображение: флотское начальство сейчас настороже и примет со своей стороны самые строгие превентивные меры. Так что ближайшее время можно жить спокойно.
Выслушав эти доводы, Белецкий побарабанил пальцами по краешку стола, спросил с легкой усмешкой: не знаком ли Александр Ипполитович с недавним рапортом Финского жандармского управления фон Коттену по поводу предполагаемого спокойствия на военных кораблях?
— Как же, как же, — засмеялся Мардарьев, — не только читал-с, но с составителем этой ахинеи лично знаком.
— Кто такой? Ведь не сам же Утгоф это писал? Я его давно знаю и уверен, что без помощи подчиненных он ни строчки не напишет. Так кто же?
— Есть там у них прыткий ротмистр. Надутый как индюк, в сыскном деле ни бельмеса не смыслит, да и вообще по развитию своему на уровне средней кавалерийской лошади. Впрочем, лошадь хотя бы свой маневр понимает, а о ротмистре этою не скажешь. Он даже в день арестов сумел начудить. Познакомил я работников управления со словесным описанием внешности Горского. Так вот этот ротмистр заявил, что самолично Горского схватит. Повелел он полицмейстеру Валкнисту взять одного прохожего. Того арестовали, а вечером оказалось, что это известный у финнов общественный деятель Саксман. Пришлось срочно выпустить, принеся извинения. Финны непременно этим случаем воспользуются для своей пропаганды против русского произвола.
— Ну а как же, Александр Ипполитович, зовут-то ротмистра? Не томите уж.
— Так ведь секрета не делаю… Это Шабельский. Станислав Шабельский.
— Вот оно что! Любопытно. Не родственник ли случайно?
— Проверял уже. Самый определенный родственник. Племянник.
Белецкий хмыкнул и опять забарабанил двумя пальцами по краю стола. Разумеется, держать дурака в управлении не след и нужно было бы доложить о Шабельском шефу корпуса жандармов генералу Толмачеву. Но, с другой стороны, у этого индюка, как его называет Мардарьев, дядюшка не кто иной, как генерал по особым поручениям при министре внутренних дел. Мстителен и злопамятен до чертиков. А главное, через жену вхож к вдовствующей императрице Марии Федоровне. Где-нибудь там в придворных кругах бросит одно недоброе слово — оно и прилипнет, не отмоешься. Поневоле осторожным будешь. Ясное дело, убирать Шабельского-младшего из Финляндии придется — работа там сложнее, чем в других управлениях. Но убрать надо поделикатнее — что-то вроде перевода сделать. Этим можно будет заняться и позже. А сейчас самый раз провернуть дело с печатью. Важно, чтобы первые же комментарии об арестах в Гельсингфорсе совершенно четко показали, что флотское начальство опростоволосилось в таком священном деле, как защита государственных интересов от врагов внутренних…
Он рассказал Александру Ипполитовичу, что в приемной дожидается репортер из «Утра России», попросил присутствовать при разговоре. Мардарьев с удовольствием согласился, справедливо видя в этом жесте знак доверия.
Вскоре в кабинет торопливо прошел небольшого роста человек, в новом темно-сером костюме и модных лаковых ботинках. Однако же, как отметил про себя Александр Ипполитович, воротничок белой рубашки выглядел несвежим. Человек был белобрыс и лысоват, маленькие голубые глазки профессионально обежали комнату и уткнулись во вставшего из-за стола Белецкого, Подойдя к нему скользящим шагом, он подал узкую ладонь, склонив при этом голову вперед и немного набок. Потом скользнул к Мардарьеву, протянул ладонь и ему. Александр Ипполитович, чуть приподнявшись с кресла, пожал ее. Рука газетчика была холодная, влажная.
Поймав глазами приглашающий жест Белецкого, репортер сел в кресло напротив Мардарьева, закинул ногу на ногу, достал из бокового кармана блокнот с золотым обрезом и карандаш. Он явно старался держать себя независимо, но слишком суетился. Белецкий вышел из-за стола и начал неторопливо вышагивать вдоль комнаты. Неожиданно он остановился, уставя внимательный взгляд в переносицу журналиста, отчего тот невольно поежился.
— Видите ли, господин…
— Розов! — торопливо подсказал репортер.
— Розов… Я пригласил вас, так сказать, конфиденциально, для разговора сугубо доверительного. И потому заранее прошу быть чрезвычайно сдержанным в оценках.
— Понимаю…
— Так вот. Не далее как сегодня одна уважаемая петербургская газета опубликовала заметку о беседе своего представителя с заместителем начальника главного морского штаба адмиралом Зилотти. На вопрос корреспондента адмирал ответил, что об арестах матросов в Гельсингфорсе он ничего не знает. Однако вам я совершенно точно могу сообщить о том, что аресты были.
— Я доложу об этом редактору! — торопливо привстал репортер.
— Сидите, сидите, — махнул рукой Белецкий. — Никому ничего не надо докладывать. Я звонил ему сам, и именно он порекомендовал для встречи вас.
— Слушаю вас со всей тщательностью! — репортер улыбался, но явно чувствовал себя не в своей тарелке.
— Итак, попрошу вас зафиксировать главное, — сказал Белецкий.
Мардарьев успел заметить, как на мгновенье дрогнули и сощурились глаза начальника — верный признак того, что действительно будет говорить о важном.
— А главное заключается в том, что ни о каких случайных моментах в произведенных арестах не может быть и речи. Я знаю, что некоторые безответственные органы поспешат обвинить нас в провокации и еще черт знает в чем. Но подобные рассуждения явятся чистейшим вздором. В них не будет ни капельки здравого смысла. Смысл же заключается в том, что охранное отделение на протяжении длительного — я подчеркиваю это — срока неустанно следило за злоумышленниками на кораблях. И, только накопив необходимые улики и доказательства, оно вмешалось в ход событий. В то же время лица, призванные со своей стороны следить за порядком на флоте, с подобной задачей явно не справились…
Мардарьев мысленно усмехнулся — вот оно, главное! Молодец Белецкий, вот как надо выходить сухим из воды!
На другой день после этого разговора «Утро России» поместило на видном месте заметку, где указывалось, что вот уже полтора года охранное отделение вело самое тщательное наблюдение за перепиской матросов линейного корабля «Цесаревич» с революционными организациями на берегу, однако сведения долгое время носили отрывочный характер.
«Но за последнее время, — указывала далее газета, — из полученных Петербургским охранным отделением сведений в точности выяснилось, что революционеры сумели путем засылки нелегальной литературы революционизировать часть матросов, которые образовали на «Цесаревиче» особый кружок и сносились постоянно с представителями подпольных организаций».
Далее газета сообщала некоторые подробности об арестах. В конце заметки говорилось:
«Морской министр Григорович самым внимательным образом следил за всем этим делом и отправил одного из своих офицеров к товарищу министра внутренних дел Золотареву с просьбой сообщить ему, насколько серьезной представляется раскрытая организация. По циркулирующим слухам, адмирал Григорович получил ответ, в котором ему сообщается, что произведенные аресты указывают лишь на сношения матросов с революционерами, но что организация, бывшая на «Цесаревиче», ликвидирована в самом начале и что благодаря этому она не приняла опасных размеров».
Когда Мардарьев прочитал эту заметку, он только руками развел от восхищения. Хитроумный лис Белецкий давал великолепный урок изворотливости. Оставаясь в стороне, он наводил тень на морское ведомство и делал это так искусно, что никому в голову не могло прийти, что это работа Степана Петровича.
Да, было чему поучиться у старого мастера интриги!
Несколько дней подряд Александр Ипполитович внимательно просматривал столичные, московские и провинциальные газеты. Они сообщали об арестах в Гельсингфорсе, гадали об их причинах. Но в любом выступлении четко прослеживалась та версия, которую Белецкий с самого начала подсунул репортеру «Утра России».
Седоусый надзиратель в фуражке с высокой тульей отпер последнюю дверь, пропустил Думанова вперед, снова запер дверь за собой, молча ткнул рукой, указывая направление, куда идти. Освобожденный, однако, не тронулся с места, уставившись куда-то остановившимся взглядом. Старому надзирателю, почти всю жизнь прослужившему в тюрьмах, доводилось уже провожать освобожденных к выходу. Все они, переступая тюремный порог, с лихорадочным нетерпением, как-то боязливо оглядывались кругом, словно не веря, что могут самостоятельно идти куда хотят, и спешили побыстрее уйти прочь.
Этот же вел себя иначе — одурел, что ль, от радости? Шел по коридорам медленно, нехотя, на крыльце и вовсе остановился, впал в оцепенение. Надзиратель тронул его за локоть, отчего тот вздрогнул, снова показал ему, куда идти, и человек послушно пошел через мощенную булыжником площадь к проходной будке. Тюремщик отметил, что идет он неуверенно, как пьяный.
Выйдя из ворот Петропавловской крепости, Думанов было остановился, с недоумением поглядел на незнакомую улицу и, сделав усилие над собой, пошел вперед мимо садика, вышел на широкий проспект, упиравшийся в мост через Неву. Он не знал, куда ему идти, и механически двинулся через мост.
Стоял погожий майский день. Солнце ощутимо припекало, щедро бросало мириады бликов на поверхность реки, сверкало в золоте шпилей и куполов, отсвечивало в стеклах окон.
Но Думанов не видел ничего этого. Он машинально переставлял ноги, натыкался на прохожих, ловил, как сквозь сон, их сердитые возгласы. В правом виске билась, пульсировала жилка, сердце тупо ныло. То, что он услышал всего полчаса назад, навалилось на его сознание непосильной ношей, заполнило все его существо чувством страшной, непоправимой беды. Мысли беспорядочно метались, жилка на виске своим тиком мешала остановить их бег.
Он пересек мост, не глядя по сторонам, ступил на мостовую набережной и, сделав всего лишь шаг вперед, почувствовал удар сразу в плечо и в голову, швырнувший его в сторону. Он упал, ударившись затылком о мостовую. Словно пронизала глаза вспышка света, и навалилась беспросветная темнота.
Открыв глаза, Думанов увидел склонившееся над ним бледное лицо, потом совсем рядом со своим виском чьи-то сапоги. Попытался поднять голову, но перед ним все поплыло. Поддерживая под руки, ему помогли подняться. Он стоял среди незнакомых людей. Теперь до него стали долетать слова. Рослый кучер, стоявший рядом, горячо оправдывался перед городовым, доказывал, что прохожий «сам полез под колеса, верно, выпимши был». Городовой, повернувшись к Думанову, коротко спросил:
— В самом деле выпимши?
Думанов качнул было головой, но перед глазами все снова поплыло, к горлу подступила тошнота. Человек, крепко державший его под руку, сердито заговорил:
— Оставьте его в покое. Он совершенно трезв, и у него, по-видимому, сотрясение мозга. Я врач и настаиваю, чтобы пострадавшего немедленно доставили домой или в больницу.
Городовой заикнулся было, что надо составить протокол, но собравшаяся толпа в негодовании зашумела: нечего канцелярию разводить, когда человеку плохо. Тот же кучер предложил бесплатно отвезти пострадавшего, куда надо. Врач тихо спросил об этом же. Но вот куда надо, Думанов совсем не знал, однако краем сознания понял, что в больницу не надо. Неожиданно вспомнился адрес старика Краухова и попросил отвезти за Нарвскую заставу на Петергофское шоссе.
Доехали быстро. Извозчик помог дойти до знакомого домика. Открывая дверь, мать Сергея заохала, засуетилась, помогла уложить Тимофея в постель, положила на лоб смоченное водой полотенце, отчего стало немного легче.
Он забылся и пришел в себя только вечером при свете тусклой лампы. Старый Краухов был уже дома — сидел за столом, молча хлебал из тарелки суп. Услышал, что гость заворочался, поднялся, подошел к кровати.
— Надо же так, — сочувственно сказал он. — И где же это тебя угораздило?
— Так… лихач один сшиб, — медленно ответил Думанов.
— Может, доктора привести? Есть у меня один знакомый. Богатых лечит за деньги, а нашему брату рабочему и так помогает. Ты не стесняйся, скажи, если доктор нужен…
— Не нужно мне доктора. Сам отойду… только бы еще полежать немного…
— Это дело немудреное — полежать. Лежи себе на здоровье сколько влезет. Мы со старухой себе на полу постелем. У нас, когда дети поразъехались, два матраса лишних осталось. Так что будь спокоен — никого не обременишь. Поесть дать что-нибудь?
— Нет, спасибо. Пить только хочу.
Старый Краухов зачерпнул кружкой воды из ведра, стоявшего в углу на лавке, поднес Тимофею. Тот хлебнул немного, опять откинулся на подушку и снова не то задремал, не то забылся. Еще раз он пришел в себя ночью. Под стеганым ватным одеялом было душно. В темноте комнаты что-то тускло светилось. Скосив глаза, он увидел лампадку, над которой дрожал маленький желтый язычок пламени, освещавший потемневшую икону в латунном окладе. Неподалеку от кровати храпел старый Краухов, тихого дыхания старухи не было слышно.
Думанов снова смежил ресницы. Вдруг он отчетливо вспомнил все, что с ним произошло, и глухо застонал. Застонал не от боли, а от того страшного, что навалилось на него прошедшим утром в канцелярии начальника тюрьмы.
Больше он не заснул в эту бесконечную ночь, вновь и вновь вспоминая подробности двухнедельного заключения в Петропавловской крепости.
Лишь на седьмой день заключения отвели его на вторичный допрос к следователю, чернявому низкорослому мужчине. Тот сначала уговаривал сознаться во всем, потом стал угрожать, рассказывал о наказаниях, одно страшнее другого. Думанов держался спокойно, объяснял, что ничего не знает. Через день следователь вызвал его снова, спросил, хорошо ли он успел продумать свое положение, и неожиданно предложил Тимофею стать агентом охранного отделения, обещая за это немедленное освобождение, а впоследствии неплохое вознаграждение. Получив ответ, что «сознательный рабочий никогда не пойдет на службу в охранку», следователь обнажил в улыбке желтые прокуренные зубы, сказал, что это далеко не так, есть рабочие, понявшие свою вину перед законным государственным строем, и теперь служат агентами. Думанов сказал тогда, что больше разговаривать на эту тему он никогда не станет. Следователь пожал плечами и приказал надзирателю отвести арестованного обратно в камеру.
Прошло еще двое суток, прежде чем его опять вызвали к следователю, но на этот раз в другое помещение. Следователь предложил ему подойти к окну. Думанов увидел небольшой дворик, по которому прохаживался человек в тюремной одежде. За его прогулкой следил надзиратель. Потом арестанта увели и вскоре вывели во дворик другого, через несколько минут его сменил еще один, потом еще… Тимофей недоумевал, зачем ему показывают эти прогулки. Но вот во дворик вышел очередной арестант, медленно пошел по кругу. Когда он повернулся лицом к окну, Думанов узнал в нем матроса с крейсера «Рюрик». Следователь, от которого явно не укрылось невольное движение Думанова к стеклу, спросил, уж не знакомого ли он увидел? Тимофей ответил, что никогда не видел этого человека. Но следователь недоверчиво усмехнулся.
— Ну-с, — сказал чиновник, — дело подошло у нас к концу. Как видите, я ни капельки не лгал вам, когда говорил, что нам все досконально известно. И сегодня я не хочу отнимать ни своего, ни вашего времени, только выясню один вопрос. У вас было для раздумья несколько дней. После сделанного вам мною как следователем предложения перейти к нам на службу к какому же выводу вы пришли?
— Как тогда, так и сейчас я на эту тему категорически отказываюсь говорить!
— Ах-ах, какие мы гордые! Но вы, любезнейший, как я вижу, совсем не понимаете своего положения. Ведь все эти имена, адреса вы нам сообщили…
— Это ваша выдумка! Ничего я вам не сообщал!
— Да, голубчик, верно. Но об этом знаем только мы с вами. А вашим сотоварищам, а точнее сообщникам по преступному деянию, мы докажем совсем иное. Мы уж точно их убедим, что все сведения взяты от вас.
— Но вам никто не поверит! — начал волноваться Думанов. — Никогда не поверят!
— Вы так думаете?.. Но давайте рассуждать логично. Напомню вам ситуацию. Ревком, как вы его называете, посылает вас в Петербург. На следующий день вас арестовывают. День, кстати, точно зафиксирован в бумагах. После этого ареста всех товарищей вдруг забирают. Улавливаете связь? Но этого мало — нам становится известной и дата намечаемого восстания. И опять же, заметьте, после вашего ареста! Затем вас, единственного из всех арестованных, выпускают на свободу. Улавливаете?
— Как на свободу? Я ведь… — забормотал ошеломленный Думанов.
— А вот так — приказ уже подписан. Через час вы будете на свободе. Можете ехать куда угодно. Но только ехать-то вам, выходит, некуда! Кто же вас примет с такой репутацией? Вы же, голубчик, в глазах своих сотоварищей, как это у вас говорят? — провокатор! И никого никогда не сумеете в обратном убедить. Иное дело, если вы согласитесь на наше предложение. Тут уж мы все сделаем так, что и комар носа не подточит. В общем, даю вам еще день на размышление. Подумайте на свободе, и коли гласу рассудка сможете внять, то вот вам номер телефончика, а то и без звонка запросто можете зайти на Гороховую… Но ждем только один день!
Вот при каких обстоятельствах очутился на свободе Тимофей Думанов. Теперь он лежал в душной комнатенке стариков Крауховых и мучительно искал выход из положения. Он был честным человеком, никогда не кривил душой перед товарищами, готов был жизнь отдать ради них. Знал нужду и голод, бился на баррикадах в девятьсот пятом, не кланялся пулям. В тюрьме его избивали по три часа подряд, пытаясь выбить из него явки, били лежачего подкованными сапогами, сломали три ребра. Все он выдержал, не сказал ни слова. Товарищи верили ему во всем.
Что же будет теперь?
То, что рассказал ему чиновник, было жутко. Оказаться предателем в глазах товарищей и быть бессильным доказать им свою невиновность — могло ли быть что-либо страшнее? Но главное: потеряна связь… Надо ее искать. И немедленно!
Наутро он поднялся, оделся, умылся, позавтракал с Крауховыми. Потом достал карандаш и бумагу, написал несколько слов и велел разыскать редакцию «Правды» и во что бы то ни стало передать записку лично Полетаеву, из рук в руки. Хотя старики удерживали, предлагали отдохнуть еще, он ушел.
Вечером Мардарьеву позвонил начальник Петербургского охранного отделения фон Коттен, официально сказал, что «психологический опыт», проводимый Александром Ипполитовичем с соучастником гельсингфорсского преступного сообщества, окончился неудачно. Означенный мещанин Тимофей Думанов сегодня утром возле Обводного канала, обнаружив следившего за ним филера, вступил с ним в схватку, оступился и упал в канал, откуда был вытащен в бессознательном состоянии. Доставленный в больницу, не приходя в сознание, умер.
— Вот черт! — воскликнул Мардарьев. — Ей-богу, жалко! А я все же надеялся, что он к нам придет. Что поделать, Михаил Фридрихович, что поделать. На этот раз не удалось. Сами знаете, у социал-демократов иногда логику поведения трудно предвидеть. Я вас прошу предупредить Цензурный комитет. Этот случай в газетную хронику дать, но в следующей редакции: мещанин Тимофей Думанов покончил жизнь самоубийством. По слухам, он был связан с какими-то бунтовщиками. И кое-что о совести намекнуть. Кстати, пусть пришлют репортера из «Утра России», мы вместе быстрее набросаем заметку.
Повесив трубку, Александр Ипполитович ненадолго задумался о случившемся, но вскоре махнул рукой, стал соображать, как ему быстрее добраться до ресторана Кюба, где намечена многообещающая встреча с банкиром Рубинштейном. С недавнего времени Мардарьев решил поиграть «по маленькой» на бирже, но, как новичок, нуждался в авторитетном совете.
Записка Думанова попала точно по адресу — старик Краухов отнес ее в редакцию «Правды». Позднее Полетаев показывал ее друзьям. Записка была краткой:
«Вышел на след провокатора. Подробности сообщу позднее».
…А февральским днем 1917 года восставшие рабочие и солдаты, разгромив охранку, среди секретных документов нашли совсем «свежее» донесение провокатора Лимонина жандармскому подполковнику от 26 февраля. Здесь же в бумагах охранки нашли и расшифровку клички агента: Лимонин и Шурканов — это один и тот же человек.
ПАРИЖ, МАРИ-РОЗ, 4
«Среди флота особенно было распространено и крепко держалось мнение, что он «сам по себе» представляет такую крупную силу, что сможет, независимо от общей борьбы пролетариата, сделать революцию».
(В. Залежский. «Из воспоминаний подпольщика».)Шотман отыскал нужную дверь, поднес было руку к звонку, но замешкался, явно не решаясь позвонить. Сердце забилось; казалось, что стук его разносится в тишине подъезда и слышен даже у консьержки внизу. Давно уже Александр Васильевич так не волновался. Чувство радости и волнения возникло еще с той минуты, когда он узнал от верных людей этот адрес. Оно начало нарастать с утра, когда он вышел из дешевой гостиницы и пешком направился сюда. Парижские улицы, всегда вызывавшие в нем острое любопытство, на этот раз проплывали перед ним как в тумане. Только неподалеку от улицы Мари-Роз он внимательно огляделся кругом, проверяя на всякий случай, нет ли слежки. Конечно, в Париже слежки за ним не должно быть, но недаром же говорится: береженого бог бережет.
И вот теперь Шотман переминался с ноги на ногу на лестничной площадке, ощущая несвойственный ему прилив робости. Наконец, рассердившись на себя, решительно позвонил.
Дверь открылась почти сразу. Женщина средних лет выжидательно взглянула ему в лицо, сощурила глаза, словно припоминая, но тут же улыбнулась по-доброму широко. Узнала.
— Вот уж кого не ожидала встретить! — предлагая жестом войти в квартиру, заговорила она. — Давно уже мы с вами не встречались, товарищ Берг! Шесть или семь лет прошло…
— Точно шесть, Надежда Константиновна…
— Вот видите. Годы так быстро летят, что не успеваешь оглянуться. Да вы снимайте пальто, проходите в комнату. Я вас сейчас с мамой познакомлю — она гостит у нас в Париже.
— А Владимир Ильич дома ли сейчас?
— А вот Володи-то и нет — уехал по партийным делам в Берлин.
— Как в Берлин? — переспросил Шотман. — А я оттуда, только два дня назад прибыл.
— Значит, разминулись. Но вы не огорчайтесь, это бывает. Не расстраивайтесь, товарищ Берг, он скоро вернется. Через несколько дней встретитесь… А пока проходите. Желанным гостем будете. Свежий человек из России для нас, эмигрантов, всегда радость.
Стараясь не показывать разочарования, чтобы не обидеть хозяйку, он послушно прошел в ближайшую комнатку, присел возле окна, огляделся. Заваленный книгами, журналами, рукописями, конвертами стол, металлическая кровать, небольшая тумбочка — вот и вся обстановка небольшой комнаты. На стенах — несколько выцветших фотографий.
Крупская, не давая времени на раздумья, стала расспрашивать, как он попал в Париж, что собирается здесь делать. Когда Александр Васильевич сказал, что он перед отъездом за границу работал в Гельсингфорсе, Надежда Константиновна заметно оживилась, поинтересовалась, не слышал ли он чего-либо о тамошних арестах. Русские газеты сообщали, что отправлены в тюрьмы матросы с военных судов и несколько подпольщиков, но в чем они обвиняются, понять трудно. Владимир Ильич очень был взволнован, когда прочитал об арестах. Он пытался между строк узнать подлинную правду о событиях, но цензура так искусно выхолостила информацию, что невозможно было разобраться. Одно было ясно — революционное движение на флоте вновь набирает силу, а это чрезвычайно важно.
Шотман кратко рассказал, как готовилось восстание, как под нажимом матросов пришлось передвинуть намечаемые сроки. Крупская слушала не перебивая, но, когда Александр Васильевич упомянул о том, что Гельсингфорсский комитет согласился на предложенную матросами дату, она, подняв брови, удивленно спросила:
— Как? Без согласования с ЦК?
Внимательно выслушала объяснения Шотмана, отчего и как это произошло. Ему показалось, что Крупская соглашается с его доводами. В заключение разговора попросила непременно пересказать все это Владимиру Ильичу, когда он вернется из Берлина.
Вскоре Александр Васильевич заторопился и наотрез отказался остаться обедать, несмотря на настойчивое приглашение. От других эмигрантов он уже был наслышан, что Ленин с семьей живет исключительно скромно, по всей видимости, испытывает недостаток в средствах, хотя категорически отказывается от всякого рода материальной помощи.
Поняв, что гостя никак не уговорить, Крупская не стала больше его задерживать, пообещала сообщить о возвращении Владимира Ильича. Поинтересовалась, чем Шотман думает заняться в ближайшие дни.
— С товарищами надо встретиться, — сказал он. — Может быть, в Лонжюмо съезжу. На диспут тут меня приглашали. С анархистами, что ли, диспут будет…
— С анархистами? Вы держите ухо востро — там народ слишком горячий, могут и с кулаками полезть… Впрочем, вас, товарищ Берг, этим не испугаешь. Помнится, на Лондонском съезде вы и сами хотели с противником не дискуссионным путем разделаться. Помните?
Крупская улыбнулась лукаво, а Шотман густо покраснел при этом напоминании.
Уже распрощавшись, по дороге в свой отель, он вновь вернулся мысленно к тем дням, когда посланцем Петербургской партийной организации под фамилией Берг участвовал в работе второго съезда партии…
Был среди делегатов съезда человек, который поначалу очень понравился Александру Васильевичу. В дискуссиях он поддерживал Ленина, обрушивая свой ораторский гнев на группу Засулич и Аксельрода — будущих меньшевиков. В перерывах между заседаниями он часто разговаривал с приехавшими на съезд делегатами-рабочими, толково разъяснял им расстановку сил, доказывал, что у людей, идущих против Ленина и Плеханова, нет никаких перспектив. Говорил так убежденно, что невольно заряжал своей уверенностью слушавших его рабочих. Неожиданно для них на одном из заседаний он выступил в поддержку противников Ленина и стал отстаивать их точку зрения с такой же убежденностью.
Делегаты-рабочие были потрясены таким оборотом дела — на их глазах человек, которому верили, совершал своего рода предательство.
В перерыве Александр Васильевич отвел двух товарищей в соседнюю комнату и, весь дрожа от негодования, сказал, что, как только окончится заседание, он встанет у выхода из зала и публично, так, чтобы видели делегаты, влепит перебежчику по физиономии. Услышав это неожиданное признание, товарищи забеспокоились, стали уговаривать его не делать глупости, взять себя в руки. Но нервная дрожь била его все сильней, и вдруг он не выдержал, заплакал, закрыв лицо руками.
Один из товарищей, по партийной кличке «Андрей», разыскал и привел в комнату Крупскую. Общими усилиями его кое-как успокоили, дали выпить воды, достали даже валерьянки. Но хотя нервная дрожь прошла и голос его стал звучать почти совсем спокойно, он продолжал повторять, что намерение свое твердо исполнит. И действительно, к концу заседания он занял боевую позицию в коридор, куда выходила дверь из зала. Но Крупская успела предупредить Ленина, который вышел из зала одним из первых, остановился возле Александра Васильевича, сказал укоризненно, качая головой:
— Ай-ай-ай! Что это, товарищ Берг, вы задумали?
Не давая времени опомниться, Ленин твердо взял его под руку, повел к выходу…
В тот вечер они долго прогуливались по мокрым лондонским улицам. Ленин пожурил его за нелепое намерение, сказал, что только идиоты полемизируют кулаками. Потом он самым подробным образом разъяснил, отчего возникли разногласия, из-за чего у людей случаются идейные шатания. А под конец откровенно пожаловался, что трудно ему работать в «Искре» в условиях, когда ее делают шесть редакторов и чуть ли не каждый из них стремится проводить свою линию. Может быть, именно эта откровенность заставила тогда Шотмана понять, насколько тяжелее приходится Ленину в партийной борьбе, чем каждому из его сподвижников, и насколько в самом деле нелепо решать идейные споры кулаками…
На следующий день после посещения улицы Мари-Роз Шотман решил разыскать Василия Банникова, старого своего приятеля по Обуховской обороне. По рассказам живущих в Париже товарищей, Банников находился в эмиграции лет пять, женился на француженке, но страшно бедствовал — из-за неуживчивого характера его уже несколько раз выгоняли с работы. В последний раз это случилось дня три назад, и потому его почти наверняка можно было застать дома.
Встав пораньше, Александр Васильевич решил пройтись пешком до вокзала Сан-Лазар, возле которого жил Банников. Выходя из узкой каморки, которую хозяин гостиницы именовал гостиничным номером, Шотман приподнял за ручку дверь, чтобы, закрываясь, она не скрипела. Скрип проржавевших несмазанных петель был пронзительным, а Шотман не хотел беспокоить жильцов соседнего номера. Осторожно ступая по рассохшимся скрипучим половицам, он вышел к полутемной деревянной лестнице, спустился вниз. Возле конторки возился хозяин. Видимо, он только что встал, ибо на нем красовались лишь потертые брюки с подтяжками, перекрещенными прямо поверх белой нижней рубахи, да суконные шлепанцы. Несмотря на ранний час, хозяин готовил утренний кофе — орудовал со спиртовкой и кофейником, которые водрузил на конторку.
Хозяин тоже был эмигрантом. Он переселился в Париж из Одессы еще в начале века, когда неожиданно умершая тетка оставила ему в наследство вот эту самую гостиницу на двенадцать комнат и несколько сот франков. Так Соломон Блох, чьи предки в нескольких поколениях были сапожниками и едва сводили концы с концами, стал владельцем недвижимой собственности и капиталистом. Оставленный ему теткой капитал в четыреста семьдесят два франка был давным-давно проеден блоховским семейством, состоящим из жены Розы и троих детей. И вот уже двенадцать лет кряду существовал Соломон на крохотные доходы, приносимые редкими постояльцами.
— Нет, ви только посмотрите, — сказал Блох подошедшему жильцу. — Роза покупала у лавочника Маршана этот кофий по десять франков за пакет. Так ви думаете, что он пахнет на десять франков? Как бы не так! Самое большее — на пять, убей меня гром, если я вру. Нет, ви только понюхайте этот букет с Монмартра!
Он приподнял крышку кофейника, вытянул вперед свой внушительный нос, потянул с шумом воздух и сморщился так, будто проглотил кусок лимона.
— Такой кофий у нас в Одессе никто не брал даже в черные дни. Фанкони, наверное, умер бы на месте, если б в его кафе подавали такой кофий. Ой-ой-ой, пусть Маршан кому хочет рассказывает, что это свежий бразильский завоз, а я так вижу, что это лежалый товар… Но, представьте, чашечку я могу вам предложить. На вкус все же ничего себе… потому я включу эту чашечку вам в счет. Это совсем немного — всего один франк. Да ви не думайте — это не так страшно, как я говорю. Кофий как кофий… Ну как, наливать?
Шотман меньше всего хотел вступать в разговоры со словоохотливым Блохом, способным часами болтать о всякой ерунде. Он молча покачал головой, положил ключ на конторку и вышел наружу.
Несмотря на ранний час, на улице было уже людно. Спешили куда-то разносчики со своими тележками, брели на работу невыспавшиеся продавщицы, швеи, манекенщицы, грузно шагали угрюмые рабочие. Александр Васильевич невольно подумал о том, что и дома на далекой родине вот так же идут на работу люди. Здесь, может быть, и одеты получше, но выражение лиц такое же усталое, и походка такая же тяжелая. Видимо, и во Франции нелегко достается рабочему человеку кусок хлеба.
Улица вывела его на набережную к мосту. Дойдя до середины реки, Шотман остановился, залюбовавшись открывшейся панорамой. Свежий утренний ветер рябил поверхность Сены, гнал над водой клочья легкого тумана. От соседнего моста маленький черный буксир, нещадно дымя, волочил огромную груженную дровами баржу. Справа вдоль набережной тянулась вереница высоких домов с неровными крышами, на которых громоздились причудливые башенки, пристройки, выступы. Слева выходила к Сене величественная громада Лувра. Глядя на дворец, Александр Васильевич почему-то вспомнил читанную в детстве книжку о головоломных приключениях Атоса, Портоса, Арамиса и д’Артаньяна.
Перейдя мост, он пошел, сверяясь с планом города, пересек площадь Согласия, миновал церковь Сан-Мадлен и бульвар Осман, вышел к вокзалу Сан-Лазар, от которого круто шла вверх узкая и грязная улица. Как раз здесь должен был проживать Василий Банников. Дом он нашел сразу, но в подъезде ему преградила путь пожилая растрепанная консьержка, быстро затараторила что-то, видимо, спрашивая, к кому идет. Мобилизовав почти весь свой запас выученных им французских слов, Шотман сказал галантно:
— Мадам! Же ву при… мон рус ами Банников!
Услышав это, консьержка затараторила еще быстрее, почему-то лицо ее приобрело свирепый вид. Тон ее голоса с каждой секундой повышался, и, наверное, по этой причине на лестничную клетку вышли несколько растрепанных женщин. Они с интересом стали вслушиваться в бурный монолог консьержки. Шотман не понимал ничегошеньки, кроме часто упоминаемой фамилии Банникова да еще слова «апаш», которое явно к этой фамилии присоединялось. Он знал, что по-французски «апаш» означает бандит, но почему Банников отнесен в разряд преступников, никак не мог уразуметь. Консьержка, видя, что ее слов не понимают, попыталась что-то изобразить с помощью пантомимы. Зацепив пухлой рукой воздух так, будто хватала кого-то воображаемого за воротник, она потрясла пальцами, а потом выразительно двинула коленом и воскликнула при этом: «О-ля-ля!»
Ясным было одно: Банников вытурен из дома, может быть, и не таким способом, но, во всяком случае, бесповоротно. Шотман попытался все же получить хоть какую-то дополнительную информацию, сделав вид, что пишет по ладони, спросил:
— Мсье Банников… адрес?
В ответ консьержка выпалила явное ругательство. Стоящие на лестнице женщины громко засмеялись. Но одна из них, молодая, с наброшенным поверх ситцевого халата шерстяным платком, быстро спустилась на несколько ступенек и сказала:
— Полька. По-русски едва розумию.
— Я ищу товарища… пана Банникова.
— Пан не мал франки, не оплатил комната. Пана просили вон…
— Но где он сейчас? Может быть, его адрес…
— То никто не знает. Он уехал на Марсель.
Ничего не узнав больше, Шотман ушел, с грустью думая о том, что и в «демократической» Франции, так же как в России, человека, не имеющего денег, чтобы оплатить квартиру, безжалостно выбрасывают на улицу.
За утреннюю неудачу судьба стократ вознаградила Шотмана днем. Он заглянул в библиотеку, которой пользовались многие эмигранты из России, чтобы просмотреть русские газеты, и здесь, на пороге читального зала, столкнулся нос к носу со своим товарищем по гельсингфорсскому подполью Исидором Воробьевым.
Друзья изумленно глянули друг на друга, но в следующее мгновение крепко обнялись. После мощного воробьевского объятия Шотман пристально оглядел товарища. Исидор выглядел уставшим, лицо потемнело, щеки осунулись, резче обозначились морщины. Очевидно, жилось ему несладко, и Александр Васильевич, сам на своей шкуре не раз испытавший, что значит голод, не раздумывая предложил зайти в ближайшее бистро и там за едой поговорить обо всем.
Уже по пути, на улице, он, не вытерпев, стал расспрашивать Воробьева, как удалось ему избежать ареста и как пробрался он за границу.
В то памятное им обоим апрельское утро Воробьеву попросту чертовски повезло. Он проснулся от громкого стука в дверь и сразу сообразил, что так стучать может только полиция. Решил не открывать, быстро оделся. Однако они высадили дверь еще быстрее. Но именно тут-то везение подкинуло ему пару спасительных минут. В квартире было две комнаты, одну из которых занимал товарищ, тоже работавший в порту. В то утро он еще не вернулся с ночной смены. Дворник по ошибке указал на его дверь, и полицейские, не достучавшись, стали взламывать ее. Тем временем Воробьев успел распахнуть окно, выходившее на крышу сарая, выпрыгнул наружу, спустился по скату и очутился на соседнем дворе, откуда благополучно удрал. Два дня он отсиживался у знакомого, служившего банщиком, связался с рабочими-портовиками, и они доставили его на пароход, курсирующий между Гельсингфорсом и Копенгагеном. Путь до датской столицы он совершил в трюме, где матросы оборудовали между ящиками что-то похожее на собачью конуру.
За границей Воробьеву долго не удавалось связаться с русскими эмигрантами, он голодал и даже вынужден был раза три обращаться за подаянием. Ночевал на заброшенном угольном складе, проникая туда сквозь дыру в заборе. Наконец обратился за помощью к датским социал-демократам, которые и купили ему билет до Парижа. Только тут он сумел встретиться с эмигрантами и получить из кассы взаимопомощи десяток франков. Дали ему и направление на временную работу, на разгрузку барж.
Шотман, в свою очередь, рассказал товарищу, как попал в Париж. Ему все же было полегче — выручали деньги Вийка, а в Берлине тамошние эмигранты помогли устроиться в недорогом пансионате. Из Берлина он написал в Гельсингфорс жене и дождался от нее ответа. Катя сообщала, что дома все спокойно, из посторонних никто Александром Васильевичем не интересовался, так же как и на работе. Это означало, что охранка так и не напала на его след и можно было возвращаться обратно. Однако до конца отпуска, обговоренного с начальником мастерских, оставалось еще недели две, и он решил во что бы то ни стало разыскать Ленина и рассказать ему обо всем, что произошло в Гельсингфорсе. Покидая Берлин, он не сообщил домой об этом, попросив товарищей, если от жены придет письмо, сразу же переслать его в Париж.
За разговором друзья не заметили, как дошли до небольшого бистро на углу улицы. Сквозь зеркальное стекло витрины виднелось небольшое помещение с несколькими столиками, из которых лишь два были заняты. Они вошли, сели в углу. Хозяин бистро, худощавый француз, одетый в белую полотняную куртку, возился за стойкой. Вот он повернулся, держа в руке два стакана, наполненные белесой, похожей на молоко жидкостью, бросил на пришедших беглый взгляд и подошел к столику, за которым сидел грузный мужчина в сером помятом костюме. Грузный кивнул в сторону Шотмана и Воробьева, что-то сказал негромко. В ответ хозяин бистро лишь передернул плечами. Он поставил стаканы, сел за стол и стал что-то оживленно рассказывать собеседнику. Тот внимательно слушал, наклонившись вперед. Оба время от времени отхлебывали абсент.
За ближайшим столиком трое посетителей молча и сосредоточенно расправлялись с бифштексами. Александр Васильевич перехватил голодный взгляд Воробьева, устремленный на полные тарелки.
— Право же, — сказал он сердито, — это уже хамство. Видел же хозяин, что мы пришли, а сам сел с приятелем абсент глушить! Сейчас я ему скажу.
— Напрасно кипятишься, Саша, — мягко возразил Воробьев. — Куда нам спешить? Подождем немного…
Но Шотман уже махал рукой хозяину:
— Эй, мсье!
Буфетчик скосил глаза в их сторону, но вновь отвернулся, продолжая болтать с грузным собеседником. Шотман окликнул его погромче. Хозяин поставил стакан абсента, неторопливо поднялся, подошел. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Немного владевший французским языком Воробьев попытался объясниться:
— Извините, мсье, но мы уже ждем почти четверть часа.
— Ну и что? — грубо спросил хозяин.
— Мы хотели бы…
— А мне плевать, чего там вы хотели! — заорал вдруг взорвавшийся владелец бистро. — Какого черта вам тут надо? Убирайтесь вон, грязные иностранцы!
— Но почему? — растерянно переспросил Воробьев.
— Я вам что сказал! — бушевал хозяин. — Живо выкатывайтесь отсюда.
Шотман не понимал по-французски, но по тону и по выразительному жесту хозяина, указывавшего на дверь понял, что их попросту выставляют. Кровь бросилась ему в голову, и он резко вскочил из-за стола. Тотчас же быкообразный дружок хозяина тоже встал со своего места. Выжидательно повернулись в их сторону соседи за ближним столиком.
Воробьев подскочил к товарищу, схватил его за руки.
— Саша, Сашенька, не горячись, не надо! Нельзя нам здесь в скандал, никак нельзя.
Он торопливо потащил Шотмана к выходу, вытолкнул за дверь, выскочил сам.
— Грязные свиньи! — кричал им вслед разбушевавшийся владелец бистро.
Товарищи свернули за угол и пошли по улице.
— Фу ты, черт! — отдуваясь, сказал Воробьев. — Удержал я тебя, к счастью. Мне и самому хотелось этому типу врезать по-рабочему, но никак нельзя здесь. И не то страшно, что избить могли, а то, что полиция вмешалась бы. Тогда от беды не отвертеться. Мы же иностранцы, а с иностранцами, которые без денег, тут живо разделываются. Выслали бы в два счета. Такое уже бывало.
— Но я не пойму, с какой стати он на нас окрысился! Что мы ему сделали?
— А ничего не сделали. Просто сволочь он. Есть тут во Франции такие подонки, в основном — мелкие буржуа. Ненавидят они нашего брата эмигранта, считают нас всех анархистами, а анархист в их представлении — это что-то похуже бандита.
Он рассказал Шотману, как всего два дня назад были высланы из пределов Франции двое русских из числа политических эмигрантов. Вся их вина состояла в том, что попытались на улице поспорить с полицейским, ни за что оштрафовавшим их. Плохо живется в Париже беженцам из России — на работу их берут со скрипом, платят хуже, чем своим, увольняют в первую очередь.
Расстроенные происшедшим, они молча дошли до ближайшего кафе, молча перекусили. На прощанье Шотман вручил упирающемуся Воробьеву немного денег из своих скромных запасов, скрыв при этом, что на оставшуюся сумму сам будет жить впроголодь.
При расставании условились, что, как только Шотман узнает о приезде Ленина, он сообщит об этом и они пойдут к Ильичу вместе.
Потянулись томительные дни ожидания. Александр Васильевич вставал рано утром, часами бродил по Парижу, посещал полупустые музеи, где царствовала сонная тишина, заходил в дешевые кинотеатры, где на маленьких экранах совершал головоломные комические трюки кумир парижан Макс Линдер. Заглядывал он и в библиотеку, чтобы почитать русские газеты. Побывал как-то на диспуте меньшевиков с анархистами, но, просидев час, ушел из читальни — спор показался ему надуманным. Выступавшие говорили о том, что революция подавлена на десятилетия, что надо целиком приспосабливаться к условиям легальной борьбы, действовать через думскую трибуну. И это говорилось в то время, когда трудовая Россия втягивалась в стремительно нараставшие бои политических стачек, когда балтийские матросы рвались к вооруженному восстанию! За дверью Шотман сплюнул и дал себе зарок никогда больше не слушать словоблудие этих политических болтунов, оторвавшихся от родной земли.
Каждый день он заглядывал на улицу Мари-Роз, в ставшую знакомой маленькую квартирку. Ленин все еще не возвращался. Иногда у Крупской выдавалось свободное для беседы время.
Крупская рассказывала, что Владимир Ильич, как всегда, работает много, пишет статьи, читает лекции, встречается с товарищами, приезжающими из России, держит связь с десятками местных партийных организаций. Он очень остро переживал, что некоторые его прежние соратники, подавленные разгромом революции и мрачной полосой кровавой реакции, отошли от активной борьбы, потеряв веру в возможность победного вооруженного восстания. Его угнетало и то обстоятельство, что приходится жить в такой дали от России. Но в последнее время, когда вслед за известием о расстреле рабочих на Лене с родины стали поступать вести о невиданном размахе политических стачек, Ленин ожил. В стремительно нарастающих событиях он увидел подъем новой мощной волны рабочего движения, способного вновь привести страну к революции.
Очень обрадовала Владимира Ильича долгожданная весть о рождении новой партийной газеты, способной ежедневно вести разговор с широкими массами трудящихся. Он с жадностью, строка за строкой, перечитывает поступавшие к нему номера, радуется боевому настрою «Правды», ее непримиримости, быстрой и четкой реакции на события. И сам часто пишет статьи для «Правды».
В последнее время Владимир Ильич начал поговаривать о том, что незачем больше сидеть в Париже, настало, видимо, время перебраться поближе к границам России, может быть, в австрийскую часть Польши, где бы он мог чаще встречаться с посланцами партийных организаций, оперативнее руководить деятельностью «Правды».
Увидев как-то на полке подробный путеводитель по Берлину, Шотман попросил у Надежды Константиновны разрешения кое-что выписать оттуда, объяснил: дома и на работе считают, что он проводит отпуск в Берлине. Надо было написать в Гельсингфорс о своих «берлинских» впечатлениях! Крупская одобрила эту идею, и он, примостившись у края стола, на котором лежала груда приготовленных для отправки в Россию писем, начал добросовестно списывать, как великолепна при вечернем освещении улица Унтер-ден-Линден и как торжественно-красив Александерплац. Крупская в это время вписывала невидимыми чернилами сведения между строками вполне благонадежной переписки.
А в тот вечер, когда Александр Васильевич, пользуясь путеводителем, написал в Гельсингфорс жене, как поэтичны набережные Шпрее, в комнату вошла мать Крупской — Елизавета Васильевна. Поздоровавшись с гостем, она сказала дочери, что идет спать — завтра надо пораньше на рынок. Шотман обратил внимание на то, что старая женщина выглядит неважно, видимо, болеет, да и возраст у нее немал — восьмой десяток пошел. Именно в этот момент у него возникла идея, которую он со свойственной ему привычкой не откладывать ничего в долгий ящик тут же изложил Крупской. Дело в том, говорил он, заранее подводя солидный фундамент под свое предложение, что ему совершенно необходимо для здоровья совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе. А поскольку ходить ему просто так, без дела, скучно, то он просит Надежду Константиновну разрешить ему заходить на рынок вместо Елизаветы Васильевны и покупать продукты. Хитрец Шотман обосновал предложение таким образом, что Крупская согласилась, попросила действовать на рынке по своему усмотрению, но, конечно же, укладываться в ту небольшую сумму, которую она будет выдавать. При этом предупредила, что покупать надо не говядину, а конину, ибо она намного дешевле. И обговорила одно обстоятельство: коль скоро Александр Васильевич берет на себя доставку провизии, то пусть он и обедает у них.
Уже на следующее утро он отправился на ближайший рынок, долго ходил по рядам, отчаянно торговался из-за каждой луковицы и картофелины. Незнание языка здесь не мешало. Достаточно было назвать несколько цифр. В основном объяснялся с помощью пальцев, и торговцы прекрасно его понимали. На улицу Мари-Роз он вернулся с корзиной, полной свежей зелени и отборного картофеля, а на дне ее лежал кусок парной конины. Преодолев сопротивление женщин, Шотман примостился в кухне чистить картошку.
— Ловко это у вас получается! — заметила Крупская, наблюдая за ним. — Пожалуй, даже лучше, чем у меня. Да, по правде сказать, я никогда и не имела склонности к домашней работе.
— Быстро чистить картошку мне сам бог велел, — отозвался Шотман, ловко выковыривая глазки острием ножа. — Ведь мне юнгой пришлось служить на парусном судне. Каждый день помогал коку на камбузе картошку чистить.
— Это когда же? — поинтересовалась Крупская.
— Да еще до девятьсот пятого года. Скрывался от ареста, месяца два сидел без работы, а тут однажды бродил по набережной и увидел старый парусник, хозяин которого набирал команду. Хозяин — финн. Я с ним разговорился, предложил свои услуги. Он спросил, приходилось ли мне плавать в море. Услышав, что не плавал, но научусь, он подумал немного и предложил поступить на судно юнгой. Я слышал, что юнгами обычно бывают только подростки, и засомневался. Но хозяин объяснил, что работать придется, как любому матросу, только жалование получать, как юнга.
— И вы согласились? Ведь это прямое надувательство!
— А что мне оставалось делать? Хозяин говорил со мной откровенно, понял, что у меня неблагополучно на берегу и я пойду на любые условия. И оказался прав.
— Вот он — типичный случай извлечения повышенной выгоды нанимателем при безвыходном положении нанимаемого!
— Это уж точно, Надежда Константиновна. Положение было безвыходным. Я надеялся, что за границей быстро сбегу с парусника, а там видно будет. Хозяин, конечно, понимал мои намерения, но считал, что сумеет помешать им. Благо существует закон, по которому полиция обязана возвращать на судно сбежавших членов экипажа. Пока мы плавали, я многому научился, могу даже и обед приготовить. Хотите проверить мои способности? Давайте на сегодня я сам обед сварю?
— Ну, если есть охота, — засмеялась Крупская, — то готовьте. Но удалось вам тогда обежать?
— В Англии пытался — не удалось. Удрал только в Марселе, зайцем добрался до Парижа.
Несколько дней кряду Шотман помогал женщинам по хозяйству — ходил на рынок, стряпал, мыл посуду (занятие, которое Крупская не любила больше всего), а после обеда продолжал знакомиться с Парижем, пользуясь подробным планом города.
Но вот однажды, едва он переступил порог, Надежда Константиновна сообщила, что час назад получила условную телеграмму: завтра Ленин возвращается в Париж.
Ночью Шотман, успевший предупредить Воробьева почти не спал. Он еще и еще раз вспоминал события в Гельсингфорсе, разговоры с матросами — знал, что назавтра придется подробно отвечать на дотошные вопросы о настроениях среди военных моряков.
…Наконец-то свершилось то, чего Александр Васильевич так ждал все эти дни, — он встретился с Лениным.
За те несколько лет, когда они виделись в последний раз, внешность Владимира Ильича почти не изменилась. Уже в первое мгновение, когда он увидел Ленина в дверях и еще не было сказано ни одного слова, Шотман увидел по мелькнувшей улыбке, что Ильич рад его приходу. Он представил своего спутника, сказал, что Воробьев — вместе с ним в Гельсингфорсском комитете.
Ленин провел их в комнату, попросил садиться за стол, а сам стал ходить, пояснив, что так ему удобнее разговаривать.
Оказалось, что Ленин уже о многом знает — читал об аресте группы большевиков в Гельсингфорсе и даже запомнил их фамилии, знаком и с сообщениями печати об аресте матросов с военных кораблей. А всего несколько дней назад, в то время, когда он был в Лейпциге, вдруг услышал, что причиной ареста была в действительности подготовка восстания во флоте. Теперь ему важно било узнать, что именно произошло в Гельсингфорсе.
Хотя Шотман самым тщательным образом подготовился к встрече, он только сейчас, по мере того как Ленин задавал вопросы, по их характеру понял, что многое из того, что он рассказывает, сам не успел еще осознать. Ленина интересовали малейшие оттенки в высказываниях матросов, рост их революционных настроений, численность и работа большевиков на кораблях, число партийных ячеек, план восстания.
Александр Васильевич, отделенный от событий несколькими неделями, почувствовал вдруг, что план восстания выглядел не слишком убедительно. И теперь, рассказывая о нем Ленину, он ожидал осуждения. Однако так и не дождался, но и похвал тоже не услышал. Владимир Ильич заметил только:
— Без участия широких масс рабочих дело не выгорит, какой бы хороший план ни выработали… Если не организовать подготовку по-настоящему, то матросы могут опять зря погибнуть.
Ленин сказал об этом без укора, только промелькнула в его голосе печальная нотка, и он остановился на мгновенье, устремив взгляд куда-то вдаль, может быть, вспомнил он о доведенных до отчаяния людях, которые бросались на угнетателей кто с булыжником, кто со стареньким револьвером, а кто и с голыми руками, и гибли под пулями солдат, городовых, казаков… Сколько уже было потоплено в крови таких стихийных восстаний!
Говоря об арестах матросов, Владимир Ильич поинтересовался, не подорвут ли они боевой дух моряков, не заставят ли их отказаться от активной борьбы? По тому, как был задан этот вопрос, как напряженно ждал Ленин ответа, Шотман понял, насколько важно сейчас не ошибиться, точно обрисовать положение дел.
Вспомнилась ему и последняя встреча с матросами в сторожке у железнодорожника, их угрюмая решительность и непреклонность. Мелькнули в памяти горячие слова Сережи Краухова о том, что содрогнутся под жерлами орудий царские дворцы и троны. И, вспомнив все это, сказал с уверенностью, что никакие аресты не заставят матросов отказаться от активной борьбы.
Владимир Ильич, кивнув головой так, будто он ожидал услышать именно такой ответ, еще раз повторил, что без поддержки широких масс рабочих, без настоящей организации любые выступления обречены на провал.
Потом Ленин стал расспрашивать о возможности продолжения работы в Гельсингфорсе. Воробьеву, конечно, возвращаться туда было бессмысленно — грозил немедленный арест. А вот Шотману, по-видимому, ничто не угрожало, и поэтому целесообразно было вновь вернуться в мастерскую, работа в которой давала возможность постоянно общаться с военными моряками. Нужно было восстанавливать порванные связи, налаживать новые.
Разговор был обстоятельный и долгий. Воробьев и Шотман ушли лишь после того, как получили самые детальные инструкции.
Не прошло и недели, как Александр Васильевич вернулся к токарному станку в плавучей мастерской, обслуживавшей военные корабли в Гельсингфорсе. Вместо разгромленного комитета он должен был создать новую подпольную большевистскую группу.
Работая в мастерской, налаживая порванные связи, нащупывая людей для воссоздания подпольной организации, занявшись распространением «Правды», Александр Васильевич вновь и вновь вспоминал разговор в маленькой квартирке на улице Мари-Роз, полные тревоги слова Ленина о том, что без настоящей организации матросы могут опять зря погибнуть…
Никогда еще Шотман не ощущал такой ответственности за судьбы товарищей, как сейчас. После тех, апрельских арестов большие корабли в Гельсингфорс не возвращались. Из Кронштадта дошли вести, что и там жандармы схватили нескольких человек, но что именно там произошло, никто толком не знал. Газеты, как по команде, перестали сообщать что-либо об арестованных. Но нужна была связь с военными кораблями, с матросами. И ее Шотман искал.
Как-то вечером слесарь из соседней мастерской, вернувшийся из командировки, передал ему маленькую записочку, в которой торопливо нацарапано карандашом:
«Дорогой товарищ Шотман! Посылаю эту записочку с надежным человеком. Он рассказывал, что тебе удалось избежать ареста. Спешу сообщить, что хотя и многих матросов похватали, но есть люди, которые могут начать все сначала. Служу я сейчас на линейном корабле «Император Павел I». Сообщи о себе. Сергей».
Значит, Краухов на свободе!
Это уже кое-что! Между Гельсингфорсом и Кронштадтом протянулась новая ниточка.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МАТРОС НЕДВЕДКИН РАЗБИРАЕТ ЧАСЫ
«Выпуск воспитанниц из Кронштадтского сиротского дома состоялся 6 мая. В этом году выпущено 5 воспитанниц. Помимо отличного воспитания и учения, которые дал им сиротский дом, они обучены ремеслам и 3 получили звание подмастериц портняжного цеха. Выпуск почтили своим присутствием попечительница сиротского дома Н. Ф. Вирен, главный командир вице-адмирал Р. Н. Вирен. После отслуженного отцом Путилиным молебствия, во время которого пели дети сиротского дома, и сказания батюшкой напутствия к выпускным воспитанницам обратилась с сердечной речью Н. Ф. Вирен. Чисто материнская горячая любовь к сиротам слышалась в словах адмиральши, и глубоко должны запасть они в душах, выпускаемых из приюта. После ее превосходительства напутствовал воспитанниц главный командир и выдал им аттестаты, свидетельства и евангелия».
(Газета «Котлин» от 8 мая 1912 г.)Мичман Тирбах прохаживался по палубе неподалеку от кормового флага, под которым застыл матрос-часовой с винтовкой. Матрос не шелохнется, бескозырка, как положено, чуть на правую бровь, шинель ладно сидит, пуговицы блестят солнцем. Смотрит матрос прямо перед собой, и взгляд его упирается прямо в орудие кормовой башни…
Все было по форме, но мичмана часовой чем-то раздражал. А впрочем, сегодня его раздражало все. Накануне он получил от тетки — баронессы Таубе письмо, в котором она со свойственной ей церемонностью сообщала, что рада была бы выполнить его просьбу, но сейчас не располагает необходимой суммой денег. В конце письма она назидательно растолковывала, что в жизни слишком много соблазнов, которых молодому человеку следует решительно избегать, а особенно игры на скачках. Откуда старуха могла пронюхать о скачках? Неужели ей проболтался этот чопорный коммерсант Гликенберг — владелец соседнего с теткиным дома в Аренсбурге? Этого типа Тирбах встретил возле петербургского ипподрома, куда заходил на пару часов, переодевшись в цивильное платье. Значит, узнал-таки, каналья, издалека… В результате — теткин отказ. А деньги нужны позарез — в прошлое свое увольнение на берег он действительно продулся на бегах до копейки. Придется опять занимать у этого чистюли Эльснера. Тот, конечно, даст, но улыбнется при этом своей идиотской «понимающей» улыбкой, пропади он пропадом, этот паинька! Но хочешь не хочешь, а придется после вахты идти на поклон. Но до конца вахты еще добрых два часа…
Поправив оттянувшую ремень тяжелую кобуру с револьвером, мичман мельком оглядел палубу, заполненную матросами, которые, несмотря на свежую погоду, были все в полотняной рабочей одежде. Стороннего наблюдателя, вероятно, удивило бы, отчего это полторы сотни стоят на четвереньках или на коленях, и каждый ковыряется на кусочке палубы у себя под носом и время от времени передвигается на новое место. Однако вахтенного мичмана эта картина вовсе не изумляла. Он ее видел не в первый раз, знал, что матросы, держа в пальцах осколки стекла, выскабливают ими черные угольные пылинки, застрявшие в волокнах дерева во время недавней погрузки угля. На других кораблях палубу просто мыли, но на «Императоре Павле I» командир Небольсин установил такой порядок, чтобы после мытья ее подчищали стеклом. Офицерам он разъяснил, что добивается тем самым двоякой цели — чтобы чистота была идеальной и чтобы матросы лишнее время загружены были. Чем больше занят матрос по службе, тем у него меньше возможностей для всякого рода разговоров и бесед, в ходе которых нет-нет да и проскользнут крамольные мысли, а то и прямое осуждение существующего в государстве порядка.
Это решение командира корабля Тирбах одобрял, хотя в общем недолюбливал Небольсина, считая его тряпкой и расплывчатым интеллигентом. Настоящий офицер должен быть жестким и воинственным, считал Тирбах, и это должно отражаться не только в характере, а и в самой внешности. А что Небольсин? Рыхлый, сутулый. Форменная одежда висит на нем, голос тихий, невыразительный. Команду подать по-настоящему, так, чтобы воздух звенел, не может. Зато сам Тирбах умел скомандовать так, как никто другой на корабле, и это признавали все офицеры. Его пронзительный вибрирующий голос растекался во всю длину верхней палубы. Никто, конечно, не подозревал, что, еще будучи гардемарином, он, приезжая на побывку в поместье тетки на острове Эзель, выискивал глухое безлюдное место на берегу и, подражая Демосфену, часами тренировался там в подаче команд. Особенно нравилось ему делать это в шторм, он получал истинное удовольствие, если удавалось перекрыть голосом шум прибоя. Именно такой силой голоса и должен обладать настоящий морской волк!
В Морском корпусе его выделяли среди других гардемаринов по умению отдавать команды, по строевой выправке. И еще на последнем году обучения он приобрел известность — прославился усами, кончики которых были скручены так тонко, что напоминали острие шпаги.
Для офицера флота его императорского величества усы были такой же непременной принадлежностью, как погоны и кортик. Сам государь следил за тем, чтобы устоявшаяся традиция свято выполнялась, и видел в безусом офицерском лице проявление некоторого вольномыслия, которое, конечно же, нетерпимо было в таком стойком отряде верноподданных, каким был офицерский корпус флота. Зная об этом, коллеги Тирбаха, все как один, носили усы. У подавляющего большинства это были усы «инглезированные» — торчащие аккуратной щеточкой на верхней губе, но мичман выбрал для себя иной образец — его усы должны были быть точной копией тех, которые украшали лицо германского императора Вильгельма II. Кому же еще должен был подражать прямой потомок ливонских рыцарей, каким являлся барон Тирбах?
Его однокашники по выпуску, попавшие вместе с ним на один корабль, — мичманы Дитерихс и Эльснер — тоже были прибалтийскими немцами, но к традициям рода относились, с его точки зрения, без должного уважения. Особенно Эльснер — явный слюнтяй, человек безо всякой военной жилки и без подлинного дворянского достоинства. Этот белокурый красавчик с девичьим румянцем дошел до того, что с первых дней службы стал якшаться с нижними чинами, подолгу разговаривать с ними, интересоваться, как там у них дома урожай да скот. Сам же при этом ставит себя в дурацкое положение, потому что большинство матросов из его полуроты не из деревни, а из города. Нет, Тирбах не опускается до того, чтобы заигрывать с нижним чином. Подчинение командиру должно основываться либо на чувстве долга, либо на страхе перед неотвратимым, как божье возмездие, наказанием. А строптивцев надо ломать железной рукой. И пусть его новые коллеги говорят, что он слишком крут с подчиненными и слишком часто наказывает их, — все равно он будет гнуть свою линию до тех пор, пока не сделает свою полуроту шелковой.
Размышляя о службе, Тирбах прозевал появление на палубе командира корабля. Он вздрогнул от неожиданности, когда Небольсин окликнул его и сказал негромко:
— Мичман! Прикажите команде покинуть верхнюю палубу. Пусть сегодня пораньше займутся словесностью.
Хотя Небольсин и застал его врасплох, Тирбах мгновенно среагировал на его слова — едва успел командир корабля закончить фразу, как голос мичмана загремел над палубой:
— Команде приборку кончать, по кубрикам расходиться, к занятиям словесностью готовиться!
Краем глаза он заметил, как дернулся Небольсин при первом звуке его голоса. И пусть себе дергается. Пусть учится у молодого офицера, как по-настоящему надо отдавать команду.
Матросы торопливо вскакивали, бежали к люкам и один за другим исчезали в них. Минута, и палуба полностью опустела. Лишь часовой по-прежнему стоял изваянием под бело-синим андреевским флагом.
Небольсин сделал приглашающий жест, медленно пошел вдоль борта, мичман пристроился рядом, но двигался на четверть шага сзади, соблюдая субординацию. Какую бы неприязнь он ни питал к командиру, тот ни на мгновение не должен был догадываться об этом.
У кормовой башни Небольсин остановился, задумчиво посмотрел в сторону «Андрея Первозванного», который точно так же, как и их корабль, стоял кормой к причалу Усть-Рогатки. Потом Небольсин внезапно повернул голову к Тирбаху.
— Я давно собирался спросить у вас, мичман, как прошел для вас первый год службы. Довольны ли вы?
— Безусловно, Аркадий Никанорович! Счастлив служить под вашим началом!
— Я не о наших с вами взаимоотношениях… — поморщился командир.
— Чувствую себя как в родной семье. Это благодаря вам на корабле такая обстановка душевного тепла и доверия.
— Оставьте, — сухо сказал Небольсин. — Меня боль-то интересует вопрос, как вы сошлись с нижними чинами, нашли ли с людьми общий язык?
— Так точно, Аркадий Никанорович! Моя полурота на хорошем счету…
— Ну а то обстоятельство, что среди ваших подчиненных самый высокий процент наказанных, — это вас не беспокоит?
Так вот о чем этот либерал! Ну, тут уж можно твердо настоять на своей — ведь не ради своего удовольствия налаживает он в полуроте жесткую дисциплину.
— Простите, Аркадий Никанорович! Это обстоятельство меня, буду откровенным, не беспокоит, ибо только наказаниями можно воспитать в подчиненных истинный дух чинопочитания, без которого не мыслю здорового военного организма, способного в любое мгновенье выполнить монаршью волю… Именно указанными побуждениями руководствуюсь я, следя за тем, чтобы соблюдалась и буква и дух уставов!
— Возможно… вы правы, — поспешил согласиться Небольсин. — Я лишь только о том, чтобы соблюдалось чувство меры. Насколько мне известно, вы однажды дошли до рукоприкладства. Хочу предостеречь вас от души, мичман, что мордобоя на своем корабле я терпеть не намерен, об этом извещены все офицеры, хотелось бы, чтобы знали об этом и вы.
— Слушаюсь, ваше превосходительство! Приму к сведению.
— Ну вот и хорошо! А теперь хочу предупредить вас — в ближайшее время должен прибыть на корабль морской министр. Будьте внимательны. Когда он прибудет, отдайте рапорт так, как умеете. Министр любит морской дух. Однако при этом надеюсь, что вы используете ваши незаурядные голосовые способности в меру. Наш гость уже не молод, пощадим его уши, мичман?
Он отечески улыбнулся, похлопал мичмана по плечу и сказал, что будет в каюте, пусть по прибытии министра на причал его сразу предупредят.
Однако Тирбаху так и не пришлось встретить министра, он успел сдать вахту лейтенанту Затурскому и уйти в свою каюту, когда прибыл наконец Григорович в сопровождении начальника главного морского штаба Князева, начальника морского генерального штаба Ливена и командующего морскими силами Балтийского моря Эссена.
Министр попросил провести его и сопровождающих по всему кораблю. Они осмотрели все палубы, жилые помещения команды, орудийные башни, левую и правую машины. Встречавшиеся матросы при виде такого количества адмиральских погон испуганно шарахались в стороны, прижимались к переборкам по стойке «смирно». Адмиралы были дотошными. Чувствовалось, что корабль для них — открытая книга. Они заглядывали в такие места, о которых даже не всякий боцман знал. И чем дольше они лазили внутри гигантского бронированного корабля, тем удовлетвореннее становились их лица — чистота и порядок были отменными.
Окончив осмотр, морской министр прямо на палубе бегло обменялся мнениями с адмиралами, а потом отпустил всех сопровождающих, пригласил Небольсина для конфиденциального сообщения.
Разговор происходил с глазу на глаз за плотно закрытой дверью адмиральской каюты. В обычное время она пустовала, но содержалась всегда в полном блеске и была готова принять командующего флотом либо другое высокое начальство.
Даже сам командир корабля чувствовал себя в этой каюте, как в гостях. Но Григорович вел себя здесь словно хозяин. Аккуратно положил адмиральскую фуражку на полированный столик и, подойдя к креслу, удобно расположился в нем, предложив садиться и Небольсину. Минуты две он молчал, рассматривал обстановку каюты, потом сказал медленно, как бы взвешивая слова:
— Хотел бы сообщить вам свое мнение. Нахожу, что состояние корабля вполне удовлетворяет нашим требованиям. Чистота отменная, машины и механизмы содержатся в полном порядке, команда выглядит хорошо.
— Благодарю вас, ваше высокопревосходительство!
— Но самое важное, — продолжал министр, — о чем я хотел сообщить вам, заключается в следующем: в июне должна состояться встреча его императорского величества с кайзером Вильгельмом. Предполагается, что оба монарха должны посетить один из кораблей Балтийского флота. После нынешнего осмотра я склоняюсь к мысли, что смогу рекомендовать именно ваш корабль.
Небольсин встал и приложил руку к сердцу.
— Весьма польщен, ваше высокопревосходительство. Я бесконечно рад и как командир «Павла», и как подданный его императорского величества.
— Надеюсь, — сказал Григорович, — что к июню корабль будет в таком же образцовом состоянии, как нынче.
Небольсин молча поклонился.
— Но хотел бы, Аркадий Никанорович, специально остановиться на одном вопросе. Вы, конечно, осведомлены о том, что недавно в Гельсингфорсе произведены аресты. Взяты под стражу несколько десятков нижних чинов. Департамент полиции и охранное отделение считают, что сейчас подрублены сами корни революционного движения на флоте. Мне очень хотелось бы, чтобы так оно и было. Однако боюсь оказаться в числе неисправимых оптимистов. К счастью для нас, до сих пор не было никаких поводов для тревоги в отношении «Павла». Сигналов об участии членов команды в революционных организациях не поступало. Тем не менее надо соблюдать максимальную бдительность. Вы согласны с этим?
— Полностью согласен, ваше высокопревосходительство! Смею надеяться в том, что семена заразы не попали на мой корабль. Со своей стороны не пощажу сил, чтобы на орудийный выстрел не подпускать к команде «Павла» никаких пропагандистов и прочих преступных лиц!
— Вот и отлично! — сказал Григорович, заключая разговор.
Небольсин проводил Григоровича до трапа. Министр хотел уже спускаться на пирс, когда его внимание привлекла вынырнувшая откуда-то фигура матроса, которую так швыряло в сторону при каждом шаге, что и объяснять ничего не надо было — ясно, что матроса «штормит». Он едва передвигал ноги, руки расслабленно болтались.
Матрос продвинулся на несколько шагов вперед, но возле фонаря его так качнуло, что он обхватил столб, немного подержался, попытался было оторваться, но, видимо, почувствовав облегчение, не стал больше сопротивляться судьбе, медленно сполз на бетонное основание столба и затих.
Глядя на разыгравшуюся сцену, Небольсин наливался бешенством. Нет, это же надо было умудриться подлецу явиться в таком непотребном виде на глазах самого министра! Григорович глянул на него искоса, спросил вполголоса, как он собирается наказать провинившегося.
— Под суд, мерзавца, под суд, ваше высокопревосходительство!
— Э-э, полноте вам! — поморщился адмирал. — И без того слишком много матросов под суд отдаем. Считаю, что карцера с него вполне хватит. А потом: помните старый морской закон? — если матрос сваливается пьяным головой к своему кораблю — с него полвины за это списывается. Давайте условимся: карцер — и не более.
Пока Григорович высказывал командиру корабля свою точку зрения, двое дюжих матросов, вышедших на пирс со стороны берега, увидев жест вахтенного, подскочили к пьяному, легко оторвали его руки от столба, поволокли к трапу. Однако возле корабля замешкались — идти по трапу вдвоем невозможно. Хотели было взять пьяного за руки и за ноги, но потом более высокий поднял его за пояс, бросил себе на плечо, как мешок, и легко побежал по трапу.
Григорович видел, что вахтенный шепнул что-то командиру корабля, догадался и, чтобы проверить догадку, спросил у Небольсина, как фамилия проштрафившегося.
— Матрос второй статьи Мейснер, ваше высокопревосходительство!
— Мейснер? Не из православных?
— Лютеранин он.
— М-м… — неопределенно заключил министр и пошел к трапу. Но едва его нога коснулась переброшенного на пирс трапа, как ждавший этого момента лейтенант вскинул руку к козырьку и рявкнул команду «смирно!» с такой пронзительностью, что даже видавший виды адмирал дернулся от неожиданности, но тут же постарался улыбнуться, махнул рукой на прощанье.
Матрос (а это был новый друг Краухова Недведкин), тащивший пьяного на плече от трапа до самого карцера, сбросил свою ношу на настил, сплюнул в угол и пошел к себе в кубрик. Нехороший выдался для него день — муторный и тревожный.
…Вначале все шло как обычно. Попав на берег но увольнительной, Недведкин, знавший Кронштадт как свои пять пальцев, вышел из проходной и сразу свернул в боковой переулок — ему надо было не только сокращать путь, но и выбирать такую дорогу, где бы меньше всего была вероятность встречи с офицерами. Он даже не пошел через мостик, что над глубоким оврагом возле Якорной площади, а предпочел перебраться напрямик, скользя подошвами жестких матросских ботинок по косогору. На другой стороне оврага он снова вышел на мостовую и направился к трактиру Абабкова.
Неподалеку от трактира Недведкин замедлил шаг, внимательно оглядел улицу. По ней, как всегда в воскресный день, слонялись мастеровые, не спеша прохаживались матросы — кто в одиночку, а то и с местными барышнями. Чувствовали себя здесь спокойно — это не то, что на Николаевской, где всегда можно было нарваться на начальство.
У входа в трактир Недведкин посторонился — навстречу, толкаясь, выходили возбужденные матросы, косо глядели друг на друга, перли, не разбирая дороги. Ясно было, что сейчас двинутся к оврагу, чтобы там внизу искровенить чужие и свои лица в драке. Такие пьяные схватки случались часто…
В трактире было шумно, надымлено, пахло кислой капустой и прокисшим пивом. В углу хрипло надрывался облезлый граммофон. Недведкин нашел место за столиком у окна — здесь он всегда садился, когда хотел встретиться с Василием — официантом, от которого получал сведения из Петербурга.
На этот раз ему пришлось прождать довольно долго. Положив бескозырку на колени, он поглядывал на зал, смутно различавшийся сквозь волны сизого табачного дыма. Посетители тянули пиво из высоких кружек, опрокидывали в горло стопки водки. Недведкин просидел не меньше десятка минут, прежде чем к нему подошел официант. Но не Василий, а другой человек в засаленной белой курточке, с несвежим полотенцем, переброшенным через плечо. Взгляд у него был настороженный, какой-то ускользающий, и это сразу не понравилось Недведкину. Наклоняя голову с гладко прилизанными сальными волосами, официант спросил с готовностью:
— Что нужно, служивый, Пива, водки?
— А где Василии? — осведомился Недведкин. — Этот стол он всегда обслуживает…
— Василий? А Василия-то и нет… Тю-тю, Василий… не работает здесь больше.
— Как не работает? А…
Недведкин осекся, поймав внимательный, даже слишком внимательный взгляд.
— Заболел он, что ли?
— Ан нет, не заболел. А тебе не передать ли ему что надо?
После этого вопроса Недведкин окончательно забеспокоился, но, чтобы не вызвать подозрения, объяснил, что привык к «своему» официанту, который выполняет заказы быстро, и попросил принести кружку пива.
Хотя вроде бы ничего не случилось, но нутром своим он чувствовал, что дело дрянь и надо уходить как можно скорее. Помогла ему ввалившаяся в трактир пьяная компания мастеровых, которая сразу же потребовала к себе полного внимания всех присутствующих. Оставив пятак на грязной скатерти, Недведкин, не дожидаясь полового, поспешно встал, торопливо напялил бескозырку, выскользнул наружу и постарался побыстрее свернуть за первый же угол.
Идти домой к знакомому рабочему Пароходного завода, с которым был связан Василий, он побоялся и долго пребывал бы в полнейшем неведении о том, что произошло, если бы не шустрый мальчонка Андрейка — сосед Василия по квартире. Вылетев из бокового переулка, он по нечаянности ткнулся головой Недведкину в живот, ойкнул, боязливо отскочил в сторону, но узнал знакомого и остановился.
От мальчонки услышал матрос худую весть: позапрошлой ночью городовые арестовали и увезли куда-то Василия. А в рабочей слободке арестовано еще несколько человек. Как бы невзначай Недведкин спросил, не знает ли Андрейка такого высокого дядю с Пароходного завода? Оказалось, что очень даже знает, но его тоже увезли городовые…
Было от чего впасть в уныние — разом обрывались все связи в Кронштадте. И еще заставляло задуматься то, что аресты в Кронштадте произведены через несколько дней после гельсингфорсских событий. Он уже знал от Сергея Краухова о планах намечавшегося восстания, но об их крахе они уже узнали вместе, когда в газетах промелькнуло несколько заметок о случившемся. Подробнее всего писала о событиях е Гельсингфорсе рабочая газета «Правда», несколько номеров которой передал ему Василий. Но и по ее статьям невозможно было понять, серьезный ли урон нанесен революционной организации. Сергей рассказывал, что в нелегальных матросских сходках за городом участвовало до сотни человек, арестовали же гораздо меньше.
Все это вселяло надежду на то, что с начала летних плаваний, когда корабли Балтийского флота начнут совместные учения, удастся связаться с уцелевшими товарищами, которые служат на «Цесаревиче», «России», «Громобое». Корабли обязательно должны были пойти в Ревель, а там у Недведкина были две верные явки — одна к грузчику портовой мастерской, вторая — к рабочему завода Крейтона.
На корабле «Император Павел I» в команде было неспокойно, многих матросов система бесчеловечной муштры доводила до исступления, и Недведкин не сомневался: только кинь клич — поднимутся почти все. Можно было начать подготовку, сначала используя небольшую группу партийцев, оказавшихся на корабле. Собственно, группа была всего-то из трех человек: он сам да еще двое матросов. Сергей Краухов официально в партии не состоял, но по всему нутру своему самый настоящий социал-демократ. Немало было и других сочувствующих.
Недведкин знал, что были на корабле и эсеры. Правда, сколько их и создана ли у них своя партийная организация, ему не удалось узнать, да он и не очень старался.
В этот тревожный для него вечер, вернувшись на корабль, Недведкин прежде всего решил разыскать кого-то из своих. Но едва он успел снять бушлат в кубрике, как влетевший унтер-офицер приказал ему немедленно явиться в каюту ротного командира. За таким вызовом могло последовать что угодно…
Ротный сидел на койке в углу своей маленькой каютки, сосредоточенно разглядывая карманные часы.
— Слушай, братец, — сказал он почти просительно, — мне говорили, что не хуже лесковского Левши можешь блоху подковать. А уж часы тем более починишь. Сделай милость — почини и мои. Сегодня утром уронил их на палубу, и вот уже двенадцать часов мой «лонжин» полный мертвец. Погляди, может быть, удастся? Желательно только к утру. А чтобы тебе сподручнее было, оставлю тебя в своей каюте, ибо сам через десяток минут заступаю на вахту. Четырех часов, надеюсь, хватит?
Недведкин попросил перочинный ножик и отвертку, взял часы, присел за столик, колупнул крышку, обнажил механизм, взялся за дело.
Часы ротного командира еще являли собой россыпь колесиков, пружин, стрелок на столике, когда настенные часы сиротского приюта надтреснуто пробили восемь раз.
Мичман Тирбах с надеждой взглянул на подслеповатый циферблат и нервно покривил губу, отчего его остроконечные усы резко дернулись.
К счастью, сентиментальная церемония выпускного вечера воспитанниц сиротского приюта подходила к концу. А уже в самом конце торжества купец первой гильдии Сысоев пригласил всех гостей отужинать у него дома — благо надо только улицу пересечь.
На причал он пришел уже в таком состоянии, что позабыл об осторожности, оступился на трапе и едва не сорвался вниз, лишь чудом удержался на краю.
Стоявший на корме боцман Нефедьев охнул, подался вперед, словно желая броситься на помощь, но, увидев, что все обошлось, остался на месте. А к трапу уже спешил офицер. К счастью для Тирбаха, это был его приятель Эльснер.
— О! Ты, видимо, хорошо погулял сегодня, — негромко сказал он, подходя вплотную к поднявшемуся на палубу Тирбаху. — Ну и вид у тебя, однако…
Чтобы не мешать господам офицерам разговаривать, боцман деликатно отошел в сторонку. Рядом с офицерами теперь оставался лишь часовой, стоявший неподвижно у кормового флага. Но, конечно же, каждое их слово было отчетливо слышно ему. Поэтому Эльснер спешил спровадить Тирбаха с палубы.
— Я прошу тебя: ступай быстрее в каюту. Ты меня слышишь, Пауль?
— К черту все! — вдруг проревел Тирбах. — К черту все это мужичье! И тебя к черту! Всех перевешать!..
Вся злоба, сдерживаемая до поры, прорвалась, перехлестнула через край.
Эльснер схватил разбушевавшегося коллегу за рукав, тихо, но внятно сказал по-немецки:
— Paul, wach auf! Wir sind nicht allein, man hart uns zu[2].
— Ich spucke drauf! Zum Teufel![3]
Это уже грозило скандалом. Эльснер торопливо оглянулся по сторонам — не дай бог услышит эти слова кто-либо из офицеров, знающих немецкий язык. Надо было немедля спровадить Тирбаха с палубы. Поддерживая упирающегося приятеля за руку, он потащил его за собой к спасительной каюте.
На несколько минут палуба совсем опустела. Только часовой продолжал неподвижно стоять у флага. Луч фонаря с причала отражался в тонком штыке его винтовки.
НА ПАЛУБЕ И НА БЕРЕГУ
«Вчера ночью в Кронштадте, в связи с недавними таинственными арестами матросов военных кораблей, были произведены обыски на окраине Кронштадта, главным образом в так называемой Матросской слободе.
Обыски эти находятся в непосредственной связи с происшедшими недавно арестами. При производство обысков задержан никто не был.
На основании слухов, циркулирующих в Кронштадте, поводом для задержания матросов и вообще возникновения всего этого дела является причастность некоторых из матросов ранних сроков к ликвидированной несколько времени тому назад так называемой военной организации».
(«Петербургская газета», 7 мая 1912 г.)Торжественно отмечали день коронования Николая II и в Кронштадте — на улицах трехцветные российские флаги, балконы украшены еловыми гирляндами, в магазинных витринах портреты царя и царицы, царские вензеля, цветы. Разукрасились флагами расцвечивания стоявшие на рейде военные корабли и торговые суда.
Небольсин приказал привести корабль в идеальное состояние. Команда постаралась как следует — на палубах все сверкало чистотой, зеркально сияла надраенная медь, матово отсвечивали подкрашенные накануне переборки, блики играли на полированных поручнях. А настил на верхней палубе — тщательно подогнанные тиковые доски — был вымыт и выскоблен до такой степени, что боязно было ступать по нему в грубых матросских ботинках. Но, впрочем, и сама обувь вымыта, начищена до блеска.
Краухов и Малыхин тоже приложили руки к праздничному убранству корабля — вместе с несколькими электриками они весь вечер накануне возились с гирляндами разноцветных лампочек, прикрепляли их между мачтами. А потом им двоим приказано было заменить износившиеся щетки динамо-машины. Спать легли среди ночи, но зато ротный обещал отпустить обоих по увольнительной на целый день. Вот почему оба спешили позавтракать поскорее.
На праздничный завтрак дали, помимо пшенной каши с салом, по большому печатному прянику. Стоящий на столе бачок, который дружно опустошался шестью деревянными ложками, быстро опустел. Так же быстро были опорожнены и бачки соседей. Сидевший рядом с Сергеем электрик — здоровенный черноглазый украинец Нагнибеда скребнул ложкой по дну, облизнул ее и проворчал:
— Хоть бы к царскому празднику сытно накормили.
За столом точно ждали его слов. Посыпались со всех сторон реплики:
— Тебя, Микола, накормить — это чистое бедствие!
— Да он, если не углядишь, один весь бачок мигом вычистит.
— Здоров лопать, да хлипок топать!
— Микола, сбегай на камбуз, там какаву дают!
Подначка была беззлобной, и Нагнибеда добродушно махнул рукой.
— Та отчепитесь вы, скаженные! От какавы и сами бы не отказались!
— Это точно! — словно поставил точку кто-то.
Краухов и Малыхин первыми выскочили из-за стола, побежали в кубрик. В последний раз придирчиво оглядели друг друга: чехлы бескозырок и форменные рубахи сверкают белизной, на брюках складки, как острие ножа, на ботинках — ни пылиночки. Придраться вроде бы не к чему.
И действительно, вахтенный офицер только мельком взглянул на них, разрешил идти. В баркасе уже сидели несколько матросов, и среди них такой же аккуратный, как все, Недведкин. Баркас отвалил быстро и доставил их на пристань через несколько минут. Отсюда пути матросов разошлись. Малыхин сказал, что пойдет в Матросскую слободку — там у него завелась знакомая — совсем молодая вдова, муж которой утонул два года назад, а Краухов и Недведкин направились к собору Андрея Первозванного — обоим хотелось поглядеть на парад. А попозже они пойдут к оврагу за Якорной площадью, где им предстояла одна важная встреча.
По случаю праздника день был не присутственный, на улицах толпилось значительно больше народу, чем обычно, то и дело попадались навстречу шумливые гимназисты, освобожденные от занятий и потому весьма довольные жизнью. Больше обычного было и моряков — в этот день уволили на берег сверх обычной нормы вдвое. Когда друзья подошли к собору Андрея Первозванного, там уже собралась изрядная толпа. Один за другим подъезжали конные экипажи и автомобили — подвозили гостей на торжественную литургию. Прибывали в блеске эполет и орденов генералы и адмиралы, командиры кораблей и начальники расположенных в Кронштадте частей, чиновники, директора гимназий в сопровождении пышно разодетых супруг.
После того как приглашенные во главе с вице-адмиралом Виреном вошли в собор и литургия началась, на площадь вступили пять взводов 1-го Балтийского флотского экипажа, встали четким строем.. Слева от матросов выстроился хор портовых музыкантов, а справа, привлекая всеобщее внимание, встали мальчишки, одетые в матросскую форму. Появился детский духовой оркестр. Это были воспитанники детского морского батальона, созданного в Кронштадте минувшей зимой по распоряжению Вирена.
Почти час Краухов и Недведкин толпились невдалеке от собора.
Парад начался ровно в одиннадцать, сразу же после окончания литургии. Высыпавшие из церкви гости остались посмотреть на это зрелище, хотя подобные церемонии они видели, наверное, уже сотни раз.
Командующий парадом — высокий, атлетически сложенный капитан I ранга, зычно на всю площадь отдал команду «смирно!».
— Это новый заместитель командира флотского экипажа, — шепнул Сергею Недведкин. — Ох и лютует с нижними чинами.
Стоящие в строю матросы и мальчишки, вздернув подбородки, застыли. Капитан I ранга пошел чеканным шагом навстречу принимающему парад вице-адмиралу Вирену, отрапортовал отрывисто и четко. Приняв рапорт, адмирал медленно двинулся вдоль строя, здоровался отдельно с каждым взводом. В ответ молодые глотки выкрикивали нечленораздельно и гулко:
— Здрав… жеам… ваш… превс… дит… ство!
Вирен довольно кивал головой, медленно шел к следующему взводу. Хотя в строю были недавние новобранцы, но, видимо, впрок пошли им месяцы учения, научились горланить. Последними в линии стояли мальчишки, но и они оказались на высоте: орали звонко и согласованно. Потом оркестр играл гимн, хор торжественно затянул «Боже, царя храни».
Друзьям надоело толкаться возле собора, и они не спеша направились к Якорной площади.
— Ты вот скажи, Костя, — сказал вдруг Сергей, — вот церковные праздники — они уже сотни лет в определенное время отмечаются. Они от религии установлены. Я хоть и неверующий, а это понять могу. А царские? Ведь церковь их тоже отмечает как свои кровные — кругом молебствия, кругом «Боже, царя храни»… кругом «Многая лета»… Выходит, спелись цари и религия?
— А ты чего на всю улицу расшумелся? — одернул ого Недведкин. — Не ровен час услышат…
— Ладно, не серчай, — понизил голос Краухов. — Ну все-таки: спелись же?
— А то…
— Значит, как нам вдалбливают: за веру, царя и отечество?
— Не! Отечество тут зазря приплетают. Это холуи молятся: боже, царя храни! А отечество наше прежде всего из народа состоит. И не забыл народ царю Кровавого воскресенья…
— В этом меня, Костя, не агитируй — сам учен.
— А чего же хочешь?
— Чего хочу? Жить хочу по-человечески! Вот народ понимает, что все это комедия одна, а ведь все равно царский гимн поет. И опять же смотри, Костя, во что это обходится — все эти праздники царские! А деньги — от народа они.
— Это ты верно — слишком много праздников царских.
— Сверх всякой меры много! Ты сам посуди: 23 апреля прошли молебны и торжества по случаю тезоименитства царицы. Потом шестое мая — уже в честь дня рождения царя… Музыка играет и барабаны бьют… Сегодня у нас четырнадцатое мая, и на этот раз флаги и салюты по поводу годовщины коронования. А всего через десять дней снова палить будут и «ура» кричать по случаю дня рождения царицы. Ну, не много ли?
— Многовато, конечно.
— Я вот иногда «Правительственные вести» в газетах читаю. В них самым подробным образом все встречи и церемонии описывают, какие где обеды и ужины. Ведь это ужас какой — сколько на этих царских праздниках съедается и выпивается. Это ж только во дворец за один раз сотни людей приглашают!
— Нашего Миколу Нагнибеду туда бы! — засмеялся Недведкин. — Отвел бы душу.
— Ну, если душа у него в брюхе, то отвел бы.
Оба посмеялись, представив себе товарища с деревянной ложкой в руке за царским столом. Вскоре вышли на просторную, мощенную булыжником Якорную площадь. Впрочем, все площади и улицы Кронштадта были мощены булыжником, ибо здешняя почва вспучивала и разрывала асфальт.
За площадью лежал глубокий и широкий овраг, поросший кустарником. Узкая, спускающаяся вдоль склона тропинка привела их на дно оврага, и они не спеша пошли дальше, огибая кусты, за которыми то здесь, то там виднелись сидевшие на траве матросы. Перед многими на расстеленных газетах была немудреная снедь — чаще всего колбаса и булки. Пили здесь не таясь — городовые в овраг заглядывать побаивались, а офицерам тем более делать тут было нечего.
Краухов и Недведкин дошли до условленного места встречи — большого покрытого мхом валуна, из-под него бил ручеек. Однако никого у валуна не было — видимо, друзья пришли рано. Оставалось ждать.
Встречи с ними добивался комендор Королев — матрос, служивший на «Императоре Павле I» второй год. Был он подвижен, неусидчив, резок в движениях, решителен в поступках. Вид, как говорил Сергей, «цыганистый». И действительно, было в лице Королева что-то цыганское — смуглая кожа, темные волосы, быстрые глаза. Очень редко товарищи видели на его худощавом лице улыбку, обычно был он хмур и неразговорчив.
С месяц назад — еще до того, как Сергея перевели из Гельсингфорса в Кронштадт, Королев однажды вечером, улучив минутку, когда они с Недведкиным оказались в носовой артиллерийской башне, сказал вдруг, что настоящим матросам — тем, кто ненавидит опостылевшие порядки, надо держаться друг друга. В тот вечер Недведкин промолчал, опасаясь возможной провокации, но через связного навел справки о Королеве — известно было, что тот до службы работал на заводе Эриксона. Ответ пришел через неделю. Товарищи из Питера сообщали, что Королев, по их сведениям, — боевик-эсер, участник революции 1905 года. В последнее время не проявлял активности.
Недведкин советовался с Крауховым, стоит ли вступать в связь с Королевым, Сергей колебался — у эсеров с конспирацией плоховато, можно и влипнуть. А вчера Королев ночью подошел к койке Недведкина, шепнул на ухо, что ждет его завтра во время увольнения в овраге, возле валуна, и добавил, что есть дело, важное для революции. Недведкину и Краухову пришлось ждать минут двадцать, прежде чем из-за ближайшего куста появился Королев со свертком в руках. Извинившись за опоздание, он развернул ловким движением бумагу и продемонстрировал три бутылки пива.
— Угощайтесь, — сделал широкий жест комендор. — Как-никак царский праздник нынче.
— Ты же не из-за этого меня пригласил, — серьезно сказал Недведкин.
— Конечно… не из-за этого, — согласился Королев. — И к тому же одного приглашал…
— Ничего, не помешает… — оборвал Недведкин таким тоном, что сразу ясно стало: обсуждать факт присутствия Сергея он не намерен. Пришли вдвоем — и все тут!
Королев на минуту задумался, оценивающе глянул на Краухова и снова — на Недведкина.
— Вишь какое дело… разговор серьезный, очень даже серьезный… Ты не обижайся, и твой товарищ пусть не обижаемся, но только это такой разговор, что довериться могу тому, кого знаю. Прямо скажу: тут промашку дать — головы не сносить… а я ее ценю, свою голову-то!
Он вдруг втянул голову в плечи, сузил глаза, необычно, углом губ усмехнулся. Сергей даже вздрогнул, увидя эту улыбку — было в ней что-то жутковатое. Такая улыбка бывает, когда идут с голыми руками на нож. Но Королев мотнул головой, словно приходя в себя, желваки перекатились под смуглой кожей, и опять он стал такой, как всегда — подобранный, пружинистый, в глазах недоверие.
Наступило неловкое молчание. Но Недведкин рубанул воздух ладонью, сказал как отрезал:
— Вот что, Королев, хочешь — принимай нас обоих, хочешь — иди подобру-поздорову. Мы с Серегой — одно…
И опять помолчали, поглядывая друг на друга. Комендор сдернул с головы бескозырку, бросил на траву и вновь улыбнулся, на этот раз дружелюбно и открыто.
— Ладно, кореши, прошу к столу. Давайте сначала пивка попьем… только стаканом, извиняюсь, не запасся. Но не беда — и из бутылки отопьем!
Он лихо жесткими ударами ладони по дну бутылок вышиб пробки, протянул присевшим на траву Краухову и Недведкину. Когда с пивом было покончено, Королев зашвырнул последнюю бутылку за ивовый куст.
— Ладно, Недведкин, поверю я тебе и твоему корешу. Без веры к людям жить — волком станешь… Хотя, по правде сказать, прежде чем о встрече просить тебя, навел я о тебе справку у ребят на Пароходном заводе. Дядю Васю — твоего знакомого — недавно охранка тю-тю… Говорят, уже в Петербург перевезли, в тюрьму. Вроде бы в Кресты… Товарищи из Питера вчерась жене передали, а жена на завод в мастерскую…
— Это я не знаю, о ком ты, — покачал головой Недведкин, хотя ясно было, что речь идет о Филимонове, через которого он имел связь с петербургской организацией.
— Ну ладно, спорить не будем. Конспирацию соблюдать — твое дело. Ты — воробей стреляный. Я вам, кореши, такое рассказать хочу, что все ваши секреты дешевкой покажутся.
Он настороженно оглянулся вокруг, убедился, что поблизости никого нет, рукой поманил к себе собеседников, чтобы приблизили головы, сказал почти шепотом:
— Все дело, кореши, в том, что через месяц или около того на наш корабль самолично царь пожалует!
— Какой еще царь? — ошалело спросил Сергей.
— А наш — российский. Государь император Николай Второй. Он же Кровавый…
— Ты что болтаешь? — на этот раз оглянулся кругом уже Недведкин. — Откуда у тебя это?
— А вести у меня самые что ни на есть точные…
Персидская пословица гласит: «В стенах мыши, а у мышей — уши». Если бы капитан первого ранга Небольсин хорошо помнил эту поговорку, то он, наверное, избрал бы для своего разговора со старшим офицером Миштовтом вместо своей каюты другое место. Он знал, что может доверять Миштовту самые конфиденциальные сведения — об этом его специально уведомили в Морском генеральном штабе, но откуда мог подозревать Небольсин, что тихий и исполнительный вестовой — матрос Колядин с полгода назад нашел и сам же замаскировал получше щель в переборке и мог слушать все разговоры в каюте.
А этот разговор с Миштовтом ни при каких обстоятельствах для матросских ушей не предназначался!
Небольсин рассказал старшему офицеру о том, что государь император со свитою посетит корабль во второй половине июня. Предполагается, что он осмотрит одну из орудийных башен, ходовую рубку и спустится вниз в машинное отделение. Необходимо тщательно продумать путь следования высокого гостя, осмотреть все заранее, чтобы никакая мелочь не могла испортить настроения, чтобы нигде не было ни пылинки. Известно, что во время смотра государь иногда обращается к какому-либо нижнему чину с вопросом: «Как идет служба, братец?» Нужно позаботиться о том, чтобы любой матрос, который попадется по пути следования высокого гостя, был готов дать надлежащий ответ. Для этого нужно уже сейчас подготовить людей, не открывая, разумеется, кто именно может задать подобный вопрос. И еще одно обстоятельство следовало иметь в виду старшему офицеру: морской министр категорически отказался выполнить просьбу охранного отделения о направлении на корабль своих агентов, одетых в матросскую форму, чтобы расставить их в тех местах, где будет проходить государь. Григорович сказал, что в этом нет никакой необходимости и что он гарантирует безопасность державного вождя флота. Миштовту в связи с этим следовало еще и еще раз прикинуть, кто из надежных людей должен стоять по пути следования государя.
Вестовой Колядин рассказал о подслушанном разговоре комендору Королеву, а теперь, в свою очередь, тот делился услышанным с Крауховым и Недведкиным.
— Так вот, кореши, — заключил он, — через месяц или около того прибудет Николка к нам на корабль. Приготовиться бы надо…
— Значит, будет случай поглазеть на царя-батюшку и его челядь, — отозвался Недведкин. — Сказать по правде, я его только на картинках и видел. Красивый вроде мужчина. А что готовиться надо, об этом у начальства пусть голова пухнет. Нам-то до этого какое дело?
— А ты что, будто и не понял? — зло ощерился Королев.
— Да нет же, хорошо понял. Если меня царь о службе спросит, отвечу, как начальство учит: «Премного, мол, благодарны, ваше величество, всем довольны и готовы живот положить за веру, царя и отечество».
— Кончай балаганить! Я тебя для серьезного разговора вызвал.
— Так давай говори!
— Есть у нас на корабле несколько человек, пока не буду говорить, кто именно… Так вот, порешили мы этим удобным случаем воспользоваться и с Николкой Кровавым раз и навсегда покончить! Или бомбой, или из револьвера…
— Ты чего? Или сдурел, парень? — оторопело спросил Недведкин, поднимаясь на ноги.
Встал с земли и Краухов. А Королев вскочил пружинисто, пригнулся, будто в драку готов кинуться.
— Это отчего же я сдурел? Тут разговор без дурости идет и без шуток. Не до шуток, кореш, когда петля впереди маячит… Я к тебе, Недведкин, как к товарищу пришел. Не твой ли батя в Кровавое воскресенье под казацкой шашкой полег?
— Отец погиб тогда, это ты верно…
— А я матери в тот день лишился! И неужели же мы с тобой простим это Николке? Я этого душегуба зубами бы порвал…
Лицо его исказилось ненавистью, глаза от возбуждения блестели. Видно было, что и впрямь готов зубами глотку грызть, не страшась ни петли, ни пули. Его возбуждение передалось и собеседникам. Сергей почувствовал, как забилось резко и беспокойно сердце, перехватило дыхание. Недведкин сжал пальцы в кулаки так, что побелели суставы.
— Вот что, Королев, — сказал он хрипло. — Зарубленного отца я врагам никогда не прощу и за него, придет время, поквитаюсь… Но в твои эсеровские штуки ни я, ни мой товарищ не полезем. Цареубийством революции не сделаешь. Что толку, что Александра Второго ухлопали? Тут же на его месте Третий объявился. Убьют Николая — другой царь появится. Нет, не союзники мы тебе. И давай лучше так условимся: ты нам ничего не рассказывал, а мы ничего не слышали, понял? И пошли отсюда, Сергей! А за угощение благодарствуем…
— Эх, вы-и… — сквозь зубы протянул Королев. — За шкуры свои дрожите… сволочи! Ну и катитесь! Без вас обойдемся! Да только помните: сболтнете лишнее — не жильцы вы на этом свете… у наших ребят руки длинные, везде вас достанут…
— А ты не пугай! — усмехнулся Недведкин. — Без тебя пуганые.
Разошлись в разные стороны. Краухов и Недведкин пошли вверх по тропинке, а Королев зашагал быстро в глубь оврага, но далеко не ушел — зайдя за кустарник, бросился на землю лицом вниз, обхватил голову руками, забился в беззвучной истерике.
Приходил в себя долго, никак не мог унять нервную дрожь. Потом, когда все же полегчало и пришла опустошенная просветленность, он приподнялся, сел на траве, увидел травяные пятна на белой форменной рубахе, машинально подумал о том, что на корабле дадут теперь наряд вне очереди или под ружье поставят, а рубаху все равно не отстирать. Но подумал об этом мельком, как о чем-то далеком и неважном, а перед глазами вдруг встали налитые ужасом глаза сестренки, в самое сердце вонзился острый, раздирающий душу крик…
Семь с лишком лет миновало с того страшного дня, когда они нашли в холодном, полном трупов морге тело матери, увидели раздавленное каблуками, в багровых кровоподтеках и рваных ссадинах лицо. Семь лет… А кажется, вот только сейчас все это случилось, и опять, как наяву, видит он изуродованное лицо мертвой матери, безумные Нюркины глаза…
…В 1905 году жили они на Выборгской стороне, неподалеку от Сампсониевского проспекта — мать, он и десятилетняя сестренка. Отца не было, ушел отец к другой женщине, и мать нанялась судомойкой в трактир, кормила детей и себя. Было тогда Кольке Королеву пятнадцать лет — уже взрослый парень. Он два года побыл подмастерьем у сапожника, но после того, как пьяный хозяин избил его, сбежал. Но перед бегством ночью порезал бритвой сшитые ботинки, раскроил в лапшу заготовленную кожу — шевро и хром. А потом две недели не ночевал дома, боясь сапожника, который каждый вечер приходил к матери и грозился прибить Кольку до смерти, если поймает.
От голода спасали в эти дни соседские мальчишки — кто горбушку хлеба вынесет, кто несколько вареных картофелин. Спал он на чердаке большого дома на соседней улице, пробираясь туда по черной лестнице. Тут-то и обнаружил его известный в округе вор Филька Хват. Это был вор потомственный. Отца его никто не знал, не ведал, а мать — рыночная воровка, промышлявшая на толкучке, бросила пятилетнего Фильку и укатила с очередным «приятелем» куда-то на юг — не то в Одессу, не то в Ростов. Фильку прикармливали по воровским «малинам», а потом приспособили к делу — лазить в квартиры через форточки. Но перед этим он прошел воровскую школу, где таких же мальцов, как он, учили тонкостям ремесла. Когда Филька подрос, он начал действовать самостоятельно, ходил на «дело» с двумя-тремя постоянными дружками.
На чердак, где в ту ночь спал на куче войлока Колька, Хвата завело очередное «дело» — из слухового окна он высматривал сквозь освещенные стекла внутренность облюбованной квартиры. Обнаружив перепуганного насмерть голодного подростка, Хват с первого взгляда проникся к нему воровской симпатией, привел его на «малину» в полуподвале большого каменного дома на Васильевском острове, досыта накормил и раздобыл ему почти что новый матросский бушлат, а с обидчиком пообещал поговорить по душам.
И действительно, Хват подкараулил сапожника в темном переулке, сунул к самому носу финский нож и сказал, что, если тронет Кольку хоть пальцем, тогда выпустит он кишки не только у сапожника, но и у его толстухи жены. Хозяин смекнул сразу, что с ним не шутят, побожился, крестясь, что и думать позабудет о Кольке.
Филька принял подростка как равного. Вместе с ним пил, приучил курить. За свою внешность получил Колька прозвище Цыган, которое крепко прилипло к нему.
Филька Хват работал с размахом — очищал богатые квартиры, часто пользовался помощью молодой смешливой женщины, ходившей по богатым домам стирать белье. От нее Филька точно знал, какие в квартире комнаты, где стоит мебель, как запираются окна и двери и в какое время хозяева отсутствуют. Кражи его были дерзкими и удачливыми. Недаром он получил прозвище Хват и репутацию счастливчика в воровском мире.
Колька привязался к Хвату всей душой, считал счастьем для себя выполнять все его распоряжения. Чаще всего его новый друг поручал ему продавать на толкучке краденые вещи, выделял Кольке за это его долю. Королев купил себе новый костюм-тройку, хромовые сапоги. Мать чувствовала, что связался сын с нехорошей компанией, пробовала уговорить, чтобы он пошел работать на завод. Колька отмахивался — много ли на заводе заработаешь?
Однажды после удачной кражи на Шпалерной улице Хват выделил ему сразу полсотни рублей. Таких денег Королев ни разу в руках не держал. Он купил на радостях матери пуховый платок, а сестренке Нюрке — нарядное суконное пальтишко. Но мать подарков не взяла, сказала непреклонно:
— Не на честные деньги это куплено. Ни я, ни Нюра и не притронемся к этим вещам.
Мать куталась в свой старенький штопаный-перештопаный платок, а Нюрка бегала в церковноприходскую школу в драной стеганке, но принесенных Колькой вещей так и не взяли.
Когда началась война с японцами, мать зачастила ходить вместе с другими женщинами на собрания, которые устраивал с рабочими священник Гапон. Она и Кольке старалась пересказать гапоновские слова, горячо доказывала, что если узнает царь о народных нуждах, то все прикажет переменить, надо только пойти к нему всем народом и свои горести изложить. Колька посмеивался — как это может царь не знать о том, как народ живет? Да и будет ли он слушать людей?
Но когда девятого января в воскресенье увидел густые толпы народа с трехцветными флагами и хоругвями, то засомневался — силища-то какая народная! Тут и царь должен будет посчитаться!
О том, как посчитался царь с народом, Колька узнал уже днем. А мать так домой и не вернулась. Вечером Нюрка плакала, просила, чтобы брат не уходил, не оставлял ее одну. И он остался, хотя должен был встретиться с Хватом. Когда мать не вернулась и утром, соседи посоветовали ему справиться в больницах и в моргах. Нюрка уцепилась за руку, сказала, что тоже пойдет с ним, и настояла на своем, как ее ни уговаривали.
Целый день бродили они по морозным улицам от одной больницы к другой. К вечеру совсем иззябли и устали. Идти в морги к покойникам Колька не решался, да еще с сестренкой. Однако пришлось идти и по моргам. И уже во втором они увидели…
После того как Нюрка закричала и повисла у него на руке, он плохо помнил, что было и как попал он домой… Мать похоронили с помощью соседей на Волковом кладбище, а сестренку прямо с похорон увезла к себе тетя Вера — материна сестра, жившая за Нарвской заставой. Было у тетки четверо ребятишек, муж работал столяром-краснодеревщиком. Тетка сказала Кольке коротко: «Там, где четыре рта, — там и пятый не лишним будет. А о себе уж давай сам заботься — вон какой вымахал!»
Но совета Колька не послушался, окончательно перешел на воровскую жизнь. Бросил опустевшую комнату, жил на «малине». Группа Фильки Хвата совершила весной несколько нашумевших краж, о которых петербургские газеты писали в уголовной хронике. Сыскная полиция зашевелилась, пошла по следам воровской шайки.
Однако до поры до времени им все сходило с рук — полиции хватало дел по горло и без уголовников. После Кровавого воскресенья забастовки вспыхивали в Петербурге одна за другой, тюрьмы и полицейские участки были переполнены рабочими. Но однажды Хват с помощью Кольки Цыгана и еще двух дружков очистил квартиру окружного прокурора. Сам градоначальник просил сыскное отделение заняться этим делом, и лучшие петербургские сыщики были посланы по следу Хвата.
Поймали всех четверых во время очередной кражи на Каменноостровском проспекте. Полиция, пронюхав о наводчице, «расколола» ее и устроила в указанной квартире засаду. Кольку, стоявшего возле угла дома «на стреме», схватили так ловко, что он и опомниться не успел, заломили руки за спину, поволокли в переулок, где уже ждала наготове черная тюремная карета. Вскоре притащили и остальных участников кражи. У одного лицо было разбито, кровь запеклась на скуле.
Отвезли их в тюрьму неподалеку от Александро-Невского монастыря. В приемной, когда спросили их имена и фамилии (никаких документов у арестованных и в помине не было), Хват вздумал дерзить, но дорого обошлась ему эта дерзость. Начальник тюрьмы — седоусый подполковник — кивнул надзирателям, и те накинулись на Хвата, потащили его в соседнюю комнату. Через захлопнутую дверь сначала послышался шум возни, а потом вдруг взвился воющий крик. Филька кричал истошно и так жутко, что холодок прошел по Колькиной спине. Когда минут через десять умолкнувшего дружка выволокли в приемную, на него страшно было смотреть. А начальник уже кивнул и на Кольку, и от этого кивка сразу сжалось сердце.
Ему повезло — первый же удар в грудь сломал ребро. Королев зашелся от нестерпимой боли и потерял сознание. Больше бить не стали. Но Хвату досталось за всех. Лежа на нарах в общей камере, он все время стонал и харкал кровью — отбили легкие. Через день-другой стало ясно, что парню не выжить. Услышав просьбу направить Хвата в больничный лазарет, надзиратель сплюнул, сказал, что там и без того дармоедов полно, оклемается как-нибудь. Но больному становилось все хуже. Душной ночью, когда Колька напоил его из оловянной кружки тепловатой водой, он вдруг сказал тихо, с трудом шевеля запекшимися губами: «Ты хороший парень, Цыган… уходи от воров, не твое это дело, на завод иди к рабочим… опосля отомстишь и за мать, и за меня тоже…»
Наутро Хвата все-таки взяли в лазарет, а его место на нарах занял худощавый человек средних лет. Новичок представился Николаем Ивановичем, сказал, что он политический, а за что арестован, промолчал. От него Королев узнал, что в стране идет волнение и царский трон уже закачался. Он с удивлением почувствовал, что с радостной надеждой забилось его сердце, и понял: эта радость идет оттого, что близок конец кровавого царя. Он и сам не подозревал, какая ненависть к царю подспудно жила в нем.
А Николай Иванович заметил состояние парня, стал расспрашивать о его жизни, справился у Кольки, слышал ли он что-либо о социалистах-революционерах. Королев слышал только то, что есть такие люди, которые бомбы бросают в министров, в губернаторов и даже в царя. Тогда Николай Иванович поведал ему, что эсеры, как кратко называют социалистов-революционеров, имеют цель поставить на колени врагов трудового народа, перебить самых зловредных, чтобы остальные дрогнули, испугались такой же участи. Он рассказывал, как геройски, не страшась смерти, боевики-эсеры убивали царских сановников, как мужественно шли они на эшафот.
Слушая эти рассказы, Колька забыл даже, что он сидит в переполненной, вонючей камере пересыльной тюрьмы. Глаза его разгорались, сердце учащенно билось. Он стал подумывать, не удастся ли и ему стать одним из таких людей — гордым мстителем за народ. Одно лишь смущало его — судя по рассказам Николая Ивановича, эсеры уже успели перебить десятки царских слуг, взорвали самого министра внутренних дел Плеве и даже родного дядю царя — великого князя Сергея Александровича, но вот результатов от всего этого как-то не видно. Сосед по нарам терпеливо объяснял, что не сразу победа приходит — это как в бою — ломит одна сила другую, и колеблется чаша весов, но, как только дрогнет один из противников, победа к другому на крыльях летит.
Королев ждал суда и приговора, но внезапно для него все повернулось иначе. В тюремном лазарете умер Филька Хват, и о причинах его смерти стало известно на воле. Либеральные газеты обрушились на тюремные порядки. И чтобы замять дело, не выносить его на официальный суд, полиция прекратила следствие и выпустила Кольку и двух его дружков из тюрьмы, предложив самим убраться из города. Дружки поняли намек и вскоре уехали, но Королев, выйдя из тюремных ворот, двинул другим путем: по адресу, подсказанному Николаем Ивановичем. В указанном месте его радушно встретили, помогли выправить паспорт, устроили на работу на завод Эриксона и помогли с жильем. Так он сделался эсером, посещал подпольные собрания, читал запрещенные полицией книги, вступил в боевую дружину, где обучали, как разбирать и собирать наган, как стрелять в цель и бросать бомбы.
По всему видно было: близится восстание. Но разразилось оно не в столице, а в Москве. У себя в дружине Королев доказывал, что надо бросать работу и ехать на помощь московским рабочим, но его не поддержали. И тогда он сам кинул все к черту и с револьвером в кармане поехал в Москву.
Он застал лишь пожарища на Пресне, трупы расстрелянных на улицах, патрули солдат и офицеров Семеновского полка, конные казачьи разъезды, наглухо закрытые парадные. К нему прицепился шпик, и он едва ноги унес в незнакомом для него городе. Пришлось несолоно хлебавши возвращаться в Петербург, искать новую работу, потому что у Эриксона его назад не взяли. С трудом устроился на завод Леснера. Здесь он обучился разметному делу, обнаружил неплохую природную сметку и точный глазомер. От партийных дел отошел, разочаровавшись в эсерах.
Но когда его призвали на военную службу и он после учебного отряда попал на достраивающийся корабль «Император Павел I», социалисты-революционеры сами нащупали его. С месяц назад начались усиленные разговоры о том, что в Гельсингфорсе матросы готовят восстание, которое перекинется и в Кронштадт, что за оружие возьмутся все социалисты — и социал-демократы, и эсеры, и анархисты, и кто вообще ни к каким партиям не примыкает. Но потом пришли сведения об арестах, и разговоры о восстании заглохли.
И тут вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучала весть о том, что царь должен побывать на их корабле и даже самолично облазить эту огромную стальную коробку. Королев понял, что крылатая удача сама идет в руки. Мысль о покушении на царя возникла сразу, как только вестовой Колядин передал содержание подслушанного разговора. Двое матросов, о которых он знал, что они принадлежат к эсерам, вначале отнеслись к королевской идее настороженно (шутка ли сказать, своими силами организовать цареубийство!), по потом зажглись.
Посовещавшись, решили нащупать контакты с социал-демократами, своих сил могло не хватить. Правда, было сомнение, поддержат ли социал-демократы их план. Но Королев убеждал, что ненависть к царю у любого матроса так велика, что никто не откажется помогать, невзирая ни на какие партийные принадлежности. Знакомые рабочие с Пароходного завода подсказали ему, что для начала надо пощупать Недведкина — через него, видимо, идет цепочка к социал-демократической организации. И Королев случайно узнал, что в Кровавое воскресенье казаки зарубили отца Недведкина. С таким можно рискнуть поговорить и начистоту.
И вот рискнул… В его сознании никак не укладывалось, как мог Недведкин отказаться от предложения. Это просто непостижимо! Неужели струсил? Или так сильно в нем чувство партийной дисциплины? Когда грозил вслед уходящим Королев, делал это он с обиды, ни на мгновенье не сомневаясь в том, что Недведкин и его друг не предадут… Но как нужна сейчас помощь!
И уж если ее неоткуда ждать, то придется обходиться своими силами.
Вернувшись на корабль, Королев рассказал своим о том, что в контакты вступать социал-демократы отказались, но о подробностях разговора умолчал. Решили действовать самостоятельно. И первым делом наметили план, как раздобыть на берегу и перенести на борт необходимое для покушения оружие. Скоро бригада линейных кораблей уйдет в Ревель, а там есть кое-какие возможности.
Когда Шабельский, вызванный в министерство для инструктажа, нос к носу столкнулся в коридоре с Мардарьевым, он кивнул ему и попытался быстрее пройти. Ротмистр подозревал, что тот неприятный донельзя разговор, который ему пришлось вести с дядюшкой, выслушивая самые нелестные отзывы о своих умственных способностях и терпеливо снося брань, этот разговор явно был следствием мардарьевских наветов. И надо сказать, что Шабельский был недалек от истины, не подозревая, однако, что Мардарьев побывал у дядюшки вовсе не в роли ябедника, а как бы в виде просителя за него, Стася.
Поднаторевший в интригах статский советник был откровенен насчет способностей Шабельского лишь с директором департамента Белецким. Только ему он без обиняков рассказал, как ротмистр составлял злополучный рапорт о спокойной и безоблачной обстановке, которая якобы царила на военных кораблях Балтийского флота. Но в тот же вечер Мардарьев пришел к Шабельскому-старшему и сокрушенно поведал о том, что за допущенные Стасем промахи Белецкий хочет подать рапорт министру о необходимости отчисления ротмистра из состава отдельного корпуса жандармов, но он, Мардарьев, считал бы такой шаг неправильным, потому как молодой офицер еще может набраться опыта и стать со временем вполне подходящим сотрудником. Но все же, думается, надо его по-отечески отчитать, а потом попросить о его назначении в Ревель — там, в Эстляндском управлении, есть как раз одна вакансия.
В глазах Шабельского-старшего Мардарьев стал ангелом-хранителем двоюродного племянника, а Белецкий жестокосердным гонителем. Генерал пообещал хорошенько отчитать молодого родственника и сдержал свое слово так, что Стася каждый раз передергивает при воспоминании об этом. Но, как бы то ни было, он остался в составе отдельного корпуса жандармов.
Столкнувшись с Мардарьевым в коридоре, ротмистр хотел пройти мимо с высоко поднятой головой, да не тут-то было! Одариваемый восклицаниями о счастливой встрече, он был затащен в уютный мардарьевский кабинет, усажен в глубокое удобное кресло, а в руке его оказалась душистая, изящная папироса с золотым кружочком на мундштуке.
— Это вы непременно попробуйте, — добродушно сказал Мардарьев, ставя фарфоровую пепельницу на подлокотник кресла. — Расследовали мы как-то одно неприятное дельце на табачной фабрике Богданова — там подпольную типографию, представьте себе, в помещении фабричного склада умудрились организовать… А владелец оттого ли, что струхнул, то ли от радости, что мы смутьянов арестовали, но только прислал мне под рождество запасец особых папирос. Самый лучший сорт — это «Сфинкс». Глава товарищества уверяет, что в этих папиросах отборный турецкий табак с примесью нашего крымского. Так ли на самом деле или нет — не знаю, но папиросы действительно хороши, не правда ли?
Стась неопределенно улыбнулся в ответ, но про себя отметил, что таких отличных папирос сроду не пробовал. Однако вслух ничего не сказал, продолжал хранить молчание, ожидая, что скажет Мардарьев дальше. Ведь не затем же он его зазвал, чтобы папиросами угостить.
— Слышал я, — продолжал Мардарьев, — что ваш дядюшка собирается кое-что пораспродать из своих владений в Орловской губернии.
— Право, не знаю, ничего он не говорил об этом.
— Ну, а я-то случайно прослышал, Станислав Казимирович! А потому просьбу к вам имею небольшую — не могли бы вы неофициально, не объявляя зачем, порасспросить дядюшку и узнать, на какую окончательную цену он согласится.
Услышав это предложение, Стась навострил уши. Одно дело Мардарьев как инспектор и проверяющий, а другое — как проситель. Тут уж их роли менялись. И Стась распрямил спину, свободно откинулся и, уже не стесняясь, без спросу потянулся к лакированной коробке с папиросами.
— А, понравилось? — улыбнулся Александр Ипполитович. — Я так и думал, что понравится… Курите на здоровье, Станислав Казимирович. Ну так как насчет того, чтобы с дядюшкой поговорить?
— Отчего же… я с превеликим, так сказать… Коль скоро вы просите…
— Вот ведь не совсем прошу, Станислав Казимирович, не совсем… Я человек сугубо деловой и, можно даже сказать, с коммерческой жилкой. Так вот, я к вам и не с просьбой, а скорее с предложением некую сделку совершить!
Стась опять напрягся — что-то непонятное затевает этот проныра, обведет вокруг пальца, и оглянуться не успеешь… Он приподнял левую бровь, чуть выдвинул вперед подбородок. По его мнению, это показывало собеседнику, что он слушает его со вниманием. Александр Ипполитович пододвинул стул, сел совсем близко и заговорил, понизив голое, словно опасаясь, что их могут услышать. И это тоже не ускользнуло от внимания Шабельского, заставило его еще больше подтянуться.
— Речь-то идет вот о чем, — начал Мардарьев. — С месяц назад мне стало известно, и пока об этом никто из наших не знает, что в Ревель по заданию Петербургского комитета РСДРП выехал человек, который поступил работать на завод акционерного общества «Вольта». Ему поручено установить связь с матросами военных судов Балтийского флота. Ну, вы сами понимаете, что это значит. Осмелюсь напомнить, что во время известных вам событий в Гельсингфорсе нам повезло в том, что заговорщики с военных судов не успели установить связи с Петербургом, не успели сговориться о согласованных действиях.
При напоминании о Гельсингфорсе Стась почувствовал, как непроизвольно дернулось веко. Ему было крайне неприятно вновь вспоминать о своем конфузе. Он тут же резко отвел глаза. Александр Ипполитович так же не спеша продолжал:
— Наши начальники, Станислав Казимирович, да и не только они, а и все правительство наше и сам государь очень ревниво смотрят за тем, чтобы революционная зараза не проникала в армию и во флот государства Российского — опору существующего строя. А потому и все дела, связанные с раскрытием подпольных военных организаций, вознаграждаются особо. Но это вы, впрочем, и сами знаете.
Шабельский действительно знал об этом хорошо, но сейчас, в ходе беседы, его удивило — с какой стати Мардарьев ушел от разговора о продаже дядюшкиного имения и заговорил вдруг об известных вещах. Конечно же, неспроста это! И он по-прежнему внимал каждому слову.
— Хотел бы напомнить вам, Станислав Казимирович… — тут собеседник сделал многозначительную паузу, — ведь это я подсказал вашему дядюшке и Белецкому о том, что именно в Ревеле есть вакансия, и посоветовал направить вас туда. Улавливаете?
— Не совсем, — чистосердечно признался Стась.
— Охотно поясню. Мне хотелось бы, чтобы вся заслуга в раскрытии преступных связей революционных организаций Петербурга и Ревельской базы принадлежала вам!
— Мне? — поразился Шабельский. — Я впервые от вас…
— Ах, какое это имеет значение… Поверьте: даю вам в руки золотую ниточку. Держась за ее кончик, вы размотаете весь клубок, доложите об этом, и все заслуги по праву будут принадлежать вам.
— Ну, а вы, ваше превосходительство? Это ведь вы узнали… вы тоже должны…
— А я и говорю, что тоже! Мое предложение в том и заключается — я помогаю вам делать карьеру, после удачи в Ревеле она вам обеспечена, а вы поможете мне вести с дядюшкой переговоры насчет продажи имения. Кстати, можно и не скрывать даже, что речь идет обо мне. Полезно также напомнить, что я заступился за вас… Ну, как? Договоримся?
Шабельский в смятении молчал. Его растерянное состояние объяснялось прежде всего тем, что с памятных дней арестов в Гельсингфорсе он привык считать Мардарьева своим врагом. А тут вдруг такое щедрое предложение! О таком перспективном деле может только мечтать настоящий жандарм. И в самом деле — бывали же случаи, когда на раскрытии типографии и то делали карьеру, а тут речь идет о связях революционного подполья с флотом. Не только продвинуться, но и прославиться на таком деле можно. Шутка ли! Что там по сравнению с этим какая-то просьба о дядюшкином имении — мелочь одна… Но почему, однако, с такой легкостью Мардарьев готов отдать ему это дело? Поди, и самому ему лишняя заслуга не помешает. А с другой стороны — разве возможно такое дельце одному провернуть? Если же посвятить кого-то в Эстляндском управлении, так они, поднаторевшие, знающие местную обстановку, обскачут, оттеснят, себе же и запишут заслугу. Нет, не так-то просто все получается.
Александр Ипполитович не прерывал молчания, ждал ответа, поглядывал искоса на Стася. Уже стала ощущаться некоторая неловкость оттого, что на вопрос ему не отвечают. И тогда он небрежно спросил:
— Вас что-то смущает, Станислав Казимирович?
— Да нет, собственно… только вот одно непонятно — отчего же заслуги мне?.. Вы это дело раскопали — вам по справедливости и карты в руки.
— Но я от заслуг и не собираюсь отказываться! — засмеялся Александр Ипполитович. — Они мне тоже нужны, это вы совершенно правильно рассуждаете. Но рассудите сами: дойдут сейчас до начальства сведения о связном, так оно и поручит разработку дела Эстляндскому управлению. А я буду сидеть в столице как бы и ни при чем. Вас же и подавно, как новичка, привлекать не станут. А если с вами сговоримся, то все по-иному повернется. Я сделаю так: вам в управление пришлют список нескольких подозреваемых людей, за которыми надо установить агентурное наблюдение. В списке будет и тот, о ком я рассказывал, но о его действительной роли будем знать только мы вдвоем. Первичная обработка сведений агентов наружного наблюдения поручена вам. Тут уж в вашей полной власти попридержать кое-что, и особенно если в поле зрения появятся матросы. Тут уж вы и тяните эту ниточку до конца.
— А вы? — опять спросил Шабельский.
— А я? Я получу в Ревель командировку, приеду, и при встрече, как бы случайно, вы рассказываете мне о своих подозрениях, официально советуетесь со мной.
— Простите, о каких подозрениях? — не понял Стась.
— О ваших, конечно! — улыбнулся Александр Ипполитович. — Коль скоро вы располагали бы точными сведениями, то обязаны были бы немедля доложить о них по инстанции. А подозрения — они и есть подозрения, о них докладывать не обязательно. И вполне резонно, что вы советуетесь со знакомым вам чиновником по особым поручениям, приехавшим из министерства. Чиновник — то бишь я — фиксирует все это дело на бумаге, совместно с сотрудниками Эстляндского управления проверяет гипотезу, и вдруг все видят, что ротмистр Шабельский вышел на верный след. Да еще какой! Цены этому следу нет.
«Вот это ловко! — мысленно поразился Стась. — Ну хитер его превосходительство, ну умен! С таким, право, стоит в компаньонах походить, и, пожалуй, даже лестно… и черт с ней, с прошлой-то обидой, служба еще вся впереди… И думать нечего — соглашаться надо».
Он легко поднялся с кресла, приложил руку к левой стороне мундира и сказал с полупоклоном:
— Сочту за честь, ваше превосходительство, повести разработку под вашим покровительством и с вашей помощью. А что касается разговора с дядюшкой — сделаю все, что вы предлагаете.
— Ну и превосходно, — сказал Мардарьев, тоже вставший со стула. — Мы это дельце с вами отменно провернем. А сейчас я вам предлагаю вот что: ваш поезд отправляется за полночь, и у нас есть полная возможность после вашей встречи с дядюшкой отужинать вместе. Сведу-ка я вас в ресторан Пивато — первоклассное заведение с чудной кухней. Правда, там есть одна заковырка… Вы как — пьете шампанское?
— Даже люблю, — сказал Стась.
— Тогда все вопросы сняты: у Пивато не пить шампанское дурным тоном считается!
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
«Громадные средства, отпущенные законодательными учреждениями на постройку флота, необычная энергия морского министра, ведущего постройку судов одновременно на Черном и Балтийском морях, реформа технической части морского ведомства и заводов — все это дает уверенность, что воссоздание русского флота поставлено на прочную почву и пойдет большими шагами вперед, но нельзя при этом забывать и о душе флота — его личном составе; но в этом отношении морскому министру предстоит еще более тяжелая работа; необходимо подготовить опытный офицерский состав, умеющий бороться с преступной агитацией подпольных организаций; необходимо подготовить надежный кадровый унтер-офицерский состав, при котором были бы немыслимы внезапные вспышки волнений на судах».
(Журнал «Военный мир», № 8—9, 1912 г.)Фердинанд Мейснер с трудом дождался конца вахты, передал свой пост у котла кочегару Васюкину, но подниматься наверх не стал, а боком скользнул за соседний резервный котел, легко нашел в полумраке люк, просунул внутрь руку, нащупал и повернул выключатель. Однако свет в котельном трюме не зажегся. Мейснер несколько раз щелкнул выключателем, но результат был все тот же — внизу было темно. Он тихо выругался сквозь зубы, но мог бы это сделать и в полный голос — здесь, внизу, гул работающей машины заполнял помещение, перекрывая все другие звуки.
Он с сомнением заглянул в горловину люка, хотел было опустить на место металлическую крышку, но потом вдруг решился и полез в темноту, нащупывая ногами железные ступени трапа. Крышку он все же опустил над головой, очутившись после этого в таком кромешном мраке, какой, наверное, существовал лишь до сотворения мира. Внизу, ощутив под башмаками ровную поверхность металлического покрытия, он достал из кармана спички, запалил одну и при свете маленького желтого язычка пламени быстро огляделся и уверенно шагнул вперед. Дальше можно было двигаться на ощупь, касаясь рукой переборки. Через несколько метров наткнулся на выступ, обогнул его, снова зажег спичку и, держа ее в левой руке, нагнулся, стал шарить правой в щели и через мгновение извлек на свет божий, а точнее на свет догоравшей спички, бутылку шустовского коньяка. В наступившей темноте он бережно поставил ее на верхнюю плоскость воздухопровода, опять зажег спичку, поднес ее к этикетке, стал разглядывать картинку.
Ни разу Фердинанду Мейснеру за всю его жизнь не приходилось отведывать коньяка, хотя водки и пива за свой еще недолгий век выпил он, наверное, не одну бочку. Состояние его финансов никак не позволяло ему приобщиться к тем, кто пьет этот, похожий цветом на чай, напиток. Бутылку, которая стояла перед ним, он и не думал покупать, а попросту стянул ее.
Было это неделю назад. Сменившись утром после ночной вахты, он решил подняться на верхнюю палубу — хоть немного подышать свежим морским воздухом. И по пути черт занес его в офицерский коридор. Дверь в кают-компанию была открыта настежь, возле, поставленные один на другой, стояли два ящика с бутылками, а матросов, которые их притащили, в поле зрения не было — видимо, вошли в кают-компанию. И действительно, изнутри слышались голоса. Решение созрело мгновенно. Он выхватил из ящика две бутылки, судорожно засунул их в карманы брюк, повернулся, чуть дыша дошел до ближайшего поворота и кинулся к трапу, ведущему вниз. Никем не замеченный, он добрался до котельного отделения и благополучно спрятал коньяк под воздухопроводом.
Он долго не мог решиться навестить свой тайник — боялся, что за всеми матросами будут усиленно следить. И лишь теперь, спустя неделю, он проник сюда, чтобы потихоньку отведать господский напиток. Мейснер отлично понимал, что с бутылки, да еще без закуски, его может развезти, а потому благоразумно запасся резиновой пробкой, чтобы оставить недопитое на другой раз. Одно только смущало, что не было света. Но ведь можно же выпить и в темноте. Пробку из бутылки ударом ладони по донышку он умел вышибать с одного удара и сейчас свободно проделал эту операцию в темноте. А потом, чувствуя, как забилось в предвкушении сердце, осторожно глотнул из горлышка и почему-то зажмурил при этом глаза, хотя вокруг и без того была темень кромешная.
Но он пока ничего не понял толком. Пришлось глотнуть второй раз.
И в этот момент Мейснер услышал, как наверху звякнул открываемый люк.
Первым побуждением его было немедленно бежать, но он усилием воли заставил себя не двигаться, затаил дыхание, прижал бутылку к себе, да так и застыл. А вдруг это за ним пришли?
Наверху послышались голоса.
— Что за чертовщина? — спрашивал кто-то. — Никак не загорается.
— А ты фитиль подкрути! — посоветовали ему.
Через секунду забрезжил слабый свет, зыбкие тени зашевелились, поползли по переборкам трюма. Мейснер понял, что зажгли фонарь. Невидимые ему из-за переборки люди с чем-то возились у горловины люка, тихо переговаривались. До него долетали лишь отдельные слова. Теперь ясно стало, что пришли не за ним. Но вот что они там делают, было непонятно. Не дай бог, задраивать люк будут! Тогда из трюма и не выберешься… Может быть, показаться им, пока не поздно? Но ведь начнутся вопросы, что он тут делает, станут искать, найдут коньяк. Тогда тюрьма или дисциплинарный батальон…
И как раз в этот момент в трюме вспыхнул свет, загорелись лампочки, прикрытые зарешеченными плафонами.
— Видишь — я же говорил, все дело в выключателе! — громко произнес наверху голос.
— Давай заодно и лампочку сменим, — ответили ему, — вон, видишь, у переборки не горит одна.
Мейснер понял, что это работают электрики, и у него совсем отлегло от сердца. Однако и им показываться не следовало. Он услышал, как по трапу прогремели матросские ботинки. Шаги направились к нему, но за ближайшим выступом смолкли. Пока двое электриков меняли лампочку, он стоял не шевелясь, старался сдерживать дыхание.
— Ну вот и все, — произнес бодрый голос, — потопали наверх!
— Послушай, Сережа, — отозвался второй электрик, — пока мы здесь одни, хочу тебе насчет Королева сказать. Опять он ко мне приходил.
— Это насчет покушения?
— Ну да… Нехорошее дело затевается, Сережа. Он и его дружки, видимо, всерьез решили ухлопать царя. У них уже и оружие есть…
Мейснер похолодел.
А человек за перегородкой продолжал:
— Я ему снова пытался втолковать, что моя партия категорически против террора, а я строго подчиняюсь партийной дисциплине, но он все еще агитирует, надеется на согласие… видимо, у эсеров силенок маловато… Что из всего этого будет — одному богу известно. Я не очень-то верю в то, что покушение может удаться, — когда царь прибудет к нам на корабль, его и здесь охранять будут со всех сторон. Но даже за саму попытку на виселицу люди пойдут… и к тому же жандармы так раздуют это дело, что и невинных впутают. И повод у них будет отличный, чтобы репрессии по всей стране усилить. Вот уже который день ломаю голову, как помешать Королеву и его дружкам, но ничего путного придумать не могу…
— Может, припугнуть его?
— Да чем припугнешь-то? Он и сам мастер пугать… И ведь не в охранку же заявлять на него…
— Это верно… и он это понимает.
— Я вот о чем думаю, Сережа, нельзя ли как-нибудь проследить за Королевым, разузнать, где у них оружие спрятано, и перепрятать… Безоружные не полезут.
— Ну да, проследить! Заметят если, то могут за агентов охранки принять. А тогда запросто пристукнут в темном углу.
— Прав ты, Сережа, запросто могут… Но с другой стороны — делать-то что-то надо! Прибудем в Ревель, надо с товарищами на берегу посоветоваться. Сейчас как раз в Ревеле должен быть человек из Питера. Мне передавали, что он на завод акционерного общества «Вольта» устроился. Через него связь с Петербургским комитетом установить должны. Скорее бы только это плавание кончилось! Ты ничего не слышал насчет прихода в Ревель?
— Откуда же? Но вообще-то думаю, что скоро — неделю уже в море болтаемся. Время у нас пока есть, давай вместе теперь думать, как Королеву помешать… А сейчас пойдем — скоро уже к обеду сигнал будет.
Электрики поднялись по трапу наверх, выключив в трюме свет. И Мейснер опять остался в темноте. Он стоял, бессильно прислонившись к переборке, ждал, когда утихомирится сердце. Господи! И зачем только слышал он этот разговор? Не к добру, не к добру это. И никому ни звука. А то не жить на свете.
…Сергей бежал по узенькой тропке, прорезавшей бесконечный луг, легко отталкиваясь от земли босыми ногами, ощущая ее такой мягкой, будто бежал он по перине, и каждый толчок ноги поднимал его в воздух, как пушинку, и он медленно, словно был почти невесомым, опускался на тропинку и снова взлетал над ней, пока наконец не повис в воздухе и не поплыл над лугом лицом вниз с широко раскинутыми руками. Но откуда-то сбоку вдруг выплыло что-то темное, страшное, клубящееся, и он почувствовал, как его швырнуло, увидел, как кинулась навстречу земля, а сбоку сверкнуло и загрохотало, в уши вонзился пронзительный звук…
Еще окончательно не проснувшись, он понял, что горн трубит побудку, откинул одеяло, ухватился руками за края подвесной койки, резко выбросил тело вбок и вперед, коснулся ногами палубы и только тогда открыл глаза. Остатки сна клубились в сознании, но руки сами механически делали все, что им нужно. Немного минут отводилось матросу на то, чтобы одеться, сложить и связать койку, умыться и причесаться.
Вокруг Сергея молча и сноровисто увязывали койки матросы, с грохотом бежали к умывальнику. Он едва успел плеснуть тепловатой водой в лицо, как «архангел» вновь затрубил — на этот раз сигнал на молитву.
На церковной палубе собрались почти все, когда Краухов занял привычное место у левой переборки. Неподалеку впереди отдельной группой стояли офицеры в белых кителях, с обнаженными головами. Сергей тоже снял бескозырку, привычно положил ее на сгиб поднятого локтя, уставил взгляд в раскладной иконостас, где, обрамленные сверкающими золотом окладами, темнели скорбные лики святых.
Корабельный священник (на матросском жаргоне именуемый «водолазом») приступил к делу споро. Как всегда, он читал молитву в таком резвом темпе, что ее торжественность начисто терялась. Появлялось ощущение, что батюшка не служит, а отбывает повинность.
Каждому, кто бы взглянул на сосредоточенное, серьезное лицо Сергея со стороны, могло показаться, что человек этот полностью погружен в молитву. Но, к счастью, никому из начальства не дано было заглянуть в его мысли. А думал он о том, что неладно все получается. После арестов в Гельсингфорсе многие связи оказались порванными. Правда, два дня назад удалось установить связь с подпольной группой на «Андрее Первозванном», но товарищи, встревоженные провалом, считали, что сейчас не время для решительных действий и надо исподволь заново готовить силы. Во время стоянки в Ревеле Недведкин пытался встретиться с товарищем, который приехал из Петербурга и работал на заводе «Вольта», однако возле дома, где тот поселился, Костя обнаружил шпика, и только чудом ему удалось не попасть в поле зрения, пройти мимо так, будто он и в самом деле шел мимо этого дома. А тут еще эсеры со своим отчаянным планом покушения. Королев не скрывал, что они уже сумели притащить на корабль револьверы, но где хранили их — об этом упорно молчал. Так что узелок завязывался такой, что не дай боже…
Мысли Сергея прервал решительный возглас: «аминь». Он машинально вместе со всеми перекрестился и пошел к трапу.
А дальше день пошел раскручиваться по привычному распорядку, не оставляя времени для того, чтобы о чем-то толком подумать. После завтрака его послали в носовую башню. Там что-то не ладилось с подъемником снарядов, по-видимому, барахлил электромотор, но артиллеристы сами, без электрика, не могли разобраться.
В башне он увидел унтер-офицера Ярускина и трех матросов, а среди них и знакомого по памятному разговору в Кронштадте Королева. Тот мельком взглянул на него, как показалось Сергею, но настороженно, и отвернулся. Элеватор, на котором подавались снаряды, находился в верхнем положении, но напрасно Ярускин нажимал кнопку спуска. Внизу что-то щелкало, раздавался легкий гул, но элеватор оставался на месте. Сергей тоже попробовал нажать кнопку, но результат был тот же — внизу что-то щелкало, но не срабатывало. Надо было спускаться, проверять контакты, смотреть мотор.
Искать на этот раз пришлось долго, но когда наконец нашел причину, то даже сплюнул от огорчения — почему не подумал об этом раньше? Оказалось, что кончик провода, подававшего ток к мотору, замаслился, и потому контакт не срабатывал. Устранить причину было минутным делом. Когда он снова поднялся в башню, комендоры гоняли элеватор вверх и вниз. Подъемник действовал безотказно.
Командир башни — молодцеватый и всегда ровный в обращении с матросами лейтенант Затурский, подошел в то время, когда Сергей возился внизу, и угостил электрика папиросой, которую Сергей засунул в нагрудный карман — курить в башне строжайшим образом запрещалось.
— Вот что, братцы, — сказал лейтенант, — вы уже порядок навели, так что предлагаю вам минут с десяток передохнуть, а чтобы не скучно было, можете и потравить.
Хотя Затурского знали как офицера справедливого и к матросам внимательного, но ведь известно: барская ласка до порога… При нем «травить» не решились. И тогда Ярускин предложил, чтобы комендор Силантьев почитал вслух газетку «Кронштадтский вестник».
— А чего читать-то? — поинтересовался Силантьев — высокий худущий матрос с сумрачным лицом.
— Там о пребывании государя императора в Москве пропечатано, — сказал Ярускин, покосившись на лейтенанта, — вот ты и валяй оттуда.
Комендор с готовностью развернул газетный лист, примостил его на коленях и громко, но монотонно стал читать вслух, как происходила церемония открытия памятника, как царь принимал парад войск. Матросы внимательно слушали.
— «Его Величество, — гудел голос Силантьева, — был в форме двенадцатого гренадерского астраханского имени императора Александра III полка, наследник цесаревич — в форме четвертого стрелкового императорской фамилии полка. Государыни императрицы были в белых платьях при андреевских лентах. Великие княгини были в лентах ордена святой Екатерины. Государь император, наследник цесаревич и великие князья были также при андреевских лентах».
Он оторвал взгляд от газеты, оглядел слушателей и снова продолжал:
— «Перед самым памятником был разбит белый шатер для Их Величеств, затянутый белыми материями в стиле… в стиле… «етриче».
— Какое еще «етриче»? — подозрительно спросил Затурский. — Что за слово ты читаешь?
— Так тут, вашскородь, что-то вроде и не совсем по-нашему написано, но как будто бы «етриче»[4].
— А ну-ка, дай сюда газету.
Затурский глянул в указанное Силантьевым место, невольно улыбнулся.
— Тут действительно не по-нашему напечатано. Это слово французское и читается оно: «ампир». Есть такой стиль в архитектуре, такой, понимаешь, строгий, без выкрутасов. Ты, к примеру, здание Адмиралтейства в Петербурге видел?
— Так точно, вашскородь, видал.
— Вот это здание как раз и есть типичный ампир.
В тот момент в проеме распахнутой броневой двери показалось веснушчатое озабоченное лицо вестового Колядина. Увидев Затурского, он вытянулся, скороговоркой сказал:
— Так что, вашскородь, господин капитан первого ранга просят всех офицеров в кают-компанию!
— Иду-иду, — торопливо отозвался Затурский и повернулся к унтер-офицеру: — Ярускин, не дожидайся меня, начинай собирать прицел. Один справишься?
— Так точно!
— Ну и действуй.
Когда Затурский вышел, Силантьев снова взял газету, поглядел в текст и хмыкнул, покрутил головой:
— Чудно как-то получается, братцы, ампир, ампир!.. А мне так и чудится: вампир, вампир…
— Если чудится, так перекрестись, — прервал его Ярускин. — И кончай немедля посторонние разговоры!
— Да ладно тебе! Все здесь свои, не продадут. Я вот читаю газету и ахаю: это надо же — два миллиона ухлопать, чтобы бронзовую фигуру соорудить! А тут еще гости, обеды, наряды, парады! И этот еще — ампир! Ты вот скажи лучше — сколько наш линейный корабль стоит?
— Не знаю, наверное, поболе миллиона… — неуверенно сказал Ярускин.
— Ну пусть даже и два. Так что ж выходит-то: вместо этой фигуры цельный линейный корабль построить можно было. Каждый день, почитай, газеты шумят, что России сильный флот нужен. А откуда взяться флоту, когда денежки на царские забавы улетают!
— Кончай, Силантьев!
— А вот и не кончу! И ничего ты не сделаешь и к начальству не побежишь. Я же тебя как облупленного знаю — хоть лычки на погонах носишь — свой. Верно я говорю, братцы?
— Правильно говоришь, — подтвердил комендор Королев. — И про Ярускина и про царя. Ну а вывод какой же?
Но какой вывод готовился сделать Силантьев, матросы не успели узнать — снаружи залились переливчато боцманские дудки, исполнившие сигнал «свистать всех наверх». Комендоры сноровисто выскакивали из башни. Вслед за ними рванулся и Сергей.
Причиной созыва всей команды была радиограмма на имя флагманского штурмана, полученная из штаба. В ней сообщалось, что со стороны Северного моря надвигается на Балтику ураган. Отряду линейных кораблей, стоящему на рейде близ Гангэ, предписывалось при приближении урагана покинуть стоянку и уйти в открытое море. Созвавший офицеров Небольсин в присутствии командующего бригадой контр-адмирала Маниковского объяснил задачу, и сразу же начались работы по штормовому расписанию: на верхней палубе крепили все, внизу, в котельном отделении, поднимали давление пара в котлах, по всем каютам задраивались наглухо иллюминаторы.
Сергей по расписанию должен был обеспечить дополнительное крепление шлюпок по левому борту, чем он и занялся незамедлительно, получив от боцмана моток прочного манильского троса. Вместе с ним по всей верхней палубе быстро, но без суеты работали матросы.
Команде уже разъяснили, что надвигается ураган, но пока не видно было его признаков — с безоблачного неба жарко светило июньское солнце, стояло полное безветрие, штилевое гладкое море отливало зеленым и голубым. И непонятно было, к чему вся эта спешка.
Однако ближе к полудню, когда работы по кораблю были закончены, потянуло свежим ветерком, вода вокруг зарябилась, а на западе в небе появилось маленькое облачко. К этому времени барометр упал настолько, что сидевшие в своей рубке штурманы с изумлением поглядывали друг на друга — такого они еще не видывали.
Командир бригады отдал приказ выходить в море. Головным, как всегда, шел «Император Павел I», за ним «Андрей Первозванный», «Цесаревич» и «Слава». Корабли, набирая ход, шли навстречу начавшим подниматься волнам и усилившемуся ветру, который уже засвистел в снастях.
От горизонта быстро наползала, захватывая все видимое пространство, огромная черная туча.
Сергею никогда еще не доводилось бывать в штормах, хотя он уже много наслышался, о них. Волнения он не испытывал никакого — разве может что-то случиться с такой стальной громадой даже на большой волне? Однако он и опомниться не успел, как корабль стало раскачивать. Форштевень несколько секунд лез кверху, а потом накренялся и уходил вниз, под ложечкой рождалось неприятное ощущение пустоты. А размахи преодолевающего волну корабля становились все круче. Брызги, перелетая через форштевень, окатывали палубу. А потом стоявший возле башни Сергей, который по штормовому расписанию выделялся в помощь боцманской группе, увидел, как на этот раз форштевень скрылся в водяном вале, и пенистый поток прошел по палубе. И тут он в первый раз почувствовал подступившую к горлу тошноту.
Небо уже заволокло совсем, вокруг потемнело, как в сумерки, кругом, куда доставал взгляд, вода кипела и пенилась, навстречу кораблю катились огромные с белыми гребнями волны, ветер забивал дыхание, гудел и свистел так, что в его гуле ничего не было слышно.
Боцман Приходько встал рядом с Сергеем, наклонился к нему, прокричал в ухо:
— Держись, парень! Бог не выдаст, свинья не съест! Укрылся бы ты за башней…
Но тут громада корабля снова ухнула вниз, в провал между вздыбленными волнами, внутри у Сергея будто что-то оборвалось, и он, чувствуя, что сейчас его вывернет наизнанку, вытянул, как слепой, руки вперед, сделал несколько шагов к борту, уцепился за леера. Внизу у борта клокотала, пенилась темная вода, и он изо всех сил зажмурил глаза. Когда его стошнило, стало как будто немного легче, но наступила такая слабость, что руки стали как ватные, и он не мог держаться за леер с прежней силой. На мгновенье мелькнула мысль, что он может сорваться и полететь вниз, но прошла она как бы стороной, не вызвав тревоги. Даже это было для него сейчас безразлично. Кто-то сильной рукой рванул его за плечо. Сергей повернул голову и увидел сердитое лицо боцмана, услышал злой голос:
— Ты что, раззява, шлюпку не закрепил как положено? Если сорвет, под суд пойдешь, болван! А ну марш за тросом! Бегом, бегом!
И он подтолкнул его в спину. Сергея шатало от слабости, но он, превозмогая себя, стиснув зубы, побежал вниз, миновал уходящий из-под ног коридор, скатился по трапу. Когда он вернулся, боцман накричал на него, назвал безмозглым бараном и опять приказал бежать, принести еще один моток. И хотя Сергей вернулся довольно быстро, боцман снова наорал на него, кричал, что такого матроса только за смертью посылать, и тут же заставил его проверить все крепления на шлюпках, туго ли натянуты тросы, и, если надо, подтянуть их.
Пришлось переходить по скользкой, неверной палубе от шлюпки к шлюпке, а боцман шел следом и все кричал на него до тех пор, пока Сергей не почувствовал злость — и чего привязался, идол? Без того тошно… Но почему-то именно после того, как разозлился, он почувствовал себя получше и ощутил, что руки и ноги окрепли, вроде бы стала отступать и тошнота.
Он добросовестно проверил все крепления, подтянул, где надо, а когда дошел до последней шлюпки по левому борту, в воздухе заметно посветлело. Клубящиеся тучи уносило ветром на ост — к Петербургу.
Позже, когда почти улеглась качка, боцман подошел к Сергею, сказал незлобиво:
— Ты, Краухов, на меня не серчай. Я ведь с намерением на тебя орал, бегать заставлял и злил специально. Если молодого матроса в шторм травить начинает, то первое дело его отвлечь от собственной слабости надо. Так что считай — это вроде лечения было…
А ураган, уйдя к востоку, взбаламутил по пути мелководный Финский залив, потопил несколько рыбацких шхун и со всей силой обрушился на Петербург и пригороды, срывая крыши с домов, опрокидывая афишные тумбы, свивая в жгуты провода на столбах. От черных туч сделалось так темно, что в домах пришлось зажечь свет. Прохожие в ужасе бросались в подворотни, спасаясь от небывало сильной грозы с градом. Мутные потоки заливали улицы и площади. Нева почернела и вздулась, у Елагина острова легко, как щепку, перевернуло прогулочную яхту, ветер сорвал от причалов баржи с дровами.
Ураган промчался и над Царским Селом, куда утром после московских торжеств вернулась царская семья. Ветер с корнем вырвал вековые дубы и сосны, сорвал с крыши дворца листы кровельного железа, опрокинул сторожевую будку, завалил дорожки сучьями, черепицей, обломками заборов. В течение нескольких минут в парке погибла тысяча деревьев.
Богомольные обыватели шепотом говорили друг другу, что все это не к добру.
После того как ураган ушел далеко на ост, адмирал Эссен приказал бригаде линейных кораблей вернуться в район Гангэ, продолжать учения. «Павел I» в строю других кораблей утюжил серо-свинцовую воду, послушно поворачивал по командам, замедлял и ускорял ход. Беспрерывно шли учебные стрельбы по мишеням.
Каждое утро Сергей видел у горизонта светлые пятнышки — обтянутые парусиной плавучие щиты. Корабль, маневрируя, все время меняя курс, шел то параллельно им, то наперерез, чтобы вести огонь под разными углами, носовая и кормовая башни главного калибра легко разворачивались, стволы двенадцатидюймовых орудий задирались вверх, а потом по ревуну начиналась стрельба, слепящее пламя на миг высверкивало из стволов, палуба окутывалась едким дымом. Проходила секунда-другая, и у горизонта возле светлых пятнышек щитов вырастали белые султанчики вздыбленной воды.
Гром выстрелов больно бил по барабанным перепонкам, и после стрельбы долго побаливали уши. И все же Сергею нравилось, когда орудия открывали огонь. Была в них грозная мощь, от которой замирало сердце.
Обычно адмирал Эссен руководил учениями с мостика крейсера «Рюрик», отдавая приказы командирам кораблей с помощью флажных сигналов, заставлял их отрабатывать до совершенства элементы боевой подготовки, нещадно распекал за малейшую оплошность. Иногда он посещал линейные корабли на своем белоснежном юрком катере.
В ходе учений Сергей два раза видел командующего морскими силами совсем близко. Этот грузный, медлительный с виду адмирал обладал поистине неистощимым запасом энергии и упрямства. Он часами не покидал ходового мостика, отказывался от обеда в кают-компании, ограничиваясь чаем, который приносили ему вестовые. Когда начинались стрельбы, адмирал подносил к выцветшим голубым глазам тяжелый морской бинокль и замирал, ожидая попадания. Если снаряды один за другим шли мимо цели, лицо Эссена багровело, седая бородка нервно подрагивала, и он цедил сквозь зубы забористые ругательства, от которых вытягивались и каменели лица стоявших на мостике офицеров. При удачных попаданиях открыто радовался, не скупился на поощрения.
Однажды, когда носовая башня со второго выстрела накрыла мишень, Эссен оторвал от глаз бинокль, сказал громко (Сергей, стоявший под мостиком, слышал каждое слово), что именно так всем морякам следует относиться к своему делу. Он попросил пригласить к нему после стрельб лейтенанта Затурского для выражения личной благодарности, а всему расчету предоставить вне очереди увольнение на берег и выдать по рублю из своих личных средств.
Услышав это, Сергей был обрадован — ему и Недведкину никак не удавалось встретиться с унтер-офицером Ярускиным на берегу, потому что увольнения, как назло, не совпадали, а им крайне нужно было в следующий раз очутиться на берегу вместе — предстояло провести первое после гельсингфорсских арестов нелегальное собрание. Только бы до прихода в Ревель самому не нарваться на дисциплинарное взыскание.
А получить замечание, попасть в разряд штрафованных можно было в любой момент. В матросской жизни, известное дело, не довернешься — бьют и перевернешься — бьют… Старший офицер корабля Миштовт наводил своими мерами такой порядок, что матросов бросало в дрожь от одного только его имени. Даже офицерам непонятно было его особое рвение. До поры до времени Миштовт, как и командир корабля, обязан был хранить в тайне приближающийся визит монарха на корабль. Но оба они и не подозревали даже, что тайна эта благодаря дыре в переборке стала уже достоянием нескольких матросов, среди которых был и матрос второй статьи Краухов.
В отличие от многих на корабле Сергей прекрасно понимал, чем вызвано небывалое рвение старшего офицера. Следовало быть особенно осторожным, чтобы не нарваться на взыскание.
У Миштовта была скверная привычка подойти со спины к работающему матросу так, чтобы тот не видел его, и молча наблюдать. Совсем недавно — на второй или третий день после урагана — Сергей сам увидел, как запросто может придраться Миштовт к матросу.
Это было во время утренней приборки. При разводе на работы Сергею досталось в паре с комендором Силантьевым — тем самым, который при чтении газеты запнулся на слове «ампир», — драить латунные поручни на командирском трапе. Работали оба старательно. И вот в какой-то момент за спиной Силантьева вырос старший офицер. Надо было бы предупредить товарища, и самым верным способом для этого было встать «во фронт». Однако Миштовт жестом остановил его. Теперь Сергей, продолжая полировать тряпкой поручень, молил бога только об одном, чтобы товарищи не брякнули чего-нибудь такого вслух. К счастью, этого не случилось. Поймавший наконец-то напряженный взгляд Сергея Силантьев обернулся, увидел старшего офицера и вытянулся перед ним.
— Тебе что поручено делать, голубчик? — спокойно, почти ласково спросил Миштовт.
— Так что, медяшку драить, вашскородь!
— А как драить?
— Чтобы до полного блеска, вашскородь!
— Значит, до полного? А это у тебя что, голубчик? — старший офицер тыкал пальцем в маленькое тусклое пятнышко. — Отчего здесь полного блеска не вижу?
— Тряпочка загрязнилась, вашскородь, не извольте беспокоиться, мигом новую приволоку.
— Вот-вот, сходи, голубчик, за тряпкой, а ротному скажешь, чтобы он тебя после обеда на час под ружье поставил.
— Слушаюсь, вашскородь, — упавшим голосом отозвался матрос.
— Вот и ступай.
Но не успел Силантьев отойти на несколько шагов, как старший офицер остановил его, подозвал и таким же ровным бесстрастным голосом спросил:
— Ты, голубчик, приказание понял?
— Так точно!
— Почему же тогда шагом, а не бегом исполняешь:
— Виноват, вашскородь!
— Ну, вот видишь, сам понимаешь, что виноват. Скажи ротному, чтобы на два часа под ружье поставил.
И в тот же день после обеда, когда другие матросы отдыхали, комендор Силантьев в полной выкладке, с тяжелыми подсумками, куда вместо патронов был насыпан песок, с таким же тяжелым от песка ранцем на спине, с винтовкой в застывшей, одеревеневшей руке неподвижно стоял под жарким июньским солнцем на верхней палубе. На матросском жаргоне это называлось «стрелять рябчиков». Рядом с Силантьевым в такой же неподвижности стояли еще двое наказанных. Передвинуть затекшую ногу или шевельнуть рукой они не могли — за это нарушение наказанный уже мог угодить в карцер, на хлеб и воду.
Когда отдохнувших после обеда матросов снова развели по работам, отстоявшего два часа под ружьем Силантьева опять направили в паре с Крауховым подкрашивать дверцы щитков электропитания. Силантьев подошел к ведерку с разведенным суриком, макнул кисть в краску и, ни к кому не обращаясь, не разжимая сцепленных зубов, пробормотал:
— Сука подлая!
Было в его голосе столько ненависти, что Сергей даже вздрогнул, он поспешно ткнул комендора в бок, сказал предостерегающе:
— Но-но! Не кипятись понапрасну…
А еще два дня спустя, когда за хорошую стрельбу Эссен велел дать всему расчету внеочередное увольнение, Сергей подумал, что, пожалуй, надо будет взять на нелегальное собрание и Силантьева. Парень свой, рабочий, не подведет. Правда, горяч маленько, да ведь и сам Сергей спокойствием не отличается и лишь с большим трудом сдерживается в подобных случаях… А Силантьева надо обязательно взять с собой.
На корабле уже было известно, что бригада из района Гангэ идет на несколько дней в Ревель. Нужно было заранее договориться с надежными людьми о встрече в Кадриорге.
ВЕСЕЛЫЙ ГОРОД РЕВЕЛЬ
«Казино». Превосходная программа! — «За грехи матери». Длина картины 1200 метров. Часть I: «Под звон бокалов. Дочь кокотки. Призыв смерти». Часть II: «Возлюбленный Лоренцо. Неожиданное возвращение. Я убил ее мужа». Часть III: «Неожиданная встреча. Смелый план. Правда восторжествовала».
«Те-Рояль-Био» — «Четыре черта, четыре!!!» 2-я часть.
Театр «Экспресс-Био» — «Безумие и любовь». — Захватывающая драма из современной жизни. В исполнении первоклассных артистов.
Цирк. В первый раз в Ревеле московский цирк Рудольфа Труцци!
Ресторан Хр. Мейера — каждый вечер концертная программа.
Аэродром по Нарвской улице — в субботу 2-го и в воскресенье 3-го июня в 6 часов вечера летит Уточкин. Полеты будут совершены независимо от погоды. Число билетов ограничено».
(Из объявлений газеты «Ревельские известия» в мае — июне 1912 г.)«Если встреча наблюдаемого с филером неизбежна, то не следует ни в коем случае встречаться взорами (не показывать своих глаз), так как глаза запоминаются легче всего».
(Параграф 33 инструкции департамента полиции о наружном наблюдении)Тирбах, Эльснер и лейтенант Затурский, сверкавшие ослепительной белизной кителей и фуражек, с нетерпением ожидали катера, который должен был доставить их на берег. На рейде в Ревеле стояли уже третьи сутки, и каждое утро свободные от вахт стремились в город, обещавший столько интересного. Конечно, это был не Гельсингфорс, но и здесь, в Ревеле, есть рестораны с недурной кухней, к примеру «Губертус» и «Жаке», да и при гостинице «Золотой лев» ресторан был неплох, а в «Горке» у Новых ворот предлагали довольно сносный дивертисмент. В Ревеле начал гастроли московский цирк Труцци, а на аэродроме по Нарвской совершал полеты на аэроплане знаменитый авиатор Уточкин, выступавший с этим номером в Петербурге и Гельсингфорсе.
Планы у офицеров были разными. Эльснер собирался осмотреть старый екатерининский дворец в Кадриорге, Тирбах сказал, что зайдет в антикварную лавочку, поищет подарок ко дню рождения тетки, а Затурский заявил, что убьет время игрой в бильярд.
— Люблю эту игру, — признался он, — глазомер хорошо развивает.
— Смотрю на вас, господа, с завистью, — вмешался в разговор стоящий у трапа лейтенант Соболев, — сам бы сбежал в этот милый, провинциальный романтичный Ревель, когда бы не постылая вахта на сонном рейде. А после вчерашней эскапады так бы хотелось проветриться!
— Хорошего понемножку, — улыбнулся Затурский, — вчера, по-моему, ваш организм тихо плакал от излишней нагрузки…
— Да, были схватки боевые… — мечтательно произнес Соболев. — Ну да ладно — не суждено сегодня продолжать наши гусарские игры. А кстати, господа, отчего бы вам не зайти в «Экспресс-Био». Шикарная кинематографическая программа: «Многоженство, или Цветок города Мормонов»! Будете рыдать, как грудные младенцы.
— Нет уж, увольте, — поморщился Тирбах, — кинематограф все-таки не для благородного общества. Типичное зрелище для простолюдинов.
— Но почему же, Пауль? — Эльснер был явно огорошен. — В кинематограф ходят сейчас все!
— Прежде всего горничные и пожарные…
— Уж не возомнил ли ты…
Соболев торопливо остановил готовую вспыхнуть ссору.
— Господа! Катер подходит к трапу. Думаю, что задерживаться не в ваших интересах.
Офицеры спустились вниз, один за другим перебрались на катер, который совершил широкую дугу, огибая серый корпус «Андрея Первозванного». Офицеры молча поглядывали на приближающийся берег. Нахмуренный Тирбах был явно чем-то недоволен, острые кончики усов подрагивали, а это означало, как знал Эльснер, что его товарищ в любую секунду может сорваться, излить свою злость на ком угодно.
— Нет, вы только полюбуйтесь, — недовольным тоном сказал Тирбах, — посмотрите, как крючковой стоит! Раскорячил ноги, словно баба… не матрос, а черт те что! Придется на берегу замечание сделать… распустились совсем!
— Оставь ты его в покое, — возразил Эльснер. — Идем по небольшой волне, катер покачивает, где уж тут в идеальной позе стоять.
— Ах, виноват, мон шер! — приподнял бровь Тирбах. — Совсем забыл, что ты у нас оригинал с собственными взглядами на уставную дисциплину. Не находит в твоем сердце отклика необходимая строгость с нижними чинами… отзывчивая душа, отец солдатам!
— Не восприемлю твоей иронии! — вспыхнул Эльснер. — Заботливое и внимательное отношение к нижнему чину не мной выдумано. Все выдающиеся флотоводцы относились к матросам только так! И нам завещали относиться так же.
— Ну, конечно, чуткая, гуманная душа! — продолжал издеваться Тирбах. — В романтическую пору фрегатов и корветов Станюковича все это выглядело красиво. Но мы в другие времена живем. Дай им только послабление — вмиг распустятся! А нас с тобой они так нежно любят, что в любой миг готовы в соленую купель… как на «Потемкине», к примеру. Разве ты не слышал, как тогда офицеров в соленую водичку с борта опускали?
— Но ты уж готов в каждом матросе потемкинца видеть!
Молчавший до сих пор Затурский сказал с укоризной:
— Но, господа, мне кажется — вы оба забываться начинаете! Разговор ваш не туда свернул. Среди студентов, может, и уместны такие разговоры, но на корабле…
Мичманы надулись и замолчали. Все же, когда катер подошел к пристани, Тирбах но утерпел, сделал крючковому замечание, велел доложиться ротному командиру.
У ворот гавани офицеры сообща взяли извозчика до центра города, а там официально откозыряли друг другу и разошлись в разные стороны. Затурский действительно отправился в бильярдную, Эльснер поехал в Кадриорг, но Тирбах ни к какому антиквару не собирался идти. Ему нужно было встретиться с ротмистром Шабельским яа конспиративной квартире. Вчера он получил от Миштовта сугубо доверительное поручение встретиться на Рыцарской улице в конспиративной квартире с ротмистром Шабельским и рассказать ему о настроениях корабельных офицеров.
Идя на свидание, мичман изрядно нервничал. Это была его первая встреча с официальным представителем Эстляндского жандармского управления, и он плохо представлял себе, как надо держаться в подобных случаях. А потом его беспокоила мысль, что он слишком мало сможет сообщить на этой встрече. Вместе с тем чем-то даже радовало поручение Миштовта — он вдруг ощутил, что судьба его сослуживцев в какой-то мере теперь находится в его руках, что от него теперь во многом будет зависеть их карьера. И это было приятно.
Он уже успел убедиться в том, что поводов брать людей на заметку у него будет более чем достаточно. Взять хотя бы этот нелепый спор с Эльснером в катере. Сейчас только от него, Тирбаха, зависит, какую окраску может получить этот разговор. Реплики Эльснера вполне ведь можно понять как попытку бросить тень на установленные сверху порядки. Конечно, он ничего не скажет Шабельскому об этом неосторожном мальчишке — они же все-таки товарищи по выпуску! Во всяком случае, сегодня не скажет. Однако приглядеться к Эльснеру поближе тоже надо будет. Его слюнтяйство объективно вредно, ибо только способствует распущенности нижних чинов. А кстати, и о Затурском тоже следует подумать. Много берет на себя лейтенант — делать замечания таким тоном! А сам недопустимо якшается с матросами, держится с ними чуть ли не запанибрата. К нему тоже не мешает присмотреться!
Полный приятных мыслей о том, что его сослуживцы теперь зависят от его оценок и слов, Тирбах не заметил, как вышел к нужному ему дому. И тут беспокойство опять навалилось на него — кто знает, как надо вести себя с этим неведомым ротмистром?
Во время прихода бригады линейных кораблей в Ревель на улицах днем можно было видеть много матросов, но потом их становилось все меньше — они расходились подальше от центра города, где всегда полно было флотских и армейских офицеров, чинов полиции. Зато по окраинам то там, то тут белели матросские форменные рубахи и чехлы бескозырок. И особенно много матросов уходило к парку Кадриорга — здесь, под могучими кронами вековых дубов и вязов, они чувствовали себя свободнее, на время забывали о корабельном начальстве. Тут можно било поговорить по душам, не боясь, что подслушают.
Среди сотен заполнивших парк матросов были люди, которым именно в это увольнение необходимо было собраться в одном месте, чтобы определить свои совместные действия на ближайшее время. Только самые надежные были приглашены на эту встречу, которая должна была состояться на берегу моря возле памятника погибшему броненосцу «Русалка».
Место было выбрано не случайно — сюда не мог подойти незамеченным никто из посторонних, а в то же время появление группой всегда могло быть объяснено любопытством к самому памятнику.
От линейного корабля «Император Павел I» направлялись к условленному месту четыре человека — Недведкин, Краухов, Ярускин и Вальцов. Кочегара Вальцова до этого дня Сергей совсем не знал. Но Недведкин еще до того, как познакомить их, объяснил, что это вполне надежный человек — в прошлом ревельский рабочий. На корабле он был в кочегарной команде, отличался ровным характером и колоссальной выдержкой. Именно через него, как оказалось, Недведкин получил сведения о приехавшем в Ревель человеке, с помощью которого можно было установить связь с Петербургским комитетом.
Возле памятника пришедшие застали группу матросов с других кораблей. Коренастый крепыш с надписью «Цесаревич» на ленточке укоризненно сказал, что опаздывать на такие встречи не положено — того и гляди могут помешать. Недведкин коротко объяснил, что задержался катер.
— Ладно, — сказал коренастый, — давайте начинать. Кто первый хочет сказать?
— Ты и начни, Баранников. Небось уже успел все обдумать…
— Хорошо! — отозвался коренастый, поднимаясь на ступеньку постамента. — Пусть буду я первым. Так вот, товарищи…
Он сделал паузу, будто собираясь с мыслями, а у Сергея перехватило горло от волнения. Так бывало всякий раз, когда он слышал слово «товарищи». Обращенное к людям, до того совершенно не знавшим друг друга, оно какой-то магической силой разом делало их единомышленниками, заставляя их ощущать, что все они, как один, преданы общему делу. Сергей не первый раз слышал это слово на подпольных сходках, во время рабочих забастовок, и всегда оно волновало его. Стоявшие рядом с ним люди были ему товарищами не потому, что они росли, работали или служили вместе с ним, а потому что они вместе вступили на общую дорогу борьбы опасной и беспощадной, где не прощается слабость, а предательство карается смертью.
— Товарищи! — снова повторил Баранников. — Все вы хорошо знаете о недавних событиях в Гельсингфорсе. Жандармы вырвали из наших рядов многих. Намеченное восстание не состоялось… Но кто может нас остановить? Мы все-таки доведем дело до конца! Нас — оставшихся на свободе — гораздо больше. Наших арестованных товарищей ждет суд, а потом тюрьма, может быть, и каторга. Своей свирепостью царские слуги хотят нас запугать и сломить нашу волю. Не бывать этому!
Он сорвал с головы бескозырку, энергично взмахнул ею.
— Вы помните, товарищи, как два с лишком месяца назад на Ленских приисках солдаты расстреляли наших братьев-рабочих. Тогда палачи думали, что от кровавой расправы содрогнутся в страхе сердца остальных пролетариев. А что вышло на деле? Весь рабочий класс России поднялся на политическую борьбу. Мы каждый день узнаем о новых и новых стачках. Сейчас в самый раз было бы и наше выступление с оружием в руках. Весь пролетариат России готов нас поддержать. Я предлагаю, товарищи, довести до конца план, намеченный еще в Гельсингфорсе. Настроение среди матросов таково, что все поднимутся, как один. Каждый из нас на своей шкуре испытал издевательства их благородий, и терпение начисто вышло! Нам нельзя тянуть, а надо использовать настроения людей. Я думаю, что две недели для подготовки нам за глаза хватит, и предлагаю сегодня же избрать центр по руководству восстанием…
— А не больно ли торопишься? — спокойно спросил Недведкин. — Без связей с берегом, без предварительной договоренности с Петербургом не стоило бы назначать сейчас сроки восстания.
— Без связей, говоришь? — вдруг ощерился Баранников. — Боком могут выйти нам эти связи! Вот мы в прошлый раз сговорились с подпольным комитетом на берегу. А что из этого вышло? Пока согласовывали — начались аресты. И откуда мы знаем — не было ли провокатора среди тех, кому мы доверились?
— Чушь порешь! — сердито сказал Недведкин.
— Это почему же чушь? Пронюхала охранка о сроке восстания точно — аресты-то как раз накануне были.
— Пронюхала, да не все! Иначе тебя же в первую очередь и загребли бы… По тому, как аресты шли, думается, что жандармы только кое-что знали, а забирали подряд всех подозреваемых. Не могло быть среди наших товарищей на берегу провокатора! Пока мы еще всего не знаем, но я твердо верю, что не было у них предателей. А насчет восстания я лично и все наши с «Павла» возражать, конечно, не будем. Но об одном давай, Баранников, условимся твердо: мы на это дело без согласия Петербургского комитета не пойдем!
Стоявшие у ступеней памятника матросы загалдели, заговорили разом. В общей мешанине голосов улавливалась, однако, общая мысль: «Для чего ждать, если на кораблях хоть сейчас поднимутся?»
— Пойми ж ты, товарищ! — кипятился высоченный матрос со «Славы». — Нету терпежу совсем. Озверели ребята, в бой рвутся. Не достанем оружия — с голыми руками кинутся!..
— Но это мы уже слышали, — вмешался вдруг Вальцов, — пойдут с голыми руками, так всех и перестреляют. Восстание без оружия — глупость!
— Оравой и города берут! — возражали ему.
Страсти стали разгораться еще пуще, но тут со стороны Нарвского шоссе послышался негромкий, но отчетливый свист, и враз все голоса смолкли, матросы встревоженно переглянулись.
— Спокойно, товарищи! — сказал Недведкин. — Расходитесь небольшими группами, не спеша. Послезавтра по одному уполномоченному с каждого корабля надо прислать на явку по Таможенной улице…
Расходились в разные стороны по два-три человека. Высокий матрос со «Славы» положил соседу, идущему рядом с ним, руку на плечо, затянул дурашливым, тонким голосом песню.
Матросы с «Павла» неторопливо двинулись вдоль песчаного пологого берега, потом свернули к парку, по дорожке — вглубь. Шли молча, каждый думал о своем. Первым заговорил Ярускин:
— Что до меня, так я с Баранниковым согласен. Начинать надо безо всяких согласований. Хватит валандаться! Все равно народ нас поддержит. Покидаем офицеров за борт…
— Больно скор ты… — возразил Недведкин. — На словах оно все гладко получается, а вот как до дела дойдет… И потом скажи на милость: что это ты вдруг всех без разбору — за борт?
— А ты уж и пожалел! Нашего брата не больно жалели, когда с восстаниями расправлялись… Бьют, да еще плакать не велят.
— И все же офицер офицеру — рознь.
— А по мне — все они одинаковы. Все они бары. Всяк норовит обидеть. Хороших пока не видел!
Шедший впереди Вальцов вдруг обернулся, спросил у Ярускина:
— А хочешь — покажу?
— Ну, покажи!
Вальцов полез в карман, достал небольшой пакет, развернул бумагу и вынул величиной с открытку фотографию. Сергей первый заинтересованно подошел поближе. С глянцевой поверхности прямо в глаза ему смотрел морской офицер. Взгляд мужественный, твердый, спокойный, но в глубине широко поставленных глаз угадывалась затаенная печаль.
— Кто это? — озадаченно спросил Краухов.
— Лейтенант Шмидт…
— Да, это был человек, — задумчиво произнес Ярускин. — Только другого такого не найти, а тем более у нас на корабле.
— Может, оно и так, — сказал Вальцов, — но только я почему о лейтенанте Шмидте вспомнил? Нельзя же, в самом деле, о всех офицерах одинаково. И у нас на корабле разный народ. Сам же ничего дурного не скажешь насчет штурмана Соболева или артиллериста Затурского.
— Тут уж спорить не буду, — сдался Ярускин. — Этих двоих и на самом деле топить не за что, матросов зря не обижают — это факт. А еще, братцы, есть такой мичман Эльснер. Он тоже к матросам всегда справедлив!
Недведкин сидел в вагоне порядком обшарпанной ревельской конки, который тащила пара заморенных лошадей. Путь был неблизок. Конка медленно и нудно ползла по рельсам, подолгу стояла на остановках. Примостившийся в углу Недведкин не замечал проплывающих за окном улиц, думал о своем…
Та горячность, с которой матросы вновь потребовали начать конкретную подготовку к восстанию и установить для него близкий срок, его не удивила, внутренне он был готов к этому — уж слишком накалена атмосфера на кораблях и у матросов лопается терпение. Товарищи, с которыми он ходил сегодня на подпольную встречу, в общем держали себя спокойно, но если брать команду «Павла» в целом, то там все труднее становилось взывать к благоразумию. Нервы матросов часто не выдерживали.
Взять хотя бы недавний случай, о котором рассказывал ему Сергей. Очень уж неосторожно вел себя комендор Силантьев, начавший вслух возмущаться неумеренными царскими тратами. Ведь не ровен час кто-то из присутствующих начальству доложит. За Силантьевым, может быть, уже наблюдают. А Сергей, чудак, готов был притащить его с собой на подпольную встречу. Нет, не хватает еще у товарищей опыта конспирации, неосторожно действуют они, по лезвию ножа ходят. Конечно, и сам Недведкин всегда на волосок от ареста, но все же он надеется, что осторожность его выручит. А многие матросы попросту на рожон лезут…
Два дня назад на «Павле» зачитали приказ фон Эссена о том, что военно-морской суд приговорил комендора Антонова к четыре годам каторжных работ. Антонова Недведкин знал хорошо. Нелюдимый, мрачный ж раздражительный человек. Уже позднее узнали, что у него дома осталась молодая жена с грудным младенцем, а кормильцем в семье был он один… «Сорвался» комендор после возвращения с берега, где хлебнул с горя в трактире. Может быть, матрос отделался бы карцером, да подлец унтер-офицер караульного взвода ударил Антонова по лицу, а тот, не стерпев, ответил — и началась катавасия, в результате которой пошел молодой парень прямиком на каторгу.
После прочтения приказа на корабле стало неспокойно. Недведкин узнал, что один тип из числа корабельных санитаров стал подговаривать матросов отказаться от ужина в знак протеста. Санитар и прежде вызывал подозрение, а тут Недведкин и вовсе уверился, что опасный человек. Только дурак или провокатор мог толкать матросов на такой шаг — по флотским законам отказ от пищи приравнивался к бунту. На дурака санитар не походил, а на провокатора похоже, что смахивает. Спешно пришлось тогда успокаивать матросов, чтобы удержать их от необдуманного поступка.
А теперь вот перед ним еще более сложная задача — остановить стихийный порыв, поставить дело подготовки восстания на правильную организационную основу. С восстаниями не шутят, к ним надо готовиться тщательно и детально. И конечно же, надо все согласовать с товарищами из Петербурга.
На сегодняшнюю встречу с Лутовановым Недведкин возлагал большие надежды. Это было началом контактов с Петербургским комитетом РСДРП. И еще один очень важный вопрос надо было, не теряя времени, обговорить с Лутовановым: срочно предупредить петербургских товарищей об акции, задуманной эсерами. В последние дни все газеты полны сообщениями о том, что вскоре в Балтийском порту состоится встреча русского царя с кайзером Вильгельмом II. Надо полагать, что либо накануне этого свидания, либо вскоре после него царь нанесет намеченный визит и на линейный корабль «Император Павел I». Королев и его компания об этом догадываются и готовятся к этому. А как помешать им, Недведкин до сих пор себе не представлял…
Утром, придя на службу, ротмистр Шабельский узнал, что в Ревель прибывает командир отдельного корпуса жандармов генерал Толмачев. Цель приезда высокого начальства для Стася была совершенно ясна. Толмачев хотел самолично осмотреть место приближающегося свидания государя с Вильгельмом II.
У помощника начальника управления подполковника Белинкина Стась справился, не отменить ли ему назначенную с мичманом Тирбахом встречу, но начальник холодно сказал, что генерала Толмачева найдется кому встретить, а остальные работники должны заниматься обычными делами. Разумеется, командира корпуса жандармов встретил сам Белинкин, и он же укатил вместе с ним экстренным поездом в Балтийский порт, а Шабельский, как и было намечено, отправился на конспиративную квартиру по Рыцарской улице для встречи с мичманом.
В управление Шабельский вернулся в три часа пополудни, успев перекусить по пути в ресторане «Золотой лев». Встреча с мичманом Тирбахом, на которого он возлагал кое-какие надежды, оказалась пустой. Мичман вначале пыжился, задирал нос, но вскоре признался, что ничего серьезного пока у него нет. Тирбах передал ему записку Миштовта, в которой сообщалось, что недавно комендор Силантьев делал какие-то намеки в адрес государя императора, употребляя слово «вампир». Однако сказано это слово так, что придраться толком нельзя. И все же Шабельский записал в книжечку это сообщение — пусть в управлении заведут карточку на матроса. В дальнейшем может пригодиться.
А вообще, если брать на заметку всех, кто делает намеки в адрес царя, — тут никаких шкафов не хватило бы. У Стася складывалось впечатление, что по этому адресу прохаживались ныне чуть ли не поголовно все живущие в России.
На новом месте службы, в Ревеле, Шабельскому каждый день приходилось иметь дело с донесениями агентов наружного наблюдения, устными и письменными. Он сортировал поступившие сведения, составлял сводки, докладывал наиболее существенное помощнику начальника управления. Из всей груды проходящих через его руки сведений Стась особенно тщательно проверял донесения о наблюдениях за рабочим завода акционерного общества «Вольта» Лутовановым.
Именно этого человека имел в виду Мардарьев, когда он во время последней их встречи рассказал Стасю, что Петербургский комитет старается связаться с революционно настроенными матросами Балтийского флота. Шабельский поручил наблюдение за домом, где снимал комнату Лутованов, самому лучшему ревельскому филеру Варсонофьеву, которого направлял дежурить в те часы, когда команды кораблей увольнялись на берег.
От внимания Белинкина не укрылось, что ротмистр уделяет особое внимание слежке за приехавшим из Петербурга Лутовановым, и однажды, как бы невзначай, но так настойчиво, что Стасю трудно было отделаться неопределенным ответом, он спросил, отчего так много времени тратится на проработку этого человека. Стасю с ходу пришлось выдумать, что у него лично особые подозрения в данном случае. Вполне может статься, что под этой фамилией скрывается совсем другой человек, о котором ему, Шабельскому, доводилось слышать еще во время службы в Одессе. Белинкин попросил впредь держать его в курсе дела и согласился, чтобы Лутованову по-прежнему уделялось первостепенное внимание. Стась сказал, что, разумеется, он будет докладывать о наиболее важном, но про себя подумал, что черта лысого скажет что-нибудь существенное этому прохиндею. Если он и будет советоваться с кем, так это с Мардарьевым, с которым они вдвоем и обтяпают намеченное дельце.
Однако день проходил за днем, а сведений о том, что кто-то из матросов ищет связи с Лутовановым, не поступало. Правда, Варсонофьев и его помощники докладывали, что на квартире наблюдаемый часто встречается с рабочими завода, и уже одно это могло представить большой интерес, но Стась терпеливо ожидал развития главных событий. А что они наступят, он нисколько не сомневался.
Вернувшись в управление после встречи с Тирбахом, Шабельский мельком прочитал поступившие донесения. Один агент доносил, что в трактире матросы ругали порядки, существующие на кораблях, говорили, что их плохо кормят. Другой филер сообщал, что подозреваемый в распространении прокламаций рабочий порта передал какую-то пачку бумаг портовому грузчику (имя установить не удалось). Третий писал, что возле памятника «Русалке» днем собиралась группа матросов, которая, однако, рассеялась при приближении филера.
Все было как обычно, и. Стась уже собирался бросить последний листок рядом с другими, но вырванная взглядом из текста фамилия Лутованова заставила его насторожиться. Он стал перечитывать донесение.
Филер Блинов писал, что заменял ушедшего обедать Варсонофьева в течение часа с небольшим. Наблюдение велось из окна дома, стоящего напротив того, где жил Лутованов. В 12 часов 43 минуты в подъезд наблюдаемого дома вошел матрос. Что было написано на его ленточке, из-за дальности расстояния разглядеть не удалось, но сама надпись длинная. Похоже, что это «Император Павел I». Минуту спустя после того, как матрос вошел в подъезд, в комнате Лутованова задернулась занавеска. Вскоре подоспел агент Варсонофьев, который и взял на себя дальнейшее наблюдение.
Прочитав все это, Стась понял: вот оно, то, о чем предупреждал его Мардарьев! Наступил миг, которого он с таким нетерпением ожидал. Теперь только не выпускать из поля зрения матроса!
Главное — держать его в виду до той поры, пока он не придет на причал, когда будет возвращаться на корабль. А там уже узнать, с какого матрос корабля и как его фамилия, не составит труда. И тогда уж голубчику не выкрутиться! Только бы Варсонофьев не подвел… Но на этого агента, кажется, можно целиком положиться — собаку в своем деле съел. Этот-то наверняка доведет дело до конца. И дай-то бог, чтобы довел!
Шабельский решил не уходить из управления до тех пор, пока не вернется Варсонофьев. Но еще до наступления вечера его ждала неожиданная встреча, о которой он и не гадал. В шестом часу дверь его маленького кабинета широко распахнулась, и на пороге появился улыбающийся, как всегда, с иголочки одетый Мардарьев. Он стремительно вошел и будто заполнил собой все пространство комнаты, поздоровался со Стасем, потрепал его по плечу, рассказал, что приехал из Петербурга вместе с генералом Толмачевым, побывал уже в Балтийском порту, где ничего толком не готово еще к предстоящей встрече.
— Представляете себе, Станислав Казимирович, заштатный маленький городишко без гостиниц, а гостей приглашено видимо-невидимо! Придется многим ночевать в тех самых поездах, которыми они приедут, — благо есть запасные ветки для составов. В городе плохо не только с питанием, но даже с водой, а пригоняют туда целиком Выборгский пехотный полк. Кайзер Вильгельм II изволит быть его высочайшим шефом… Да еще губернатор Коростовец посылает на торжества сотни учеников ревельских гимназий и училищ, это для того, чтобы и детское ликование могли видеть высокие гости. Словом, дел невпроворот, Станислав Казимирович. Одно только Толмачева обрадовало, что охрану там легко будет организовать. Это, конечно, не Москва… Ну, а у вас-то как дела?
Освободившийся от некоторой растерянности, вызванной неожиданным появлением Мардарьева, Шабельский рассказал о донесении филера, в поле зрения которого попал пришедший к Лутованову матрос. И надо же было так случиться, что произошло это как раз в день приезда Александра Ипполитовича.
— А разве вы не знали, что я везучий? — засмеялся Мардарьев, но тут же посерьезнел, внимательно перечитал донесение, коротко справился, надежен ли филер Варсонофьев.
— Говорят, лучший в Ревеле!
— В Ревеле? Это еще ни о чем не говорит.
— Но и в самом деле очень опытный агент наружного наблюдения.
— Ну, что ж… дай-то бог…
Мардарьев испытующе взглянул на Шабельского, аккуратно положил донесение на стол.
— А ведь в этой бумажечке, Станислав Казимирович, я вижу начало большой вашей карьеры. Заметьте: вы первый, кто обратил внимание на установление связей революционного подполья на берегу с революционным подпольем во флоте. Первый! Такой успех не каждому выпадает.
— Так это с вашей помощью, Александр Ипполитович, — пробормотал Стась, — без вас откуда бы…
— Сегодня же, — продолжал Мардарьев, — по пути в Петербург я доложу генералу Толмачеву, что ротмистр Шабельский при разработке моей идеи напал на перспективный след, значение коего трудно переоценить. Кроме того, я выскажу мнение о том, что дальнейшее ведение этого дела должно быть поручено именно вам. И, поверьте мне, ротмистр, мое мнение кое-что значит и в глазах генерала Толмачева.
— Уверен в этом, Александр Ипполитович.
— Ну, так ловите свою звезду! Не упускайте золотую ниточку из рук…
Когда настало время расставаться, Мардарьев попросил Шабельского все время держать его в курсе дела и главное — не спешить с арестами. Сначала надо выявить все возможные связи. И не надо пока информировать ревельское начальство, а то не ровен час оно к успеху примажется.
Недведкин шел в сторону порта, не чуя под собой ног от радости, спешил — не терпелось скорее поделиться с друзьями радостью. Наконец-то он встретился с человеком, который свяжет их с петербургскими товарищами!
Разговор был долгим, обстоятельным. Лутованов дотошно расспрашивал о настроениях, выяснял, каким способом и в каких количествах можно переправлять на корабли листовки и литературу, советовал, как лучше организовать работу подпольной группы, указал, какими явками можно пользоваться в городе. О восстании сказал твердо, что выступать без поддержки рабочих — авантюра и что надо всеми силами удержать людей от преждевременных действий. Сообщение о плане эсеров очень встревожило Лутованова. Их действия наверняка приведут к массовым репрессиям со стороны властей, а это, конечно, ослабит революционные силы. Обещал специально посоветоваться с товарищами, которые имеют контакт с эсерами. Договорились, что Недведкин еще раз попробует предостеречь Королева.
Ушел Недведкин, имея за пазухой пачку социал-демократических листовок и два последних номера газеты «Правда». Спеша к гавани и предвкушая, как поделится своей радостью с друзьями, полный радужных планов, он совсем забыл о матросской осторожности.
Она мгновенно вернулась к нему в тот момент, когда, услышав оклик, он повернулся и увидел перед собой незнакомого лейтенанта. Но было уже поздно.
— В чем дело, болван? — сухо спросил офицер. — Может быть, тебя не учили приветствовать старших по чину?
— Виноват, вашскородь! — вытягиваясь, гаркнул Недведкин. — Недосмотрел…
— Ты институтка или матрос? — забрюзжал лейтенант. — Недосмотрел, видите ли… Ты какой роты?
— Так что третьей…
— Доложишь ротному, что замечен в неотдаче чести.
— Слушаюсь, вашскородь!
— А теперь иди да больше не лови ворон…
Недведкин вскинул руку к бескозырке, четко повернулся и зашагал прочь. Он злился на себя: надо же было так глупо обмишулиться… И без того на нем висит тяжкий груз — в прошлом году за непочтительность к офицеру он угодил в разряд штрафованных. А начальство на штрафованных косо смотрит, придирается из-за каждой мелочи…
Пройдя полквартала, он свернул за угол, остановился и достал из кармана папиросы. Прикрывая ладонями огонек спички, попытался прикурить, но порыв ветра задул пламя. Не удалась и вторая попытка. Чертыхаясь про себя, он достал третью спичку. Как раз в этот момент из-за угла вышел человек в сером костюме и надвинутом на глаза котелке. Скользнув по лицу матроса равнодушным взглядом, прохожий пошел дальше, но через полсотни шагов задержался у витрины. Недведкин мимоходом подумал, что где-то уже видел этого человека, и вдруг совершенно отчетливо вспомнил, где именно. Это было на углу улицы, где жил Лутованов. Тогда обладатель котелка стоял возле круглой афишной тумбы и внимательно читал объявления.
Подозрение мелькнуло мгновенно. Но, может быть, это просто случайность? Недведкин прикурил наконец, не спеша пошел в обратную сторону. Вновь пройдя полквартала, остановился возле аптеки. Осторожно скосил глаза и опять увидел человека в котелке. Сердце дернулось. Теперь уже не оставалось сомнений в том, что к нему привязался шпик. Еще не решив, что делать, он снова зашагал по улице.
Идти в гавань было нельзя. Возможно, что филер прочитал надпись на ленточке и знает, что перед ним матрос линейного корабля «Император Павел I». Но на корабле сотни матросов. Установить личность выслеживаемого шпик мог только на пристани с помощью офицеров. Значит, надо было уходить подальше от гавани. И Недведкин пошел к окраине.
Он понимал, что безнадежно просрочил время увольнения. Но на это пришлось махнуть рудой. Гораздо хуже было то, что под форменной рубахой у него листовки и газеты. Если задержат с такой ношей — ареста и суда не миновать… А еще хуже, что товарищей подведет. На корабле быстро установят, с кем он чаще встречался, с кем уединялся, возьмут людей на заметку…
«Вот ведь влип, раззява, безмозглый чурбан! — корил себя матрос. — И как это можно было совсем потерять осторожность? А главное — что делать теперь, куда деваться?..» На одной улице, заглянув в ворота, он понял, что перед ним проходной двор, сунулся было туда, но из-под крыльца выскочил огромный пес, угрожающе зарычал. Пришлось отступить. А шпик по-прежнему маячил шагах в двухстах. Он, видимо, понял, что обнаружен, и поэтому уже не скрывался. Мелькнувшую было мысль о том, что надо вернуться в центр города и там попробовать затеряться в толпе на узеньких средневековых улочках, пришлось оставить. Коли шпик не скрывается, то в городе он может с помощью городовых и задержать Недведкина.
Оставалось одно: уходить дальше, на окраину. Здесь вдоль дороги тянулись маленькие одноэтажные, окруженные заборами дома. Он узнал дорогу, ведущую в сторону Балтийского порта. И тут вдруг пришло, как можно все же попытаться скрыться от сыщика. План нехитрый, но, пожалуй, единственно надежный.
Недведкин быстрее зашагал по обочине. Дома пригорода остались позади, дорога была совершенно пустынной. Оно и понятно — слишком поздний час. К сожалению, почти совсем не темнело — в середине июня здесь и не бывает темных ночей. Однако сумерки все же наступили, горизонт потерял резкость, придорожные столбы вдали стали расплывчатыми, воздух заметно посвежел. Впереди, в полверсте от дороги, темнел лесок. Когда Недведкин поравнялся с ним, он увидел сбегавшую от дороги под небольшой уклон узкую тропинку, свернул на нее и почти бегом направился к лесу.
Расчет его оказался верным. Уже возле опушки он обернулся и увидел, что темный силуэт шпика торчит возле дороги, четко вырисовываясь на фоне светлого неба.
Видимо, шпик испугался идти за матросом в этом пустом безлюдном месте. Недведкин углубился в лесок, дошел до полянки, присел на пенек, покурил. Хотя он и оторвался от слежки, но положение сложное. Здесь, за городом, в своей флотской форме он всем будет бросаться в глаза, и если завтра отдадут приказ о его розыске, то долго гулять на свободе не придется. Раз уж решено не являться на корабль, надо спешно менять одежду. Но где? К Лутованову возвращаться нельзя ни в коем случае.
А что, если воспользоваться теми двумя явками, которые он получил от Лутованова? Это, пожалуй, единственный выход. Надо только суметь дойти хотя бы до одной. Появись он в городе до утра — всякий городовой к нему может прицепиться, всем известно, что на ночь матросам увольнительная не выдается… А с другой стороны — нельзя терять времени. С утра начнут его искать. И все-таки надо рискнуть и пробираться в город сейчас, но другой дорогой. Только вот где она?
Недведкин затоптал окурок, пошел по тропинке дальше. Вскоре лесок кончился, и впереди он увидел хутор — бревенчатый дом, сараи, баньку, а дальше за хутором снова лесок. Хутор следовало обойти. Там наверняка есть собаки, они могут переполошить хозяев, которые сразу обратят внимание на шатающегося ночью матроса.
Он сделал большой крюк, шагая прямо по некошеной траве, обогнул хутор, снова углубился в лес, но там потерял направление. К счастью, лес оказался небольшим, и Недведкин вскоре вышел по другую сторону прямо к обветшалой хворостяной ограде, окружавшей небольшой участок земли, на которой стоял почерневший бревенчатый домик. За оградой тянулись грядки с торчащими кустиками картофельной ботвы, на веревке сушилось оставленное с вечера белье.
Идя вдоль изгороди, он вдруг увидел висевшую серую мужскую рубаху и сразу понял, что в ней его спасение. Внимательно оглядев участок, он нигде не обнаружил собачьей конуры. Если же собака ночевала под крыльцом и внезапно могла с лаем выскочить, то ему легко было отступить в тот же лесок. В домике окна были прикрыты ставнями, и, конечно, хозяева спали в эту пору.
Недведкин потянулся было к рубахе, но тут же опустил руку. Сознание того, что он пытается украсть чужую вещь, настолько претило ему, что готов был махнуть рукой и идти дальше.
И все же он взял рубаху. Отошел за куст, быстро обнажился по пояс, аккуратно свернул свои рубахи — полосатую нательную и белую верхнюю, присоединил к ним бескозырку и все это засунул в середину куста, натянул на себя чужое одеяние. Листовки и газеты сунул за пояс. Потом он достал пришпиленную изнутри пояса брюк английскую булавку, наколол на нее единственный свой рубль и повесил его на веревку. От мысли, что сатиновая рубаха стоила не больше рубля, стало немного легче на душе.
Прежде чем Недведкин сумел попасть на другую, ведущую в город дорогу, ему пришлось миновать еще один лесок и обойти болото. На востоке уже алела полоска ранней июньской зари, трава стала мокрой от росы. Он быстро сориентировался, в какой стороне лежит город, и торопливо зашагал по грунтовой, хорошо укатанной дороге. Пока дошел до пригорода, его несколько раз обгоняли груженные мешками и корзинами телеги — эстонские крестьяне везли к открытию рынка немудреную деревенскую снедь.
В окраинном маленьком трактирчике Недведкин на последний пятак купил кружку горячего кофе с молоком и булку. Никто вокруг не обращал на него внимания, и он неожиданно подумал о том, что куда вольготнее и проще чувствовать себя без военной формы. Однако надо было спешить, чтобы застать товарища с явки до того, как тот уйдет на утреннюю смену.
Он успел вовремя. Незнакомый ему рабочий еще только вставал, когда Недведкин разыскал его комнату. Встретил настороженно, испытующе поглядывал из-под кустистых бровей, но, услышав пароль, потеплел, предложил попить чайку вместе с ним. Недведкин от чая не отказался, сел за покрытый клеенкой стол, торопливо начал рассказывать о своих злоключениях.
Услышав, что Недведкин теперь попадает в разряд дезертиров, хозяин комнаты даже присвистнул.
— Ну-ну! А как же жить-то будешь?
— Как другие нелегалы, так и я…
— А прежде не приходилось?
— Пока еще нет, но лиха беда — начало! Вернусь в Питер, раздобуду у товарищей документы на другую фамилию. Здесь оставаться мне не резон.
— А если поймают?
— Известное дело: суд да тюрьма… А пока сообщить надо…
Оба помолчали, прихлебывая из стаканов остывший чай. Хозяин комнаты посоветовал, что ему следует сделать, снабдил Недведкина пятеркой, объяснив, что это все, чем он располагает, и вскоре они распрощались…
Филер Варсонофьев пришел в управление за час до наступления присутственного времени, пожал вялую руку сонного вахмистра в вестибюле и пошел в угловую комнату, неофициально именуемую филерской. Несмотря на ранний час, здесь уже сидели двое его сослуживцев, склонившиеся над шашками. Оба были азартными игроками, причем в отличие от других резались в шашки на деньги, по двугривенному за партию. Оба машинально ответили на приветствие Варсонофьева и не подняли голов до тех пор, пока партия не окончилась.
Партнер расставлял шашки для следующей партии, маленький лысый филер Комолов повернулся к Варсонофьеву.
— Тут унтер, который с дежурства сменился час назад, говорил, что тебя вчерась допоздна господин ротмистр ждали. Чего-нибудь важное случилось?
— А сам-то чего здесь сидишь? — уходя от ответа, спросил Варсонофьев.
— Да вот велено было до утра в управлении остаться, вроде в резерве. Но что-то никто не беспокоил, не звонил…
И он опять склонился над шашками.
Слова Комолова несколько встревожили Варсонофьева. Что и говорить, приятного мало докладывать, что наблюдаемый ушел от слежки. А что оставалось делать? Задание у него было ясным: если к Лутованову придет матрос, проследить его до пристани и выявить фамилию. Кто ж мог предвидеть, что матрос вздумает на корабль не возвращаться? Приказа о задержании вовсе не было…
Раздумья Варсонофьева прервал сам Шабельский, заглянувший в филерскую.
— Пошли ко мне! — сказал он коротко.
Филер послушно зашагал вслед за начальником, приглаживая ладонью и без того прилизанные волосы. В кабинете Шабельский положил фуражку на тумбочку, кинул рядом с ней перчатки, нетерпеливо обернулся к Варсонофьеву.
— Давай рассказывай, в чем дело. Отчего вчера в управление не пришел?
Варсонофьев, которому начальник не предложил даже сесть, хотя сам уселся за письменный стол, стал неторопливо рассказывать, как он взял под наблюдение матроса возле дома, где жил Лутованов, и «повел» к гавани, как матрос обнаружил слежку и стал метаться по городу. Ротмистр слушал с возрастающим нетерпением, встал даже из-за стола, подошел, остановился напротив, глядя в глаза. Когда филер рассказал, как матрос направился в лес, а он побоялся и за ним не пошел, Шабельский удивленно перебил:
— Как не пошел?!
— А как пойдешь-то? Кругом безлюдно, а он, как бугай, здоров, и у него может быть револьвер. А у меня-то револьвера не было…
— Ну и как же?
— Так и ушел, господин ротмистр…
Начальник как-то очумело посмотрел на Варсонофьева, потом сквозь зубы выдохнул:
— Да ты, сука, понимаешь… я ж тебя, подлец!..
Лицо Шабельского исказилось, и не успел Варсонофьев отшатнуться, как кулак ротмистра врезался ему в зубы. Инстинктивно он отскочил в угол комнаты. Во рту стало солоно от крови, и филер выплюнул в ладонь вместе со сгустком крови два выбитых зуба.
— Да вы что, господин ротмистр! — захныкал он, со страхом глядя на искаженное гневом лицо начальника. — Разве ж дозволительно подчиненных на службе бить? Да вы что, господин ротмистр…
— Уйди отсюда, болван, сволочь! — бешено заорал Шабельский. — Уйди, я за себя не ручаюсь.
Филер пулей выскочил в дверь, прикрывая рот ладонью, побежал по коридору в умывальник.
Только полчаса спустя Стась сообразил, что у него еще остается какой-то шанс. Надо уцепиться за Лутованова, не упускать его ни за что из поля зрения.
К полудню стало известно, что исчезнувший матрос — это электрик Недведкин с линейного корабля «Император Павел I». И в это же время вернувшиеся с задания филеры доложили Шабельскому, что ни дома, ни на заводе «Вольта» Лутованов не обнаружен. Видимо, как и матрос, он скрылся из города.
Ротмистр распорядился срочно по телеграфу передать приметы Недведкина и Лутованова железнодорожным жандармам в Петербурге, но и это не дало никаких результатов. Оба подпольщика — видимо, и тот и другой — сошли с поезда, не доезжая столицы. А может быть, они и не в Петербург направились…
ВИЛЛИ И НИКИ
«Балтийский порт. Балтийский порт — небольшой заштатный городок Эстляндской губернии, приобретает всемирную известность. Его название будут так же часто цитировать, как Бьёрке, Ракониджи, Ревель и другие места встречи государей. Балтийский порт находится в конце ветви Балтийской железной дороги на берегу Рогервикского залива. В нем 8200 человек населения. Гавань превосходная, глубокая, безопасная; на нее обратил внимание Петр Великий, который начал строить здесь военный порт и крепость, но затем проекты не были исполнены, оставалась лишь крепость, долго служившая местом ссылки. Залив в теплые зимы совсем не замерзает, а в холодные — лишь на короткое время. Это послужило причиной проведения сюда железной дороги. Она, однако, не особенно помогла Балтийскому порту. В Балтийском порту хорошо торгуют кильками, которые ловятся здесь в большом количестве».
(«Вестник Либавы», 24.6.1912 г.)Линейный корабль «Император Павел I» перед плаванием грузил провиант. Буксир подтянул утром на рейд широкоскулую, по самые борта груженную баржу, которую пришвартовали к левому борту. На тросах поднимались вверх плотные серые мешки, набитые крупой, мукой, картофелем, солью, сахаром. Плыли по воздуху бочки с селедкой и солониной, ящики с макаронами, консервами, табаком, плыли телячьи и бараньи туши.
Баталер, ведавший всем продовольственным обеспечением, бегал от лебедки к лебедке, хрипло ругался, вытирал потный лоб, покрикивал не только на матросов, но и на унтеров. Он внимательно следил за тем, чтобы разгрузка шла аккуратно, чтобы ни один ящик не пострадал. Он не мог быть спокойным до тех пор, пока вся эта масса продовольствия не окажется под замком. Баталер учитывал плутовство и изощренный опыт поставщиков, подсовывающих недоброкачественный товар, ловкость рук кладовщиков, умудрившихся на всем пути продовольственных грузов уменьшать их количество, бесстыдно подкладывая в ящики и мешки железки и булыжники для веса. Он учитывал и неизбежные потери при погрузке и разгрузке. И, подсчитывая все это, начинал сатанеть, ибо все эти потери касались прежде всего его кошелька, так как сужали возможности для дальнейшего воровства. А без воровства баталер и представить себе не мог своей службы.
У борта произошла какая-то возня, и баталер со всех ног кинулся туда. То, что он увидел, заставило его сердце сжаться от ужаса. Петля троса, закрепленная на телячьей туше, медленно сползала. Он понял, что еще немного, и туша, не дойдя какого-то метра до борта, выскользнет из петли и плюхнется в море.
— Не дергай! — закричал он матросам, стоявшим у талей. — Баграми, баграми поддерживай!
Пока бегали за баграми, прошло еще две-три минуты, показавшиеся баталеру бесконечными. Но, к счастью, петля перестала сползать, и тушу благополучно опустили на палубу. Вытирая платком взмокший лоб, баталер перегнулся с борта и крикнул матросам, стоявшим на барже:
— Кто там из вас трос крепил?
— Я крепил! — коротко отозвался белобрысый матрос, одетый в светлую робу.
— Ну вот что, олух царя небесного, когда погрузка закончится, поднимешься на борт, доложи своему ротному, что я просил тебя на час под ружье поставить. Понял, что я тебе сказал?
— Так точно, понял!
— И понял, что ты олух?
Матрос помолчал мгновение, но потом выдавил из себя:
— Так точно, господин баталер.
— Ну то-то же! Распустились, сволочи, вконец…
Что-то пробурчав под нос, баталер отошел от борта. А белобрысый матрос на барже — это был Краухов, опустил голову, прикусив губу от обиды. Он понимал, что каждый из матросов, кто слышал этот разговор, глубоко сочувствует ему, но почему-то чудилась в их глазах затаенная усмешка, а проступавшее на их лицах сочувствие воспринималось уже как откровенная и обидная жалость, и оттого на душе становилось еще муторнее. На товарищей он старался не смотреть.
Когда разгрузку баржи окончили, Сергей поднялся на палубу последним и побрел к люку, глядя себе под ноги. Он не видел ничего вокруг себя, но уже возле самого люка каким-то шестым чувством ощутил опасность. Вскинув голову, матрос встретился взглядом с мичманом Тирбахом, смотревшим на него в упор, и, еще ни о чем не успев подумать, вскинул руку к бескозырке. И только тогда он сообразил, что едва не нарвался на серьезную неприятность. Если рядовой не приветствовал офицера, за это наказывали строго.
Мичман на приветствие не ответил, продолжал глядеть в упор на остановившегося матроса. Взгляд его скользнул вниз и застыл где-то на уровне подола парусиновой рабочей рубахи. Видя, что мичман ни о чем его не спрашивает, Сергей хотел было двинуться дальше, но Тирбах стоял так, что преграждал путь к люку. Чувствуя неловкость, матрос снова вскинул руку к бескозырке и привычной скороговоркой произнес:
— Разрешите идти, вашблагродь?
Но отвечая на вопрос, мичман ткнул пальцем куда-то в живот Краухова и, почти не разжимая губ, спросил:
— А это что? Что за дрянь на рубахе?
— Так ведь кровь это, вашблагродь!
— Вижу, что кровь. Но откуда?
— Так ведь погрузка была, вашскородь. Туши грузили, все, извольте знать, перемазались.
— А я тебя не обо всех спрашиваю. Ты сам отчего перемазался?
— Так погрузка же шла, вашблагродь!
— Заладил, как попугай: погрузка. Поаккуратней нельзя было?
— Никак нет.
— А если нет, то постираешь одежду после обеда, высушишь и покажешь ротному.
— Так это же невозможно!
— Ты как офицеру отвечаешь, скотина?
— Виноват, вашблагродь. Но сами посудите: вода горячая на стирку только завтра будет, сушить на палубе сегодня тоже нельзя. Вот и получается, что невозможно!
Будь Сергей не взвинчен после замечания баталера, воздержался бы он от последнего восклицания. Но теперь уже было поздно. Глаза Тирбаха сузились, он по-кошачьи быстро оглядел опустевшую палубу, шагнул вперед и, неожиданно вскинув руку, резко полоснул матроса по лицу кончиками пальцев. Потом еще несколько раз слева направо и справа налево, придыхая при этом:
— Я тебе покажу, свинья, как с офицером спорить. Я тебя отучу, свинья, от пререканий!
Сергей стиснул зубы так, что свело челюсти. Застыв по стойке «смирно», он не отрывал рук, вытянутых по швам, но уже закололо в висках и наползала, на глаза багровая пелена бешенства. Но как раз в этот момент, когда уже совсем обрывалась истончившаяся ниточка терпения и должно было свершиться непоправимое, сбоку совсем близко прозвучало резко, как щелчок кнута: «Смирно!»
Перед Тирбахом и Крауховым стоял командир корабля капитан первого ранга Небольсин. Не давая обоим опомниться, он властно произнес:
— Мичман, прошу вас остаться, а ты ступай вниз…
Проследив глазами за тем, как ссутулившийся матрос скрылся в горловине люка, Небольсин повернулся к Тирбаху, молча оглядел его. Губы командира брезгливо скривились. Далекий от матросов не меньше, чем любой офицер корабля, никогда не понимавший и не любивший их, он все же терпеть не мог рукоприкладства и считал его позором для офицерства. С полминуты он молча глядел на мичмана, который не выказывал никакого смущения, его молодое лицо выглядело совершенно безмятежно, будто бы и не был он виновником безобразной сцены. И именно эта безмятежность, ледяное спокойствие в глазах мичмана мешали Небольсину произнести вслух то слово, которое так и вертелось у него на языке. Командиру вдруг стало ясно, что любые его слова отскочат как мячики от этого выхоленного прибалтийского барончика, который, как помнится, был дальним родственником светлейшего князя Ливена, недавно назначенного начальником нового флотского учреждения — Морского генерального штаба.
— Вот так, — тягуче произнес Небольсин, — вот так… Думаю, что устав должен соблюдаться одинаково строго и нижними чинами, и офицерами.
Тирбах слушал внешне вроде бы внимательно, но с едва заметным пренебрежением. И совсем неожиданно для себя Небольсин сказал со злостью:
— А в общем, знаете, мичман, мне стыдно за вас. Идите…
Вечером Краухов на ужин не пришел к столу. Ярускин, который уже знал о том, что случилось, сказал товарищам, что надо сейчас же идти на поиски — как бы до беды не дошло.
Сергея с трудом отыскали. Он притулился за зарядной частью шестидюймовой пушки, держа в руках папиросу, торопливо и глубоко затягивался дымом. Молча исподлобья взглянул на подошедших товарищей, отвернулся к переборке. Ярускин и Вальцов подошли поближе, постояли рядом, не зная, о чем говорить.
— Ты, это, Серега… бросил бы папиросу, — мягко сказал Ярускин. — Не ровен час кто из начальства увидит… беды не оберешься тогда.
— Ну и пусть что хотят делают со мной, — зло отозвался Краухов, продолжая затягиваться. — Хуже каторги, чем здесь, все равно не будет.
— Бывает и похуже, Серега. Ты еще тюрем не знаешь да настоящей каторги не нюхал. Мы понимаем, как тебе обидно и горько. Но только ты соберись все-таки с силами, успокойся.
— Да не могу я больше! Совсем не могу… Или я этого выродка баронского порешу, или руки на себя наложу! Лопнуло мое терпение.
На Краухова было страшно смотреть — лицо его почернело, губы запеклись, как от нестерпимой жажды, в глазах был нехороший лихорадочный блеск.
— Ну успокойся же, браток. Что ты, разве можно так?
Ярускин мягко, но решительно взял папиросу из рук Сергея, потушил, аккуратно скатал папиросу и положил в карман, чтобы после выбросить за борт. Он слегка тряхнул товарища за плечи, сказал твердо:
— Если себя распускать будем — все пропадем зазря. Ты подумай только — коли каждый обиженный и униженный матрос стреляться или за борт кидаться будет, то флот наш весь как есть обезлюдеет. И на офицеров поодиночке бросаться не следует. Ты его благородное дворянское горло помнешь, а для твоего горла казенную веревку найдут, да и повесят ночью на тюремном плацу. А на флоте ни черта от этого не изменится. Другое благородие другого матроса по зубам хлестать будет.
— Да ведь понимаю я это все, — с тоской отозвался Сергей, — хорошо понимаю. Но веришь ли — нет больше мочи…
— Верю, Серега! Но все же ты должен быть волевым и сильным. Придет и на нашу улицу праздник, но для этого ох какая организация нужна. А еще и выдержка к ней в придачу. А сейчас пойдем-ка с тобой в кубрик. Поспать тебе надо обязательно!
Сергей дал товарищам себя увести, послушно разобрал койку, подвесил ее и улегся, затих, делая вид, что засыпает. Но так и не сомкнул глаз всю ночь напролет, а утром разыскал комендора Королева, отвел его в сторону и тихо сказал:
— Ты предлагал Косте Недведкину действовать вместе. Костя исчез, как ты знаешь. Ну а я готов… Говори, что надо делать… все сделаю!
Королев быстро огляделся по сторонам, торопливым шепотом ответил:
— Ладно, кореш! После обеда приходи один в носовую башню… там поговорим.
И быстро исчез среди матросов.
К девятнадцатому июня после учений почти все крупные корабли морских сил Балтийского моря собрались в Ревеле — «Император Павел I», «Андрей Первозванный», «Слава» и крейсер «Рюрик» пришли из Гангэ, «Цесаревич» — из Гельсингфорса, группа крейсеров — из Лапвика. А ранним утром двадцатого «Павел» и «Андрей» покинули рейд и вышли в Балтийский порт.
Переход занял каких-нибудь два часа. Не успели корабли стать на бочки на Рогервикском рейде в нескольких кабельтовых от берега, как со стороны моря подошли два выкрашенных в черный цвет судна с ослепительно белыми палубными надстройками — царские яхты «Штандарт» и «Полярная звезда». Следом подошли и стали в линию пять эсминцев.
Всего порта с верхней палубы не было видно — скрывали от глаз амбары, вытянувшиеся вдоль берега серой вереницей. Только колокольня маленькой православной церквушки виднелась из-за крыш. Но с высоты решетчатых металлических мачт «Павла» город можно было видеть как на ладони. Сергею Краухову опять было поручено протягивать гирлянды электрических ламп, и он, возясь на смотровой площадке мачты, видел и сам город с пристанью, и развалины старой, петровских времен крепости, и протянувшееся на добрую версту скопление железнодорожных составов — поезда, которые привезли гостей из Петербурга и эшелоны 85-го пехотного Выборгского полка. Гавань пестрела русскими и немецкими флагами, деревянную триумфальную арку на пристани обвивали гирлянды зелени. С берега ветерок доносил стук молотков и визг пил — там заканчивались последние работы.
Время от времени Сергей взглядывал в сторону «Штандарта», но на палубе царской яхты, стоявшей совсем близко от линейного корабля, было пустынно. Видны были лишь часовой возле кормового флага да вахтенный офицер.
От берега отвалил катер, потом подошел к трапу «Штандарта». Группу штатских встретил вышедший на палубу бородатый офицер, взял под козырек, показал жестом, куда идти, и сам пошел сзади. Наверное, это высокие гости, и прибыли они к царю. Может быть, даже министры. Другой катер шел к борту «Павла». Увидев синие мундиры с серебряными погонами, Сергей вздрогнул. Невольно для себя он связал появление жандармских офицеров с тем делом, в котором он согласился участвовать. В сердце вползла тревога. Неужели что-то пронюхали?
Тревога не оставляла с тех пор, как исчез неизвестно куда Костя Недведкин, никто из матросов даже не знал — куда. Может быть, эти прибыли за кем-то? Хотя вряд ли — на кораблях арестовывают свои морские власти и только на берегу передают в руки жандармов… Но что все-таки случилось с Костей? Куда он мог подеваться? А вдруг тоже арестован на берегу — не случайно же обыскали оставшиеся на корабле вещи Недведкина…
Да, было от чего прийти в смятение. А с тех пор как он дал Королеву согласие участвовать в покушении на царя, время полетело со стремительной быстротой. Сергей уже успел подержать в руке вороненый браунинг, с которым он будет в день приезда царя. Такие же пистолеты были приготовлены для Королева и кочегара Шухова — третьего участника покушения. Сергей ни разу в жизни не стрелял из пистолета, но в упор, конечно, не промахнется. В бортовом каземате позавчера ночью он раз тридцать подряд нажимал на спусковой крючок. Так же будет и в решающий день, только в стволе тогда будет боевой патрон… И он не промахнется!
Когда именно царь прибудет на корабль, заговорщики еще не знали, но вполне возможно, что это произойдет совсем скоро, и, может быть, не случайно «Штандарт» встал рядом с «Императором Павлом I». Не исключено, что и приезд жандармов связан с этим же…
Когда Сергей закончил работу на мачте и спустился вниз, возле ходового мостика его как бы невзначай повстречал Королев, шепнул мимоходом, что жандармы б сопровождении старшего офицера лазают по всему кораблю.
Но вскоре неприятные гости отбыли восвояси, а Сергей пошел в кубрик. Команду, как объявили по ротам командиры, на весь остаток дня освободили от работ по кораблю, всем приказано было приводить в порядок обмундирование, и это тоже говорило о том, что вскоре на борту «Павла» может появиться царь.
События надвигались стремительно, и Сергей в какой-то миг пожалел, что необдуманно влез в смертельно опасное дело. Но отступать уже было поздно. Он ни за что не даст повода для того, чтобы о нем подумали как о трусе!
Утро 21 июня выдалось теплым, безветренным и безоблачным — будто его нарочно приурочили к торжественной встрече двух монархов.
Все было готово к ней — выстроились на рейде боевые корабли и царские яхты, принарядился, как на именины, порт, опробовали сапогами наспех оборудованный плац вымуштрованные роты Выборгского полка, надели парадные мундиры чины свиты, министры и дипломаты, привели себя в готовность приехавшие журналисты, рассыпались кругом городка агенты охранного отделения и дворцовой охраны.
Все вокруг выглядело пышно, пестро, но было в этой праздничности что-то мишурное, театральное, несерьезное. Из-под экзотических гирлянд триумфальных арок выглядывали плохо оструганные, наспех скрепленные доски, высокие флагштоки стояли косо, от плаца летела желтая едкая пыль, а сановники и дипломаты в расшитых мундирах гуськом ходили по нужде в деревянные, загаженные скворечники-клозеты.
Но не только в антураже, а и в самой встрече было нечто двусмысленное, несолидное, лежал на ней этакий налет опереточной игривости. Была она в полном диссонансе со сложившейся в Европе обстановкой, где два военно-политических союза — англо-франко-русский и австро-германо-турецкий — настороженно следили друг за другом, готовясь к вооруженной схватке. Хотя были подготовлены к встрече тексты со словами о дружбе, сердечности и мире, все прекрасно знали, что уже не первый год германский генштаб разрабатывает план операции против России, а русская армия отрабатывает схемы будущих боев против немецкой.
Но даже не это придавало встрече несерьезный оттенок — чем-чем, а лицемерием прожженных политиков удивить было нельзя. Оно было для них вполне привычным и как бы само собою разумеющимся. Шокировал приглашенных характер отношений, сложившихся между двумя монархами. И ладно, если бы дело упиралось в их родственные связи и привязанности, это еще полбеды. Можно было примириться и с тем, что напыщенный, самовлюбленный и напористый Вильгельм II — большой любитель театральных поз и речей, будет назойливо вылезать на первый план во время церемониалов, подавляя своей импозантной фигурой малорослого и неказистого русского царя. И эта беда невелика.
Хуже всего было то, что царственный родственничек Вилли подавлял своего «милого Ники» не только внешне. Перед его настойчивостью и твердой волей русский монарх попросту тушевался и порою совершал глупости и не просто в семейном кругу, а такие, от которых начинало трясти государственный аппарат империи. До сих пор министры с дрожью вспоминали о случае, происшедшем во время свидания Николая II и Вильгельма II в июле 1905 года в финских шхерах близ острова Бьёрке.
В тот раз оба монарха хорошо пообедали и изрядно выпили в кают-компании, а потом кайзер позвал царя в свою каюту и показал ему текст договора между Россией и Германией. Если одна из сторон, говорилось в нем, подвергнется нападению какой-либо европейской державы, то союзница обязана прийти на помощь всеми своими сухопутными и морскими силами. Такой договор начисто ломал сложившуюся в Европе систему отношений между странами, превращал Россию во врага Англии и Франции. Однако все это отнюдь не смутило пребывавшего в благодушном настроении Николая, И к тому же родственник назойливо гудел над ухом, доказывал, что вдвоем они зажмут в кулак всю Европу и незачем им с нею церемониться.
Лишь одно смущало русского царя — такой договор по законам Российской империи мог иметь законную силу, если его наряду с императором подпишет один из членов правительства. На яхте, правда, присутствовал морской министр адмирал Бирилёв, но звать его царь не решался, чувствовал, что в этом деле даже его монаршая воля может не сработать. Вильгельм II высмеял его сомнения и сыграл на самолюбии — какой же он самодержец, если не может заставить министра сделать для него такой пустяк. Налитый до краев чужой решимостью, Николай пригласил Бирилёва, прикрыл текст договора ладонью и приказал подписаться внизу рядом с царской подписью. Адмирал ослушаться не посмел.
Так в Бьёрке родился документ, нелепее которого трудно было себе представить. Он был составлен по всем правилам и вполне мог иметь юридическую силу, но по своему содержанию он вступал в полное противоречие со всей европейской политикой.
В Париже и Лондоне взвыли.
И главное, все отлично понимали, что такой договор — полнейший нонсенс. Ну куда было деваться России, которая вся в долгу как в шелку перед французскими и английскими банками. Ведь не Германия же заплатит за нее ее чудовищные долги! Данными взаймы миллиардами, без которых невозможно задушить у себя внутри революцию, Россия была связана по рукам и ногам. Деваться из долговой петли некуда! Гадали, собственно, об одном: как все-таки русский царь выпутается из нелепого положения?
Говорили, что выход нашел тогдашний премьер Витте. Будто бы именно он уговорил царя написать Вильгельму II, что существует одно условие, при котором договор может окончательно войти в силу: на него должна дать согласие Франция. Конечно же, кайзер сразу понял, что это только увертка, более или менее приличный повод отказаться от уже подписанного соглашения. Не дураки же в Париже, чтобы дать согласие на такой документ! Он осыпал державного родственника письменными упреками, но тот, находясь вдалеке от настойчивого Вилли, на этот раз проявил необходимую твердость.
И вот теперь, семь лет спустя, августейшие родственники встречались вновь. Министерство двора объявило заранее, что нынешняя встреча монархов будет носить неофициальный характер, а газеты, выражающие интересы финансового и промышленного капитала, поспешили заверить читателей, что эта встреча не приведет к перетасовке сложившихся соглашений и союзов. Определеннее всего выразились по этому поводу «Биржевые ведомости»:
«Субъективный момент сердечной и гостеприимной встречи в Балтийском порте имеет своим дополнением объективный момент, который ставит знаменательное свидание в его законные пределы и границы».
О пределах и границах писалось, разумеется, с подтекстом. Несмотря на все заверения об интимном, чуть ли не семейном характере встречи двух монархов, дипломаты из стран Антанты смотрели на нее не то чтобы косо, но, во всяком случае, настороженно. Было в этом свидании нечто двойственное, не вяжущееся с официальной политикой…
Может быть, встреча и в самом деле семейная, но для чего тогда потащил с собою кайзер своего канцлера Бетман-Гольвега и призвал в Балтийский порт из Петербурга германского посла графа Пурталеса, военного агента[5] Эйглина и морского агента[6] барона Кайзерлинга? И не для семейных же развлечений русский царь приказал прибыть в Балтийский порт председателю совета министров Коковцеву, министру иностранных дел Сазонову и морскому министру Григоровичу?
Словом, поводов для всякого рода догадок и предположений было немало. Однако среди всякого рода версий не было ни одной, которая хотя бы косвенно намекала на возможность смертельного исхода встречи, причем для обоих монархов сразу. Да и кому из немецких или русских сановников, дипломатов или журналистов могло прийти в голову, что трое матросов линейного корабля «Император Павел I» поклялись друг другу, что пойдут на смерть, но убьют царя, а если будет с ним рядом кайзер, то и его тоже… Но они действительно поклялись в этом, и в их карманах лежали браунинги, поставленные на боевой взвод.
Накануне днем, расспросив матросов, которые видели, каким путем прошли по кораблю жандармские офицеры, Королев справедливо решил, что именно по этим точкам корабля поведут высоких гостей. План был выработан с учетом этого маршрута.
Сам Королев должен был находиться возле носовой башни, Краухов станет на броневой палубе, а третий участник (как раз 21 июня была его вахта) будет в машинном отделении, которое тоже должны осматривать монархи. Кому-то из трех матросов должно повезти.
С утра 21 июня команде приказано было надеть парадную форму: матросам белые форменные рубахи и брюки, офицерам — черные сюртуки и белые брюки. После утренней молитвы почти весь личный состав собрался на верхней палубе. Матросы выглядели так, будто они сошли с нарядной пасхальной открытки, — острые складки отутюженных брюк, слепящая белизна форменных рубах и чехлов на фуражках, небесная синь воротников.
По правому борту расположились офицеры. Жесткие от крахмала стоячие воротнички упирались в свежевыбритые подбородки, на черных сюртуках — российские и иностранные ордена, руки в белых лайковых перчатках… Отдельно от всех стояли командир бригады контр-адмирал Маниковский и командир корабля капитан первого ранга Небольсин.
В десятом часу вахтенный сигнальщик доложил, что в бинокль на горизонте видны дымы, потом их увидели все и невооруженным глазом. Черные дымы росли, заполняли небо, из-за линии горизонта выползали силуэты идущих к порту кораблей.
Стоявший рядом с мичманом Эльснером лейтенант Затурский неторопливо пояснял соседу, прищурив от яркого света глаза:
— Впереди, естественно, яхта «Гогенцоллерн» — личная собственность кайзера. В кильватер идут «Мольтке» и посыльное судно «Слейпер». Надеюсь, о «Мольтке» вы уже слышали?
— Да ведь как сказать… А если откровенно, то маловато. Знаю только, что он из числа новейших линейных крейсеров.
— Вот именно — новейших… На нашем флоте таких кораблей нет. Нашего «Павла» только по недоразумению называют новым. Корабль, в сущности, доцусимский… четыре двенадцатидюймовые пушки главного калибра. Англичане уже выпустили вслед за известным «Дредноутом» целую серию линейных кораблей с восемью пушками главного калибра на каждом, да скорость повыше, да бронирование получше. А этот немецкий красавец и англичан перещеголял — калибр у пушек покрупнее. Хорошо, что «Мольтке» сближается с нами для салюта, а не для артиллерийской дуэли. В бою нашему «Павлу» была бы крышка уже через десяток минут.
— Не преувеличиваете ли вы? — улыбнулся его горячности Эльснер.
— Какое там преувеличение… я ведь артиллерист, обязан знать все о вооружении будущего противника… возможного противника. У него дальнобойность намного больше нашей. Он спокойно расстреляет нас с дистанции, на которой наши снаряды его просто не достанут… Не случайно гости прихватили с собой этот корабль: пусть, мол, русские посмотрят да задумаются — стоит ли им такого противника перед собой иметь…
— Ба-ба-ба! — с шутливой укоризной покачал головой Эльснер. — Помнится мне, совсем недавно в катере я и Тирбах чуть ли не фитиля удостоились от вас, поскольку почти приблизились к политической теме…
— Сдаюсь — намек понял! Но, впрочем, в моих рассуждениях ни грана политики. Реальные рассуждения специалиста по артиллерийскому делу…
Их разговор был прерван дружным пересвистом боцманских дудок, команда о построении пролетела над палубой, и мгновенно послышался дробный перестук тяжелых ботинок — матросы занимали место в строю. Быстро подошли и встали во главе строя офицеры.
Корабли гостей были совсем близко, и теперь их встречали по установленному церемониалу. С русских кораблей загрохотал гром артиллерийского салюта. В ответ загремели выстрелы с немецких кораблей.
Замедлив ход, яхта «Гогенцоллерн» встала в промежуток между «Штандартом» и «Полярной звездой», а огромный «Мольтке» втиснулся между «Императором Павлом I» и «Андреем Первозванным».
Вскоре раздалась команда расходиться, и матросы снова сгрудились у левого борта — отсюда хорошо видно было, что делается на палубе царской яхты. А там почти сразу после прибытия гостей началось оживление. Дамы в белых платьях махали платочками в направлении «Гогенцоллерна». Матросы поняли, что это царица с дочерьми и фрейлины.
Офицеры разглядывали палубу «Штандарта» в бинокли. Государь был одет в германскую военно-морскую форму. Глазастый Тирбах уверял, что видит на груди императора орден Черного орла.
Несколько минут спустя царь в сопровождении свиты перешел по трапу на катер и отправился с визитом на яхту дорогого Вилли. А команде «Павла» приказано было идти к чарке и готовиться к обеду. Офицеры тоже пошли в кают-компанию.
И только здесь, когда водка была разлита по рюмкам, Небольсин впервые обнародовал то, что уже давно знал сам:
— Господа офицеры! Через несколько часов все мы будем иметь счастье лицезреть нашего любимого монарха и его высокого гостя на нашем корабле. И я предлагаю тост за здоровье его императорского величества!
Офицеры дружно встали, высоко подняв рюмки.
На «Гогенцоллерне» у трапа царя встречал сам кайзер, одетый в форму русского адмирала. Рядом с ним стоял его сын — принц Адальберт. Монархи-родственники обнялись и троекратно облобызались.
Монархи, приложив руки к козырькам фуражек, обошли выстроившуюся на борту команду, сопровождаемые тягучими звуками русского гимна «Боже, царя храни», и Вильгельм II сразу же потащил гостя в салон, где на белоснежной скатерти сверкали алмазные грани многочисленных рюмок.
А четверть часа спустя салют звучал уже со «Штандарта» — теперь встречали прибывшего Вильгельма II. За это время кайзер успел переодеться и был теперь в форме гродненского гусарского полка.
И вот уже Вильгельм II снова под салютные залпы направился к себе на яхту. Договорились, что Пики заедет за ним через час, и они нанесут визит на линейный корабль «Император Павел I».
— Это, конечно, не «Мольтке», — сказал царь, — но хороший флотский порядок я тебе покажу. Министр Григорович считает, что это один из лучших кораблей моего флота.
В пятом часу дня катер подошел к парадному трапу «Павла». Первым на трап ступил грузный кайзер, а следом за ним стал подниматься царь.
Снова был обход строя, звучали гимны — немецкий и российский. Вильгельм II рассеянно смотрел в застывшие лица русских матросов, вытянувшихся безукоризненной линией вдоль борта, но, дойдя до конца строя, переключил свое внимание на кормовую башню. Заметивший это Григорович тут же начал рассказывать об артиллерийском вооружении корабля. Кайзер слушал рассеянно, невпопад кивал головой.
На корме возле флага, у которого каменным изваянием застыл матрос-часовой, гости остановились. Царь повернул голову к Небольсину. Командир понял брошенный на него вопросительный взгляд, объяснил, что сейчас предстоит обход корабельных помещений — носовой орудийной башни, броневой палубы, машинного отделения, а затем уже беседа в кают-компании.
Возле носовой башни стоял комендор Королев, в броневой палубе находился электрик Краухов, в машинном отделении — кочегар Шухов. Все трое напряженно ждали. Стрелки часов отсчитывали минуты, приближая ту, в которую нежданно грянут выстрелы…
У Сергея в кармане лежал свернутый вчетверо листок бумаги со стихами, которые дал ему два дня назад Королев. Стихи были запрещенными, они посвящались памяти матросов, расстрелянных карателями после подавления кронштадтского восстания. Они так сильно подействовали на Сергея, что он выпросил их и решил взять с собой, когда пойдет стрелять в царя. Пусть у него, живого или мертвого, найдут этот листок, прочтут, что в нем написано, и тогда всем станет ясно, почему царь пал от матросской руки.
В стихах, взятых с собой Сергеем, были такие слова:
Трупы блуждают в морской глубине, Волны несут их зеленые… Связаны руки локтями к спине, Лица покрыты мешками смолеными. Черною кровью запачкан бушлат… Это — матросы кронштадтские. Сердца их пули пробили жандармские, В воду их бросить велел офицер… Там над водою спокойно красуется Царский дворец — Петергоф. Где же ты, царь? Покажись, выходи К нам из-под крепкой охраны! Видишь, какие кровавые раны В каждой зияют груди? Трупы плывут через Финский залив, Серым туманом повитый. Царь Николай, выходи на призыв С мертвой беседовать свитой…Сергей мерил шагами броневую палубу и все больше нервничал — уже прошло с час, как царь и немецкий кайзер прибыли на корабль, но пока они не появлялись. А маячить без дела перед глазами проходивших было опасно. К счастью, все офицеры были сейчас на верхней палубе. Но и без них любой боцман и кондуктор может придраться. Приходилось делать вид, что он мимоходом здесь, в броневой палубе. Когда кто-нибудь спускался с верхней палубы по трапу, Сергей быстро уходил в боковой коридор, идущий вдоль борта, а потом по параллельному коридору с другого борта возвращался обратно.
И опять бежали томительные, тревожные минуты…
Когда капитан первого ранга Небольсин спросил у монархов, с чего они начнут осмотр корабля, то получил ответ, что в принципе им это безразлично, пусть решает сам командир. Небольсин все же предложил на выбор два варианта. Можно было сначала пройти по помещениям корабля, а потом побеседовать в кают-компании. Но можно было сделать наоборот — начать с кают-компании.
Ники взглянул на Вилли, предоставляя право выбора гостю. Кайзеру, в сущности, было все равно, куда идти сначала. Но тут напомнил о себе организм — много было выпито с утра. Да и вообще, грузный Вильгельм II устал от сплошного застолья, жары и лазанья по трапам. Он вспотел, да и одышка давала о себе знать. И потому он все же решил начать с кают-компании.
Небольсин склонил в знак согласия голову, сделал приглашающий жест. Монархи, вполголоса беседуя, пошли по указанному пути, за ними двинулась и свита.
Казалось бы, выбор кайзера ничего не мог изменить в планах матросов. Пойдут ли они по кораблю сейчас или же полчаса спустя — какое это имело значение?
Оба монарха оказались за овальным столом кают-компании, а хмель, засевший в них во время завтрака, еще не прошел. Радушные хозяева с ходу предложили во время разговора освежиться шампанским. А потом был кофе с ликерами и коньяком… Кроме пороховых погребов, на «Павле» был и неплохой винный погреб. Августейшие гости по достоинству оценили его запасы. После полуторачасовой беседы с офицерами, когда наконец было предложено начать осмотр корабельных помещений, кайзер поморщился и спросил — а надо ли? Засомневался и русский царь. Оба сошлись на том, что, пожалуй, настало время несколько передохнуть перед парадным обедом на «Штандарте».
Обоих утративших уверенность походки монархов проводили к трапу, помогли спуститься в катер. И опять загремел артиллерийский салют.
Звуки его тугой волной растекались по палубе. Они были слышны и в броневой палубе, и даже далеко внизу, в машинном отделении.
И никто на корабле не видел, как, забившийся за носовую башню, содрогался в нервной дрожи комендор Королев. Она трепала его долго, и он в кровь искусал черные, запекшиеся губы, пока дрожь не прекратилась. И тогда пришло полное опустошение, и на обмякшие плечи навалилась такая усталость, будто он весь день держал на них непосильный груз.
СРОК ВОССТАНИЯ: 2 ЧАСА 30 МИНУТ
«Хотя мне и говорили опасаться политики и я придерживался этого сколько мог, но в настоящее время нет возможности, потому что 12-й год настал. Время само открывает глаза людям, а тем более на военной службе, смотря и подвергавшись такому тиранству и издевательству… Прошу, матери не объясняй, а если у нас что-нибудь произойдет, какое-нибудь роковое событие, то вы во всяком случае услышите».
(Из письма матроса линейного корабля «Император Павел I» Ефимова брату)Добравшись до Петербурга, Недведкин и не подумал соваться домой — ревельские жандармы уже, конечно, сообщили о его бегстве, и дома его как пить дать сцапают. А потому отправился он за Нарвскую заставу,: разыскал домик стариков Крауховых, а когда ему открыли дверь — не поверил своим глазам: на пороге стоял его старый друг Терентий Краухов, старший брат Сергея. Какая-то сила толкнула его навстречу товарищу, и он, крепко сцепив руки, уткнулся носом в небритую щеку.
Только когда остыл пыл неожиданной встречи, спросил у Терентия, каким образом тот в Петербурге оказался — не бежал ли из ссылки?
Терентий покачал головой, пригласил товарища в комнату. Стариков не было дома — ушли в церковь, а потому была возможность свободно обо всем поговорить. Уже сидя за старым непокрытым столом и прихлебывая чай из большой фаянсовой кружки, Недведкин как следует рассмотрел друга и поразился происшедшей в нем перемене. Человек вроде бы тот же самый, а неузнаваемо изменился… И не в том дело даже, что ввалились щеки, на которых горел нездоровый румянец.
Больше всего изменились глаза. Прежде взгляд у Терентия был добродушный, открытый, веселый, а теперь на Костю глядели колючие, лихорадочно блестевшие глаза. Движения Терентия стали торопливыми, резкими, и чувствовалось, что он с трудом может заставить себя посидеть на месте больше пяти минут. Он часто вскакивал с места, нервно вымеривал шагами небольшое пространство комнаты.
Из сбивчивого, отрывистого рассказа Костя узнал, что товарищ отбыл срок ссылки и ему разрешено вновь проживать в Петербурге. Терентий подошел вплотную к гостю, заглянул в глаза, криво усмехнулся:
— Проживать разрешено, Костя, а вот жизни-то у меня уже и не осталось…
— Это ты о чем? — удивленно спросил Недведкин.
— Чахотка у меня после ссылки… все время кровью харкаю. От легких небось уже клочки одни остались…
Тяжело стало Недведкину от этих слов. Но чтобы как-то успокоить товарища, сказал резко:
— Брось ты! Чего вдруг хоронишь себя раньше времени? От чахотки выздоравливают тоже…
— Э-э, Костя, брось ты меня утешать! Знаю, что немного мне дней осталось… Но, однако, хватит нам об этом. Я-то пока на ногах стою и еще кое-что сделать могу. И до последнего дня буду делать. Буду! Ты на мое нытье внимания не обращай, а давай расскажи, каким образом в Питер попал, — тебе вроде бы на морской службе быть положено, лентами с якорями девок заманивать!
На минутку в тоне Терентия послышались прежние веселые и добродушные нотки, отчего у Кости сжалось сердце. Он чувствовал, что правду говорит товарищ — недолго ему осталось гулять по свету…
Он коротко рассказал о том, что произошло в Ревеле. Терентий заволновался, сказал, что побыстрее надо поговорить с нужными товарищами, благо такая возможность сейчас есть.
Вскоре из церкви вернулись старики, смутились, увидев гостя, и Недведкин сразу понял причину этого смущения — наверняка в доме было плохо с едой и они не могли его накормить… Да и откуда в их доме мог взяться сейчас лишний кусок хлеба — больной сын не работает, денег домой не приносит… С приходом родителей Терентий заторопился куда-то, приказал им строго-настрого никуда до его возвращения не выпускать Костю и торопливо вышел, почти выбежал, хлопнув дверью.
Сгорбленная седая хозяйка принялась чистить над тазиком картошку, а старик Краухов присел, поглядывая из-под косматых бровей на нежданного гостя, но ни о чем не спрашивал — по каким-то приметам понял, что этот человек не из тех, кого следует расспрашивать. Сидели молча. Несколько раз Недведкин готов был сказать, что служил вместе с Сергеем, но что-то удерживало его. Ведь старикам надо было тогда объяснить, отчего приехал он к ним без формы, пришлось бы сознаться, что сбежал с корабля, а это наведет их на мысль, что там позади остались у него какие-то опасности. Будут волноваться лишний раз за младшего сына, а им и без того, наверное, тяжко сейчас с Терентием… Уж лучше помолчать в таком разе!
Так и сидели помалкивая. Вернулся Терентий в сопровождении русоволосого худощавого человека с бородкой, одетого, несмотря на жаркую погоду, в суконный пиджак, из-под которого выглядывала линялая синяя косоворотка.
— Вот тебе Тимофей Птицын, — сказал Терентий Косте, — мужик, который тебе сейчас больше всего нужен. Он тебе все сделает, что надо, и сведет к кому надо.
Он вдруг тяжело закашлялся, судорожно выхватил платок, поднес ко рту. Недведкин и Птицын переглянулись, и в их взглядах одинаково отразилась печаль. А больной, прокашлявшись, буквально вытолкал их за дверь, сказал на прощание ворчливо:
— Идите, идите! Нечего вам тут…
Так Недведкин попал в руки Тимофея Абрамовича Птицына, который и впрямь оказался самым нужным — он и накормил, и ночлег устроил, а наутро отвез. Костю на Выборгскую, где в облезлом, с облупленной штукатуркой доме беглеца сфотографировали и в тот же день вручили новенький паспорт, из которого явствовало, что его владелец зовется Константином Евграфовичем Половиным. Поменяв фамилию и отчество новорожденному нелегалу, имя оставили прежним, чтобы легче было привыкать.
А потом Костю привели на явочную квартиру, и там представитель Петербургского комитета — коренастый человек в пенсне, внимательно выслушал его о положении дел на кораблях, расспросил о настроениях матросов. Услышав о том, что на кораблях вот-вот может вспыхнуть восстание, он заметно встревожился, спросил, как скоро это может быть. Но на этот вопрос Костя не мог ответить. Обстановка на кораблях и особенно на «Павле» так накалена, что любая грубость со стороны какого-нибудь офицера могла привести к тому, что терпение матросов лопнет и неудержимая ярость бросит их в бой.
— Да… — сказал человек в пенсне, — положение!.. Как я понял — настоящей организации у вас нет, и события развиваются, прямо скажем, стихийно, и овладеть матросской массой, направлять ее отдельные партийцы оказались не в состоянии. Так ведь обстоит дело?
Костя признал, что действительно так.
— Но я хотел бы уточнить одно обстоятельство. Допустим, что нам все же удастся быстро наладить связь с матросами в Ревеле и передать, что Петербургский комитет РСДРП предлагает отложить пока выступление, приурочить его к массовым выступлениям рабочих. Примут ли наше предложение матросы?
— Думаю, что примут, — после раздумья сказал Костя, — каждому в общем-то ясно, что если сообща действовать — значит больше шансов на успех.
— Ну, что ж, — сказал, заключая разговор, представитель комитета. — Вопрос этот мы обсудим безотлагательно, а сейчас главная задача — найти возможность для связи с Ревелем…
Сведения, привезенные Недведкиным (теперь уже Половиным), встревожили товарищей из Петербурга. Восстания моряков вспыхивали уже не один раз, и всегда каратели заливали их пламя матросской же кровью. Исключением был только «Потемкин» — матросам броненосца удалось избежать расправы, уйдя в румынский порт Констанцу. Мятежный корабль унес за границу неспущенным алый стяг восстания, и не случайно Ленин назвал этот корабль «непобежденной территорией революции».
Хотя революционное движение в России бурно шло на подъем, время для вооруженного выступления еще не настало. Недавно в Петербург была доставлена из Парижа газета «Социал-Демократ» с ленинской статьей «Революционный подъем». Владимир Ильич напоминал об апрельских арестах матросов в Гельсингфорсе в связи с подготовкой восстания и высказался по этому поводу резко.
«Преждевременные попытки восстания, — говорилось в статье, — были бы архинеразумны. Рабочий авангард должен понимать, что основными условиями своевременного — т. е. победоносного — вооруженного восстания в России являются поддержка рабочего класса демократическим крестьянством и активное участие армии».
Эта четкая формулировка не оставляла никаких сомнений в том, что подготовляемое матросами восстание несвоевременно.
Важно было разъяснить матросам, что прошедшая полгода назад конференция большевиков в Праге взяла курс на демократическую революцию, которой предстояло перерасти в социалистическую. Теперь как никогда нужна была тесная связь балтийских моряков с рабочими Петербурга.
Надо было во что бы то ни стало удержать матросов, и если они согласятся хотя бы на отсрочку, то использовать это время для разъяснительной работы, помочь людям понять, при каких именно условиях возможна победа сооруженного выступления, и готовить их организованно и планомерно к этому выступлению в тесном взаимодействии с рабочими. Но чтобы осуществить все это, нужна была прежде всего связь с партийцами и людьми, сочувствующими делу партии, которые служили во флоте. А связи не было.
Пролетали дни, и каждый из них мог принести весть о выступлении матросов, а контакты так и не нащупывались. Удалось только связаться с двумя рабочими из Ревеля, но они сообщили, что корабли из гавани ушли и, видимо, находятся в плавании.
Перебирая один за другим различные варианты, решили просить помощи у сотрудников «Правды». В редакцию каждодневно приходили люди почти со всех петербургских заводов, в том числе и с заводов морского ведомства, и может быть, через них удалось бы узнать о каких-нибудь поставках оборудования на корабли. Заняться этим попросили заведующего редакцией Еремеева.
Надо сказать, что у тезки Недведкина — «дяди Кости», как звали его правдисты, дел было невпроворот: прием посетителей, разбор писем, подготовка материалов в печать — все это отнимало массу времени. Однако свалившееся на него новое поручение — огромной важности дело, и он подолгу беседовал с приходившими рабочими.
Не зря, видно, товарищи считали Еремеева везучим человеком — на третий день после того, как он получил поручение, слесарь Зимин с Балтийского завода, принесший в редакцию деньги, собранные на газету «Правда», рассказал, что скоро выезжает в Ревель со специальной ремонтной группой. На завод поступили сведения о неполадках в механизмах для подъема снарядов главного калибра на «Андрее Первозванном» и «Императоре Павле I». Морское ведомство просило откомандировать на корабли специалистов.
Поистине неслыханное везение! Зимин был человек надежный, проверенный в баррикадных боях. Ему вполне можно было доверить налаживание связей, и можно было ожидать, что к мнению Зимина — участника кронштадтского восстания, матросы прислушаются.
Со слов Недведкина Зимину передали, что на «Павле» надо связаться с унтер-офицером Ярускиным или матросом Крауховым и действовать с их помощью.
Узнав, что Зимин получил все необходимые инструкции, Еремеев успокоился — этот человек наверняка быстро найдет общий язык с матросами и подготовку к будущим восстаниям можно будет ввести в правильное русло.
Газета снова захватила дядю Костю целиком. Каждый день ждали какие-нибудь неприятности — то материалы запаздывали, то рабочих корреспондентов арестовывали, то очередного дежурного редактора тащили в тюрьму, и приходилось искать «специального» для отсидки. Однако глубоко радовало, что газета пускает все более глубокие корни на фабриках и заводах, рабочие засыпали редакцию письмами о забастовках, конфликтах, о своих обидах. Эти письма занимали в «Правде» основное место. Удавалось через кордоны получать материалы от Ленина и печатать их, скрывая подлинное имя автора под псевдонимами.
Не успели буржуазные газеты отшуметь по поводу встречи двух монархов в Балтийском порту, как вновь на полосах появились пространные телеграммы министра двора о предстоящем участии царской семьи в торжественной закладке новой гавани имени Петра I на острове Карлос близ Ревеля. «Правда» этих телеграмм не печатала. Зато из номера в номер шли десятки информации с мест о растущем революционном подъеме.
Утро 29 июня. На ревельском рейде в четыре линии выстроились суда Балтийского флота. Ближе к берегу стояли «Рюрик» и «Громобой», следом за ними серыми утюгами придавили гладь воды линейные корабли, еще дальше за ними вытянулись низкие силуэты крейсеров, а в последнем ряду виднелись старенькие учебные корабли.
Между ревельской пристанью и островом Карлос сновали катера, шлюпки, баркасы — отвозили гостей к месту, где должна была состояться церемония закладки порта Петра Великого. Гости шествовали мимо царского павильона, сколоченного на берегу за несколько суток, окружали плотным кольцом ровную утоптанную площадку.
В 9 часов 30 минут к рейду подошел «Штандарт». И сейчас же резкими, короткими толчками в уши ударил грохот салюта. Суда, стоявшие на рейде, окутались клубами дыма, по мачтам поползли вверх флажные сигналы. Едва царская яхта стала на якорь у острова Карлос, как от нее отделился белоснежный катер. Загремел оркестр, толпа на берегу пришла в движение.
С палубы «Павла» хорошо было видно, как копошится на острове людской муравейник. Свободные от вахты матросы поглядывали на берег, негромко переговаривались. Краухов ушел на бак покурить. Рядом с ним встал недавно прибывший на корабль матрос Дыбенко — кареглазый высокий парень атлетического сложения. Таких ладных, бравых матросов любили рисовать на пасхальных картинках в журнале «Нива». Только на картинках у матросов глаза бессмысленно вытаращенные, а у этого парня бойкие, смышленые, лукавые.
Был у Дыбенко веселый открытый нрав, и матросы сразу отнеслись к нему с доверием, признали за своего, несмотря на то, что не прочь был он и подначить товарища. Но подначка не была злой, а всегда доброй, и потому ему прощали острое словцо. Сергею тоже понравился новичок, и они быстро, что называется, «сошлись характерами», благо койки их подвешивались рядом. Единственно, что смущало Сергея, — так это то, что Дыбенко, почти не таясь, ругал драконовские порядки на корабле и на всем флоте, резко говорил об офицерах. Такая откровенность была необычной и невольно настораживала.
Всего полгода назад Сергей отнесся бы к рассуждениям нового товарища как к должным, поддержал бы его в разговоре, потому что и самого его всегда тянуло к откровенности с людьми, и не любил он таиться. Однако за прошедшие месяцы характер Краухова в чем-то изменился, и это он чувствовал сам. Прошедшие события не прошли для него даром, научили осторожности… А потому и сдерживал он себя в разговорах с Дыбенко, а когда Ярускин предложил привлечь новичка к подготовке восстания, Сергей возразил, сказал, что доверять парню позднее, видимо, и можно будет, а сейчас он больно горяч. Когда дойдет дело до выступления, тогда Павел и сам присоединится к товарищам, а пока его не надо вовлекать.
Сегодня, когда Дыбенко подсел к нему, Краухов в который раз подумал, что природа щедро наделила этого парня — в Новозыбкове, откуда был тот родом, все девки наверняка по нем сохли. Дыбенко молча курил, глядел, сощурив глаза. Со стороны острова Карлос ветерок доносил бравурные звуки маршей. Потом подтолкнул Сергея локтем в бок, неожиданно спросил:
— Как думаешь — сколько от корабля до царского павильона на берегу?
— Да ведь как сказать? — прикидывая расстояние, вслух раздумался Краухов. — Я не сигнальщик, конечно, точно не определю, но думаю, что кабельтова два будет. А что?
— С такого расстояния прямой наводкой на глазок главным калибром ухнуть бы по этой сволочи… С одной башни залп — и только пыль осталась бы!
Сергей оглянулся, нет ли кого поблизости, осуждающе покачал головой.
— Зря ты, Паша, о таких вещах во весь голос… ни к чему такое ухарство.
— Своему же говорю!
— Так-то оно так, да только у тебя получается… до чужих ушей слово долететь может. А оно не воробей — сам знаешь…
— Слишком осторожные вы все. Даже друг перед другом!
— А ты как думал? Вон один уже к нам топает… ты при нем не больно-то…
Краухов кивнул головой в сторону подходившего Ганькина. Этого бледного человека с заискивающим взглядом и предупредительной улыбкой, при которой обнажались гнилые зубы, он знал с первого дня службы на «Павле». Еще при оформлении, когда писарь зачислял его в состав роты, Сергею не понравилось, что Ганькин, рядом оказавшийся, как бы невзначай спросил, дескать, видимо, и на «Цесаревиче», откуда прибыл Краухов, несладко служить матросам. Сергей, от природы доверчивый, в тот раз насторожился, буркнул, что на военной службе всем нелегко — и матросам и офицерам. Ганькин согласился и отстал от него.
Позже они несколько раз сталкивались, и всегда Сергей ощущал неловкость при общении — все казалось, что неискренен этот человек. Сергей еще до того, как Недведкин скрылся с корабля, делился своими сомнениями с другом, но тот сказал, что знает Ганькина больше года, ничего подозрительного за ним не замечал. И все же Сергей, хотя и верил Косте во всем, в этом случае не мог отделаться от чувства недоверия. Вот и сейчас он вновь испытал его.
А подошедший уже спрашивал с улыбкой, заглядывая в глаза:
— О чем запечалились? Не обидел ли кто таких молодцов?
— Да вот сидим и жалеем, — отозвался Дыбенко, — жалеем, что не можем в это торжество на острове попасть!
Сергей с укоризной взглянул на слишком откровенного приятеля, но тут же сообразил, что хитрый Дыбенко так достроил ответ, что подлинный смысл слова «попасть» мог быть ясен только в продолжение предыдущего разговора, а Ганькин наверняка понял его по-другому. И действительно, тот, все так же улыбаясь, спросил:
— А надо ли нам, матросам, туда попадать? Начальства там слишком много.
— Это ты прав, что слишком, — поднимаясь со скамьи, сказал Дыбенко. — Пойдем, Серега, в кубрик, я тебе житие апостолов дам почитать. Душеспасительная книжица…
Оба не спеша пошли к люку, оставив Ганькина возле скамьи. Но вниз не стали спускаться, увидев, что от носовой башни махал им рукой Ярускин, подзывал к себе. Ярускин вполголоса предложил им по очереди посмотреть в дальномер, наведенный на остров. Матросов не надо было уговаривать — они мигом протиснулись внутрь. Первым к окуляру прильнул широкоплечий Дыбенко, смотрел долго, поворачивал рукоятку то вправо, то влево. Только после настойчивых подталкиваний уступил наконец место Краухову.
В первое мгновение Сергей даже зажмурился — после полумрака башни поток света, преломленный линзами, показался нестерпимо ярким. А потом он увидел неправдоподобно близких людей в сверкании золота и серебра и среди них — одетого в белую морскую форму царя. Сильная оптика позволяла отчетливо видеть его освещенное солнцем лицо, только глаза прятались в тени, отбрасываемой козырьком фуражки. Несколько секунд Сергей с напряженным вниманием разглядывал того, кого только неделю назад он должен был застрелить. Внезапно цепь обступивших царя людей заколыхалась — и все, кого видел в дальномер Сергей, вдруг как-то неловко и неуклюже бухнулись на колени, а вместе со всеми и российский самодержец. Матрос с недоумением смотрел, как дружно задвигались их губы, а глаза уставились в одну точку, но тут же он сообразил, что там, на острове, запели «Боже, царя храни». Но звуки пения и музыки в башню не проникали, и поэтому смешно было глядеть на беззвучно разеваемые рты.
Внезапно Дыбенко с силой дернул его за рукав. Сергей оторвался от окуляра и увидел просунувшегося лейтенанта Затурского.
— Это еще что за гости? — строго спросил он. — А ну, живо из башни!
Матросы торопливо выскочили на палубу, вытянулись перед офицером. Но тот, не обращая на них внимания, выговаривал Ярускину за то, что окуляр дальномера оказался расчехленным. Когда лейтенант отошел, Дыбенко коротко спросил:
— Здорово попадет тебе?
— Нет. С Затурским жить можно — сделал замечание — и все тут. Наказывает только в крайнем случае.
— Это вы здорово устроились! — с разыгранной завистью сказал Дыбенко.
— А ты как думал? Артиллеристы завсегда везучие!
Когда матросы пошли было восвояси, он придержал Сергея, успел шепнуть:
— После отбоя возле шлюпки.
Краухов кивнул головой и пошел вслед за Дыбенко. Он знал, какую шлюпку имел в виду Ярускин — первую по левому борту. Вчерашним вечером возле нее был разговор, не предназначенный для чужих ушей. Видимо, и на этот раз Ярускину надо было передать что-то Сергею.
Приказ Эссена вывести бригаду линейных кораблей на рейд Гунгербурга был встречен офицерами «Павла» с единодушным воодушевлением. Еще бы! Возможность покейфовать в курортном городке после изнуряющих дней плавания, окунуться в желанную прохладу его зеленых улиц казалась райской наградой. Еще более были обрадованы проходившие на корабле летнюю практику гардемарины Морского корпуса. В море им наряду с нижними чинами приходилось мыть палубу и драить медяшку, разбирать механизмы и чистить после стрельб стволы орудий. А теперь им предстояли веселые прогулки на берегу. Их ждали танцы в курзале, изысканное меню ресторанов, ароматный кофе на открытых верандах, а для тех, кому посчастливится перехватить вовремя местных недорого стоящих красавиц, — уютные номера в отеле «Комфорт», в пансионах «Ирэн» и «Мон репо».
Едва бригада прибыла на место и корабли стали на рейде, и рядом — чистенький, умытый Гунгербург, просьбы об увольнении посыпались к Небольсину пачками. В другое время командир «Павла» побрюзжал бы по поводу чрезмерного количества просьб, но теперь после выказанной кораблю и экипажу монаршей милости Небольсин находился в самом прекрасном расположении духа и никому не отказывал. Повезло и многим нижним чинам, получившим увольнение на берег.
С послеобеденного времени между рейдом и дощатым причалом засновали юркие катера, увозившие на берег офицеров, гардемаринов и матросов. Сверкающее великолепие летнего белоснежного обмундирования, золотой блеск погон, кокард и пуговиц, сияние кортиков слепили глаза местных дам, оказавшихся как бы невзначай на берегу и прогуливавшихся у моря под изящными кружевными зонтиками.
На причале пути моряков расходились — офицеры и гардемарины шли по тенистым улицам к центру городка, а нижние чины круто сворачивали и уходили по кромке берега, стремясь обойти городок и попасть к лесу.
В лесу, вдали от начальственного глаза, матросу куда спокойнее. На полянах и опушках каждый находил себе занятия по вкусу. Многие успевали по пути заглянуть в притулившуюся на окраине городка лавку и теперь располагались под кустами с бутылками и нехитрой закуской, составляя маленькие, но довольно шумные компании. Среди прибывших на берег оказались и завзятые картежники, получившие наконец возможность всласть поиграть на деньги (на корабле игра в карты преследовалась самым решительным образом, и застигнутым во время игры матросам грозила отсидка на несколько месяцев в военно-исправительной тюрьме). Но больше всего среди уволенных на берег оказалось любителей послоняться по лесу, отдохнуть на тенистых полянках, побыть наедине с природой.
Возле лесной тропинки под могучим раскидистым дубом примостились на траве двое приятелей. Они скинули с себя форменные рубахи и тельняшки, аккуратно повесили их на ветви, поставили на пенек бутылки с пивом и принялись очищать вяленую воблу. Приятели, по-видимому, были людьми общительными, потому что заговаривали с каждым, кто проходил мимо по тропинке. Всем задавали один и тот же вопрос:
— Далеко ли бредешь, братец, не заблудишься ли?
Кто отшучивался, услышав этот вопрос, кто говорил, что дорогу знает, некоторые отвечали приятелям одними и теми же словами:
— Заблудиться тут трудно, а затеряться немудрено!
Получив этот маловразумительный ответ, дружки не удивлялись вовсе, а говорили негромко:
— За следующим кустом направо, а там через орешник — прямиком до полянки…
Тем, кто отвечал им иначе, они улыбались и желали счастливой прогулки.
Подпольная сходка на поляне подходила к концу. Последним выступал Ярускин. Говорил он, как всегда, спокойно и рассудительно, но Краухов, стоящий неподалеку, видел, как на виске у товарища дергается, пульсирует тонкая жилка. Ясно было: волнуется.
— Значит, подведем итоги, — сказал Ярускин, — выступаем послезавтра в ночь на одиннадцатое июля. Первыми начинаем мы на «Павле», за нами поднимаются остальные три корабля бригады. Начнем в два тридцать, когда господ офицеров самый сладкий предрассветный сон сморит. Сигнал для всех остальных кораблей — три револьверных выстрела с палубы. Ну что еще? Все вроде бы и обговорили?
— Вопрос еще напоследок будет! — пробасил кочегар с «Цесаревича». Сергей хорошо знал его по прежнему месту службы и понял, что вопрос будет непростой. И действительно, кочегар спросил:
— А правильно ли мы решили офицеров в живых оставлять? Может, пересмотрим это дело?
— Ну и вылез напоследок! — в сердцах сказал Ярускин. — Какого черта опять возвращаться к тому, что уже решено большинством? Постановили же: офицеров обезоруживать и запирать в каютах. Кончать только тех, кто стрелять попытается. С такими, действительно, не церемониться. И давайте так, товарищи, условимся — революционная дисциплина должна быть покрепче, чем служебная царская. Раз мы постановили — значит, баста! Никаких отклонений. Понятно?
— Понятно! — недовольно пробасил кочегар. — Это я так… Уже и спросить нельзя…
— По спросу и ответ! — засмеялся кто-то.
Из леса к пристани возвращались по одному, по двое. Сергей пошел вместе с Ярускиным. По дороге вспомнили о Косте Недведкине. Вот кто нужен был бы сейчас с его опытом, редким умением воздействовать на людей. Но с того памятного дня он словно в воду канул. Прошло уже две недели, а его исчезновение так и осталось загадкой.
От корабельного писаря они уже знали, что Недведкин упомянут в приказе как дезертировавший со службы и что объявлен его розыск…
В то же самое время, когда Краухов и Ярускин вспоминали пропавшего товарища, фамилия Недведкина была произнесена в отдельном кабинете гунгербургского ресторана, где встретились за ужином старший офицер линейного корабля «Павел I» Миштовт и ротмистр Эстляндского жандармского управления Шабельский.
Впрочем, тот, кто не знал Шабельского в лицо, вряд ли мог заподозрить в этом элегантном, одетом в серый костюм господине жандармского офицера. Стась сидел за столом, небрежно облокотись о бархатную спинку дивана, курил дорогую гаванскую сигару.
— И с тех пор никаких вестей? — спросил он у собеседника.
— Представьте себе — ничегошеньки…
— Да, улизнул негодяй. И ведь, между нами говоря, ускользнул от самого опытного нашего филера. Теперь уж дело прошлое, и могу вам доверительно сказать, что Недведкин потому и не вернулся на корабль, что понял, что за ним следят, и не хотел, чтобы через него до других добрались… Надеюсь, вы взяли под наблюдение тех матросов, с которыми он более других общался?
— Разумеется. Хотя, если сказать откровенно, связи его почти не прослеживаются. Очень уж осмотрителен был. Общался со многими, но ни с кем особо не дружил. Пожалуй, из всех матросов был близок с электриком Крауховым. На наш корабль этот матрос прибыл в апреле. А кстати, ротмистр, могу подарить вам одну идею. Право же, может пригодиться…
— Любопытно.
— У Краухова родители живут в Петербурге. Не попытался ли Недведкин искать помощи у них?
— А что? — протянул Шабельский. — Не лишено основания. Благодарствую от души. Эту версию стоит прощупать. Ну а что новенького в настроениях экипажа?
— Боюсь, что на этот вопрос ответить не так-то просто. Мне кажется, события приобретают нежелательный оборот. Не далее как сегодня утром мой агент донес, что два дня назад электрик Панин и комендор Королев беседовали о возможности приобретения оружия.
— Сведения поступили только сегодня? — быстро спросил ротмистр, сделав пометку на листке бумаги.
— Раньше у него не было возможности встретиться со мной с глазу на глаз. К тому же, как он уверяет, ему хотелось разузнать дополнительно кое-какие подробности…
— Любопытно, любопытно… И что еще?
— Еще агент сообщает, что в последние дни матросы стали часто собираться группами, о чем-то шепчутся. Впрочем, это и без агента заметно… А вот сегодня здесь, не берегу, как прослышал агент, должно состояться подпольное собрание.
Шабельский бросил взгляд на циферблат висевших на стене часов, снова сделал пометку на бумажке.
— К сожалению, — продолжал Миштовт, — я узнал об этом совсем незадолго до нашей встречи. Однако же агент обещал дать назавтра дополнительные сведения. Если будет что-то важное, то сообщу вам немедленно. Кстати, завтра мы выходим на стрельбы и после учений возвращаемся всей бригадой на ревельский рейд.
— Значит, в Ревеле и встретимся… А теперь мне пора. Последний вопрос: за ужин будем расплачиваться по обычаям Руси или же по-немецки?
— Боже мой, какая мелочь! — махнул рукой Миштовт. — Оставьте все на меня, о чем говорить…
— Обезоружен любезностью. Очень благодарен-с! Честь имею.
Прощаясь с собеседником, Стась лучезарно улыбался и крепко жал руку. На лице Миштовта тоже сверкала улыбка. Однако, когда ротмистр вышел, улыбка мгновенно исчезла. Офицер взял со стола счет, взглянул на сумму и недовольно поморщился.
Лейтенант Затурский понимал: полученный от командира корабля фитиль вполне заслужен. Да что говорить, стреляли сегодня из рук вон плохо — сплошные перелеты и недолеты, прямых поражений цели считай что и не было. С самого начала летней кампании носовая башня еще ни разу не действовала так плохо. Правда, результаты стрельбы кормовой башни сегодня были не лучше, но это мало утешало.
И что только случилось с людьми? За прошедшие месяцы Затурский сумел добиться того, что орудийная прислуга действовала слаженно, четко, безошибочно. Он гордился тем, что его матросы подхватывают команды с полуслова и исполняют их быстрее и точнее, чем комендоры других башен. А сегодняшнюю стрельбу и вспоминать не хочется. Орудийная прислуга нервничала, люди непривычно суетились, упускали драгоценные секунды, путали показания приборов.
Было совершенно очевидно, что матросы чем-то до крайности взбудоражены. Но чем? Попытка заговорить об этом кончилась безрезультатно. Отвечали невразумительно, отводили глаза в сторону.
Неужели прав мичман Тирбах? Не далее как вчера вечером он доверительно рассказал, что начальство вроде бы дозналось, будто на корабле чуть ли не мятеж затевается, составило списки и уже принимает какие-то меры.
Раздумья лейтенанта прервал осторожный стук, дверь каюты приоткрылась, и вестовой, не входя, сообщил:
— Так что, вашскородь, господин старший офицер вас к себе приглашает.
Миштовт встретил его, как всегда, вежливым полупоклоном, предложил сесть и без всяких околичностей спросил, не наблюдал ли он в последнее время что-либо необычное в поведении нижних чинов. Когда Затурский рассказал о своих наблюдениях, старший офицер, словно в знак согласия, наклонил голову, показав на мгновенье безукоризненный пробор.
— Что же… — сказал медленно Миштовт. — Ваши наблюдения совпадают с тем, что рассказывали мне и другие офицеры. Команда явно нервничает, приказы выполняются неохотно и небрежно. За спиною офицеров матросы о чем-то шепчутся. Сегодня по боевой тревоге люди двигались к своим постам не бегом, а шагом. О результатах стрельб и говорить не хочется. Словом, все свидетельствует о том, что на корабле затевается что-то опасное. Есть все основания полагать, что группа безответственных элементов мутит команду, подбивая ее на бунт. Пока выяснение обстоятельств еще не закончено. Однако с согласия командира корабля я вынужден был принять кое-какие превентивные меры и взять под наблюдение ряд подозрительных лиц. Обращаю ваше внимание на то, что среди ваших подчиненных надо особенно внимательно присмотреться к Ярускину и Королеву. Кроме того, прошу вас ознакомиться с составленной мной инструкцией, как надлежит действовать офицеру в случае открытого неповиновения команды или иных нежелательных действий…
Когда Затурский, ознакомившись с инструкцией, вернулся к себе, он первым делом достал из ящика стола револьвер, покачал его, словно взвешивая, на ладони, проверил, на месте ли патроны, и положил оружие в карман кителя. Таков был приказ старшего офицера. Однако теперь, когда он остался один, ему уже не казались убедительными слова Миштовта. Не преувеличивает ли осторожный службист возможность матросского выступления? Конечно, команда нервничает. Это очевидно. Но мало ли какими могут быть причины…
Размышлявший об услышанном Затурский не подозревал, что меры на случай корабельного бунта намечены после сегодняшнего донесения секретного агента. С его слов старший офицер знал о решении матросов начать мятеж в ближайшее время. Однако точного срока выступления Ганькин не смог назвать.
Ничего не пожалел бы Миштовт за то, чтобы узнать этот срок…
В этот наполненный тревогой день старшему офицеру пришлось заняться еще одним непредвиденным делом. Из ревельского порта сообщили, что прибыла группа рабочих Балтийского завода для неотложного осмотра и ремонта некоторых механизмов. Заявку на этих рабочих несколько дней тому назад подписывал сам же Миштовт. Помощь их нужна была позарез. Но сегодня их приезд оказался совсем некстати, и старший офицер отправил матроса в порт с запиской, в которой сообщал, что сможет принять группу ремонтников на корабль только завтра.
Портовый инженер объяснил ситуацию старшему по группе и посоветовал разместить людей до утра на втором этаже ближайшего трактира, где хозяин сдавал приезжим койки по умеренной цене. Рабочие отправились по указанному адресу, и только Михаил Зимин сказал, что присоединится попозже, а пока навестит своего знакомого.
Он отправился пешком в сторону завода Вольта, но почему-то выбрал для этого далеко не самый короткий маршрут — колесил по переулкам, иногда возвращаясь на уже пройденный перекресток. Он должен был убедиться, нет ли за ним «хвоста». А когда удостоверился, что нет, то вышел прямиком к стоявшему в глубине двора двухэтажному дому, поднялся по лестнице, постучался в дверь и, сказав вышедшему человеку, что «привез гостинец от Настасьи Федоровны», был впущен в комнату.
Будь на лестнице немного посветлее, так, чтобы можно было разглядеть лицо человека, открывшего дверь, Зимину не потребовалось бы произносить условных слов, ибо встретил его не кто иной, как Артур Вальман — старый друг по кронштадтской службе.
Шесть лет уже прошло с той поры, как расстались они ночью, дав клятву друг другу непременно встретиться. А перед этим они в числе последних защитников казармы флотского экипажа полдня отстреливались от наседавших городовых и солдат. Чудом ушли тогда. Из их товарищей никто не спасся. Тех, кто был ранен и не мог идти, каратели добили здесь же, во дворе.
Получив в Петербурге задание встретиться с участником подпольной группы на заводе Вольта, Зимин и не предполагал, конечно, что этим человеком окажется его старый друг Вальман.
…Они долго тискали друг друга в объятиях, не в силах вымолвить слова, не стыдясь своих слез. Когда первая радость встречи улеглась, стали наперебой расспрашивать друг друга, как довелось жить эти годы.
Артуру посчастливилось больше — он довольно быстро добрался до Ревеля, раздобыл через товарищей надежные документы и поступил на завод Вольта, где он и работает по сей день под фамилией Лыбу. Имя он сохранил прежнее. А вот Зимину пришлось помыкаться здорово. Из горящего Кронштадта он выбрался на лодке, собираясь доплыть до финского берега, но его перехватили пограничники и передали городовым. Казалось бы, не миновать военно-полевого суда, да помог невероятный случай — на окраине пограничного городишки Белоострова у проезжавшего извозчика чего-то испугалась и понесла лошадь, сшибла одного из конвоиров. Второго уложил кулаком Зимин, перемахнул через забор, потом еще через один, выбрался огородами к лесу и ушел в Сестрорецк, где жил его кум. Почти месяц прятался он на чердаке у кума, а потом через Петербург укатил в Архангельск, работал грузчиком в порту и только два года назад с «липовым» паспортом поступил на Балтийский завод.
Пока Михаил рассказывал, Артур разжег керосинку, подогрел чайник, нарезал хлеба и колбасы, поставил тарелку с куском масла и широким жестом пригласил к столу. Разливая по стаканам горячий чай, спросил друга:
— А к нам надолго ли?
— Да ведь не знаю толком, сколько нас на ремонте могут задержать. Но думаю, что на два-три дня. Главное мне — попасть на корабль. Но слава богу, завтра с утра должны на борту быть. Теперь уже все успею сделать…
Больше Зимин ничего не добавил, а Артур и не пытался расспрашивать — законы конспирации этого не допускали. Даже близкому другу можно было сказать очень немногое.
Но оказалось, что у гостя есть дело и к самому Артуру. В Петербурге товарищи поручили узнать, есть ли какая-нибудь связь у подпольной организации завода с военными моряками. Если связи нет, просили ее установить. Услышав об этом, Вальман покачал головой:
— О такой связи и сами думали, да ничего до сих пор не получается. Недели две назад побывал у наших один моряк с «Павла I», а потом исчез внезапно. И Лутованов тоже.
Зимин, поняв, что речь идет о Недведкине, пояснил:
— Матросу тоже пришлось скрыться. Его едва не выследили, когда он с явки от Лутованова шел. К счастью, сумел от филера отвязаться.
Прощаясь, они условились встретиться завтра, и Зимин отправился на ночлег в портовый трактир, где ждали его товарищи с завода. Зимин рад был, что вновь обрел потерянного шесть лет назад товарища. Все это хорошо, но не оставляла его тревога: сумеет ли вовремя передать морякам-партийцам приказ воздержаться сейчас от любых выступлений, вступить в тесный контакт с ревельскими рабочими и заняться тщательной подготовкой будущих совместных действий. Почему сегодня на линкоре не смогли принять рабочих?..
Недведкин в Петербурге рассказывал, какова обстановка на кораблях. Все кипит, в любой момент взрыв может быть. Но как не вовремя был бы этот взрыв! Завтра он передаст приказ Ярускину, а тот остальным товарищам. Нужно остановить матросов во что бы то ни стало. Сейчас важно, чтобы каждый понял: время для решающих боев еще впереди. И готовиться к ним надо серьезно, и выступать надо сообща. Иначе сомнут, потопят в крови…
Вновь вспомнились ему кронштадтские бои девятьсот шестого года — артиллерия и пулеметы против матросских винтовок, расстрелы в казематах, на улицах и во дворах, издевательства озверевших карателей над пленными, жалкая комедия царского суда и опять расстрелы — теперь уже по «законному» приговору. Тот, кто, подобно ему, прошел сквозь этот ад и остался в живых, тот навсегда понял гибельность разрозненных выступлений.
Дорого обходится народу жизненная школа. И никак нельзя, чтобы обескровливала его царская сволочь!
Когда Зимин вышел к порту, он увидел стоящие на рейде, глубоко осевшие в воде громады линейных кораблей. Ветер с моря донес перезвон корабельных склянок. Там, за стальной броней, как в плавучей тюрьме, — его товарищи. Отчаяние и горечь постоянных унижений переполнили чашу их терпения. Как хорошо понимал он их, сам испытавший на своей шкуре тяготы царской службы, сам поднимавший оружие на царских палачей. Он понимал их, но знал твердо: сейчас надо матросов остановить. И он, Михаил Зимин — бывший матрос и питерский пролетарий, сделает все, чтобы приказ партийного комитета был выполнен. Самое главное: он должен успеть.
Началась смена вахты, когда Сергей Краухов, быстро оглянувшись по сторонам, нырнул в люк и скользнул по трапу. Пошарил рукой за выступом воздухопровода, где лежало оружие для его группы. Там был один пистолет, завернутый в промасленную ветошь, — тот самый, что предназначался для покушения на царя. Все остальное годилось только для рукопашной — два небольших ломика, топор, железная скоба и заостренный напильник на деревянной рукоятке. Сергей отвернул рубаху, вынул из-за пояса охотничий нож, купленный накануне в Гунгербурге, и присоединил его к своему «арсеналу». Сегодня ночью все это понадобится.
Вверху у люка послышались чьи-то шаги, и Сергей отпрянул, переждал шаги, а потом взлетел по трапу и бегом к носовой башне, здесь его и догнал Королев. Глянув на встревоженное, побледневшее лицо Королева, Сергей понял: случилось что-то важное. Но сразу мысленно ругнулся, чтобы взять себя в руки. Еще в детстве, во время уличных драк он успел узнать, какой заразительной бывает паника, охватившая вдруг товарища, и как опасно ей поддаться. Ничего не говоря, он выразительно махнул рукой Королеву, показывая, куда идти, и быстро двинулся по переходу. Не доходя до люка, круто остановился у переборки, схватил Королева за ворот форменной рубахи, притянул к себе.
— Ну? Что там такое? Да не психуй, не будь бабой — лица на тебе нет.
Королев наклонился к уху Сергея и торопливо выдохнул:
— Все пропало, Серега, продали нас!
Давясь словами, он рассказал: только что по приказу старшего офицера винтовки убраны из пирамид, а револьверы — из минной каюты, у заведующих арсеналами отобраны ключи.
Сообщение это не вызывало сомнений: пронюхали, сволочи, о подготовке восстания… Надо было немедленно разыскать Ярускина, условиться, что теперь делать. Но прежде всего надо было успокоить не в меру разволновавшегося товарища. Любой офицер, увидев его, заподозрит, что произошло что-то неладное. Как успокаивают в таких случаях, Сергей знал и поэтому прибег к испытанному способу — беспощадно обругал Королева размазней, тряпкой, слюнтяем.
— И нечего тебе нюни распускать, — сказал он зло. — Если им все было известно, то давно бы товарищей наших похватали. Да и мне бы ареста не избежать. Так что рано плакаться стал! Если не возьмешь себя в руки, вон из группы!
Краухов не ожидал даже, что его слова так подействуют на товарища. Тот довольно быстро успокоился, но хмурость осталась. Посоветовав ему заняться без промедления служебным делом (то бишь драить медяшку) и никому из матросов больше ничего не говорить, Сергей отнес моток провода Малыхину, менявшему сгоревшую проводку в бортовом каземате. Он хотел было отлучиться на десяток минут, поискать Ярускина, но в это время подошел штурманский электрик, приказал ему срочно отправиться в носовую башню — там обнаружилась неисправность с освещением приборов.
Все на корабле шло вроде бы как всегда, по заведенному распорядку: каждые полчаса отбивали склянки, матросы и офицеры занимались повседневными делами — артиллеристы готовили орудия к завтрашним стрельбам, механики и кочегары проверяли котлы и механизмы, боцманская команда наводила порядок на палубе, штурманы готовили карты, коки на камбузе стряпали ужин для экипажа… Все вроде бы шло как всегда, но что-то изменилось. Исчез металл из офицерских голосов, отдающих приказания. У кого-то из мичманов вместо привычного «Ступай, принеси!» прозвучало вдруг: «Ты бы пошел, братец, принес…» Даже высокомерный и недоступный Миштовт будто съежился, отдавал распоряжения в непривычно тягучем тоне. Небольсин вообще не выходил из своей каюты.
А о матросах и говорить нечего — куда-то пропала расторопность: приветствовали офицеров нехотя, приказы выполняли вяло. Но появилось в лицах что-то напряженное, пугающее. Натыкаясь на колючие матросские взгляды, офицеры вспоминали о револьверах в карманах…
Теперь, когда офицеры знали о намерениях матросов, а матросы знали, что начальство уже принимает меры, над кораблем нависло зловещее ожидание, тревога заполнила все.
Вечером в правом бортовом каземате состоялось летучее совещание руководителей боевых групп. Стоял один вопрос: отменять ли намеченное выступление? После короткого спора решили, что отменять нельзя. Раз начальство пронюхало о подготовке выступления, значит, со дня на день, а может быть уже и завтра, начнутся аресты. Последний шанс на успех давала наступающая ночь. Все же есть и оружие для участников боевых групп. Решено было: никому не спать в эту ночь, а койки занимать только для видимости.
Заступая на вечернюю вахту, мичман Тирбах так и но смог согнать с лица недовольное выражение, вызванное обидой на судьбу и корабельное расписание, определившие его дежурство в этот чудесный летний вечер, который он мог великолепно провести в Ревеле. Стоя у борта, он мрачно поглядывал на такой близкий и заманчивый берег, где уже начали зажигаться первые огоньки, преисполняясь черной завистью к тем офицерам, которые так уютно сейчас устроились в злачных местах…
Может быть, в этот вечер из всего командного состава один только Тирбах не думал и не хотел задумываться о возможном бунте матросов. Более того — он попросту не верил в него, считая, что разговор о мятеже не что иное, как плод разгоряченного воображения Миштовта, которого мичман не без основания считал самым последним трусом. Ну какой может быть бунт, когда матросы знают, что каждый офицер вооружен. Не такие уж они болваны, чтобы лезть под пули. Ну, положим, что были у них какие-то сходки да разговоры. Однако, как полагал Тирбах, дальше пустых прожектов дело у них не пойдет. Сейчас не девятьсот пятый год… Революция в России задушена раз и навсегда, а с недовольством отдельных лиц всегда можно справиться испытанными средствами.
Предав анафеме все мысли о матросских беспорядках (и без этого на душе муторно!), мичман стал вспоминать свое последнее знакомство со смазливой белокурой официанткой Арминдой.
Его злила мысль, что она в эти минуты наверняка кокетничает напропалую с каким-нибудь офицером, то и дело вскидывая тонкие, подкрашенные брови. А прошлый раз она так многозначительно сказала, что очень-очень будет ждать следующей встречи… А сегодня скажет то же самое другому.
Тирбах негодующе хмыкнул и неожиданно для себя сказал вслух:
— Накрашенная свинья!
Но тут же опомнился, перехватив недоумевающий взгляд стоявшего неподалеку боцмана, отвернулся и не спеша пошел к другому борту. Однако затылком он ощущал, что боцман продолжает смотреть ему вслед. Будет теперь гадать, толстый дурак, кого это мичман назвал накрашенной свиньей.
С правого борта открывалось блестевшее под косыми лучами вечернего солнца Балтийское море. Вдалеке медленно полз пароходик, волоча за собой длинный шлейф черного дыма, — наверное, в Либаву пошел. Мичман долго глядел, как пароходик, все уменьшаясь, постепенно уходил за горизонт. Только дым еще стоял в белесом небе, потихоньку тая и расплываясь в нем. Внезапно за спиной Тирбаха кто-то нарочито громко кашлянул, словно привлекая его внимание. Он обернулся и увидел, что метрах в двух от него Ганькин, нагнувшись, завязывает шнурок ботинка.
— Вашблагродь!.. — громким шепотом сказал матрос. — Ради бога, не смотрите на меня, а то заметят… Сегодня устроили полундру… сходку, значит. Затеяли неладное. На корабле у нас уже…
Ганькин вдруг замолчал, и мичман, поворачиваясь, заметил, что мимо проходят трое матросов. Все они, как по команде, покосились на Ганькина. Тот, сделав вид, что шнурок уже завязан, торопливо пошел вслед за ними. Тирбах ошалело помотал головой, не в силах сразу осмыслить услышанное.
Для Ярускина вопроса «что делать?» уже не существовало. Надо довести все до конца уже нынешней ночью. Другой возможности просто не будет. Завтра уже наверняка станет поздно. И только сейчас еще можно рассчитывать на успех.
Он устроился на палубе точно так же, как сотни матросов. Погода стояла жаркая, за день стальной корпус корабля прогревался под солнцем так, что спать в душных кубриках становилось невмоготу, и Небольсин разрешал нижним чинам во время жары спать на верхней палубе. На ночь матросы расстилали свои подвесные парусиновые койки на палубе. Старший офицер сказал как-то командиру, что от этого корабль становится похож на цыганский табор, и ничего бы с матросами не случилось, если бы они спали по-прежнему в кубриках, но Небольсин проявил твердость, хорошо понимая, что невыспавшиеся нижние чины будут хуже нести службу.
Труба горниста уже протрубила сигнал отбоя, и теперь матросы лежали на своих местах вдоль бортов, прижатые друг к другу. Обычно намаявшиеся за день люди засыпали очень быстро после отбоя, но сейчас десяткам людей было не до сна, кто-то лежал молча, глядя в белесое летнее небо, на котором почти не различить было размытых звезд, кто-то делал вид, что спит, а иные тихо перешептывались.
Поближе к назначенному часу по одному они спустятся вниз, словно по нужде, а в действительности, чтобы блокировать офицерские каюты. Там к ним присоединится и часть матросов, оставшихся ночевать в кубриках. Многие перед сном уже успели заглянуть в тайники и припрятать на себе стамески, напильники, самодельные ножи. Ломики и топоры пока еще лежали в укромных местах.
Совсем немного времени оставалось до того момента, когда разлетится над палубой пронзительный свист, взметнется на ноги яростная матросская толпа, сомнет вахтенных, обезоружит их и с грохотом затопит палубы и отсеки корабля. Полетят сорванные ломами замки от помещений, где спрятаны боевые винтовки, и тогда уже не страшны будут матросам офицерские револьверы…
Но пока на верхней палубе было спокойно. Лишь корабельные склянки нарушали тишину.
Тихо было и внизу — на броневой и жилой палубах, в машинном отделении, в трюмах, в кубриках и за переборками офицерских кают. Давящее безмолвие чувствовалось и там, где был расположен пост № 3. Здесь, у входа в командирский отсек, находился металлический денежный сейф и шкаф с секретными документами. Спиною к ним и лицом к расходившимся от помещения левому и правому командирским коридорам стоял часовой с винтовкой.
В эту ночь часовым на посту № 3 был матрос 2-й статьи Сергей Краухов. И именно от него во многом зависело в эту ночь, куда повернут события в первые минуты выступления. К этому помещению примыкают коридоры, в которые выходят двери офицерских кают. Имея в руках винтовку с боевыми патронами, он должен будет прикрыть огнем первую группу восставших, которая ворвется сюда в назначенный миг.
Когда Сергей заступал на пост, еще не все офицеры разошлись по каютам. В течение часа несколько человек, возвращавшихся к себе, проходили близко от него, и в эти моменты он застывал как изваяние. Но когда удалялись, позволял себе расслабиться, вытереть платком пот с лица.
Стоять на посту в этом месте, где спертый воздух словно давил на грудь, туманил сознание и клонил в тяжелую дрему, всегда было для матросов сущей мукой. Назначение сюда расценивалось почти как наказание. Но на этот раз Сергей, услышав, что его направляют на пост № 3, был обрадован донельзя — теперь уж, хочешь не хочешь, он окажется в самой гуще событий, и пусть его товарищи будут в полной уверенности — он не подведет!
Рассказав Ярускину о предстоящем дежурстве, Сергей предложил включить вместо себя в боевую пятерку недавно прибывшего на корабль матроса Дыбенко. Парень заслуживает доверия, наверняка будет драться не щадя себя. Ярускин сказал, что подумает, и на этом они расстались.
Теперь Сергею оставалось только ждать назначенного срока. Все остальное от него уже не зависело. Пожалуй, еще ни разу в жизни время не тянулось для него так мучительно медленно. Получасовой промежуток между боем очередных склянок, звон которых глухо доносился сюда с верхней палубы, казался вечностью. Они должны пробить еще пять раз — и заполыхает на корабле огонь…
Миштовт сидел в своей каюте, просматривая список нижних чинов корабля. Сверяясь время от времени с листочком бумаги, лежащим сбоку, он аккуратно, без нажима ставил карандашом едва заметные кресты возле некоторых фамилий. Всего на листке были зафиксированы 23 нижних чина, за которыми с завтрашнего дня нужно установить наблюдение. Потом старший офицер стал подсчитывать, сколько из этих двадцати трех приходится на каждую роту. Интересно будет впоследствии обнародовать в кают-компании, кто именно из ротных командиров имел у себя под началом больше всего смутьянов. Можно себе представить, какая физиономия будет у этого «призера»… а «призером», похоже, быть Затурскому!
Он едва заметно усмехнулся, бросил карандаш на стол, потянулся за портсигаром. А все же прав был хлыщеватый ротмистр Шабельский, когда говорил, что хорошего агента никто заменить не может. Оказался же Ганькин подлинной находкой, сумел влезть в полное доверие к заговорщикам. Так и не заподозрили матросы его ни в чем. И вот теперь все нити в руках. Одно только вызывает беспокойство — неясен срок, установленный для выступления. Правда, теперь, когда главные зачинщики будут взяты под наблюдение, им не удастся использовать элемент внезапности. Все офицеры корабля предупреждены. Никаких крайностей уже не должно быть.
И все-таки надо было бы знать сроки. Очень надо! Если допустить дело хотя бы до выстрелов на корабле, то не миновать ответа. А впрочем… Всему офицерскому корпусу России известно, как реагировал государь император на сообщение о том, что служащие тюрьмы застрелили во время стихийного выступления многих заключенных. Он собственноручно начертал на докладе:
«Молодцы конвойные!»
Так что, если даже не углядишь начала бунта, это еще не беда. Главное — задушить его решительной рукой. Тогда и высокое начальство гневаться не будет, совсем напротив.
«А что, если, — размышлял Миштовт, — внезапность даст мятежникам такое преимущество, что все наши превентивные меры окажутся бесполезными? Тогда повторение «Потемкина»?.. Ну, уж не дай бог такого!..»
…Однажды Миштовт, стоя у борта на полном ходу корабля и глядя вниз с пятисаженной высоты на обтекающую в сумасшедшей скорости пенистую и словно свитую в тугой жгут струю, вдруг представил себе, как он падает вниз и порыв ветра срывает с его губ и уносит вдаль последний крик. Ему стало страшно тогда. Все внутри запротестовало, ужаснулось от одной мысли о подобной возможности. А «Потемкин»?.. Не дай боже, чтобы тебя скрутили грубые безжалостные руки и швырнули вниз с борта в воду… А если мятежникам удастся напасть внезапно, может быть и такое. Вот почему незнание срока, оговоренного матросами, так волновало и тревожило его.
В полночь в дверь каюты старшего офицера послышался осторожный, едва слышный стук. Недоумевая, кто бы это мог быть в такой неурочный час, Миштовт отпер дверь и с изумлением увидел перед собой Ганькина, босого, одетого лишь в брюки и нательную полосатую рубаху. Старший офицер пропустил его в каюту, снова повернул ключ и, давясь от гнева, сказал:
— Да ты с ума сошел, скотина! Я тебе строго-настрого приказывал не появляться у меня в каюте! Ты почему здесь?
— Виноват, вашскородие! Истинный крест, виноват… Но только никак нельзя было не прийти. Я пытался было все сообщить через их благородие мичмана Тирбаха, да только мне несподручно на верхней палубе было. И матросы, подошедши, помешали. А теперь я вроде бы как по нужде койку оставил, а сам к вам…
— Так что такое случилось? — начиная тревожиться, спросил Миштовт. — Что за пожар у тебя?
— Право слово, пожар, справедливо говорите! Сегодня ночью у них срок условлен. В два тридцать восстание зачнется!..
— Что-о?!
Миштовту показалось, что он закричал, но на деле лишь просипел свистящим шепотом. Вот оно когда подошло! И он чуть было не проворонил того главного, от чего в первую очередь зависела его собственная карьера… Да что там карьера! — сама жизнь…
Огромным усилием воли подавляя в себе стремление выскочить из каюты и бежать, бежать, поднимать тревогу, будить командира, всех офицеров, Миштовт отвернулся от Ганькина, до крови прикусил губу. Только почувствовав солоноватый вкус, он заставил себя сосредоточиться, и первая его мысль была: до назначенного срока еще больше двух часов. Время есть.
Старший офицер шагнул к понуро ожидавшему агенту.
— Рассказывай, что знаешь, да только покороче!
— Дело, вашскородие, значит, такое. У них сегодня на последнем совещании чуть было не отложили сроки. Комендор Королев говорил, что господа офицеры пронюхали обо всем. Так он и сказал про господ офицеров: «пронюхали». Потому, мол, и нельзя выступать. И еще, говорит, с оружием у них слабовато. Но потом Комолов всех повернул, а его и Ярускин поддержал. Свой человек у них на пост у денежного ящика попал — Краухов Сергей. Он говорил, что в случае сопротивления господ офицеров по меньшей мере трех человек уложит. И особливо… значит, в первую очередь, это…
Ганькин начал запинаться, переступал с ноги на ногу, боялся продолжать. Глядя на него, Миштовт криво усмехнулся.
— Чего остановился? Меня, что ли, первого?
— Так точно, вас!
— Ясно… В основном все?
— Все, вашскородие!
— Ну, иди. Только подожди, я в коридор выгляну, нет ли кого-нибудь поблизости. И чтобы затаился с этой минуты. Понял?
— Так точно, понял!
— И имей в виду. Зачинщиков мы успеем схватить еще до двух ночи. Но вместе со всеми будешь арестован и ты.
— Да за что же, вашскородие?..
— Так надо! Простой вещи не сообразишь, дубина. Искать будут матросики на корабле, кто их предал. А уж если найдут… Безопаснее тебе в тюрьме будет. Но смотри, и там язык не распускай.
Начальника морских сил Балтийского моря вице-адмирала Эссена вахтенный офицер крейсера «Рюрик» поднял с постели в ноль часов семнадцать минут. Выслушав непривычно торопливый и сбивчивый рапорт, адмирал прежде всего распорядился передать Небольсину приказ: немедленно поднять и вооружить винтовками комендантский взвод, а также гардемаринов, проходящих летнюю практику на «Павле I». Аресты выявленных зачинщиков начать незамедлительно. Эссен распорядился также разбудить командиров всех кораблей стоящей на ревельском рейде эскадры.
Особое приказание прибывший на катере мичман передал командиру эскадренного миноносца «Всадник». Прочитав его, капитан второго ранга оторопело уставился в бумажку, словно не веря своим глазам, потом пожал плечами и велел вестовому поднять старшего офицера. Тот появился через семь минут — редкий пример расторопности для человека, которого внезапно разбудили. В его внешности никаких следов торопливости вовсе не было заметно. Ровный, по ниточке, пробор, как всегда, четкой линией разделял приглаженные темные волосы.
— Звали, Евгений Валентинович? — спросил он с непринужденностью человека, которому несколько лет совместного плавания давали право обходить официальную субординацию в обращении к командиру.
— Звал, Сергей Юрьевич. И по делу весьма безотлагательному. Прошу присесть.
Сам капитан второго ранга продолжал стоять. Он помолчал немного, как бы собираясь с мыслями, медленно вытащил из кармана кителя плоский черепаховый портсигар. По тому, как он с нарочитой медлительностью разминал папиросу и неторопливо прикуривал, старший офицер понял, что командир волнуется, хотя и старается скрыть это.
— Только что, — медленно и четко сказал капитан второго ранга, — я получил приказ. Нам надлежит немедленно развести пары, зарядить минные аппараты и нацелить их на линейный корабль «Император Павел I».
— Что за нонсенс?!
— Увы, Сергей Юрьевич, это не нонсенс, а, насколько я понимаю, печальная необходимость.
— Вы полагаете, что это может быть связано с мятежом на «Павле»?
— Вот именно. Приказ только этим и можно объяснить. Дело пахнет вторым «Потемкиным», если не хуже… Адмирал пойдет на любые меры, чтобы только по допустить этого. Я прошу вас отдать необходимые распоряжения. У минных аппаратов должны стоять только офицеры. Кстати, прикажите снять затворы со всех винтовок. Сам я сейчас иду на мостик, буду ждать вас там.
Через полчаса все было готово. Выслушав на мостике рапорт старшего офицера, командир поднял к глазам бинокль, и громада линкора ощутимо придвинулась. Светлая балтийская ночь не скрывала корабля, а лишь слегка размазала, сделала расплывчатыми его контуры.
— Прицелы проверили? — спросил капитан второго ранга, опуская бинокль.
— Да что там — прицелы… — махнул рукой старший офицер, — с такого расстояния даже на глазок не промахнешься…
Наступила томительная пауза. Тишину ночного рейда нарушил негромкий перезвон склянок. Взглянув на часы, командир неожиданно спросил:
— Сколько сейчас команды на «Павле»?
— Приблизительно девятьсот человек.
— А постройка корабля обошлась без малого в тридцать миллионов…
— Империя дороже! — пожав плечами, сказал старший офицер.
Командир искоса взглянул на него и, не желая дальше поддерживать разговор, снова поднял к глазам бинокль. Он тщетно пытался рассмотреть, что делается на палубе линкора, но отсюда она казалась пустынной.
И рейд выглядел по-обычному спокойным. Трудно было представить себе, что в эту тихую теплую ночь сотни людей на кораблях притаились в тревожном волнении, ожидая сигнала и не подозревая даже, что, отделенные от них стальными переборками, бодрствуют предупрежденные офицеры. И не знали они о том, что торпедные аппараты эсминцев нацелены в борта их кораблей и что на мостике «Рюрика» адмирал Эссен готов в любую минуту отдать последнюю команду…
Хотя Краухов мог позволить себе переминаться с ноги на ногу, но к середине своего дежурства стал чувствовать, как наливались усталостью и деревенели мышцы, в икрах росла ноющая боль. Он никогда еще так не уставал. Наверное, сказалось нервное напряжение, вызванное нестерпимым ожиданием назначенной минуты. В какой-то миг Сергею показалось, что он слышит доносящийся издалека топот ног, но потом шум исчез. После полуночи прошло уже больше часа, когда наверху у люка действительно послышались шаги и по трапу быстро спустился боцман Нефедьев, который нес в эту ночь вахту на верхней палубе. Он подошел вплотную к Сергею, спросил каким-то незнакомым, сдавленным голосом:
— Как на посту? В порядке?
— В порядке! — ответил Сергей, недоумевая, почему вдруг боцман заинтересовался постом.
Но тот вдруг рванулся, обхватил Краухова огромными ручищами, сжал медвежьей хваткой так, что Сергею показалось, что у него трещат ребра. И тотчас же но трапу скатились вниз трое матросов комендантского взвода, вырвали винтовку, заломили руки. Он и опомниться не успел, как был уже связан. Когда кончили вязать, боцман разжал руки, потер здоровенные ладони и произнес вновь обретенным басом:
— Один голубчик готов!
И только тут до Сергея дошло, что все пропало. Он понял вдруг, что срок восстания раскрыт… И хотя вырываться и бежать куда-то было делом бессмысленным и безнадежным, он рванулся вперед, но пудовый кулак боцмана обрушился ему на висок, и в глазах точно молния полыхнула. Отброшенный ударом к переборке, Сергей стукнулся об нее и, уже ничего не чувствуя, свалился на палубу.
Он пришел в себя уже в тускло освещенном трюме, куда загнали арестованных матросов, и только тут окончательно убедился, что все рухнуло. Здесь были участники нелегального собрания в Гунгербурге и еще несколько человек. Сергей увидел угрюмое лицо Ярускина, горящие отчаяньем глаза Комолова, затравленный взгляд Королева. Он не успел еще разглядеть других, когда вверху открылся люк и по ступеням трапа скатился сброшенный толчком матрос. Несмотря на залитое кровью лицо, Сергей узнал Ганькина. Сброшенный в трюм приподнялся, обвел всех остекленевшими глазами и вдруг заскулил тонко, по-щенячьи, так, что люди вздрогнули от этой вырвавшейся наружу боли. К Ганькину подошел Ярускин, попытался поднять его, но тот вырвался, неожиданно резко вскочил на ноги и метнулся в угол, крича, чтобы его не били.
— Рехнулся, что ли? — спросил Ярускин.
Ганькин из угла продолжал визгливо кричать:
— Не троньте, не троньте меня! Я ничего не сделал!
Высокий матрос с сумрачным лицом, на котором густо багровел кровоподтек — след удара прикладом, сказал:
— Вот до чего избили человека, гады… Даже разум свой потерял. Да ты, браток, все же взял бы себя в руки. Не должен матрос свой страх врагам показывать. Пусть они тебя и арестованного боятся!
Но Ганькин, не слушая увещеваний, продолжал скулить и повторял без конца, что ни в чем не виноват…
Под утро арестованных вывели на верхнюю палубу. Сначала их выстроили вдоль борта. Отделенные от них штыками гардемаринских винтовок, молча смотрели на связанных, избитых товарищей матросы со шканцев. Из командирской рубки стремительно вышел сопровождаемый офицерами адмирал Эссен, остановился возле строя арестованных, обвел каждого налитыми кровью глазами и вдруг крикнул зычно:
— Смирно стоять!
Строй колыхнулся, но почти никто из матросов не выполнил адмиральской команды. И тогда Эссен зашелся от крика:
— Сволочи! Предатели… Я вам покажу, как делать бунт против царя! Зачинщиков прикажу расстрелять, других сгною на каторге и в тюрьмах… Не остановлюсь ни перед чем, чтобы искоренить крамолу, хотя бы мне пришлось взорвать весь флот!
Выплеснув до конца свой гнев, адмирал приказал грузить арестованных на подогнанную баржу.
Утром заглянувший в каюту командира Миштовт был поражен тем, как за одну ночь мог измениться человек. Лицо Небольсина было изжелта-серым, под глазами темнели набрякшие мешки.
Миштовт доложил командиру, что прибывшая из Петербурга группа рабочих ждет отправки на корабль, чтобы начать осмотр и ремонт механизмов. Во-вторых, работник Эстляндского жандармского управления Шабельский выразил пожелание встретиться с командиром. Выслушав Миштовта, Небольсин замахал руками, сослался на приступ печени и поручил старшему офицеру самому заняться всеми делами.
На этот раз Шабельский явился на встречу в жандармской форме. Миштовт с некоторой долей зависти отметил, что в синем, облегающем фигуру мундире гость выглядит весьма импозантно.
— Рад приветствовать вас, господин ротмистр, на своем корабле! — сказал он с деланным радушием.
— В общем, к черту церемонии! — довольно грубо прервал его жандарм. — Вы бы лучше рассказали мне, старший лейтенант, по какой причине вы так неосмотрительно поспешили с арестами?
— Поспешил?! — Миштовт огорошенно смотрел на собеседника. — Надеюсь, вы шутите, господин ротмистр?
Он искренне недоумевал. Неужели этот лощеный жандарм не мог сообразить столь простой вещи, что именно он, Миштовт, явился, в сущности, спасителем корабля, что он не растерялся в тот самый момент, когда малейшее промедление грозило непоправимыми последствиями? Или это действительно лишь неудачная шутка?
— Да нет уж, какие могут быть шутки в нашем деле! — недовольным тоном произнес Шабельский. — Посудите сами: улик-то против арестованных практически нет. Ну, с чем мы можем выйти на суд? Не вывести же нам на трибуну вашего осведомителя! Или вы наивно полагаете, что арестованные на следствии выложат все, что знают о подготовке восстания? Может быть, вы полагаете, что они поторопятся с признаниями, которые приведут их прямиком на виселицу? Ведь нужны же нам для успокоения общественного мнения хоть какие-то улики? А где они, я вас спрашиваю? Даже оружия вы не сумели ни у кого обнаружить. А ведь я уверен, кое-что у них было при себе до момента ареста. Наверняка успели передать, спрятать, когда поняли, что их идут арестовывать. Нет, милейший, так дела не делают. Нужно было сразу же после ареста произвести поголовный обыск команды. Как бы то ни было, я вынужден буду доложить по инстанции о вопиющем вашем упущении…
Миштовт обескураженно молчал. Он вдруг совершенно отчетливо осознал, что этот жандарм не примет от него никаких объяснений, что оправдываться бесполезно, что вместо ожидаемых наград ждут его одни неприятности… Вот ведь как повернул дело мерзавец Шабельский! Вот ведь как получается!
А жандарм неожиданно улыбнулся и совсем доброжелательно сказал:
— Да вы выпейте водички. Знаете — помогает…
Капитан первого ранга Небольсин но вышел в кают-компанию ни к завтраку, ни к обеду. Никого не принимая, он несколько часов провел в уединении, пытаясь разобраться, что произошло, и предугадать, что его ожидает в будущем. Какого-либо недовольства со стороны начальства Небольсин не слишком опасался. Попытки мятежей в последние годы стали словно бы неотъемлемой принадлежностью флота и, в общем, перестали уже удивлять. И сами факты арестов стали чем-то обычным. Недавно он своими глазами видел сводку, где говорилось, что с апреля по июнь на Балтийском флота арестовано почти семьсот человек. В Кронштадте введено военное положение. На этом фоне вчерашний арест двадцати шести пройдет почти незамеченным.
Командир корабля боялся не гнева начальства, а совсем другого. Он слишком хорошо понимал, что среди нескольких сот матросов, входивших в состав экипажа, немало таких, кто в благоприятный момент может взяться за оружие. И за что такое проклятие, когда каждый божий день приходится опасаться за свою жизнь? Вчера ведь, в сущности, только случай и спас… А через месяц-другой — все снова?
Что можно сделать в таком положении? Ужесточить режим? Покойный Петр Аркадьевич Столыпин уж до такой степени был жестким, что дальше ехать некуда.
Сколько людей перевешано и расстреляно за время его правления! Наверное, не меньше, чем погибло за всю русско-японскую войну. А результат? Сейчас и в газету заглянуть страшно — забастовки, беспорядки, мятежи… И все же нет другого выхода, кроме жесточайших репрессий. Страх неотвратимого наказания — вот что должно денно и нощно давить на сознание матроса.
Недавно морской министр Григорович доверительно показал ему проект изменения девяностой статьи военно-морского устава о наказаниях. Суть изменения состояла в том, что за противоправительственную деятельность матросов теперь будут судить и наказывать по законам военного времени. И это правильно. Когда оставшиеся на корабле сообщники арестованных (а в том, что они есть, Небольсин нисколько не сомневался) узнают, что их товарищи повешены или расстреляны за попытку мятежа, им придется всерьез задуматься.
Вбивать, вбивать страх в матросов — вот что сейчас самое главное!
Эта мысль и определила содержание выступления командира корабля, когда в шестнадцать ноль-ноль он вышел к выстроенной на палубе команде. Матросы стояли ровной, четкой шеренгой, но в их напряженных лицах Небольсин видел скрытую угрозу. Его внимание привлек высокий широкоплечий матрос с дерзкими карими глазами, стоявший на правом фланге. Небольсину чудился в его взгляде вызов.
Начав говорить, он все время чувствовал, что матрос неотрывно смотрит на него, и постепенно Небольсин начал закипать, хотя и без того был взвинчен. Казалось ли ему, или это было на самом деле, но только во взгляде матроса была уже не враждебность даже, а скорее насмешка. Командир стал беситься не на шутку, и голос его, как он сам с ужасом заметил, сорвался на визг.
— Всех выловлю! — кричал Небольсин. — Властью, данной мне государем императором, уничтожу подлецов-бунтарей, искореню всех мерзавцев… очищу корабль!
Он запнулся, помолчал, собираясь с мыслями, и снова взглянул на высокого матроса, чьи карие глаза и впрямь глядели насмешливо и дерзко, сбивали с толку капитана первого ранга, уводили его мысль куда-то в сторону. Лишь большим усилием воли Небольсин подавил неприятное ощущение и сумел закончить свою речь довольно твердо.
— Линейный корабль «Император Павел I» не может опозорить своего имени. Я не пожалею ни времени, ни сил для того, чтобы он стал примером и образцом для всего императорского флота!
Но глаза высокого матроса по-прежнему были насмешливы. Вообще во всей позе матроса чувствовалась смелость, бесшабашная отвага, все подчиняющая себе сила воли. Небольсин сказал еще что-то перед строем и, повернувшись, сутуло пошел в свою каюту. И теперь даже спину жег взгляд нового матроса.
* * *
Не может человек заглядывать в будущее, не может предвидеть ни своей собственной судьбы, ни судеб других. И никак не мог капитан первого ранга Небольсин, излагавший матросам свои планы борьбы с крамолой в памятный для него день 11 июля 1912 года, предвидеть, что жизнь безжалостно развеет все его благие пожелания очистить корабль от бунтарей.
Да и откуда было ему знать, что ни жестокими наказаниями, ни угрозами не удастся вселить страх в сердца матросов, сломить волю к борьбе. Откуда было знать ему, что аресты товарищей и неправедный царский суд над ними станут для матросов серьезным уроком, но совсем не в том смысле, на который он надеялся. Они запомнят этот урок и поймут, как мешает борьбе стихия и как важна в ней организация. Это об их судьбах тревожился Ленин в письме Горькому на Капри («Организации нет, — просто плакать хочется!!»), и они создадут организацию — сплоченную, твердую, умеющую повести команду за собой.
Небольсин заявил им о том, что сделает корабль образцовым для всего флота. И действительно корабль стал образцом. Но сделали его таким матросы-большевики. 3 марта 1917 года взвилось на мачте «Павла I» красное знамя восстания, дав сигнал к выступлению всех команд гельсингфорсской эскадры. После победы матросы зубилами срубили на корме буквы ненавистного названия, поставив взамен новые. Корабль под именем «Республика» стал оплотом и цитаделью большевизма на Балтике и от Февральской революции до Октябрьской вел за собой команды всех боевых кораблей Балтийского флота. Его экипаж дал победившей Советской власти командиров и комиссаров матросских отрядов, секретарей партийных комитетов, председателей уездных и губернских исполкомов, начальников Чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, руководителей предприятий и учреждений…
Но даже если бы он дал волю безудержному полету фантазии, мог ли предвидеть все это капитан первого ранга Небольсин? Да и кому пришло бы в голову, что молодой кареглазый матрос Павел Дыбенко, который так сверлил его своим взглядом во время выступления, станет через пять лет признанным вожаком балтийцев и что в октябре 1917 года В. И. Ленин поручит именно Дыбенко быть народным комиссаром по морским делам, и займет матрос в Адмиралтействе тот самый кабинет, который служил морским министрам Российской империи…
Но все это только будет. А сейчас, жарким июльским днем, стоял по стойке «смирно» матрос 2-й статьи Дыбенко и смотрел на разбушевавшегося командира. И плечом к плечу стояли рядом с ним сотни матросов экипажа — безмолвные, но полные ярости нижние чины императорского флота.
А на другой день линейные корабли «Император Павел I», «Цесаревич», «Андрей Первозванный» и «Слава» покидали ревельский рейд. Выстроившись кильватерной колонной, они взяли курс на вест. Головным, как всегда, шел «Павел». Свежий, все более крепнущий ветер развел волну, и бронированные громады шли над седым морем, тяжело покачиваясь. К вечеру низкие тучи полностью закрыли небосвод, сразу потемнело.
Освободившийся после вахты матрос 2-й статьи Павел Дыбенко, держась за леера, пытался в наступившей темноте разглядеть, как бежит вдоль борта к корме пенистая вода, ему сегодня по душе были ухающие удары волн в борт; каскады брызг над палубой. Матрос не заметил, как кто-то подошел к нему сзади, и поэтому вздрогнул, когда на плечо легла рука. Обернувшись, узнал электрика Малыхина — друга арестованного двое суток назад Сергея Краухова. Лицо его стало строгим, суровым.
— Что, Паша, время коротаешь?
— А что делать-то после вахты?
— Что делать? Да, наверное, есть что… — Малыхин скрежетнул зубами. — Забрали товарищей, сволочи! Да только рано успокоились. Матросы еще свое слово скажут. Матросы не из пугливых. Верно, Паша?
— Да… Верно!
— А коли верно, так приходи сегодня после отбоя в каземат шестидюймовки. Потолкуем. Тут рабочий, который у нас прицелы перед походом проверял, передал сведения из самого Питера. Чуешь, Паша, налаживается у нас связь! А когда наладится и сложатся наши силы, вернее дело пойдет. Значит, придешь после отбоя?
— Обязательно приду!
Малыхин исчез так же внезапно, как и появился. Дыбенко глядел в темноту, крепко вцепившись в леер. Значит, будет связь, о которой мечтали недавно арестованные товарищи! А может, предстоящий разговор и есть уже начало той нити, которую они искали? И может быть, он — матрос 2-й статьи Павел Дыбенко — и будет одним из первых, кто выйдет на связь…
И в этот миг огромная волна ухнула в правый борт так, что линкор как бы застонал, и показалось, что стон отдался даже в мачтах. А в следующий раз Павел почувствовал, как содрогнулась палуба. Норд-ост нарастал с каждой минутой. Корабли входили в жестокий шторм.
Примечания
1
Товарищ министра — заместитель министра.
(обратно)2
Пауль, приди в себя. Мы не одни — нас слушают.
(обратно)3
Я плюю на это! К черту!
(обратно)4
В газете было напечатано — «Empire».
(обратно)5
Военный атташе.
(обратно)6
Военно-морской атташе.
(обратно)

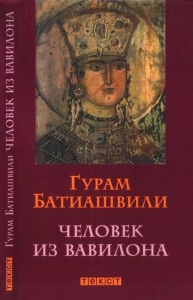





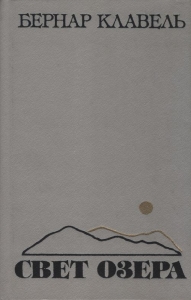
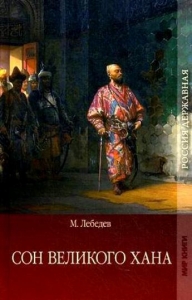


Комментарии к книге «Ищите связь...», Владимир Кузьмич Архипенко
Всего 0 комментариев