Нина Молева Дашкова
Екатерина Дашкова 1743–1810
Из энциклопедического словаря
Изд. Брокгауза и Ефрона, т. X. Спб., 1893 г.
Дашкова (княгиня Екатерина Романовна) — президент Российской академии. Родилась 17 марта 1743 г. в Спб. (дочь гр. Романа Илларионовича Воронцова). Воспитывалась в доме дяди, вице-канцлера Михаила Илларионовича Воронцова. «Превосходное», по понятиям того времени, воспитание ее ограничивалось обучением новым языкам, танцам и рисованию. Только благодаря охоте к чтению Дашкова сделалась одной из образованнейших женщин своего времени, Любимые писатели ее были Бэль, Монтескье, Буало и Вольтер. Поездки за границу и знакомство со знаменитыми писателями много способствовали ее дальнейшему образованию и развитию.
С ранних лет Дашкову постоянно занимали вопросы политики. Еще в детстве она рылась в дипломатических бумагах своего дяди и следила за ходом русской политики. Время интриг и быстрых государственных переворотов способствовало развитию в ней честолюбия и желания играть историческую роль. До некоторой степени Дашковой это и удалось.
Знакомство с великой княгиней Екатериной Алексеевной (1758 г.) и личное к ней расположение сделало Дашкову преданнейшей ее сторонницей. Их связывали также и литературные интересы. Окончательное сближение с Екатериной произошло в конце 1761 г., по вступлении на престол Петра III. Задумав государственный переворот и вместе с тем желая до времени оставаться в тени, Екатерина избрала главными союзниками своими Григория Григорьевича Орлова и княгиню Дашкову. Первый пропагандировал среди войск, вторая — среди сановников и аристократии.
Благодаря Дашковой были привлечены на сторону императрицы гр. Н. И. Панин, гр. А. Г. Разумовский, И. И. Бецкий, Барятинский, А. И. Глебов, Г. И. Теплов и др. Когда переворот совершился, другие лица, против ожиданий Дашковой, заняли первенствующее место при дворе и в делах государственных; вместе с тем охладели и отношения императрицы к Дашковой.
Некоторое время спустя после смерти своего мужа, бригадира князя Михаила Ивановича Дашкова (1764), Екатерина Романовна провела в подмосковной деревне, а в 1768 г. предприняла поездку по России. В декабре 1769 г. ей разрешено было заграничное путешествие. Дашкова в течение трех лет посетила Германию, Англию, Францию, Швейцарию, часто виделась и беседовала с Дидро и Вольтером. 1775–1782 гг. она снова провела за границей, ради воспитания своего единственного сына, окончившего курс в Эдинбургском университете. В Англии Дашкова познакомилась с Робертсоном и Адамом Смитом; она снова посетила Париж, Швейцарию и Германию, а также Италию. В это время отношения ее к императрице несколько улучшились, Дашковой было предложено место директора Санкт-петербургской академии наук и художеств.
По мысли Дашковой была открыта Российская академия (21 октября 1783 г.), имевшая одной из главных целей усовершенствование русского языка; в ней княгиня Дашкова была первым президентом. Новое неудовольствие императрицы Дашкова навлекла напечатанием в «Российском Феатре», издававшемся при Академии, трагедии Княжнина «Вадим» (1795). Трагедия эта была изъята из обращения. В том же 1795 г. Дашкова выехала из Санкт-Петербурга и жила в Москве и подмосковной своей деревне.
В 1796 г., тотчас по восшествии на престол, император Павел устранил Дашкову от всех занимаемых ею должностей и приказал жить в новгородском ее имении. Только при содействии императрицы Марии Федоровны Дашковой было разрешено поселиться в Калужской губернии, а потом и в Москве. В Москве же, не принимая более участия в литературных и политических делах, Дашкова скончалась 4 января 1810 г.
Наибольшего внимания заслуживает не политическая роль Дашковой, продолжавшаяся весьма недолго, а деятельность ее в Академии и в литературе. По назначении директором Академии Дашкова в речи своей выражала уверенность, что науки не будут составлять монополию Академии, но «присвоены будучи всему отечеству и вкоренившись, процветать будут». С этой целью по ее инициативе были организованы при Академии публичные лекции (ежегодно, в течение четырех летних месяцев), имевшие большой успех и привлекавшие большое число слушателей. Дашкова увеличила число студентов-стипендиатов Академии с 17 до 50 и воспитанников Академии художеств — с 21 до 40. В продолжение 11 лет директорства Дашковой академическая гимназия проявляла свою деятельность не только на бумаге. Несколько молодых людей отправлены были для довершения образования в Геттинген.
Учреждение так называемого «переводческого департамента» (взамен «собрания переводчиков» или «российского собрания») имело целью доставить русскому обществу возможность читать лучшие произведения иностранных литератур на родном языке. В это-то именно время и появился целый ряд переводов, по преимуществу с классического языка. По почину Дашковой был основан журнал «Собеседник любителей российского слова», выходивший в 1783 и 1784 гг. (16 книжек) и носивший сатирико-публицистический характер. В нем участвовали лучшие литературные силы: Державин, Херасков, Капнист, Фонвизин, Богданович, Княжнин. Здесь помещены были «Записки о русской истории» императрицы Екатерины, ее же «Были и небылицы», ответы на вопросы Фонвизина, «Фелица» Державина. Самой Дашковой принадлежала надпись в стихах к портрету Екатерины и сатирическое «Послание к слову: так». Другое, более серьезное издание — «Новые ежемесячные сочинения» начато было в 1786 г. (продолжавшееся до 1796 г.). При Дашковой начата новая серия мемуаров Академии под заголовком «Nova acta acad. scientiarum petropolitanae» (с 1783 г.). По мысли Дашковой издавался при Академии сборник «Российский Феатр». Главным научным предприятием Российской академии было издание «Толкового словаря русского языка». В этом коллективном труде Дашковой принадлежит собирание слов на буквы ц, ш, щ, дополнения ко многим другим буквам; она также много трудилась над объяснением слов (преимущественно обозначающих нравственные качества).
Сбережение многих академических сумм, умелое экономическое управление Академией — несомненная заслуга Дашковой. Лучшей оценкой ее может служить то, что в 1801 г., по вступлении на престол императора Александра I, члены Российской академии единогласно решили пригласить Дашкову снова занять председательское кресло в Академии (Дашкова отказалась от этого предложения). Кроме названных литературных трудов, Дашкова писала стихи на русском и французском языках (большей частью в письмах к императрице Екатерине), перевела «Опыт о эпическом стихотворстве» Вольтера («Невинное упражнение», 1763, и отд. Спб., 1781), переводила с английского (в «Опытах трудов вольного российского собрания», 1774), произнесла несколько академических речей, написанных под сильным влиянием речей Ломоносова. Некоторые ее статьи напечатаны в «Друге просвещения» (1804–1806) и в «Новых ежемесячных сочинениях». Ей принадлежит также комедия «Тоисиоков, или Человек бесхарактерный», написанная по желанию Екатерины для Эрмитажного театра (1786), и драма «Свадьба Фабиана, или Алчность к богатству наказанная» (продолжение драмы Коцебу «Бедность и благородство души»). В Тоисиокове (человеке, желающем «и то и се») видят Л. А. Нарышкина, с которым Дашкова вообще не ладила, а в противополагаемой ему по характеру героине Решимовой — автора комедии.
Важным историческим документом являются мемуары Дашковой, изданные сначала на английском языке госпожой Вильмот в 1840 г., с дополнениями и изменениями. Французский текст мемуаров, принадлежащий несомненно Дашковой, появился только недавно («Mon histoire», в «Архиве князя Воронцова», книге XXI). Сообщая очень много ценных и интересных сведений о перевороте 1762 г., о собственной жизни за границей, придворных интригах и так далее, княгиня Дашкова не отличается беспристрастием и объективностью. Восхваляя императрицу Екатерину, она почти не даёт никаких фактических оснований такому восхвалению. Нередко сквозит в Записках как бы обвинение императрицы в неблагодарности. Далеко не оправдывается фактами подчеркиваемое бескорыстие автора мемуаров.
Нина Молева Княгиня Екатерина Дашкова
Действующие лица:
Дашкова Екатерина Романовна (1743–1810), княгиня, урожденная графиня Воронцова. Директор императорской Российской академии наук, основатель и первый президент Академии российской словесности.
Анна Иоанновна, императрица всероссийская.
Анна Леопольдовна, правительница российская, племянница Анны Иоанновны, мать императора Иоанна VI Антоновича.
Антон-Ульрих Брауншвейгский, принц, супруг Анны Леопольдовны, отец императора Иоанна VI Антоновича.
Елизавета Петровна, императрица всероссийская, дочь Петра I, двоюродная сестра Анны Иоанновны.
Петр III Федорович, император всероссийский, сын старшей дочери Петра I Анны Петровны, племянник Елизаветы Петровны, супруг Екатерины II, отец императора Павла I.
Екатерина II Алексеевна, императрица всероссийская, супруга Петра III, мать императора Павла I.
Павел I Петрович, император всероссийский.
Александр I Павлович, император всероссийский, сын Павла I.
Воронцовы:
Ларион Гаврилович, отец братьев Романа, Михаила и Ивана.
Роман Ларионович, старший сын Лариона Гавриловича, отец княгини Дашковой.
Марфа Ивановна, урожденная Сурмина, супруга Романа Ларионовича, мать княгини Дашковой.
Михаил Ларионович, средний сын Лариона Гавриловича, государственный деятель, дипломат, канцлер, воспитатель.
Анна Карловна, урожденная графиня Скавронская, двоюродная сестра императрицы Елизаветы Петровны, супруга Михаила Ларионовича.
Анна Михайловна, в супружестве графиня Строганова, единственная дочь канцлера.
Иван Ларионович, младший сын Лариона Гавриловича, государственный деятель.
Марья Артемьевна, урожденная Волынская, его супруга.
Артемий Иванович, дипломат, их сын, крестный отец А. С. Пушкина.
Елизавета Романовна, в замужестве Полонская, фаворитка Петра III, сестра Дашковой.
Марья Романовна, в замужестве графиня Бутурлина, сестра Дашковой.
Александр Романович, дипломат, покровитель А. Н. Радищева, брат Дашковой.
Дашковы:
Михаил (Кондратий) Иванович, князь, супруг Дашковой.
Анастасия Михайловна, «старая Дашкова», его мать.
Анна Михайловна, в супружестве княгиня Голицына, его тетка.
Павел Михайлович, сын М. И. и Е. Р. Дашковых.
Анастасия Михайловна, дочь М. И. и E. Р. Дашковых.
Юшкова Анна Федоровна, приближенная императрицы Анны Иоанновны.
Остерман Андрей Иванович, граф, государственный деятель.
Бирон Эрнест Иоганн, герцог Курляндский, фаворит Анны Иоанновны.
Менгден фон Юлия, приближенная правительницы Анны Леопольдовны.
Линар, граф, австрийский дипломат.
Миних фон Бурхард Христофор, граф, русский государственный деятель.
Разумовский Алексей Григорьевич, граф, фаворит Елизаветы Петровны.
Салтыков Василий Федорович, придворный.
Шувалов Петр Иванович, государственный деятель.
Шувалова Мавра Егоровна, урожденная Шепелева, приближенная Елизаветы Петровны.
Орлов Григорий Григорьевич, граф, фаворит Екатерины II.
Орлов Алексей Григорьевич, граф, брат предыдущего, фаворит Екатерины II.
Орлов Владимир Григорьевич, граф, брат предыдущих.
Панин Никита Иванович, граф, государственный деятель, близкий родственник Е. Р. Дашковой.
Панин Петр Иванович, граф, государственный деятель, близкий родственник Е. Р. Дашковой.
Пассек Петр Богданович, участник дворцового переворота 1762 г.
Бредихин Сергей Александрович, участник дворцового переворота 1762 г., капитан-поручик Преображенского полка.
Суворов Василий Иванович, государственный деятель, отец прославленного полководца А. В. Суворова, генерал-аншеф.
Теплов Григорий Николаевич, статс-секретарь Екатерины II, писатель, переводчик.
Крузе Карл Федорович, главный врач гвардейских полков.
Ребиндер Василий Михайлович, барон, придворный.
Потемкин Григорий Александрович, князь, государственный деятель, фаворит Екатерины II.
Самойлов Александр Николаевич, племянник Г. А. Потемкина, государственный и военный деятель.
Ланской Александр Дмитриевич, фаворит Екатерины II.
Брюс Яков Александрович, генерал-аншеф, главнокомандующий Москвы.
Козодавлев Осип Петрович, писатель, советник при директоре Академии наук Е. Р. Дашковой.
Протасьев Алексей Протасьевич, российский академик.
Эйлер Леонард, профессор физики и высшей математики.
Фусс Николай Иванович, математик, академик.
Эйлер Иоганн Альбрехт, профессор физики, непременный секретарь Петербургской академии наук.
Эйлер Карл, брат предыдущего, естествоиспытатель.
Людовик XV, французский король.
Флери, кардинал, государственный деятель Франции.
Послы Франции в России:
Де Басси, маркиз.
Маньян.
Шатарди, маркиз.
Лепелетье, секретарь кардинала Флёрн.
Фридрих Великий, прусский король.
Вольтер Мари-Франсуа Аруа, французский философ и писатель.
Дидро Дени, французский философ.
Гюбер-Робер Юбер, французский живописец.
Кауниц Венцель Антон, австрийский государственный канцлер.
Мисс Бетс, англичанка, лектриса Е. Р. Дашковой.
Вильмот Мэри (Марта), ирландка, друг Е. Р. Дашковой.
Вильмот Кэтрин, ее сестра.
и многие другие.
Вместо введения Письмо, которого не было
Мое любимое дитя,
когда эти страницы попадут в Ваши руки, Вашего старого друга, Вашей русской матери, как любили Вы говорить, не будет в живых. Я позабочусь, чтобы сразу после моей кончины, пока любопытствующие наследники не прикоснутся к моим бумагам, письмо было отправлено Вам. Не удивляйтесь ему — оно результат одиночества. В юные годы одиночество образовало меня, определило круг моих мыслей и стремлений, в старости — побудило осмыслить пережитое и в полной мере убедиться в тщете человеческих чаяний и надежд.
Между тем судьба была достаточно благосклонна ко мне. По рождению я принадлежала к древнему и заслуженному роду бояр Воронцовых, чьи имена покрыли себя славой еще в 15-м столетии. Они сражались с Казанским царством, могущественной Литвой, далеким Крымским ханством. Поручаемые им дипломатические миссии приводили их в разные страны, вплоть до Швеции, где одному из Воронцовых пришлось провести немало месяцев в заточении в замке Або. Боярин Михаил Воронцов стал поручителем завещания великого князя Московского Василия III, передававшего престол малолетнему Ивану Грозному, а его брат, боярин Федор-Диомид, — воспитателем и любимцем юного царя. Разумные попытки воспитателя обуздывать нелепые причуды и детские оплошности царственного младенца стоили ему жизни: он был обвинен в покушении на полноту самодержавной власти. Участи отца не избежал один из сыновей боярина, тогда как второй сложил голову на ратном поле под знаменами Грозного.
Восприемниками моими от купели были императрица Елизавета и ее племянник, будущий император Петр III. Своим светским, самым изысканным воспитанием я обязана любимой кузине императрицы Елизаветы графине Анне Воронцовой, в чьем доме прошло мое детство, образованием — ее супругу, моему дядюшке, блистательному дипломату и канцлеру Михайле Воронцову и просвещеннейшему человеку в Европе, основателю Московского университета и императорской Академии художеств, Ивану Ивановичу Шувалову. Любовь, истинная и единственная, связала меня с безвременно ушедшим из жизни моим супругом, благороднейшим и храбрейшим князем Михаилом Дашковым, прямым потомком первой правящей династии на русских землях — Рюриковичей.
Мне выпало счастье в числе немногих способствовать восшествию на престол Великой Екатерины. Непозволительная слабость императора Петра III к моей старшей сестре открывала передо мной исключительные возможности при дворе, которым я предпочла дружбу его полуопальной супруги, пребывавшей в постоянной опасности развода и насильственного удаления из страны. Не эти ли обстоятельства, что так свойственно человеческой природе, навлекли на меня впоследствии недоброжелательность монархини? Сердечная откровенность, которой она дарила меня, будучи великой княгиней, сменилась по восшествии на престол взыскательной сдержанностью, которая, впрочем, не мешала мне до конца восхищаться расцветом и плодами государственных талантов Великой Екатерины.
Великой Екатериной мне была предоставлена возможность дальнейшего самообразования и трудов, одинаково для меня неожиданных и желанных. Полуссылка в европейские государства, которую императрица избрала для удаления меня от двора, принесла мне бесценное знакомство с самыми блестящими умами нашего времени. Дружба с Дидро и Вольтером, обмен мыслей с Кауницем, диспуты с Адамом Смитом и Фергюссоном, встречи с императорами Иосифом II и Фридрихом II послужили благодатной пищей для моих размышлений. Назначение, вопреки моей воле, на должность президента Российской академии наук обратило мысли мои на положение науки в государстве и позволило кое-что сделать для улучшения ее развития. Предметом особой моей гордости стало создание Академии российской словесности и мое, по лестному отзыву многих ученых мужей, удачное участие в составлении российского толковательного словаря.
Царствование императора Павла обрекло меня на подлинную ссылку со всеми испытаниями, отягощенными монаршьим гневом, тогда как нынешний двор пришедшего ему на смену внука Великой Екатерины, состоящий из одних якобинцев и капралов, навсегда отвратил от жизни в столице, утвердив в решении посвятить остаток своих дней серьезным занятиям агрономическими науками и сельским хозяйством.
Вольтер назвал меня гражданкой мира, и это было бы справедливо, если бы не неистребимая моя привязанность к родным краям. Любя всем сердцем вашу восхитительную Ирландию, с живейшей благодарностью вспоминая красоты Франции и интеллектуальную среду Германии, я благодарю Бога, что кончаю свои дни в России. Отнесите это к моим душевным слабостям или признакам национального склада характера.
По Вашему милому настоянию я написала свои Записки и после Вашего столь огорчившего меня отъезда поняла, как разочарована в них. Они мало говорят об авторе и того меньше о времени — неизбежный недостаток большинства мемуаров. Бессонными ночами перед моим мысленным взором разворачивается нескончаемый свиток имен и событий, к которым мне так хотелось бы Вас приобщить.
Подобная рукопись не написана. Но она так долго и живо стояла передо мной, что мне остается поверить в чудо — она непременно возникает и в Вашем воображении, продлив незабываемые дни нашего дружеского общения. Да благословит Вас Бог.
Княгиня Екатерина Дашкова — мисс Мэри Вильмот.Глава 1 Тень принцессы Лавры
Год выдался трудный. Звездочеты и раньше толковали: в 730-м жди беды. Одни верили, опасались. Другие отмахивались: чему быть, того не миновать. Всякого после кончины государя Петра Алексеевича нагляделись, да и при нем немало. Сразу после Нового года шляхетство со всего государства съехалось в Москву — на царскую свадьбу. Молодой государь всех позвал. Ему самому, может, и все равно — любимцам царским, Долгоруковым, покрасоваться да похвалиться перед народом захотелось. Ан вместо свадьбы похороны вышли, а там и избрание новой самодержицы. Никто не разъехался из столицы. Затаились. Ждали.
…В низкой горенке от печи ценинной жаром пышет. Окошки слюдяные, хоть и день на дворе, войлоком затянуты. Не так для тепла — от чужих ушей да глаз. Береженого Бог бережет. Ларион Гаврилович Воронцов недаром сюда из Москвы притащился. По Дмитровской дороге, а там для поспешения прямо по льду речки Саморядовки. В Фоминском женина родня — Масловы. Кто там за ними доглядывать станет. А и полюбопытствует — чего ж дочке с зятем стариков не навестить? Иван Волынский им тоже не чужой, вот с ним и поговорить надо. Человек государственный — вице-губернатор в Нижнем Новгороде. Многое знает, о многом и рассказать может…
Вон ведь как все сошлось. 10 февраля 728-го родила в Киле старшая цесаревна Анна Петровна, герцогиня Голштинская, сыночка Петра, внучка государя Петра Алексеевича. В Москве Меншиков всполошился — 25 февраля короновал императором российским другого государева внука, от царевича Алексея — Петра II. Выходило, дорога к власти для цесаревен, дочек императрицы Екатерины Алексеевны, навсегда закрылась. В толк не взять, как мать собственных дитятей обездолить могла! Анну Петровну хоть замуж отдала, а о Елизавете Петровне будто и думать забыла. Разное толковали, да только одно верно: Александр Данилович Меншиков ручку приложил. Завещание императрицу чуть не силком подписать заставил, а в завещании черным по белому: быть Петру Алексеевичу Младшему на престоле только с меншиковской дочкой.
Императрица, поди, подумала, что от светлейшего отвяжется. Ан не тут-то было! После составления завещания всего ничего прожила. Конфет от меншиковского кондитера не в меру покушала, а там в одну ночь Богу душу отдала. Никто не пожалел, никто слова доброго не сказал. Разве что молодой Левенвольд: случай его больно быстро кончился. Ну и Бог с ним. За фаворитами дело никогда не станет: незваные набегут, в черед выстроятся.
Зато как светлейший к власти рванулся! Лишь бы скорей, лишь бы без промедления дочку Марью коронованной особой увидеть. На государя покрикивать стал, ни с кем разговоров вести не хочет. Тут-то сенаторы его и перехитрили. Светлейшего с семейством под арест и в ссылку, богатства его несметные по рукам. Одних сёл, шутка ли, девяносто девять, городов четыре, деревням; дворцам, пустошам и счету нет. Каменья драгоценные и алмазы считать не смогли — кружками мерили. А в любимцы Долгоруковы вышли. Семейство многолюдное, жадное, грамоте не больно обученное. К мальчишеским проделкам сразу приноровились. Император без Ивана Алексеевича Долгорукова никуда. И в пир, и в мир, и в добрые люди — все вместе. Ночью в спальне любимцу велел стелить — чтоб всегда под рукой, чтоб не расставаться.
Отец, Алексей Григорьевич Долгоруков, тоже рядом — на посылках. Там и сестрицу Екатерину Алексеевну потянули. С братом на ножах, а интерес семейный, так норов свой попридержали. Не успели просватать, ей и содержание, и штат, чтобы всех родственников прикормить да пристроить, и титул небывалый — государыни-невесты. Невенчанная, а уже государыня! Всем велено почести царские девице воздавать, к ручке прикладываться. Долгоруковым законы не писаны. Сами из дворца не выходят. К императору никого и вовсе не пускают. А тот рад-радешенек: ни тебе учителей, ни науки — на все вольная воля. Так во вкус вошел, что о возвращении в Петербург поминать запретил. Под страхом смертной казни.
…Дом в Фоминском небольшой: на подклете четыре горницы да через сенцы людская с поварней. В подклете провиант всякий. Под лестницей в светелку — мыленка. Невелико богатство. Оно и воронцовское немногим больше. Земель мало, доходов того меньше. Потому и хлопотал сыновей при дворе кем-никем устроить. Около государя Долгоруковы не дадут, так хоть при цесаревне! Старший сынок, Роман, Елизавете Петровне ровесник, да вот поди ж ты, не показался. Михайла семью годами моложе, а цесаревна сразу в пажи взяла. И то верно, книги читает во множестве, в диалектах иноземных разбираться стал. Она, голубушка, все надежды не теряет за заморского государя замуж выйти. Тогда бы и Михайле при ней дорога открылась. Ходили и такие слухи: прочит ее Остерман за императора. Оно верно, что не по-божески, да разве около престола Бога помнят? Теперь кум Волынский не скрывает: лишь бы без опалы обошлось. Про кончину императора ничего толком не сказал. Вопросом на вопрос ответил: не больно ли ловко сошлось — девятнадцатого января венчание, а восемнадцатого государя не стало? Умереть и от простудной горячки можно, да не обязательно в пятнадцать-то лет. Опять же соборовали венценосца три иерарха: Феофан Прокопович, Феофан Лопатинский, Георгий Дашков, а вот на выборы нового царя не остался ни один. Уговаривали их — ни в какую. Теперь уже дело прошлое. Теперь бы о новой государыне все до мелочи разузнать…
Куда как многим невдомек: почему Анна? Неделей раньше сказать, никто бы не поверил. Из трех дочек соправителя и братца старшего государя Петра Алексеевича — Иоанна Алексеевича средняя. Государю все хотелось по-умному девок-то пристроить. Чтоб державе от союзов супружеских выгода. Где там!
Анну Иоанновну с герцогом Курляндским первой обвенчал. Соседу дорогому всех трех предложил, герцог ее выбрал. Всякий помнит: хороша была. Ой хороша. Статная. Рослая. Синеокая. Косы что твоя ночь, до земли. В октябре 1710-го свадьбу сыграли, в Курляндию честь честью проводили. Четырех месяцев не прошло, герцог долго жить приказал, вдова в Россию вернулась.
Государь Петр Алексеевич на первых порах рукой махнул — к Прутскому походу готовился; не до баб тут. А там, по расчетам государственным, обратно в Курляндию отправил. Да не одну — с Бестужевым-Рюминым Петром Михайловичем. Интересы российские блюсти. За герцогиней тоже присмотреть. Присмотрел, старая лиса! Куда как ловко присмотрел. И вдову пригрел, и свои карманы бездонные набил. Бывалоча, о каждой мелочи государыню Екатерину Алексеевну просила. Каждой паре башмаков стоптанных, платью ношеному да перчаткам штопаным радовалась. Горькими слезами и нуждой годами давилась, у матери-царицы Прасковьи Федоровны нелюбимая, государю и вовсе ненужная. Иной раз в Петербург с визитом доберется, а уж в Измайлово своё любимое ни-ни. Государь строго положил: иностранным, государям бывать там ни к чему. Иностранным. А там Петра Михайлыча отозвал. Наворовался, мол, хватит. Сколько герцогиня о нем просила, в ногах у дядюшки валялась. Государь бабьих слез терпеть не мог, Анниных и подавно. Уехала герцогиня ни с чем. В Митаве Бирона в фавориты определила. Тот, известно, заново наживаться принялся. Герцогине бы наглеца укоротить, да замены ему не найдешь: штат мал. Шляхетство без денег на службу не пойдет. Молодого красавца приманить нечем. Один титул что герцогиня.
…Из Марфина Тришка масловский примчался. Будто Голицыны продавать вотчину будут. Вотчина богатая, справная. Когда-то дьяк Щелканов владел. Новый хозяин, из Голицыных, воспитателем государя Петра Алексеевича в младенчестве его состоял. Слух пошел, Голицыным конец. Не пора ли в Москву собираться? Аль напротив — в Фоминском еще денек-другой отсидеться? Тришку в первопрестольную послать — пусть поразведает. А уж там и самому собираться. На дворе мороз лютует. Стужа, какой старики не упомнят. Печки по три раза на день топить надо. Полы, чай, не как в Москве: суконной наволоки и в помине нет — одни доски. По углам к утру изморозь проступает. Только и сидеть, что на лежанке, да думать…
К выборам приступили, едва государь Петр Алексеевич Младший преставился. Не остыл еще, как Долгоруковы решили государыню невесту императрицей объявить. Мол, ей одной по титулу и по воле покойного править завещано. Не вышло. Верховный тайный совет начал наследников законных перебирать.
Цесаревна Анна Петровна еще в 728-м, в мае, прибралась. Тремя месяцами сыночка новорожденного пережила. Двухгодовалого младенца на престол избрать — значит, батюшке его российские ворота открыть. А уж его никто добрым словом не поминал. Пожил здесь со своей свитой голодной да ненасытной, порыскал, попил-поел на чужих хлебах. На Елизавету Петровну глаз положил, на Анне Петровне женился. И такого в регенты?
От самой Елизаветы Петровны, не обсуждая, отмахнулись: один ветер в голове — все бы ей танцы да застолья. Вся в мать.
На поверку и вышло: одни дочки Иоанна Алексеевича. Старшая, Екатерина Иоанновна, известно, не подарок. Не успели в 716-м в Данциге свадьбу с герцогом Мекленбургским сыграть, не успела от той свадьбы непутевой не сына — дочку никому не нужную родить, а уж назад в Россию прилетела. Матушка царица Прасковья Федоровна за любимицу горой. Муж, мол, пьяница, во хмелю буен, рука тяжелая. Где ж это слыхано российской царевне унижение такое терпеть?
Государь Петр Алексеевич и внимания бы не обратил. Сам, прости Господи, государыню не раз кулаком зашибал — на то и жена. Другое дело — венчался герцог Мекленбургский от живой жены, принцессы Софьи Ядвиги Нассау-Фрисландской. Задним числом обещал развод устроить. Не устроил. А без развода что толку от герцогини Мекленбургской Екатерины Иоанновны! Только и достался, что титул для дочки: принцесса Елизавета, в православном крещении Анна Леопольдовна Мекленбургская.
Екатерину Иоанновну выбирать — от герцога не спастись. Таким случаем и от первой супруги отделается, и к русскому престолу потянется. Да и царевна сама не промах: сколько вокруг нее князьков-то разных вьется. Не счесть. Толковые бы были, дельные, а то так — как есть одни гуляки.
Младшая сестрица, Прасковья Иоанновна, и вовсе сомнительного кондуиту. Замужем не побывала, а сыночка в подоле, как девка какая беспутная, принесла. С Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым амуры у нее открылись. И то дивно, как на него, старого да брюхатого, глаз положила, под чьим кровом с полюбовником свиделась. Сказывали, без светлейшего Александра Данилыча и тут не обошлось. Помог. Расстарался. Ему виднее, зачем царевну опутал. Государь Петр Алексеевич куда как разгневался, князя сам палкой бил, пока из сил не выбился, на пол свалив, сапогами пинал. Денщика доверенного Василия Поспелова в собственной спальне пытал. Половина придворных участи своей без души дожидалась. Виноват, нет ли, царский гнев разбирать не станет. Не дождались. Неведомо почему сменил государь гнев на милость. На следующее утро Поспелова простил, царевне — дело неслыханное! — тайно обвенчаться с Мамоновым велел. Вроде для того, чтоб младенца узаконить. Перед Богом. Перед людьми все равно грех великий, позор несмываемый. Оно и верно, у Мамоновых союзников да сородичей полно при дворе, да все равно как такую царевну на престол выбирать.
…Волынский не усидел — в Москву помчался. С собой звал. Да не так прост Ларион Гаврилыч. Как еще у Волынских судьба сложится, лучше за себя одного в ответе быть. Супруга Анна Григорьевна было запричитала: в дороге одним боязно будет. Прикрикнул: сиди, младшего сына Ивана стереги, скоро и его пристраивать придется. Десять лет — уже отцу забота. Спасибо, к учению прилежный. Глядишь, толк выйдет в смутное-то время. А доехать — чего ж не доехать, если дороги окольные выбирать, на большаки не выбираться…
Так и сошлось: Анна Иоанновна. Верховник — Верховного тайного совета, значит, член — Дмитрий Михайлыч Голицын ее выкликнул, все согласились. Рассудили даже, оно и к лучшему. Нищая. Нужды хлебнувшая. Со здешними семьями не повязанная. Должна верховникам покорной да благодарной по гроб жизни быть. Сразу условия герцогине поставили: Бирона в Россию не брать, решений без верховников никаких не принимать. Условия свои «Кондициями» нарекли. Чтоб подписала и строго-настрого блюла, иначе власти ее конец.
Быстрехонько все спроворили. Девятнадцатого января государя Петра Алексеевича Младшего не стало, девятнадцатого же депутация из Москвы в Митаву выехала. Только все равно припоздала. Послы тайные того раньше помчались. Известить. Об условиях предупредить. Предать. Поименно — кто что говорил, кто как о будущей императрице толковал. Иначе и быть нельзя: грех Иуды и есть по-настоящему грех первородный.
С него все начинается.
Андрей Иваныч Остерман умудрился и среди верховников заседать, и руки к «Кондициям» не приложить, и будущую императрицу во все тонкости ввести. Ему ли ей не верить? Что ни говори, брат Остермана старший учителем единственным царевен измайловских был. По дешевке. На большее государь Петр Алексеевич раскошеливаться не стал. Спасибо, что грамоте уразумели, словечек немецких понабрались.
А ведь это ему, немцу проклятому, Воронцовы бедами своими последними обязаны. Дмитрий Воронцов стрелецким полком командовал, гарнизонную службу с ним в Азове нес. Оно верно, что среди стрельцов смута пошла, да с приездом государя Петра Алексеевича попритихла. Казней было, вспомнить страшно! Иные стрелецкие полки и вовсе расформировали, воронцовский в Быхов поставили, Ландмилицким назвали. Остерман взял да напомнил. Через год воронцовских стрельцов по домам отправили, а в 719-м и полк отменили. Зря, выходит, родич царевне Софье Алексеевне поверил, на уговоры гонцов ее поддался, хоть и все кругом смутились. Свою голову иметь надобно. Самому разбираться. Вон и теперь верховники больно за вольность шляхетскую ратовать стали. О власти царской совсем позабыли, а без нее в России никак нельзя. На то и Россия.
Франция. Версальский дворец. Людовик XV и кардинал Флёри.
— Итак, цесаревна Елизавета проиграла.
— Да, сир. Судя по депеше министра Маньяна, ее кандидатура даже не обсуждалась Верховным тайным советом.
— Но это абсурд: единственная прямая и в первом поколении наследница императора Петра. Неужели при дворе не осталось партии великого императора?
— Прежде всего их нет среди верховников. И за короткий миг, пока принималось решение об избрании, они не успели собраться.
— То есть не представляли реальной силы. Возможно. Предположить кончину столь юного монарха было действительно сложно. Но цесаревна Елизавета — у неё есть своя партия?
— Министр ни о чем подобном не сообщал.
— Приближенные, наконец, ее штат?
— В том-то и дело, сир, ее окружение составлено из представителей незнатных и небогатых родов.
— Бог мой, разве дело в богатстве? Чем меньше у человека материальных и генеалогических данных, тем решительней и безрассудней, наконец, поступает.
— В том случае, если он является зрелым человеком.
— Что вы имеете в виду?
— Возраст! Всего лишь возраст, сир. У Елизаветы всего два камер-юнкера из вчерашних пажей. Правда, один из них, Михайла Воронцов, по отдельным отзывам, не лишен способностей и благоразумия, но можно ли с уверенностью говорить о пятнадцатилетнем юноше.
— Пятнадцатилетием?
— Старше в штате Елизаветы был один Александр Бутурлин, но он отправлен в южные степи.
— Елизаветой?
— От Елизаветы. Покойный император, несмотря на слишком юные годы, всерьез интересовался молоденькой теткой, и Бутурлин представился ему серьезным соперником.
— Обычная ситуация. К тому же ведь ее, помнится, прочили в супруги собственному племяннику?
— Совершенно верно, сир, и наш посланник считал подобный союз вполне вероятным.
— А потому сделал все возможное, чтобы его предотвратить.
— Хвала Богу, это не составило особого труда. Юный император отличался капризным характером и редкой жестокостью. Общение с ним было слишком обременительно для такой светской натуры, как Елизавета. А простое сравнение с французской куртуазней должно было воскресить в ее памяти все уроки галантности, которые связывались с проектом ее брака с одним из французских принцев. Видеть около себя этого подростка с худыми кривыми ногами, в нелепых черных башмаках и еще более нелепом сочетании серых чулок и серого кафтана Елизавете стало невыносимо. Вопреки его категорическим приказам она предпочла уединиться в своем доме в давней столице царя Ивана Грозного — Александровой слободе, сославшись на мнимое нездоровье.
— В результате наши наблюдатели потеряли ее из виду.
— Ни в коем случае, сир! Маньян несколько раз пытался беседовать с ней или, по крайней мере, получить приглашение в загородный дворец, но столкнулся с категорическим отказом. Елизавета не пожелала решительно ничего предпринимать в связи с кончиной племянника. Это трудно объяснить, но это так.
— Не вы ли мне сообщили, монсеньор, что небрежение к выборам наследника престола зашло у Елизаветы так далеко, что она послала поздравление не Анне, но ее старшей сестре, герцогине Мекленбургской Екатерине?
— Вообразите себе, сир! При этом министр сообщал в конфиденциальном письме, что искренне промах цесаревны переживал один камер-юнкер Воронцов.
— Он близок с принцессой?
— Министр убежден, что Елизавета безусловно равнодушна к юноше. Он малопривлекателен внешне, слишком серьезен, но готов компенсировать эти недостатки службистским рвением.
— Разумная позиция, если бы было еще кому и какой цели служить. Но в одном вы, безусловно, правы: в пятнадцать лет не делают большой политики.
— Зато в двадцать один проигрывают престолы.
— О, Елизавете уже столько лет?
— Она родилась в год Полтавской баталии, и император увидел в этом дурное предзнаменование: он ждал сына.
— Появление женщины всегда остается — дурным предзнаменованием для государственных мужей. Тем не менее я продолжаю верить в женский ум и надеяться на будущее Елизаветы. Пусть Маньян по-прежнему проявляет к ней внимание вплоть до небольших подарков. Большие обратили бы на себя ревнивое внимание императрицы.
— С вашего разрешения, сир, я прикажу не спускать глаз и с камер-юнкера Воронцова. Это единственный доступный нам ход к цесаревне. К тому же юные карьеристы подчас способны делать большие карьеры.
* * *
Вот и удача приспела: племянненка масловская в штат царицын попала. Должность неприметная. Деньгами государыня хуже дядюшки Петра Алексеевича жмется. Каждый рубль на счету. Зато каждая новость известна, а новость из дворца дорогого стоит. Себе не пригодится, другой охотник сыщется. За память да службу непременно отплатит. Да только быть такого не может, чтоб и своего часу не дождаться. Вон Роман, как племянненка заглянет, тотчас к Михайле летит. Ничего не скажешь, Бог сынков умом не обидел.
…Мартовский день к концу клонится. Окошки засинелись. Изо рта пар. Не захотела Анна Иоанновна в царские покои входить. Ни в кремлевские, ни в лефортовские. Наладилась сразу собственные ставить. В Кремле, около Арсенала. В Лефортове, у тамошнего дворца. Анненгоф зимний и Анненгоф летний. Архитектор привозной, граф де Растреллий, торопится. День и ночь плотников погоняет. Работа спорится, да все равно пока весь дворец не готов, студено в нем. Отдельных покоев нипочем не натопить. На царице шубейка старая. Сапожки меховые потертые. Без нужды наряжаться не любит. Руки по локоть в рукава засунуты. Может, и недужится. Вся родня от мочекаменной болезни прибралась. И ей, поди, не миновать. Лицо желтое, отечное. Круги у глаз синие-пресиние. С кресел подымается, за поясницу хватается. Одна в покое остается — охает.
А так онемечилась царица. Приближенная камер-фрау и та немка — Анна Федоровна Маменс. По мужу госпожа Юшкова. Дебелая. Белесая. Глазки запавшие. Губы в ниточку. Первая вестовщица, ко всем ненавистная. От царицы не отступится. Все кругом дослушает, все переиначит.
— Остермана ко мне! Слышь, Анна Федоровна? Карету за Андреем Иванычем послать. Немедля!
— Ваше желание уже выполнено, моя государыня. Господин Остерман в антикамере дожидается.
— Как дожидается? Почему не доложили?
— Господин Остерман не разрешил мою государыню тревожить. Сказал, когда понадобится, по первому зову явится.
— Ишь ты. Только проведи его ко мне секретно, чтобы никому невдомек. Лучше в убиральную — туда никто ненароком не заглянет. Сама на часах стой — мне пересудов не надобно.
…Сосной пахнет. Окошки потемнели совсем. Полозья по колеям заледенелым визжат, иной раз зубы занимаются. К всенощной заблаговестили. Да Бог с ней, со всенощной, — и на этот раз обойдется. Чай, преосвященный Феофан все грехи замолит. У императрицы дела поважнее есть, неотложные…
— Господин Остерман, моя государыня. Никто их прихода не заметил — задним крыльцом прошли.
— Ладно, ступай. Дверь-то за собой поплотней притвори.
— Разрешите, ваше императорское величество, выразить наипокорнейшее свое рабское почтение и осведомиться о здоровье.
— Здорова, Андрей Иваныч, здорова. Тебя заждалась — от дум всю голову разломило.
— Счастлив был бы способствовать малейшему облегчению вашего состояния, ваше императорское величество. Жду ваших поручений, если соблаговолите их возложить на вашего преданнейшего раба.
— На кого еще, Андрей Иваныч! С сестрицами все думаю как быть. Ненавидят ведь. Лютой ненавистью ненавидят. Волчицами глядят со своими сворами. Катька, поди, уже себя на престоле видела вместе с князьком своим Борисом Туркестанским. Единомышленников сбили — пруд пруди. На крайний случай и наследница припасена — Анна свет Леопольдовна. Прасковью и поминать не хочу! Брюхан в отцы ей годится. Ни стыда, ни совести, зато родни — вся Москва. Как с ними жить? Как опаски не иметь?
— Без опаски, ваше императорское величество, и нищему на паперти не простоять. А мантию императорскую каждому примерить хочется. Обмыслить все наперед следует, полагаю.
— Что ж, обмыслил? Кары им придумал?
— С карами, на мой разум, ваше императорское величество, можно и повременить. Судите сами. Герцогиня Мекленбургская и царевна Прасковья будут продолжать рядом с вами благоденствовать в тишине и покое, как жили. Двор поуспокоится. Сестрицы опасаться перестанут. Если какие дурные помыслы завели, сами за них возьмутся, глядишь, и себя, и сторонников своих с головой выдадут. От былых надежд сразу отступятся — еще лучше. Родственный союз царствующей особе всегда сподручнее родственной вражды. Что бы за ним ни стояло, для посторонних он свидетельствует о силе и прочности престола.
— Замирить думаешь?
— Не хочу вводить ваше императорское величество в заблуждение: на мир надежда плоха. С герцогиней Мекленбургской дело обстоит проще. Развод ее с герцогом по-прежнему не оформлен. Потянись она к престолу, супруг тут как тут, о правах своих заявит. Такого ярма Екатерина Иоанновна себе не пожелает. Нынешняя независимость куда вольготней.
— Я ей независимость покажу! Долго она у меня тут с князем Туркестанским крутиться не будет, ой не будет!
— Умоляю ваше императорское величество ничего не предпринимать против князя Бориса. Не будет его, появится другой, скорее всего худший, не дай Бог, властолюбивый. Если только…
— Чего ж замолчал?
— Если не сыщем доверенного человека.
— На что доверенного?
— На все потребные герцогине услуги. Были бы достаточные деньги. Герцогине ведь нечем покупать своих фаворитов, а честь состоять при ней достаточно сомнительна.
— Прокурат ты, Андрей Иваныч, как есть прокурат. На герцогиню, коли што подвернется, потратимся. С Прасковьей-молчальницей дело куда хуже. Света Божьего за брюханом не видит, пылинки со старого плута сдувает!
— Отдаю должное вашей удивительной проницательности, ваше императорское величество. Тем более господин Дмитриев-Мамонов преисполнен всяческого тщеславия. Портреты Прасковьи Иоанновны в горностаевой мантии у всех родных и близких поразвесил. А сочинение Военного устава, одобренного государем Петром Алексеевичем, убедило господина Мамонова в собственных исключительных талантах и способностях к действию.
— Вот видишь!
— Однако следует здесь задаться серьезным вопросом; как обстоит дело с его здоровьем?
— Да полно тебе, Андрей Иваныч, такого борова поискать. Разве после блинов не в себе бывал.
— То-то и оно, ваше императорское величество. Люди, на вид здоровые, первыми оставляют земную юдоль. И всегда неожиданно для себя. И окружающих. Велите спросить лейб-медика.
— Думаешь, дождемся?
— Отчего не дождаться. Все в руце Божьей. Прасковье Иоанновне без супруга думать о престоле нечего. А Божьему произволению помочь — святое дело.
…Дни как бисер нижутся — один за одним, скоро-скоро. Вспомнить, двадцать девятого января, на Иону Блаженного, епископа Пермского, выехала новая императрица из Митавы. Десятого февраля, на преподобного Симеона, архиепископа Новгородского, приехала во Всесвятское. Через пять дней, на Онисима, — торжественный въезд в старую столицу. Еще через десять, на преподобного Моисея Белозерского, «Кондициям» конец — самодержавие опять наступило. А на Николу-вешнего — коронация. По приметам, коли на Николу дождь пойдет, велика Божья милость. А тут Москву снегом завалило. От кремлевских соборов Замоскворечья не видать. На паперти ковры расстеленные в сугробах. Каково императрице в парчовых туфельках-то к карете идти! Народ глядит. Молчит. Нога у самодержицы тяжелая — что твой сапог снег печатает. Не цесаревна Елизавета Петровна — та птичкой в возок порхнула. Только и успела слезу непрошенную на щеке приметить. Михайла Воронцов за ней вскочил да и дверцу захлопнул…
Франция. Париж. Дом кардинала Флёри.
— Послушайте, граф, мне не дает покоя этот нелепый промах цесаревны Елизаветы с поздравлением герцогини Мекленбургской вместо действительной императрицы. Что стоит за ним?
— Вы не верите в простую небрежность, монсеньор?
— В отношении женщины и к тому же имеющей не меньшие права на власть? Ни в коем случае. Не могла ли Елизавета быть в курсе незнакомого нам расклада сил, который в последний момент почему-то не привел к победе? Нам абсолютно необходимо знать этот расклад на будущее.
— И настоящее, монсеньор. Хотя депеши Маньяна не дают для подобного предположения достаточных оснований.
— Вы говорите, достаточных? Но что-то вам все же удалось усмотреть?
— Пожалуй, если проанализировать московские донесения как бы в обратной перспективе.
— Давайте на время откажемся от ваших сомнений и попробуем разыграть подобный вариант. Итак?
— Монсеньор, разрешите пригласить Лепелетье — он специально занимается депешами из России.
— И болтает о делах на каждом перекрестке. Нет, я предпочту, чтобы разговор носил строго конфиденциальный характер. Позже вы сможете освежить и перепроверить свою память. Но для подобных теоретических прогнозов мне всегда важнее представлялось то, что запоминается непроизвольно. Слушаю вас, граф.
— Начать с того, что герцогиня Курляндская с момента своего брака была отставлена от измайловской семьи, как русские называют двор ее матери. И это несмотря на то, что спустя несколько месяцев после свадьбы она овдовела и снова оказалась в России.
— Но почему? Ей же принадлежали все права на Курляндию.
— Потому что она была не подготовлена к правлению, боялась самостоятельности и хотела быть возле матери.
— Такая пылкая дочерняя привязанность?
— Скорее малая образованность и внутренняя робость. Тем более, по словам нашего министра, царица-мать тяготилась ею. Любимицей царицы оставалась герцогиня Мекленбургская.
— Материнский эгоизм.
— Или разница характеров. Анну всегда отличал угрюмый нрав и свирепость. Екатерина, напротив, была и остается, несмотря на нынешнюю чудовищную полноту, веселой болтуньей, любительницей театральных представлений, в которых сама принимает участие, и всяческого рода развлечений. Она не чуждается любовных похождений и расстается с друзьями сердца так же легко, как сходится.
— А ее брак?
— О нем никто не вспоминает. Достаточно, что император с необычайной пышностью сыграл свадьбу племянницы в Данциге. На улицах били фонтаны с вином, стояли жареные быки, начиненные всяческой птицей, грудами лежали сладости, но — все за счет бедного города. Решался вопрос о репарациях, ввиду того что в качестве члена Ганзейского союза Данциг поддерживал в только что окончившейся Северной войне проигравших шведов. К тому же Петру нужна была встреча с польским королем под любым благовидным предлогом. Все выглядело на редкость богато, а русский монарх выступил, кроме того, и в роли утонченного знатока искусств. Он предложил Данцигу погасить все репарации ради единственной картины, которую пожелал иметь, — алтаря Ханса Мемлинга «Страшный суд».
— Знаменательный выбор. И что же совет бургомистров?
— Монсеньор, они ему отказали.
— Невероятно! Эти расчетливые торговцы и к тому же протестанты.
— Все не так просто. В свое время алтарь был заказан и оплачен семейством итальянских банкиров Портинари. Заказчику его отправили на судне под английским флагом, которое захватили пираты из Данцига. То есть Данцигу он не стоил ничего. Открытое обнародование алтаря даже по истечении столь значительного времени могло привести к достаточно сомнительному в своих результатах судебному разбирательству. Данциг рисковал лишиться алтаря и все равно выплачивать репарации.
— Забавно, но вернемся к нашим баранам. Итак, Екатерина…
— Стала герцогиней Мекленбургской и вскоре, не поладив с супругом, также вернулась к матери.
— Меньше всего ожидал бы от русских женщин подобной решительности. Тем не менее там образовалось гнездо увядающих и разочарованных в жизни женщин.
— Как сказать, монсеньор. Герцогиня вернулась в Россию достаточно образованной и познавшей вкус европейской придворной жизни особой. Вокруг нее стала собираться молодежь, офицеры, любители танцев и театралы. У нее постоянно бывала свита ожидавшего своей матримониальной участи герцога Голштинского. Герцогиня была радушна, обходительна, подчас слишком доступна и занята единственной мыслью — о собственном дворе.
— И власти, надо полагать.
— Почему бы и нет, особенно во время правления Петра Младшего? Она потакала юному императору, не конфликтовала с ним и вместе с тем успевала обращать внимание окружающих на все ошибки и неудобства, которыми изобиловало для дворянства его недолгое правление.
— Вы полагаете, она так дальновидна?
— По мнению Маньяна, скорее ловка.
— Впрочем, жажда власти всегда обостряла интуицию людей.
— Особенно женщин, монсеньор.
— Трудно не согласиться. Но кто-то должен был подозревать о планах герцогини.
— Несомненно, и не один человек. Цесаревну Елизавету о них поставил в известность отец камер-юнкера Воронцова.
— Какая у него должность при дворе?
— До настоящего времени никакой. Тем не менее Маньян счел нужным остановиться на его особе. Малое состояние и неумеренная жажда денег заставляли его искать применения своей ловкости при всех царственных особах. Дочерей царицы Прасковьи отличали стесненные материальные обстоятельства и мотовство. Они не задумывались над источником получения денег. Маньян отметил, что около герцогини Мекленбургской мелькала супруга Лариона Воронцова.
— Приходится отдать должное министру: он записной сплетник.
— Или, если угодно, министр поглощает такое количество разнородных сведений, что не успевает отметать плевелы от зерен. На этот раз нам оказались полезными плевелы.
— Время покажет, граф.
* * *
…В Крестовоздвиженском поздняя обедня отошла. Многолетие самодержице всероссийской Анне Иоанновне, всему ее семейству, а про цесаревну Елизавету опять не помянули. Скажешь дьякону — крушится, на оплошность собственную пеняет, а через раз снова за свое — от настоятеля, видно, приказ имеет.
От ворот монастырских до воронцовского дома рукой подать, в карете и вовсе — влез да вылез. Братья карету отпустили, идут медленно. Важных разговоров и в собственном доме в Москве не поведешь. На ветерке весеннем оно безопасней выходит…
— Так-то, братец Михаил Ларионыч, служить нам, Воронцовым, выходит, государыне цесаревне. И близко престолу, и ой как далеко. Может, ближе никогда и не подступишься. В ссылке вроде.
— Далеко, говоришь, братец Роман? А по мне, батюшка прав: во дворце николи не угадать, что далеко, что близко. Глядеть в оба надо, вот что.
— Я не про то. Кому, кажись, как не дочке государя Петра Алексеевича, на престол вступать. Ан Иоаннов корень верх взял: отыскали себе, Господи прости, самодержицу. Кто о ней слово доброе когда сказал? Со стариком Бестужевым-Рюминым куролесила. Обобрали старика, за Бирона взялась. Отсюда и смелости набралась «Кондиции» порвать, что Бирона сюда не пускали. Да и Екатерина Иоанновна сестрице подыграла: рви, мол, «Кондиции», уважь шляхту.
— Не подыграла, Роман Ларионыч, — погибели ее хотела.
— Да ты что, статочное ли дело?
— А то, что по «Кондициям» какой пункт ни нарушь, тут же власти лишишься. Герцогиня на то и расчет держала: верховники сестрицу престола лишат, их с Прасковьей Иоанновной черед наступит. Вдругорядь своего уж не упустят.
— Может, и так. Да сами себе навредили.
— Женский ум потому что — он короткий. Сердце женское дело иное: к ему прикипит, не отстанет.
— Вон какой ты у нас, Михайла, разумник. Книгочей. Диалекты иноземные постигаешь. Вот только как они тебе денег принесут, прикидывал?
— Сразу, может, и нет. Позже непременно сгодятся.
— Позже. Жить-то сейчас надо. Одежонку подороже справить, лошадок хороших, карету модную завести. Государыне цесаревне куда лестней, коли ее камер-юнкер в грязь лицом не ударяет. У самой много ли за душой? Государыня Екатерина Алексеевна, упокой, Господи, ее душу, не больно о дочке позаботилась. Едва до скипетра дотянулась, фаворитов одаривать стала — не до дочек ей.
— Не греши, Роман. Женихов для цесаревны по всей Европе искала, а там бы и приданое какое следует определила.
— Определила бы! По моему разумению, ни одна дочка ей не нужна здесь была. Анну Петровну на рысях обвенчала, в Киль послала. И с Елизаветой Петровной только случаю ждала. С меншиковской подсказки опасалась, не ровен час, гвардейцы дочку выкликнут.
— И то правда. Гвардия за цесаревной куда охотней бы пошла — от верных людей знаю. После Монсова дела государь Петр Алексеевич престола супруге оставлять не собирался. Шутка, что ли, отрубленную Вилимову голову в спиритус опустить велел да у постели царицы на столике особом держать; любуйся, мол, ночами на милого дружка.
— Господи! Подумаешь, дрожь берет!
— Еще бы не брала. После такого о каком завещании в пользу изменницы речь. Все знали, о дочерях думал.
— Известно, об Анне Петровне. Надо же, не повезло как: замешкалась, на отцовский зов вовремя не прибежала, судьбу свою и проиграла. Что там государь на доске-то грифельной — всего два слова написал: «Все отдать…» В беспамятство впал. А может, и стер кто имя, постарался.
— Не сомневайся, постарался. Неужто Александр Данилович промашку бы дал. Махнул платочком, рукавом ли провел — имени как не бывало. Кричи себе в охотку: «Виват государыне Екатерине Алексеевне!»
— У одного бы не вышло. Тут преображенцев со штыками понадобился не один десяток. Никто из сенаторов-то светлейшего не поддержал. Волынский батюшке сказывал: как воды в рот набрали.
— Отчаянный светлейший был, ничего не скажешь.
— Не такой уж и отчаянный, коли время точно рассчитать. Вот бы нам так с цесаревной! А на престоле отеческом ей быть. Беспременно быть, покуда гвардия есть. Так что придет для Воронцовых пора. Рано или поздно — придет.
…Вроде уладилось все, обошлось. Прав Остерман. А на душе тоска. Вон весна свое берет. Скоро собираться пора — то ли в Петербург, то ли в Измайлово. В Петербурге старые тени мерещиться станут — как каждому придворному поклоны отбивала, милости да поддержки просила. В Измайлове не лучше — матушка ни разу за нее, за Анну, не заступилась, приездам ее вымечтанным, вымоленным не порадовалась. Едва слово приветное вымолвит и тот же час с вопросом: когда в обратный путь? Будто для нее одной места не найти. Будто одна она всех объесть может. Все равно здесь пока лучше быть. Где шляхетство выбрало, где дворяне честь оказали, со знатью петербургской не посчитались.
За Кремлевской стеной постройка поднялась. Растреллий молодец, с театром торопится. Строго-настрого наказала, чтоб в одночасье готов был, чтоб без проволочек. Об одной радости и мечтала — в ложу свою императорскую в платье большого выхода войти, заморских певцов да музыкантов послушать. Иоганн Эрнестович сказывал. Студентом к театрам приохотился да и ее соблазнил. Какая, мол, императрица без придворного театру.
Сама рисунки Растреллиевы смотрела. Балконы в три жилья. С ложами. Чтоб особно сидеть. Внизу хоть стой, хоть садись, коли стулья внести — партер. Паникадило преогромное, золоченое. Свечей не счесть. Мост, где актерам представлять. С балконов двери наружу, на лестницы — от пожарного случаю. Дождаться бы только…
За окном возок опрокинулся. Дверцы раскрылись. Достают кого-то. Никак, Лизавету Петровну. Так и есть. Хохочет. Только что с парубками молодыми не обнимается.
— Анна Федоровна, парубков этих знаешь?
— Разрешите присмотреться, моя государыня. Никого среди них достойного вашего внимания нет — прислужники цесаревнины.
— Достойны — не достойны, сама разберусь. Имена знаешь?
— Под ручки Елизавету Петровну подхватили братья Шуваловы. Тот, что пониже, Петр, в камер-юнкерах у нее. Повыше — Александр, должности никакой не имеет. По своей воле заезжает.
— На всякий случай, выходит. Откуда взялись?
— Выборгского коменданта сыновья, моя государыня. Карты побережья морского он снимал, у вашего величества с поклоном был.
— Кажись, припоминаю. Что ж лучшего дела для сыновей не сыскал? Или к государю Петру Алексеевичу прилежит?
— Наверняка не скажешь, моя государыня. Денег от службы не накопил. Образования сыновьям не дал. Куда таких пристроить?
— Напомни Андрею Иванычу сказать. Пусть лучше у нас пристроит. А те двое, что возок подымают?
— Тоже братья. Воронцовы. Михайла при цесаревне, Роман сам по себе.
— Не в штате?
— Нет, моя государыня. Сказывают, Елизавету Петровну не чаще раза в месяц посещает. Больше о невесте богатой хлопочет.
— Вон уж и шлеи разобрали. Поехали. В Покровское небось.
— Не иначе, моя государыня. Иного дома у Елизаветы Петровны на Москве нет.
Франция. Версаль. Людовик XV, кардинал Флёри.
— Что слышно из России, монсеньор?
— О, вы соскучились по политике, сир?
— Ни в коем случае. Маньян по возвращении из Петербурга показал мне портрет цесаревны Елизаветы. Она прелестна, и это спустя десять лет после того несостоявшегося сватовства.
— Сир, ее обвиняют в недопустимом легкомыслии.
— Которое и делает ее столь очаровательной. Полноте, монсеньор, в грехах можно покаяться и получить их отпущение, но годы, прожитые в скуке, невосполнимы.
— Мне больно слышать, что вы так отзываетесь о собственном браке. Королева Мария — образец благочестия и материнских добродетелей.
— В том-то и беда: сочетание молитв и беременностей. К тому же разница в целых семь лет делает ее скорее похожей на воспитательницу, чем на супругу.
— Вы богохульствуете, сын мой.
— Вам остается вымолить мне прощение, кстати, и за то, что я возжелал Елизаветы, но, как и все в моей жизни, слишком поздно. Надо учесть этот промах на будущее. Кстати, как складывается судьба русской красавицы?
— Ее высочество находит в себе мужество противостоять всем тем огорчениям, которые приносит ей правление императрицы Анны.
— Она, конечно, еще не просватана?
— О нет, и вряд ли императрица согласится на какой бы то ни было ее брак. Ведь любой супруг вместе с рукой Елизаветы приобретает и права на российский престол.
— О которых она сама до сих пор не позаботилась. Это восхитительное небрежение доказывает, что она прежде всего женщина, далекая ото всех дворцовых интриг. Кстати, монсеньор, найдите хороший подарок для моего русского корреспондента. Лучше всего перстень, и непременно с бриллиантом.
— Вы сохраняете в секрете имя этого корреспондента, сир?
— Нисколько. Маньян сказал, что его зовут Михаил Воронцов. Он будто бы очень молод, состоит в штате Елизаветы и по первому желанию Маньяна ухитрился достать ее портрет. Может быть, даже специально его заказал. Я буду рад выразить ему благоволение.
— Ваше желание, сир, будет немедленно исполнено. Лепелетье подберет красивый, но не слишком бросающийся в глаза перстень и тайно перешлет нашему новому министру — маркизу де Босси для Михаила Воронцова. Маркиз, несомненно, справится с этим деликатным поручением лучше, чем Маньян. Вот только от чьего имени, сир, вы предполагаете сделать подарок?
— Франции, монсеньор, конечно, Франции.
— Я полностью разделяю ваше решение, сир. Расположение одного из доверенных лиц цесаревны нам очень важно, тем более что сама Елизавета по-прежнему чувствует к нашему государству живейшую симпатию.
* * *
В Измайлове весна первой в Москве наступает. Пруды водой набухают. Серебрянка-речка сад заливает. По проталинам ручьи звенят. Хмель на подпорах зеленеет. Огородники теплицы раскрывают. Дедушка, царь Алексей Михайлович, баловства не любил, садов не признавал — одному хозяйству радовался. Вместо гротов да беседок диковинных першпективы, на холсте рисованные, по дорожкам расставляли. Всех-то и развлечений. Цветы едва не счетом. Рвать — думать не моги: когда-то еще новые расцветут да вырастут. Перепелов еще в фаянсовых клетках расставляли — для услады.
Такое переделывать — себе дороже. Лучше летний Анненгоф прямо с садом новомодным соорудить. Растреллий все сумеет. Ему и денег особых не надо: дело ради дела любит, да и не доводилось ему еще толком строить. Пусть разворачивается как умеет. Анненгоф — хорошо… Никак, Андрей Иваныч к крыльцу поспешает. Не забыть его теперь графом титуловать — заслужил титла, как никто заслужил.
— Ваше императорское величество, разрешите еще раз выразить глубочайшие соболезнования по поводу постигшего ваше державнейшее семейство несчастия — внезапной кончины господина генерала и кавалера Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова.
— Прав ты оказался, граф Остерман. Как есть все под Богом ходим. Что бы генералу до Измайлова доехать, а то едва из города кортеж императорский выехал, тут ему удар и приключился. Вот только печалуюсь, все ли для сохранения его здоровья сделано было?
— Не сокрушайте себя, ваше императорское величество, в животе и смерти Бог волен. Как только господин генерал с лошади свалился, окружили его и более никого к нему не допустили. Государыню царевну Прасковью Иоанновну и ту удержали. Ради генеральского блага, естественно. Ждали прибытия лейб-медика, за которым пришлось в Москву ворочаться. Хоть и с великим поспешанием.
— Однако Прасковья Иоанновна жалобу мне принесла, будто лежал Мамонов на солнцепеке и без помощи почти два часа.
— Поручиться за точное время не решусь. Одно могу засвидетельствовать: генерала Дмитриева-Мамонова, дабы не повредить его здоровью, до прибытия докторов с места не трогали. А то, что они его без признаков жизни застали, видно, так Богу угодно было. Цесаревна Прасковья Иоанновна зря немилость ко мне и иным придворным чинам заявляет.
— Тоже мне немилость! Да Бог с ней, с Прасковьей. Сам толковал, что без супруга, она со счетов долой. Лучше скажи, что с Лизаветой делать будем? Обрыдла мне вертихвостка треклятая, так обрыдла! Живет припеваючи, штат в пятьдесят персон, Анна Федоровна сказывала, завела. На Иоганна Ернестыча, никак, глаз положила. Как хочешь, граф, по мне, давно о раскрасавице монастырские стены плачут. Нечего ей, змее подколодной, при дворе моем делать. Да ты чего глаза-то утупил, Андрей Иваныч? Пусть сгинет под клобуком на веки вечные!
— Ваше императорское величество, лицо, нарушающее ваш бесценный покой и благоденствие, само собой разумеется, достойно тягчайшего наказания. Вот только спасут ли стены монастырские от всяческих осложнений.
— Опять заступаться? Опять, как Бирон, отродье проклятое спасать? Да что она, на вас порчу, что ли, навела? Чем приворожила, последний разум отняла? В каком таком танце завертела?
— Нет-нет, ваше величество, ни о каком заступничестве не может быть и речи. Как можно! Все дело в дипломатическом расчете — для России и для вашего процветающего двора. Умоляю разрешить представить все существующие по этому поводу соображения — их немало, и они совсем не просты.
— Да самодержица я или нет? Императрица всероссийская или по-прежнему герцогиня Курляндская, всеми «Кондициями» повязанная, что одного моего слова заместо всех ваших умствований мало? Сказано — в монастырь!
— Ваше императорское величество, всемилостивейшая монархиня, у вас не было оснований усумниться в рабской моей преданности. Мои соображения имеют в виду только вашу пользу и будущее российского престола. Неужто вы согласитесь, чтобы к цесаревне ушел державный скипетр?
— Вот те раз. Ты же сам не хочешь пострига цесаревны!
— Не вижу в нем смысла для интересов вашей державы.
— Ты меня вконец запутал, граф. Изволь немедля оправдаться.
…Бедность. Господи, да она всю жизнь заела! Измайловский вроде дворец. Бок о бок зверинец с диковинными зверями — вон олень какой рогатый голову через загородку тянет. Ружья под рукой нет — подстрелить бы. Кабаны ревут. Тетерева на тока собираются. Собор какой Покровский — кремлевским под стать. Стены с башнями — Коломенскому не уступят. А глаз все примечает. Как есть все. Вместо стекол в половине окошек слюда темнеет. Пол в покоях почернел, щелястый. Сукна на лавках пообтрепались, износились. В руках расползаются. Покоя особого, хоть для опочивальни, не сыщешь: все покои в ряд, через все проходить надобно. Танцы когда бывали, так хороводом по всему дому и ходили. Для настоящего политесу — слезы одни.
Разве забудешь: с сестрами-царевнами вместе на полу ночевать приходилось. С девками рядом. Кровать у одной матушки царицы. Да и то, слава одна, что кровать. Балдахин обветшал. Полог невесть на чем держится. От старости весь слинял. Ужинов матушка не ставила — откуда провизию брать? Камер-юнкеры голштинские, бывалоча, потанцуют, иной раз представление посмотрят и давай Бог ноги туда, где столы побогаче да бутылок побольше. А приезжали через силу — дядюшка, государь Петр Алексеевич, приказывал. Тоже театр Катерины свет Иоанновны — позор один. Кучеров да конюхов вместо артистов брала. Девок дворовых обряжала. Париков актерам нет — с гостей на время сымала, не чинилась. Паникадило раз на вечер зажигали: прогорят свечи — представление задержится, сиди в темноте.
Такого небось Лизавета Петровна не знавала. Под боком у батюшки да матушки то в Зимнем, то в Летнем, то в Сарском, то в Лефортовском дворцах. Чуть не день наряды новые: родителям не жалко. Туфелек пару, а то и две за ночь стаптывала — больно плясать горазда, с любым кавалером пойдет, не откажет. А если иначе все? Если на бал никто и не оставляет? Если одно платье десять раз перешивать надо, чтоб в одном и том же людям глаз не мозолить? Если туфельки до десяти раз чинить, пока не изорвутся совсем?..
— Начать с того, ваше императорское величество, что у цесаревны нет никаких средств.
— Как это нет?
— Очень просто. Пресветлой памяти государыня Екатерина Алексеевна завещала младшей дочери мызу под Петербургом и двор с домом в Александровой слободе. Мыза — одни кочки да болото, доходу никакого. Дом слободской — деревянный, низ каменный. Ветхий. Жить, от беды, можно, людей принять или продать — никак. За нищей цесаревной никто не пойдет, в чудеса не поверит.
— А свита где же?
— Кто в доме, кто в людских избах, кому и вовсе фатеру снимать в слободе надо. Как Роману Воронцову. Он хоть и не свитский, все обок держится. Да свиты по-настоящему нет — одна прислуга. Кузнец, кучер, поломойка, портомои, при столе да при кухне люди, кормилица…
— Хватит. Знаю, всех сосчитал. Ты мне свитских назови.
— Тут, ваше императорское величество, дело совсем плохо. Фрейлины — все двоюродные сестры цесаревны, три Гендриковых, одна Скавронская. Не столько служат, сколько обузой висят, просьбами о вспомоществовании докучают.
— Хороша семейка. А братцы двоюродные?
— Их в штате нет. Кто же станет рисковать будущим сыновей, оставляя их при цесаревне! Другое дело фрейлины-бесприданницы. Всегда надежда есть, что кто-нибудь из мелкопоместных ради титула высокого и позарится, за себя возьмет. Камер-юнкеры — это Петр Шувалов и Михаил Воронцов.
— Шубина не считаешь, граф? В первых ведь персонах при дворе голодраном ходил.
— Стоит ли о нем вспоминать после вашего мудрого решения, ваше императорское величество. Ему и дня не следовало оставаться возле цесаревны. Тут из амурной истории могло в одночасье бунтовское дело сладиться.
— Видишь! О том и толк. Лизавета свет Петровна совсем из-за поручика своего страх и стыд забыла. Мало что двоих от него родила, на шаг от себя не отпускала. В опочивальню при всем честном народе вместе шествовали. Потому и велела голодранца в Сибирь сослать безвестно. Без имени да фамилии кто когда его разыщет.
— Да никто и искать не будет.
— Не скажи. Как Шубина забрали, цесаревна-то наша дней десять в беспамятстве валялась. Жалела очень. Оклемалась — в ноги мне кинулась. Ото всего, мол, отрекусь, верни Алексея Яковлича. Ровно не в себе была. Сказывали, заговаривалась даже.
— Думаю, это особенность ее натуры, а не признак силы чувств. Когда покойный государь Петр Алексеевич Младший амурам цесаревны с Александром Бутурлиным конец положить решил, Елизавета Петровна тоже несколько дней в себя прийти не могла. За Бутурлиным в южные степи мчаться собиралась. Она способна чрезмерно увлекаться, и эта страсть обречет на гибель все ее замыслы. Полагаю, любое замужество ее устроило бы больше, чем долгий и тернистый путь к власти, которой она и не способна пользоваться.
— А монастырь здесь при чем?
— Цесаревна всегда была ценимой иностранными претендентами партией. Исчезновение ее за монастырскими стенами наложит нежелательную тень на справедливое и светлое правление императрицы Анны. Осмелюсь напомнить, ваше величество, еще в семьсот двадцать первом году начались переговоры с принцем Шартрским на условии получения им французской короны. Принц скончался в декабре семьсот двадцать третьего, и тут же встал вопрос о браке цесаревны с самим Людовиком Пятнадцатым, благо предназначавшаяся ему невеста — инфанта испанская — была выслана из Франции.
— Ничего не скажешь, дядюшка Петр Алексеевич о дочке пекся, не то что о племяннице: спихнул с рук, и ладно.
— Но, ваше величество, Курляндия в то время имела слишком большое значение для России. К тому же вы в конце концов счастливо и справедливо заняли отеческий престол, а Елизавета Петровна остается всего лишь полунищей принцессой при вашем дворе.
— Вот-вот, и вообще все это при государе дядюшке было.
— Но вспомните, ваше императорское величество, государыня Екатерина Алексеевна пыталась возобновить переговоры с Людовиком Пятнадцатым, однако французский король предпочел дочь принца Валлийского, а когда расстроился и этот союз, — брак с Марией Лещинской. Россия обращалась даже к герцогу Бургундскому, но тот был заинтересован лишь в немецких принцессах.
— Кстати, не твоя ли это была затея, Остерман, цесаревну за ее же племянничка просватать? Расстарался ты тогда, Андрей Иваныч, ой как расстарался.
— Ваше величество!
— То-то и оно, решил деток государя Петра Алексеевича старших да младших одним узлом завязать, чтобы дочкам Иоанна Алексеевича и надежды на престол не осталось. О нас-то, старших, законных, и вспомнить не соизволил? Плохи мы для тебя тогда были!
— Я готов бесконечно виниться перед вашим величеством, но не перед собственной совестью: ведь это лишь внешняя сторона вопроса.
— Да ты что мелешь, Остерман? Нас от престола отрешить — внешняя? Совесть твоя, значит, в порядке? Вон она какова правда-то Остерманова!
— Моя правда, ваше величество, проста и очевидна: цесаревна никогда бы не дала согласия на подобный брак.
— Не тебе судить, Остерман! Короны ради не с такими под венец идут. А из мальчишки, глядишь, и муж бы хороший получился.
— Ваше величество, цесаревна могла из-за Бутурлина сбежать в Александрову слободу и перестать приезжать в Москву, донельзя обозлив императора.
— Еще как сбежала. О родне своей собственной забыла. На отпевание дядюшки родного, Карла Скавронского, не явилась.
— О том и речь. Чем плохи были тогдашние соискатели ее руки? Хотя бы герцог Мориц Саксонский?
— Герцог за меня свататься хотел. За нее — с досады.
— Да, конечно, но ведь цесаревна отвергла его опять-таки ради Бутурлина. И теперь Елизавета Петровна ни на кого не согласится. Сожаления о поручике Шубине давно уступили место интересу к певчему Алексею Разумовскому. Если она будет тешиться тихой семейной жизнью, на ваш двор не ляжет никакого подозрения в деспотизме, а это крайне важно хотя бы в связи с выборами польского короля.
— Если ради Польши… Тебе виднее. Только пусть при дворе нос свой пореже кажет, а лучше в Александровой слободе сидит, благо там, в случае чего, и монастырь под боком.
— Ваше величество, ведь вы с тем и направили к ее двору Разумовского: глупостей не наделает, в случае чего предупредит.
Франция. Париж. Дом кардинала Флёри.
— Монсеньор, депеша от маркиза де Босси.
— Перемены в Москве?
— Императрица устраивает фаворита и его многочисленную курляндскую родню, что вызывает серьезное недовольство при дворе.
— Анна должна была это принимать во внимание. Ее непреклонность с Бироном поистине удивительна, тем более что прочность положения новой монархини достаточно сомнительна.
— Может быть, дело в материнских чувствах?
— Материнских? В отношении кого?
— Сына императрицы от фаворита. Мальчик появился в канун избрания Анны, и многодетная семья фаворита послужила ему лучшим убежищем.
— Супруга фаворита дала свое согласие?
— У нее не было выбора. Теперь императрица Анна проводит первую половину дня, играя с детьми фаворита, и среди них — с собственным сыном. Они даже вместе садятся за стол и вместе обедают: императрица, фаворит с супругой и все дети.
— Не слишком нравственное решение. Но что пишет де Босси?
— Что поведение императрицы и фаворита все больше раздражает дворянство. Курляндцы не пользуются симпатиями русских и почти не завязывают родственных связей с ними. Среди придворных все чаще звучит имя Елизаветы.
— Таково мнение де Босси? Но он слишком недолго в России.
— Лестока, монсеньор. Лестока, который вхож едва ли не во все дома благодаря своему положению лейб-медика. Маркиз уверен, что это идеальная креатура. Он услужлив, приветлив, остроумен и даже иногда добивается улучшения здоровья своих пациентов.
— По милости Божьей, надо полагать.
— Да, его лекарские способности вызывают немало сомнений, зато воспитанность и хорошие манеры устраивают всех — от умирающих до воображающих себя больными.
— Насколько же серьезен возрождающийся интерес к Елизавете?
— Лесток говорит о нем как о почве для будущего дворцового переворота. Единственное серьезное препятствие — нынешний фаворит.
— Любой фаворит может только мечтать о подобной перемене судьбы своей покровительницы.
— Но не Алексей Разумовский. Это один из очень удачных дипломатических ходов графа Остермана.
— Того, который занимается внешней политикой России?
— Да, именно графа Андрея Остермана. По его подсказке императрица Анна из числа привезенных для придворного хора с юга певчих одного, а именно Разумовского, уступила в виде подарка цесаревне. Расчет оказался точным. Лишившаяся своего последнего аманта, поручика Шубина, отрезанная от придворного общества, Елизавета не могла не обратить внимания на красавца певца. Но Разумовскому предварительно и объяснили открывающиеся перед ним возможности, и предупредили о крайней осмотрительности в поступках. Любое подозрение императрицы лишит его места и тех крох, которые ему стали перепадать. Вчерашний пастух из большого полуголодного семейства не мог не прислушаться к совету. Или приказу.
— И оказался своего рода соглядатаем при цесаревне. Неглупо, очень неглупо. А Елизавета не догадывается о его, скажем так, сложном положении?
— Может быть, и не догадывалась, если бы не ее доверенный, камер-юнкер Михаил Воронцов. Лесток уверяет, что у камер-юнкера хватает ума не настраивать цесаревну против фаворита, зато он достаточно тонко дает ей возможность самой разобраться в том, что Елизавета в минуты досады называет трусостью, хотя в действительности скрывает в себе предательство. Так или иначе, но она перестала приглашать фаворита для участия в конфиденциальных совещаниях. Каждый раз под иным предлогом.
— Кажется, я все серьезней начинаю относиться к этой русской принцессе.
— Она дочь своего отца, монсеньор, в гораздо большей степени, чем предполагают окружающие. И в чем-то даже превосходит его, старательно маскируя очевидное родственное сходство. Для всех она хочет оставаться легкомысленной бабочкой, летящей к одним удовольствиям.
— Чему Лесток так настойчиво призывает не верить.
— Он же, в конце концов, врач, монсеньор, и знаток анатомии.
— На этот раз не столько физической, сколько душевной, хотите вы сказать?
* * *
Вот оно — Елизаветино царство. Печь трещит. Июнь на исходе, а все тепла нет. Небо над слободой серое. То высоко подымется, холодом знойким прохватит. То на крыши туманом осядет — не продохнешь. Под ногами глина чавкает. Сыро. Душно. Ели лапами до земли обвисли. Цветов на лугах и в помине нет. Одна куриная слепота на тропках золотится.
Грязь на всю Торговую площадь разлилась. Мужик с телегой мается: лошадь совсем из сил выбилась. Бабы с коробьями на коромыслах, никак, в монастырь собрались. Петух на соседском тыне прокукарекать хотел, да от дождя отяжелел — свалился…
— Цесаревна матушка, чтой-то с тобой, голубонька, приключилось? Час битый у окошка стоишь, словечка не вымолвишь? Недужится, не дай Господь, аль как?
— Откуда прознала, Маврушка? — не было тебя тут.
— Роман Ларионыч от навеса глядел, мне сказал. Оба с Михайлой опечалились, меня позвали.
— За любовь да заботу спасибо. Только сказать-то мне нечего. Тоска на сердце пала — от дождя, видать. Который день окошки сечет. Света белого не разглядишь.
— От дождя. Эка невидаль: сильней посечет — быстрей пройдет. Оглянуться не успеешь, солнышко выглянет. Тебе-то что за печаль — непогода: из дому не выходить, в путь не пускаться.
— Твоя правда: ни пути, ни дороги, одни утки в луже, как мы с тобой в слободе. Неужто вся жизнь так и пройдет?
…От ветра ставень застучал. Листьями в окошко ударило. Дождь без роздыху. Сада при доме нету. Не разводила. Думала дворец построить. Тогда уж и с садом. Петруша Трезин — отличный архитект, батюшкин крестник, все бы в лучшем виде придумал.
Всего три года с матушкиной кончины прошло, а вон как все повернулось. Что строить — жить не на что. Копейки, копейки… Спасибо Маврушка Шепелева все заботы на себя приняла. Простыни считает. Скатерти вычинивать велит. Часами с Романом Воронцовым шепчутся, Бог весть как изворачиваются. Роман Ларионыч всему голова. И с бабами столкуется, и застолья не испортит, и деньгами, когда невмоготу, выручит. Кабы не они, подумать страшно…
— Наконец-то о деле задумалась! Наконец-то вокруг огляделась. Дочь императорская, цесаревна российская, великому Петру единая наследница — и в слободе, Богом забытой, молодость коротает. Над лужей вонючей. Тут уж ничего не скажешь: как не возмутиться, как сердцем не растревожиться!
— Опять за свое, Мавра Егоровна. Отпусти душу на покаяние. Не хочу о престоле думать, сердце зазря крушить.
— Это как же зря-то? Почему зря? От людей укрыться порешила, Елизавета Петровна? Нетути, матушка, нетути. Не судьба для цесаревны. В порфире родилась, за порфиру и стой — предопределение тебе такое. На простых людей не гляди — неровня ты им.
— Ничего от жизни не хочу, только самую малость; мир да любовь.
— Ишь ты, какая малость! Запамятовала, матушка, как сердцем к Бутурлину, к Александру нашему Борисычу, повернулась, думать о нем начала. Велик ли грех? Так ведь племянничек с любимцами своими, как свора собачья оголтелая, накинулись: Борисыча побоку, за тобой догляд вдвойне.
— Так и не в царских семьях случается: не показался царю.
— Не показался. Околесную, прости Господи, Елизавета Петровна, несешь. Известно, под венец с ним не идти. Так — сердцем погреться. Ан нельзя: вдруг заговор какой. Судьба у тебя высокая.
— Да уж, высокая. Выше некуда. Ну, Бутурлин знатный, образованный. У батюшки любимым денщиком был. Морскую академию кончил. В моем штате камергером был, а чего на Алексея Яковлевича накинулись? Кажись, радоваться бы им, что такой цесаревне подвернулся. Чин — самый малый. Имения, почитай, никакого. Только собой пригож, Бутурлину не уступит. От зависти одной бабьей Анна Иоанновна в Сибирь его заслала. Господи, сколько времени прошло, все едино так к сердцу и подкатывает: где он, мил сердешный друг, каково-то ему в сибирских вертепах?
— А и на черта бы смахивал, императрице все равно. В армии Шубина и при малых его чинах любили, значит, через него усмотрели ход от тебя к солдатам. Сама не хуже моего знаешь. Зря толкуем: ушей стенам и здесь не занимать.
— За цесаревну свою, болезный, поплатился. Не знал, голубчик, что как на охоте встрелись, в чистом поле, бежать бы ему, бежать без оглядки.
— От судьбы не убежишь, матушка. Зато будет бедолаге что вспомнить. Кому еще счастье такое выпадет, честь такая — сердце цесаревнино сокрушить.
— Не умолила я за него царицы, видно, слов доходчивых для государыни не нашла.
— А ведь и искать не должна бы, голубонька. Какие тут слова, какие разговоры, когда сама царствуешь, сама на родительском престоле сидишь. Кого захотела, того полюбила. Кого разлюбила, того и с глаз долой. Да и награждай милого по сердцу — не по карману тощему. В почете и уважении не лучше ли, чем обиды со слезами солеными пополам глотать. Берись, матушка, за ум. Один случай проглядела, проплясала, другого не пропусти. Коли не подворачивается, сама придумай. За нами, слугами твоими верными, дело не станет. Каких денег для начала потребуется, Роман Ларионыч сыщет. Сам говорил, тебе намекнуть велел.
…К вечерне заблаговестили. Колокол тренькает малый. Жалобно. Глухо. Не иначе — с трещиной. У Распятской церкви, что в монастыре. Собраться туда, что ли? Страшно. Куда как страшно. В траве ступеньки копаные, под землю. Спускаться — плечами о стенки трешься. Внизу — пещерка малая. Два камня бок о бок. Ровных. Могильных. Государыни царевны Марфа да Федосья Алексеевны. Тетки родные. Батюшка их заточил. У Распятской церкви, в кирпичном чулане. Два оконца в лопухах над землей. Порог с травой вровень.
Поначалу, сказывали, царевны вещи привезли. Из кремлевских теремов. Да ставить негде. Одним креслом на двоих обходиться пришлось да парой лавок. Все годы у стола на них просидели. И пролежали — постелей иных не было. После смерти в яму для бродяг обеих кинули. Не отпели даже. Или отпели. С бродягами разом. Тетушка Марья Алексеевна у батюшки в ногах великую милость выпросила — сестер из ямы достать да отдельно положить. Так и лежат. Нет, только не туда! Не в монастырь!
— Знаешь, Маврушка, стихи я новые сложила.
— Вот и славно, ясынька ты наша. Развеялась грусть-тоска-то?
— Не так развеялась, как сердце запросило. Позови Воронцовых — почитаю вам. Начать начала, а конца пока не сыскала. Не подскажете ли?
Сия удивлейна ныне учинилась, Что любовь сама во глупость вселилась, тебя уязвила. Мыслила тую болей в ум вселити, А ан, стала тая еще глупее быти. Ревность пресильна в ней пребывает, и себя мертвит, И сама не знает, кто ее умерщвляет! На то уповает, что сама не знает, в безумстве бывает…— Не обессудь, матушка цесаревна, дозволь тогда и мне свое сочинение почтеннейшему собранию представить — пиесу про принцессу Лавру. Коли по вкусу придется, так и разыграть можно.
— Когда успела, Маврушка?
— Время не ждет, государыня цесаревна, время.
Франция. Париж. Дом кардинала Флёри. Кардинал и его секретарь.
— Эта новость вряд ли вас порадует, монсеньор.
— Ты о чем, Лепелетье?
— Лесток не решился подарить перстень Михаилу Воронцову.
— Нашел подарок слишком дорогим или дешевым?
— Ни то ни другое. В дружеской беседе он попытался узнать отношение камер-юнкера к самой идее подарка. Испуг Воронцова оказался так велик и очевиден, что Лестоку оставалось все превратить в шутку.
— Этот лейб-медик прирожденный дипломат. Но где же перстень?
— Он остался у маркиза де Босси. Маркиз хочет повторить попытку в более благоприятный момент. К тому же старший брат Воронцова очень падок на деньги. Если найдется предлог подарить перстень ему, отказа не будет, а братья очень между собой дружны.
— Но не испортит ли дела Воронцов-старший своей жадностью? Алчность — мать множества пороков, и прежде всего предательства.
— Вы, безусловно, правы, монсеньор, но Лесток уверяет, что со времен Петра Великого чиновники в Российском государстве привыкли к подаркам, и притом очень дорогим. Без них делопроизводство просто не происходит. Это своеобразный апробированный монархом налог.
— Кстати, не за этот ли узаконенный, по вашим словам, порок поплатился сам Лесток?
— Нет, монсеньор, причина его высылки на Волгу, в Казань, была иной. Он соблазнил дочь одного из дворцовых служителей и навлек на себя гнев императора.
— Он легкомыслен или сластолюбив?
— Трудно судить издалека. Но, надо думать, ссылка излечила его от обоих пороков. Лестока можно понять: он меньше всего ожидал, что император Петр, имевший при дворе одновременно добрый десяток любовниц, выступит столь строгим судьей.
— Вы забываете, Лепелетье, истину древних: что дозволено Зевсу, то не дозволено быку.
* * *
Арсенал так и чернеет оконными проемами: достраивать тошно. А Анненгоф уже стоит. Велико ли время полгода, да все у Растреллия вышло. Парадных зал больше дюжины. Для камергера — еще восемь: Бирону удобно должно быть. Тронный зал — загляденье. Хоры — для публики. Две изразцовые печи до потолка. На постаментах точеных — статуи позолоченные и посеребренные. Паникадил золоченых без малого две дюжины. На весь потолок плафон живописный. Стены холстом обиты. Под штукатурку. А кругом все резное — латуни да меди не наберешься. И спальней не налюбуешься. Снова плафон живописный. Панели ореховые. Над дверями и камином фрукты резные золоченые гирляндами гнутся. В зеркала посмотришь — глазам не поверишь…
— Кого ведешь, Анна Федоровна? Не видишь, куафюра не уложена. Одеваться давно пора.
— Моя государыня, граф Остерман по неотложному делу.
— Уж прямо и неотложному. Что у тебя там, граф? Какой такой спех? Не обессудь, куафёр дела своего бросить не может.
— Если разрешите, ваше императорское величество, я подожду.
— Ишь ты. Мусью, позже кончишь. Пудермантеля не сымай — в нем останусь. Ступай живо. Слушаю, граф, твою новость.
— Ваше императорское величество, цесаревна Елизавета Петровна представления дает. В Покровском устраивала, в Александровой слободе, того гляди до Петербурга доберется.
— Театр, что ли?
— Представление под титлом «Восшествие на престол Российской принцессы Лавры». Актеров человек тридцать. Певчие. Танцовщики. Сама цесаревна на сцену выходит.
— Это какой же такой Лавры? И на наш престол? Толком говори.
— Впрямую не сказано, а выразуметь нетрудно.
— Неужто про цесаревну?
— Про нее и есть. Вот и слова из сей пиесы у меня выписаны: «Ни желание, ни помышление, но Бог, владеяй всеми, той возведя тя на престол Российской державы; тем охраняема, тем управляема, тем и покрываема буди навеки…»
— Божиим, значит, произволением…
— Можно и иначе помыслить: Господней воле помогать надо.
— Откуда прознал? Почему Ушаков не знает?
— У регента цесаревича Ивана Петрова случайно нашли — с собой нес. На рогатке его задержали. В Тайной канцелярии обо всем рассказал. И что сам на представлении бывал, и что братья Воронцовы всем верховодили, денег не жалели.
— Они и сочинили, проклятые?
— Трудно поверить, но сочинительница — девица Мавра Шепелева, прислужница цесаревны. Регент показал, что она и стихи слагать умеет.
— Девку в ссылку! Ишь чего удумали… Ишь на что замахнулись — престол им подавай. И с цесаревной, знала ведь, ни к чему твои потачки не приведут. Теперича изволь расхлебывай. О женихах да амантах думать перестала, о престоле российском возмечтала.
— Боясь вызвать ваш гнев, ваше величество, на этот раз я предложил бы снова осторожное решение. Озлобить людей просто, напугать — куда надежней. Главное — другим пример и острастка.
— Что ж, по-твоему, злоба и страх вместе не живут?
— Настоящая злоба с настоящим страхом, полагаю, никогда. Регент о допросе в Тайной канцелярии и так при Лаврином дворе разнесет, не утерпит. Воронцовых можно и отдельно вызвать. А девица Шепелева — на такую креатуру и внимания обращать не стоит.
— Опять за свое: не стоит да не стоит. Там смолчи, там лишнего не скажи, а они вон какую волю берут.
— Ваше величество, я лишь следую рекомендациям знаменитых медиков: нельзя болезнь загонять вовнутрь. На вид человек здоров, внутри же совсем плох. Врачу же надо доискиваться скрытой причины.
— Ну и что еще придумал, Андрей Иваныч, какую новую петельку затянуть собрался? Братец-то твой, Фридрих Иваныч, как нас с сестрицами политесу обучал, о твоей ловкости толковать любил. По первой, мол, пороше пройдет, следа не оставит.
— Фридрих по братней привязанности преувеличивал мои способности.
— Какая у вас, Остерманов, привязанность! Да и куда ему до тебя.
— Благодарю вас, ваше императорское величество, за столь лестную оценку моих скромных способностей. И если вы преклоните слух к моим недостойным рассуждениям, девицу Шепелеву нет резона убирать от цесаревны. Об этой девице мы уже оповещены, глаз с нее не спустим. Кто же поступит на ее место, неизвестно. Лучше своего человека рядом с ней поставить.
— Да как ты цесаревну убедишь твоего человека на службу принять, в доме держать?
— Но цесаревна недавно поймала своего управляющего на воровстве. Воровал плут нещадно, за что и отослан в Тайную канцелярию. Для сыска. Вот этого управляющего и надобно выпустить. На старое место волей царской вернуть. Плут вам верой и правдой служить будет — от страху. Тут и цесаревне острастка, и управляющему воля: кого куда захочет, туда и наймет. Беспременно плут обнаглеет. Такие баталии пойдут, что за простой портомоей или сенной девкой никто и смотреть не станет. Тут вашему императорскому величеству свое гневное слово сказать не грех: не вправе цесаревна судьбой служащих распоряжаться. На все у нас одна императорская воля.
— Опять убедил, Андрей Иваныч. Ино быть по сему.
…В воронцовских палатах частенько ночами свет не гаснет. Не спится Лариону Гаврилычу. Вот и праздники прошли, вроде опала обошла их род стороной, а радости нет как нет. На Красной площади театр какой вырос: шапка валится на крышу взглянуть. Внутри каких только чудес нет. Машины все стихии представляют: что воду, что огонь, что ветер. Актеров и под небеса подымают, и в преисподнюю спускают. Музыкантов разом не менее полсотни играет. Ни на какие свои забавы Анна Иоанновна денег не пожалела. Капельмейстера и сочинителя музыки вместе с певцами из Италии выписала.
А Анненгоф из Кремля в Лефортово перенести велела. Не показался государыне Кремль. Может, и верно. На Кокуе веселее — народу больше расселилось. Там и празднества, там и штучные огни.
Надо же слово какое — штучные! Ненастоящие, значит. Как и правление все. Нет веры государыне, что о добре народном думает. Кругом слухи ползут, будто государство промеж курляндцев своих любезных делит, а богатства царские все в Курляндию вывозит. Будто в деньгах обман — стали серебряные рублевики весом полегше, чем в былые времена.
С податями тоже. Государыня Екатерина Алексеевна с государем Петром Алексеевичем Младшим все долги народу отложили, требовать не стали. Новая императрица все припомнила, каждое лыко в строку прибрала. Может, и не сама. Может, старые бояре надоумили, пусть не курляндцы даже. Так ведь не вступилась, слова своего защитного не сказала. Не смилостивилась.
К народу выходить и в мыслях не держит. В соборе на людей волком глядит. Оно и верно говорят: престрашного взору царица, не к ночи будь помянута. Родные у нее, как по заказу, мрут. Поди, того и хочет, чтобы с Бироном сам-друг во дворце остаться. О Господи! За сыновей страшно. Сам седьмой десяток разменял, а еще ни одного не женил. Роману вон под сорок. Да он продешевить, боится — себе цену знает, чудо-царевны на мешках золотых дожидается. Может, и дождется.
Глава 2 Свадьбы, свадьбы, свадьбы…
…Солнышка нет как нет, а трава, гляди, заколосилась. Мятлик и под дождем распушился. Тимофеевка вся в капели стоит. В окне крутояр от ворот монастырских к реке. Серая… Так и назвали. Не широкая. Не быстрая. А сумел в ней царь Иван Васильевич жену неугодную утопить. Тоже из Долгоруких. Марья. После первой ночи брачной велел в возок запихнуть, коней разогнать и айда в воду. Кони выплыли — кучера успели постромки перерезать. Царица-однодневка на дне осталась.
Серая течет себе и течет. У кладки чуть-чуть всплескивает, на бережок песчаный низкий набегает. Тут куда ни глянь, все сердце рвет. Строгая слобода. Недобрая…
— Вот и дождался Ларион Гаврилыч своего праздничка. Хоть на свадебке, Маврушка, погуляем. Люблю свадьбы — смех, застолье. Танцевать до упаду можно. Хороша собой невеста-то?
— И-и, цесаревна матушка, разве о том толк. Приданое хорошо — вот дело. Глядишь, Роман Ларионыч и вовсе богачом заделается, о дворе твоем заботиться станет. А как же.
— Ну, богатств-то этих еще никто не видал. В чужой мошне они, известно, горами растут, в своей сосульками топятся. Да кто такие Сурмины? — не слыхивала что-то.
— Откуда тебе знать, Елизавета Петровна. Сурмины — люди не видные. При дворе не бывали. В столах царских не сиживали. Подьячими разве служили. Потому, на мое разумение, и к Воронцовым потянулись: как-никак при цесаревне всегда. Земли у них с воронцовскими бок о бок. Роман Ларионыч и смекнул: девка у Сурминых на выданье, родителям при их состоянии оставлять ее в купечестве нет охоты. За женихом тут денег не требуется — своих лопатой не разгребешь. Вот и решили свою Марфу Ивановну за Воронцова-старшего отдать.
— А молодые что — полюбились друг дружке?
— Ой, матушка, все бы тебе про любовь сказки плести. Любовь, она-то по-настоящему для стихов и песен.
— Не скажи, Маврушка…
— Да Бог с тобой, цесаревна. Нашим не до амуров. Марфа Ивановна, может, и грамоте толком не знает: акромя Псалтыри, книг не видала. А собой пригожа ли, не видала. И то сказать, в семнадцать-то годков непригожих не бывает. Главное, своей воли творить с мужем не будет — у купечества с этим строго. Чего ж еще Роману-то нашему Ларионычу?
— А я думала…
— Думай, матушка, думай на здоровье! На свадебке погуляем, там и про любовь раздумаешься. Коли тебе Алексей Григорьича мало. Хорош ведь наш молодец, куда как хорош Разумовский. И ростом, и статью. Тебя пуще света белого любит, пылинки сдувает. Запоет — век бы слушал.
— Не больно-то много петь стал. Известно, ты за Алексея горой, в обиду не дашь. Только обижать его никто не думал — зря вскинулась. Так я, к слову… А невесте вот подарочек приготовила — колечко с яхонтом. Не так чтоб дорогое, да дороже откуда взять. Послать вели.
— Пошлю, матушка, сей час и пошлю. Царицей станешь, Марфа Воронцова бахвалиться начнет: от самой императрицы российской получила — чай, не шутка.
— Нишкни, Мавра. Долго ли до беды.
…Над Невой облака клочьями несутся. Вода бурая, тяжелая, морскими волнами взбухает. Того гляди, по набережным разольется — из дворца не выйти. В покоях духота — окна все закупорены, двери приказ плотно-плотно затворять. Ситцевый капот расстегнуть можно. Платок застиранный с волос скинуть. В застиранном вроде вольготней. До обеда в государынины покои всем вход заказан. Коли уж одеваться, то к театру аль ужину. В новом дворце петербургском театр под одной крышей. Чтоб не трудить себя, не ездить. И чтоб никакого простого люду и в помине не было. Угодил Растреллий, ничего не скажешь. Да и то сказать, по-прежнему, акромя театра, нечем и душу порадовать.
Все затаились. Ждут. Будто и не свой век царица заживает. Будто странницей на престоле примостилась: кому быть наследником — назначит, кому своего счастья ждать. На том и Остерман с Иоганном Эрнестовичем рассорились. Друг против дружки кампанию ведут, чисто полководцы. Из всех близких, может, одна Анна Федоровна и осталась. Ей без императрицы никуда: новым хозяевам старые слуги не надобны. Бережет Юшкова императрицу. Вроде и в самом деле заботится…
— Ваше величество, убиральщицы ждут — что изволите сегодня одеть? Украшениями как распорядитесь?
— Да погоди ты, Анна Федоровна, экая надоедная. Обожду маленько, ровно не в себе я нынче.
— Никак невозможно, моя государыня. На обед званы господа послы. Вам им апшит давать.
— Вот тоска, Господи! Ладно, уймись. Что там у тебя?
— Разрешите предложить вам, моя государыня, робу зеленую, цветами затканную. К ней серьги лаловые, что вашей матушке государыня царевна Мария Алексеевна подарила, и фермуар лаловый, что вы сами у ювелира заказали. Не одеван ни разу, так сразу послам в глаза бросится.
— Давай прикину, к лицу ли. Что там у Лавры-то деется? Что еще голодранка понавыдумывала?
— Деток рожают да крестят, моя государыня. Дел невпроворот.
— А чего на безделье нищих-то не плодить. Вот только чем кормить ораву свою собираются?
— У меня на родине, моя государыня, говорят, даст Бог день, даст и хлеб. Не большие господа — разве не прокормятся?
— Ты не сказала, кто у них осчастливился?
— Прежде других бывшая девица Мавра Шепелева, ныне законная супруга Петра Шувалова. Сына принесла — цесаревна сама крестила. Теперь госпожа Шувалова цесаревну иначе, как кумушкой-матушкой, не зовет. Совсем придворного обихода не знает. Женщина некрасивая, без приданого. Такой бы век в девках сидеть, спасибо, служба у цесаревны помогла.
— Да уж красотой девку Шепелеву Господь не наградил: сама кадушкой, ноги ведрами, голова горшком — шеи не видать. Никакое декольте не поможет. А денег, выходит, у молодых ни гроша?
— Полагаю, моя государыня, у Шуваловых кое-что наберется. Они о себе позаботиться и при нищей цесаревне сумеют. Зато у невесты скарб — все с цесаревнина плеча.
— Ну, умора! А еще какие пары составились?
— Старший из братьев Воронцовых.
— Роман, что ли?
— Он самый. Невесту высмотрел из сибирских купцов, богатеющую. Сам супружницу обирает, нет-нет и цесаревне подбрасывает, когда подарочком, чаще взаймы под отличный процент.
— Ишь, благодетель.
— Его, моя государыня, на все хватает: что дать, что взять. У него и прозвище такое: Роман — большой карман. Женился недавно, а детей уже полон дом. Супруга иначе, как брюхатой, не ходит.
— Неужто цесаревна всех крестит?
— А чем ей еще, моя государыня, благодетеля отблагодарить? Донесли мне, что намедни послала на мануфактуру Затрапезных полдюжины чулок нитяных заказать. У Затрапезного порядок: без денег ничего не отпустит. Выходит, кто-то опять цесаревну денежками ссудил. Опричь Романа Воронцова некому.
— Пожалуй. От сердечного дружка Алешки Разумовского какая корысть. Сказывали, о родне своей нищей больно печется. Будто матери деньжонок на корчму сколотил, чтоб по миру не ходила, сестер замуж повыдавал.
— А как же, моя государыня, одну за ткача, другую за портняжку, третью за простого казака. И все же человек он полезный.
— Известно, цесаревне ночки коротать.
— О, я не то имела в виду, моя государыня. Граф Андрей Иваныч точно определил: Разумовский ото всех затей опасных и недостойных цесаревну отговорит, лишь бы ваше императорское величество не прогневать, той копейки, что копит сегодня, не лишиться.
— Ой ли?
— Не сомневайтесь, моя государыня. Холоп и так знает: во дворец с парадного крыльца ему дорога заказана. У черного хода да кухни держаться следует.
— А Лизавета Петровна на иных не поглядывает ли?
— Покуда вроде бы и нет, хоть больно холоп во хмелю нехорош. Сказывают, буен и к цесаревне непочтителен. Иной раз до рукоприкладства доходит: цесаревна в синяках ходит.
— Ее дело, коли себя соблюсти не умеет. Тоже тебе царская дочь.
…Петруша Трезин так и сказал: нет, государыня цесаревна, из такой трухи ничего не построишь. Старый дворец слободской раскатать — все бревнышки в прах рассыпятся. Половины не собрать. А покупать — откуда деньги брать? Господи, сколько ж так маяться можно! Вот Мавра все корит: не о том думаю, про престол забыла. Не забочусь. Может, тем и жива, что никто ничего не примечал до сей поры. Что с цесаревны взять: одни танцы да гулянки, болтовня да смех. А чем еще оборониться? За кого поручиться можно? Один сдуру, другая в запале, третий и вовсе из расчета лишнее слово брякнет, и гнить цесаревне в монастыре, если от чего другого конца тебе прежде не найдут.
Вот толкуют: за родителями как за каменной стеной. Хороша каменная стена при матушке, покойнице, оказалась. Чистый каземат. Ненароком вспомнишь — дрожь берет. Графа Сантия часто во сне видеть стала. Какую судьбу избывает! А за что? Батюшка из Европы его незадолго до своей кончины вызвал — для герольдмейстерского художества, гербы титулованным особам и дворянам выдумывать. Ему что — кому велят, тому и сочинит. Ловко получалось.
При матушке Петр Андреич Толстой ему должность обер-церемониймейстера охлопотал. А едва матушки не стало, под обух попал. Меншиков с Толстым счеты сводить стал, кстати и Сантия порешил. Будто возведения на престол сестрицы Анны Петровны добивались. Городов не упомнишь, по которым бедолагу таскали. Никак, с Якутского острога начали, скованным по рукам и ногам железами там держали. Мало показалось — в Верхоленск поволокли. Шубин о тех местах от ссыльных знал, все как есть рассказывал. Иркутский губернатор присмотрелся: человек безвредный, в художестве хорошо разумеет. В Иркутске разрешил жить, жениться. На местной. Пары месяцев не прошло, приказ сверху — отправить на зимовье за три с половиной тысячи верст, держать там под крепким караулом. Чернил с бумагой не давать. Разговоры хоть с местными, хоть со стражей запретить. А главное, следить, чтоб руки на себя с тоски не наложил аль другого какого зла себе не учинил.
Сколько лет прошло, сказывали, сам Сантий да и стражники цингою да голодом примирают, а снисхождения никакого. И все за сестрицу, за Анну Петровну. Послал бы Господь власти, его бы первого освободила, обласкала. Песни итальянские, арии славно пел. Обходительный. Веселый…
Да что итальянец заезжий — свои, родовитые как платились за дочку государя Петра Алексеевича. Меншиков как хотел, так матушкой и вертел. Ни воли у покойницы, прости Господи, ни смыслу. Перед самой кончиной осудили Толстого, Скорнякова-Писарева, Девиера — в суде над братцем, царевичем Алексеем Петровичем, участие принимали. Казалось, ей-то что за печаль?
И то сказать, счастье дворцовое недолгое, превратное. Девиер в силу вошел, когда на сестре светлейшего женился. Из батюшкиных денщиков в санкт-петербургские обер-полицмейстеры прыгнул. По дворцу как по собственным горницам разгуливать стал. Сестрице Анне Петровне без титулов говаривал: не кичись, пей со мной вина побольше. Кузину Скавронскую Софью по зале вокруг себя вертел, будто в танцах. Племянничку, Петру Алексеевичу Младшему, резоны выставлял, чтобы с ним в одной коляске ехать. Мол, и тебе, царевич, удобней, и коляска моя твоей куда побогаче. Все молчат, одна матушка смеется-заливается. А там как светлейший повздорил с деверем, враз прикончила Девиера. Да не она — ее руками светлейший. Софья Скавронская за молодого Сапегу вышла, женишка опальной Марьи Меншиковой, по ком в березовской ссылке все глаза выплакала.
После Анны Петровны, упокой Господи ее душу, мой черед настает. Не поостережешься сама, пеняй на себя. Расправа короткой будет. Ой короткой…
— Мавра, кормилицу ко мне позови.
— В людской она, кумушка-матушка, сидит.
— Что ж, места ей другого не нашлось?
— Как не найтись, сама не идет. Опасится.
— Тогда сама к ней пойду. Вернее будет…
— Меня ли, лебедушка, ищешь? О мамке заскучала?
— Как не заскучать, мамушка. Спросить тебя хотела. Пойдем по саду пройдемся.
— А и по саду чего ж не пройтись, лебедушка. Ягодок пощиплешь, развлечешься, развеешься. Смурная ты у нас что-то.
— Твоя правда, мамушка. Смурная… Вспомнить все хочу, как с Вилимом Монсом дело было.
— Ну и надумала. С чего тебе треклятый немец распонадобился?
— Нет, мамушка, это я спрашивать буду, ты — ответ держать. Много знала ведь, того больше видела. И помалкивать умела. А теперь с дочкой-то поделись. Нужно ей. Скажи, власть большую Вилим забрал?
— Да что уж, кто только к нему с поклоном не ходил, кто подарочков дорогих не носил. Граф Головкин Михайла…
— Только он в те поры послом нашим в Берлине был.
— Вот-вот, из Берлину ему парики да наряды королями высылал. Петр Михайлович Бестужев-Рюмин, при чужих не будь сказано, в Митаве башмаки заказывал. Анна Иоанновна сама следила, чтоб сапожник не обузил, колодки великой персоны не перепутал.
— И она туда же!
— А куда, Елизавета Петровна, сама посуди, денешься? Только от твоей матушки она добра и видала. Неужто сук под собой рубить бы стала? Еще князь Андрей Вяземский — так он лошадок Монсу подбирал и растил: очень до них Вилим Иванович охоч был.
— Хороши были кони. Помню.
— Как не помнить — во всем дворе лучшие. Государь Петр Алексеевич, часом, заглядывался.
— А Егор Столетов что при нем делал?
— О Егоре особый толк. Денежек за ним отродясь не водилось. Зато письмишки амурные сочинять умел, стишки складывал.
— Это для матушки, что ли?
— Откуда мне знать, лебедушка. Может, и для покойной государыни. Очень она за них господина Монса хвалила.
— А сказывали, Егор в канцелярии числился. Вместе с Иваном Балакиревым.
— О том тебе лучше знать. Где мне в должностях-то разбираться. Мало ли за какую должность человек деньги получает, по мне главное — кому служит. Да ты, лебедушка, у Воронцова спроси, Михайлы Ларионыча.
— У Михайлы? Да он в службе-то никогда не был. Лет-то ему сколько тогда было?
— Сколько ни сколько, а к Егору Столетову он тогда частенько бывал. Отец его Ларион Гаврилыч сказывал, к письменному делу присматривался. Егор сам его хвалил: слог, мол, преотличнейший. Что ни вели написать, все тотчас и напишет.
— Надо же. А мне и невдомек. Что ж ему наказания-то не вышло?
— Да, Егору тогда ой-ой как досталося. Господину Монсу твой батюшка приказал голову отрубить, приспешникам его — плети да ссылка. Ивану Балакиреву, не спутать бы, батоги да в солдаты, на каторжные работы на три года. Столетову полегше вышло. Били его кнутом в проводку — через строй водили. Больно тогда кричал, себя не помнил. А на каторгу на десять лет. Воронцова никак не вспомнили. Может, по молодости. Скорее — на глаза не попался. Батюшка загодя все семейство в деревню увез. Этот не попадется.
— Матушка, как на престол вступила, всех простила. Недолго маялись. Балакирев, знаю, в Преображенский полк рядовым зачислился — не захотел при дворе быть.
— А Столетов, вишь, к твоему, цесаревниному, двору попросился. Тогда к тебе и Михайла Воронцов пришел. Забыла разве?
— Всего не упомнишь. Столетова и помнить не стоит: как выкликнули нынешнюю императрицу, сразу от меня уволился. А Воронцов остался и братца Романа привел.
— Вот Бог Егора-то и наказал. Он решил к Долгорукову Василию Лукичу прибиться, ан и тот в немилости оказался. Провинился незнамо чем.
— Провинился! Жена его провинилась — неосторожное слово дома обронила. Принц Людовик-Иоганн Гессен Гомбургский, что у них в гостях тогда был, возьми и донеси. От усердия. Пришлось Егору вместе с Долгоруковым в Нерчинск ехать.
— Всего белого света не перехитришь, не выйдет. Лучше одного держаться, как будет, так и будет. Надежней как-то…
…Полдень скоро. Обедать пора; Чего копаются? Знают, Анна Иоанновна ждать не любит. Расстроить хотят. Бенигна опять как ведьма ощерится. Все не так, все не по ней. Кривая. Горбатая. Век Бога бы молить, что мужа схлопотала. Бирон на нее и глядеть не думал. Коли для приличия жениться, так старшей из сестер — Тротте предложение сделал. Хорошо, что Тротта заупрямилась — не захотела супругой фаворита стать. А то Иоганн Эрнестович сердцем бы к ней и прикипел. К Бенигне не прикипишь. Сама вызвалась сестру заменить. Сама условие положила: сколько ей бриллиантов, сколько имений, сколько лошадей и экипажей. Ничего горбунья не упустила. Даже детей от супруга богоданного принесла. Только чести неслыханной не ценит. С ней одной да Иоганном Эрнестовичем императрица что ни день за стол обеденный садится. От племянницы родной отказалась, от Анны свет Леопольдовны, а от Бенигны куда денешься. Да и Иоганн Эрнестович тоже ей волю дает. Шипенья ее змеиного не замечает. Усмехается чуть что: бабы, что с них взять.
И то сказать, один на один совсем видеться перестали. На все у герцога один ответ: дела государственные, отлагательств не терпящие. Вроде и не она императрица — он один всем заправляет. Остерегал ведь граф Остерман, сразу остерегал — не послушалась. Теперь между ними вон какие баталии идут. Может, и к лучшему. Миниху больше верить стала. Вояка. Ему бы только крепости брать, врага на поле брани побеждать, а до возни дворцовой и дела нет. А может, и есть — скрывает старик.
Как это граф Остерман поначалу-то говаривал: членов царской фамилии вокруг вас обременительно много, ваше императорское величество. Было. Да обошлось. Еще из Москвы в Петербург после коронации не переехали, задержаться пришлось: царица Евдокия Федоровна преставилась. Вреда от нее самой никакого. Если когда о престоле да власти мечтала, охолонуть давно успела. Внучек, Петр Алексеевич Младший, к бабке в Новодевичий монастырь ни ногой. Сказывали, один раз побывал — сестрица Наталья Алексеевна заставила. Мала-мала была летами покойница, а умна, ничего не скажешь. Братца в руках держать умела. Сам не замечал, а Долгоруковы враз заметили. Вот царевна в одночасье и прибралась. Во Всехсвятском. У царевны Мелетинской Дарьи Арчиловны ночевать остановилась перед Москвой-то, да за один день и померла. Для всех — корью. Никого при ней не было. Служительница только. Служительницу наградили и из Москвы подале послали. Петру Алексеевичу Младшему и горя мало, а Долгорукие его именем все рты позакрывали. Сошло.
После кончины Натальи царицу Евдокию все забросили. Ко внуку записки слезные посылала. Мол, видеть хочет. Мол, во дворце бы ей побывать, а то и вовсе поселиться. Читал ли их внучек, нет ли, кто знает. Скорее Долгорукие сами убирали. Оно и вышло — одна императрица Анна Иоанновна покойнице почести последние отдала — цесаревне в острастку. Пущай ее родительница императрицей венчана, так ведь при живой первой жене государя. Все равно, выходит, незаконная. Что уж об отродье ее говорить!
Царицы Евдокии Федоровны в канун осеннего равноденствия не стало. А на ее сороковины сестрица Прасковья Иоанновна скончалась. Так уж вышло — без нее в новую столицу ехать. В Москве разное говорили. Что, мол, как это — во цвете лет. Что, мол, в полном здравии. Ну и пусть говорили. Главное — послам объявили о скрытой болезни, что хворала долго, да все скрывалась, никому не признавалась. На том и конец. А сынок ихний с Мамоновым, да Бог с ним: какая у такого без батюшки да матушки судьба! Оно и вышло: из персон царствующей фамилии до Петербурга добрались сестрица Екатерина Иоанновна с дочкой да цесаревна, будь она неладная. Только жизнь, она долгая: неведомо, кто кого переживет…
— Ваше императорское величество, разрешите от имени моего августейшего господина, короля Французского, принести глубочайшие соболезнования по поводу кончины вашей любезнейшей сестры герцогини Екатерины Мекленбургской. Король разделяет вашу скорбь и наложил на свой двор трехдневный траур.
— Спасибо, господин посол. Сочувствие нашего державнейшего брата нам особо дорого, поскольку герцогиня Мекленбургская родительница той, чье потомство взойдет на российский престол, — принцессы Анны Мекленбургской.
— С вашего разрешения, ваше императорское величество, я хотел бы принести королевские кондоленции и принцессе Анне.
От стены, как тень, фаворит отступает. В черном бархате. В орденах. Пальцы бриллиантами усыпаны. Голос злостью звенит:
— Простите, господин посол, это невозможно.
— Но почему же, герцог? Это необходимая дипломатическая формальность, и я обязан отчитаться в ней перед своим сюзереном.
— Принцесса Анна настолько потрясена потерей, что не встает с постели и никого не принимает. Мы передадим ей ваши соболезнования, как только состояние здоровья принцессы это позволит.
— Надеюсь, ее высочество Елизавета…
— Тем более невозможно, господин посол. Нездоровье вынудило цесаревну покинуть столицу и уединиться в своих владениях. Она даже вряд ли будет принимать участие в погребальных церемониях.
— А где церемонии состоятся, господин герцог?
— Вас непременно известят о месте и времени, но скорей всего в ближайшей церкви от ее дворца на Васильевском острове, господин посол. Разрешите вас проводить.
— Что это ты надумал, Иоганн Эрнестович? Какие такие церемонии? С какой стати? Не велишь ли и мне траур надеть?
— Не помешало бы, Анна Иоанновна. До девяти дней совсем бы не помешало. Напрасно пренебрегаете принятым порядком. Люди дивятся. То, что вы не испытываете сестринских чувств, вам не на пользу.
— Свою пользу сама знаю. Притворяться надоело. Что без сестриц легче дышать, тут и спору нет.
— Возможно.
— У племянницы ни ума, ни хитрости — не станет воду мутить.
— Зато она вполне может затопить дворец потоками слез: вы отняли у нее ее любовь — графа Линара.
— А ты, выходит, ни при чем? Ты слова не вымолвил.
— Не хочу спорить, эта неуместная амурная история наделала много шуму и могла нам очень навредить в глазах Венского двора. Поэтому разумнее было сразу же согласиться на их кандидатуру в мужья будущей правительницы — принца Антона Брауншвейгского.
— Ты говорил, что после того Лизавете Петровне навсегда на престол ходу не будет.
— Так оно и есть. Разве Венский двор на будущее поступится своими интересами? Французские симпатии цесаревны слишком известны.
…Власть. Власть царская. Все можно. Все само сделается, и приказов не нужно. Какие приказы! Захотела государыня наша Анна свет Иоанновна тени в саду — зной ее донял. Наутро встала: за окном роща шумит. Густая. Зеленая. Одно дерево другого старше. И чуда никакого. Придворные промеж себя целый луг поделили и за ночь навезли деревьев, насадили. Расстарались. Императрица слова приветливого не сказала, улыбнуться не соизволила. Благо того хуже, чем накануне, не рассердилась. Одно слово, холопы. Все холопы. Что им до батюшкиных лет — свинья в каждой луже грязи отыщет. Сила им нужна да гнев царский, чем жесточе, тем лучше. Крут был батюшка, ой крут, а видно, Иоанновна верх взяла…
— Вишь, Михайла Ларионыч, не повезло как Екатерине Иоанновне: ждала, дождаться не могла покойница, как дочке разрешат православие принять, в правах наследственных утвердиться, с женихом обручиться. Крещения-то и дождались, да через месяц преставилась, словно по заказу. Императрица сороковин и то не соблюла.
— Так и того много, ваше высочество.
— Как «много»? Месяц-то?
— Могло крещение и вовсе с кончиной герцогини совпасть, кабы государыне так ловчее оказалось.
— Думаешь…
— Я не высказываю никаких предложений, ваше высочество. Просто рассуждаю. Екатерину Иоанновну только то в узде и держало, что дочка в лютеранстве обреталась. Для православной она бы немедля партию организовала — своих людей с достатком имела. Императрице такого не надобно. Ей одна Анна Леопольдовна, без матери, как игрушка: захочет — в руки возьмет, понянчится, захочет — за повет закинет, ищи свищи.
— И Бог по ее мысли распорядился.
— Можно и так сказать.
— Но императрица и теперь не торопится с браком Леопольдовны.
— А к чему ей, ваше высочество. Сами подумайте, в завещании так все ловко придумано, чтобы принцесса никакой власти и не увидела. Престол-то ее сыну завещан. Так его еще родить надо. А получится ли? В роду государя Иоанна Алексеевича одни дочери. У вашего дедушки, блаженной и приснопресветлой памяти государя Алексея Михайловича, из тринадцати чад от первой супруги девять дочерей и всего четверо сыновей, да и тех скончавшихся во младенчестве. Здоровье и долголетие уделом их не было.
— Думаешь, Анна Иоанновна и это рассчитала?
— Скорее господин Бирон. Его планы простираются далеко за возможные годы жизни императрицы.
— В том резоне, что станет правителем при малолетнем царе?
— Это очень шаткая будущность, ваше высочество. Думается, он видит себя правителем в любом случае — будет ли у Анны Леопольдовны ребенок мужеска полу или нет. Регентом при правительнице. С Анной Леопольдовной к власти прийти ему труда нет.
— Но чтобы стать правительницей, принцесса должна выйти замуж. Привезла же ей императрица жениха и даже назначила его полковником кирасирского полка.
— Этого требовали приличия. Приличия определили и содержание принцу Антону, впрочем далеко не слишком щедрое. Судите сами, ваше высочество: вам отпускается в год сорок тысяч рублей, и на эту сумму немыслимо содержать двор. Принцу Антону досталось и того меньше — двадцать тысяч годовых и надежда на брак с принцессой, которая его открыто ненавидит и сделает все возможное, чтобы их союз не состоялся.
— Оно верно, от принца никто ничего, кроме глупостей, не видал. С невестой ссорится, сплетничает про нее со своими товарищами…
— И тем угождает императрице. Чем дольше дело не будет доходить до брака, тем лучше. Нет брака, нет и предполагаемого наследника. Императрица может не опасаться никаких козней со стороны молодой пары, которую перспектива престола, несомненно, помирит и заставит действовать заодно. Принцесса будет строить планы своего освобождения от принца, а принц — от ненавистной супруги.
— Так или иначе, дочери Петра Великого при таком раскладе не остается места.
— Напротив, ваше высочество, как раз напротив. Будущие супруги восстанавливают против себя и гвардию, и народ. Сердца и мысли подданных невольно обращаются к той, на ком лежит отблеск поистине великого царствования. Ничего для той цели не предпринимая, вы приобретете все большее и большее число сторонников Ваш час не может не наступить, ваше высочество, и в самом скором времени.
— А ты дипломат, Михайла Ларионыч. Быть тебе государственным канцлером. Если наступит государство…
— Принцессы Лавры, ваше высочество. Благодарю вас. От всей души благодарю. За то, что верите. Возле вашего высочества быть дозволяете, за службу мою рабскую не гневаетесь.
…Верит. Неужто верит? Надеждой живет. А что ему без надежды. Сама говоришь, ровно сказки сказываешь: в некоем царстве, в некоем государстве… Может, государство такое где есть, да дожить-то как? Вона что с Артемием Петровичем Волынским содеялось. Господи, где силы взять виду не показывать? Мол, не мое дело. Мол, меня такое и коснуться не может. Ведь вот они все, штат-то цесаревнин, ежели подумают, тотчас разбегутся. Уж на что Артемий Петрович смел, за шляхетские права против императрицы стал, а и то перед каждым сильным в три погибели гнется. Цесаревны на куртагах в упор не видит. Как тут винить: своя рубашка ближе к телу. Да и взятки брать, казну грабить тоже надо. Попробуй-ка извернись — и речи смелые говорить, и перед Остерманом на брюхе ползти, и с Черкасским дружбы не терять. Что-то будет, что-то будет, Господи.
— Послушай-ка, Маврушка, подумалось чего-то: судьба людей в одночасье всего лишить может. Сегодня с утра Меншиков с ума нейдет. Арестовали Александра Данилыча седьмого сентября семьсот двадцать седьмого, полгода ровно, как матушки не стало. На другой день, помнится, в Верховном тайном совете объявили: приказов его никаких боле не исполнять. Был светлейший, да весь вышел. Двух месяцев не прошло — все имущество отобрали, на прожитие не оставили.
— Так ведь было что отбирать, кумушка-матушка. И в Лифляндии, и в Эстляндии, и на Украине, а нашим российским землям и счет потерян. Панкратий Елизарыч при описи состоял, сказывал, одних сел девяносто девять, городов целых четыре. Чего один Раненбург на Рязанщине стоит. А господа Плещеев и Мельгунов прямо при светлейшем опись личного имущества делали, так алмазы да каменья драгоценные стаканами мерили. И то едва за три недели управились.
— Да уж душеньку свою подлую холуйскую потешили. Новому императору угодить торопились.
— Какому императору — Долгоруковым! У тех руки судорогой свело — скорей бы себе прибрать, не упустить бы. Обычное дело, кумушка-матушка. Так повелось: каждый своего часу дожидается, как рыбак с удой. Клюнет, не клюнет, жизнь целую на часах, минута все решить может.
— А двадцать пятого февраля семьсот двадцать восьмого Долгоруковы положили коронации быть.
— И то сказать, не держал племянничек зла на Меншикова. На последний свой Новый год сам захотел деток меншиковских из злой ссылки ослобонить. Видать, добром помнил.
— Каких деток, Маврушка? Александра Данилыча в ноябре семьсот двадцать девятого не стало. Марьюшка-то всего месяцем отца пережила. Да и послал бы ему Бог веку, все едино не зажилась бы: больно по жениху своему первому, Сапеге, убивалась. Подумать только, шесть лет после обручения свадьбы ждали. Хороши бы под венцом были, ой хороши.
— Ничего не скажу, хороша была Марья, да только кого хвалить рядом с тобой можно. Одна ты у нас разъединственная, чисто солнышко красное светишь. Уж на что кругом старые грибы, а и то глаз от тебя отвести не могут. А по любовным делам, убей Бог, потери для Марьи Александровны не вижу. Сапега, конечно, Сапегой, вон их сколько, красавцев писаных, при дворе судьбы своей дожидается, а корона российская куда завиднее. Сравнения нет.
— Опять за свое, Мавра Егоровна. Говорила же…
— Не за свое, матушка цесаревна, за твое. О тебе пекусь, за тебя, голубушка, сердце кровью обливается. Да молчу уж, молчу.
…Надо же, покойный герцог привиделся. Под утро в опочивальню будто вошел. Огляделся да в постелю. Как есть, в ботфортах. Хлыст грязный на подушки кинул. По покрывалам следы. Огромные. Черные. Храп на весь дворец. За сердце взяло. Глаза приоткрыла — слава те, Господи, одна. А полог колыхается. Чуть-чуть. Вроде кто трогал. Вроде прошел. За окном то ли туман, то ли утро раннее. Спросонок не разберешь. Страшно. Отче наш, иже еси на небесах… Не поможет. Давно помогать перестало, тверди молитву, не тверди. Спину ломит. Ввечеру завалишься, за ночь не шелохнешься — боль бы не приступила. Кому пожалиться? Лейб-медикам веры нет. Почем знать, кому служат, с кем в сговор вошли. Коли хворь тяжкая, нипочем не помогут. С наследничками сговорятся. Вон около Лизаветы Лесток крутится. Будто и дохтур отменный, еще государыня тетенька сказывала, а глаза в глаза нипочем глядеть не будет. Ужом вьется. У такого возьми зелья, тотчас на том свете очутишься. Терпеть надо, покуда терпится. Изо всех сил терпеть. Анна Федоровна и та приглядываться стала. Говорить не говорит, а губы прикусывает: робу пораспустить надо, ваше величество, поправиться изволили. Поправиться! Скажи, пухнуть начала. Под глазами мешки до подбородка висят. Глаза будто в ямы провалились. Лучше в зеркало не глядеть.
Да что себя обманывать. Иоганн Эрнестович что ни день разговоры заводит. Пора бы, мол, принцессу с принцем Антоном повенчать. Венский двор, мол, недовольство выказывать начинает. Венский двор! За царевича Алексея Петровича, родственника своего прямого, не вступились, а тут за побродяжку Брауншвейгского забота одолела? Об ином герцог думает, чует сердце, об ином. Преставится царица, туда ей и дорога, лишь бы самому у трона остаться, власти не лишиться. Ну как не по духовной Анны Иоанновны выйдет? Куда ему тогда с Бенигной-уродиной да коробом деток путь держать, откуда деньги лопатой грести? Не соглашаться бы на духовную, все равно не соглашаться, да неужто Лизавете треклятой дорогу к престолу отворить? Неужто ей, отродью Петрову, все отдать?
Вон Иоганн Эрнестович, голубчик, как себя обезопасить надумал: цесаревну с братцем своим родным обвенчать. Царицы не станет — цесаревну на трон, а с ней всех Биронов скопом. При мне герцог не добьется, после меня своего достигнет. Сердце-то у него каменное — жалости отродясь не знавало. Вот и выходит, все лучше племянница. Все недругам радости меньше, а Лизавете меньше всех.
— Свершилось, ваше высочество.
— Ты о чем, Михайла Ларионыч?
— Императрица изволила назначить день бракосочетания наследницы. Второго июля обручение, третьего венчание. В Казанском соборе.
— Да что за спех такой? Сколько лет принц Антон в Санкт-Петербурге на чужих хлебах проедается. Зачем приехал, все уж позабыть успели. Ты-то что думаешь?
— Бирон, надо полагать, настоял, ваше высочество. Больно часто у императрицы припадки случаться стали — не иначе обеспокоился. Уверенность ему нужна, что правительницу к рукам крепко приберет.
— И по-твоему, Анна Иоанновна так и согласилась? Сама себе приговор смертный подписать решилась?
— Как сказать, ваше высочество, скорее оттяжку. Покуда Анна Леопольдовна понесет, покуда сына родит, да и родит ли, Бирон ее в покое не оставит.
— А побыстрее, значит, чтоб душу себе не рвать, племяннице ненавистной праздников не устраивать. Понятно, все понятно.
…Снова свадьба. Чужая. Горькая. Откуда силы взялись сдержаться. Себя не выдать. Да нет, выдала. Принцессу поздравлять стала, слезы рекой хлынули. Не сдержать. Ровно дверь в тронную залу перед тобой закрывалась. Сейчас стояла настежь, к тронному креслу ковер пунцовый, ничьей ногой не топтанный. И нет ничего! Как не бывало…
Уж на что Анна свет Иоанновна принцессы терпеть не может, а тут для всеобщего обозрения расстаралась. На молодых платья из серебряной парчи одинаковой. У невесты весь корсаж спереди бриллиантами залит — глазам больно. Волосы в четыре косы бриллиантовыми нитками перевиты да бриллиантами и осыпаны — куафёр себя превзошел. Анна, маленькая, худющая, из себя невидная, от такого блеска чуть не красавицей заделалась. А то, что говорит мало, слова подбирает, на вопрос толком ответить не умеет, ото всего в смятение приходит, оно и к лучшему вышло — таково-то все важно да по-царски.
Антона-Ульриха жалко. Беленький такой. Худенький. Заика. Разволнуется — слова не выговорит. А ничего, храбрый. Сказывали, будто в двух кампаниях под Минихом воевал, не трусил. Анны не любит. И то, чем только она ему не досаждала. Все наперекор. Все по-грубиянски. Откуда прыть бралась. Тетка прикрикнет — уймется. А там, часу не пройдет, снова за свое. Маврушка вызнала, что перед сговором тетке в ноги кинулась. Как последняя холопка, башмаки целовала. За подолом на коленях ползла. Чтоб за Антона не выдавали. Чтоб только не за принца. Ему в тот же час донесли. А какой у него выбор — из Санкт-Петербурга на родину ворочаться? Ни владений, ни почета. Здесь все готов сносить. Под венцом стоял, на нареченную не глянул. В пол утупился. «Да» свое еле выдавил. Принцесса и вовсе не отозвалась, слезы глотала.
Весь дворец ночью не спал. Глядели, как после стола не пошла в опочивальню. В сад направилась. До зари одна по аллеям гуляла. Из сочинений разных монологи вслух проговаривала. Ей, акромя книг про несчастную любовь, ничто не в радость. Вот и тут душу отводила. Линара-графа, ненаглядного своего, поди, вспоминала. Да что, вспоминай, не вспоминай — ничего не воротишь. Все едино: вторую ночь в опочивальне провела. С Антоном-Ульрихом. Куда денешься!
А вот через девять месяцев сынка принесет, тогда цесаревне деваться куда? Какого чуда ждать? Выходит, прав Михайла Ларионыч, с полками гвардейскими узелки завязывать надо. Осторожненько. И Мавре Егоровне про то знать ни к чему, а Воронцовы без слов поймут. Лишних персон здесь не нужно. И чтоб Алексей Григорьич не догадался. Помощи от него не жди, а страху не оберешься. Самой обходиться надо. Хочешь успеха, только самой…
— Неужто правда, Маврушка?
— Правда, кумушка-матушка, такая правда, что и толковать не о чем. Родила принцесса сыночка. Как по заказу. День в день. Вот горе-то, Господи, вот несчастье-то. Нет их роду проклятому перевода. Плодятся и множатся. Подождать, так еще нанесет Анна свет Леопольдовна.
— Постой, Мавра, уймись! Родила, значит, все-таки.
— Родила и с супругом ненавистным, кажись, помирилась. Дите по императрицыну приказу Иоанном нарекут. Иоанн Шестой Антонович. Императором сразу объявлять решили.
— Одно верно, у Анны с Антоном великий праздник.
— Может, и не такой великий, кумушка-матушка. Младенчика-то у них отобрали. Может, и во всем без них обойдутся.
— Как «отобрали»?
— А так. Императрица распорядилась во дворец его взять, под опеку герцогини Бенигны. Только ей, уродине, порфироносных младенцев и обихаживать. Не притравила бы ненароком. От нее, ведьмы, всего дождешься.
— Не притравит. Сама себе дороги к престолу не перекроет. А младенцу, значит, привыкать к Бирону с рождения придется — все равно герцог за него править будет.
— К кому положат, к тому и привыкнет. На то и дворец — сюда со своими законами никому не войти.
— Ладно, Маврушка, слезами горю не поможешь. А как здоровье императрицы-то? На ногах еще держится?
— Худо, цесаревна матушка, ой худо. На ногах еле держится: вся опухла. Девки сказывали, без стону шагу не ступит. Оно, конечно, все в руце Божьей, да ведь и долготерпению Господнему конец приходит. Всему свой срок.
…Духота какая. На сердце камень. Кому поверишь, с кем кручиной поделишься? Ничего бы не видеть, ничего не слышать. Алешка, друг нелицемерный, одно утешение — в постели знает. Мол, помрачение, дурман любовный найдет, ни до чего дела не станет. Оно сначала, может, и верно, да ведь без малого десять лет вместе. Не многовато ли для дурману-то? Вон уж и стихи складывать охота отпала. Какие стихи! В первый раз в душе оборвалось: Егора Столетова с товарищами из ссылки в Петербург привезли. Для нового дознания по старому делу. Еще дознались: покойница Екатерина Иоанновна с Балакиревым Иваном, было дело, сошлась. Кажись, чего прошлое ворошить, людей по новой на дыбу подымать, на виску вешать. А там летом 736-го указ императорский — Егору Столетову голову отрубить у Сытного рынка на Петербургской стороне, труп под расписку причту церкви Спаса Преображения отдать. Для похорон. И острастки. Чтоб другим неповадно. В кандалах и похоронили.
Егора жалко. А с Долгоруковыми страшно. И их по новой пытать стали. Чего только фаворит не нанес! И сослали-то их по цесаревнину доносу. А сам он, князь Иван Алексеевич, ее же, цесаревну, собирался в монастырь заключить за непотребство, что детей без венчанного мужа рожала. От Шубина. Мальчика да девочку. Ивана казнили, братьям, Николаю да Александру, урезали языки. Императрица с постели который день подняться не может, рукой не пошевелит, а сил набралась приговор подписать. Как бы до цесаревны не добралась. Воронцовы советовали на богомолье куда, аль в Москву, в Александрову слободу, поехать. От греха подальше. Поехать можно, а дальше?..
— Вот и кончилась императрица всероссийская Анна Иоанновна. Двух месяцев после рождения внучонка не протянула. Да и то сказать, конца ее все ждали. Людей от страху ослобонила, а нового нагнала. Что теперь нам-то делать, братец Михайла Ларионыч? Руки сложа, новых правителей дожидаться?
— Нет, Роман, сидеть да ждать куда как опасно. Была цесаревна помехой императрице, вдвойне опасной для правителей будет, гляди-ко, сколько их набежало. По завещанию, — верное ли оно аль подложное, не о том толк, — быть Бирону регентом до совершеннолетия императора Иоанна. Неужто могла так государыня распорядиться, чтобы титул королевского высочества только принцу Антону и регенту, а принцессе-матери ничего? О денежном содержании и толку нет: Бирону полмиллиона рублев в год, родителям императора обоим всего триста тысяч. Государыне же цесаревне и вовсе восемьдесят тысяч, всего вдвое против того, что при Анне Иоанновне получала.
— Ловко. Выходит, всех, кто с российским престолом по крови связан, побоку? Чтоб и рядом не толкались?
— Выходит. И то сообрази: Бирону все к руке подходить должны, заместо государыни императрицы. К нему одному. Такого позору русскому шляхетству никогда не бывало.
— Ты-то несмышленышем еще, Михайла, был, когда батюшка сказывал, как в семьсот пятнадцатом году герцога нынешнего едва из Петербурга не выслали — за дерзость, что осмелился в камер-юнкеры проситься к супруге цесаревича Алексея Петровича принцессе Софии-Шарлотте Вольфенбюттельской. И Алексей Петрович в немилости был, и на принцессу никто толком не глядел, а за дерзость великую посчитали.
— В дипломатии, братец, вчерашний день в расчет не идет. Важен нынешний, того важнее завтрашний, а завтра, глядишь, народ против Бирона в открытую пойдет. Сторонников он себе при дворе сыскал, а в армии ни в какую. Гвардия, как покойная императрица еще в болезни лежала, о цесаревне заговорила. И добрая-то она — каждому слово ласковое найдет, никаким нижним чином не погнушается. И щедрая — без гостинцев к солдатам не выйдет, деньгами непременно одарит. И веселая — с людьми и песню споет, и в хоровод пойдет, а там и чарку опрокинуть не погнушается. Солдатам лестно — иначе, как матушкой, теперь не зовут.
— Не рано ли?
— Может, и рано. Да как остановишь! На чужой роток не накинешь платок — сбросят.
— Слыхал, и старые знакомцы к цесаревне потянулись?
— А как же. Александр Бутурлин целую реляцию прислал. Вместе с супругой. Повергает себя к милостивым стопам государыни цесаревны. Мол, всегда, хоть и вдалеке, хоть и без отзыва, был рабом ее верным.
— Ишь ты, и супругу приплел.
— Для приличия. Добрым состоянием она князя не обделила, а ко двору, по старой памяти, ой как хочется.
— Да на насиженное местечко.
— Э, прожито — пролито, ничего не воротишь. Да Бог с ним, с Александром Борисовичем. Тут, вишь, и родня цесаревнина обеспокоилась. Не только к ней самой — к Алексею Григорьичу челобитные писать принялись. Чтобы в случае чего попомнил, цесаревне, опять же, подсказал, имением не обделил.
— Это кто же?
— Да хоть бы Гендриковы. И того в толк не возьмут, что письма цесаревнины все читаются. За домочадцами не углядишь. Теперь и вовсе Бирон доносчиками весь дом набьет. Каково это будет, когда такая цидулка до герцога дойдет.
— Упредить бы.
— Умный сам сообразит, от дурака такие разговоры пойдут, не приведи, не дай Господи.
— Так что ж тогда?
— Торопиться пора настала, Роман Ларионыч, нам торопиться.
…Шуваловы твердят, торопиться надо. Им бы не поверила: нетерпеливые. Власти не дождутся. Михайла Ларионыч куда расчетливей. Всегда семь раз отмерит, а тут тоже туда же. Время… Куда от памяти уйдешь? Анна Иоанновна, покойница, только к власти пришла. После коронации с поздравлениями от польского примаса Потоцкий приехал, от дядюшки своего. Две недели царица его продержала, покуда грамоты верительные вручить дозволила. А через три из нашего государства выслала. За то, что цесаревне представлялся, что с другими о ней как о наследнице престола толковал. Живописец Иван Никитин прознал. В Измайлове. В церкви Иосафа Царевича Индийского. Там еще брат Ивана, поп Родион, всенощную служил. Из соглядатаев кто-то подойти захотел, Родион пение прервал, будто споткнулся. Оглянулась — сразу все поняла. А Никитины в Сибири теперь гниют. Неведомо, живы ли. Господи, скольких бы вернуть, обласкать за невинное претерпение. Ведь и не успеть можно. Торопиться когда и хорошо, только теперь ли? У престола какая толпа собралась. Сгрудились. Может, пусть для начала сами меж собой разберутся? Внимания бы на себя не обратить. А советчики — не им за жизнь цесаревны отвечать. Где они все окажутся, неизвестно…
— Чего вы добиваетесь от своей супруги, принц?
— Мне надоело правление регента, Анна. Я отец императора и не желаю быть во власти этого недоучки, бывшего фаворита бывшей императрицы. Не желаю. И удивляюсь вашей безмерной снисходительности. Или безразличия. Вас не волнуют вопросы чести.
— Вы забываетесь, принц. На этой земле и в этой империи вы такой же пришелец и случайный человек, как герцог Курляндский, если его вообще можно так титуловать. Ваших отеческих владений здесь нет.
— Отлично. Но это владения моего сына.
— Владения, принадлежащие Иоанну только потому, что он мой сын. На вашем месте, ваше высочество, мог оказаться любой другой, мое же положение незаменимо.
— Вы, как всегда, препираетесь по мелочам, лишь бы ссориться.
— Царственное наследство вы считаете мелочами?
— Вы придираетесь к словам и не желаете слушать о том, что касается нас обоих.
— Нас обоих не будет касаться ничто. Мы разные особы и с разными правами. Если это положение до сих пор не узаконено, тем хуже. Но подобная ошибка, несомненно, будет исправлена.
— Кем же, позвольте полюбопытствовать, принцесса?
— Я не выдаю своих сторонников и не собираюсь рассуждать о них с вами. При вашей болтливости это было бы непростительной ошибкой.
— Теперь понимаю. Эту нелепую выспреннюю роль для вас написала ваша доверенная фрейлина и подруга сердца Юлия фон Менгден. Ведь вы способны говорить только с чужого голоса, а уж думать тем более.
— Не пытайтесь меня оскорбить, Антон-Ульрих. Это бесполезно. Сначала я займусь регентом, потом очередь дойдет до вас. Потрудитесь оставить меня одну: мне претит ваше общество.
— Делаю это с великим удовольствием, тем более что, может быть, вы обратите время и на то, чтобы привести себя в порядок. Хотя бы сменить этот вечный мятый капот на платье и сделать прическу, достойную родительницы императора, как вы не устаете говорить.
— Вон!
— Мой Бог, где же ваше воспитание, принцесса? Кстати, платок на вашей голове вряд ли придется по вкусу фельдмаршалу Миниху, который торопится к вашим дверям. Старик повидал на своем веку достаточно коронованных особ. Впрочем, вы к их числу не относитесь.
— Притворите, пожалуйста, дверь за его высочеством, фельдмаршал. Я рада вас видеть.
— Ваше высочество, старый слуга к вашим услугам. Но вы чем-то взволнованы? Не могу ли я быть вам полезен?
— Вы полезны мне всегда. Только на этот раз все дело в принце Антоне: он вывел меня из себя. Боже, как он невыносим со своими вечными претензиями и грубостями!
— Я не осмеливаюсь спросить, какие у принца вообще могут быть претензии.
— Его раздражает Бирон. Но Бирон раздражает и меня. Однако я молча сношу его деспотизм.
— А есть ли смысл в вашем долготерпении, ваше высочество? В вашей власти положить конец неудачному регентству, установление которого многим представляется весьма сомнительным.
— Что вы имеете в виду, Миних?
— Этот пункт завещания был вписан накануне кончины почившей в Бозе императрицы, когда она лежала в беспамятстве и приходила в себя, если вообще приходила, на слишком краткие мгновения. Отдавать себе отчет в происходящем ее императорское величество никак не могла.
— Мне говорила об этом фон Менгден, но что это может изменить? Ведь мы же признали завещание.
— На тот момент, ваше высочество. Но рассмотрев все обстоятельства, вы вправе в них усомниться и регентство отменить.
— Вы шутите, Миних?
— Как бы я посмел? Напротив — я предельно серьезен и проникнут ответственностью минуты. Вам, ваше величество, следует только со мной и моими гвардейцами проехать во дворец и произнести формулу ареста герцога — остальное сделают офицеры.
— И Бирон согласится с ними?
— Сомневаюсь. Но вооруженных гвардейцев будет много, а он один. К тому же в своей спальне, раздетый и безоружный.
— А если он все же схватится за оружие?
— Ваше высочество, вы обижаете старого солдата!
— И это обязательно, Миних?
— Что именно, ваше высочество?
— Мне ехать с вами.
— Но помилуйте, ваше высочество, это будет переворот в вашу пользу и переход власти в ваши руки. Кто же может вас заменить? Как может все это произойти без вас?
— Не знаю как. Но на меня, фельдмаршал, не рассчитывайте. Встретиться с Бироном один на один? Там еще будет эта омерзительная Бенигна с ее гнусавым голосом. Она начнет кричать на меня. Нет, ни за что! Берите, если хотите, принца. Ему эта роль как нельзя более подойдет.
— Но тогда это будет переворот в его пользу. Ваше высочество, я умоляю вас переменить ваше решение.
— Не просите, Миних. Это бесполезно. Я устала от разговора. Отложите дела на следующий раз.
— Но следующего раза может и не быть. Мы не знаем всех замыслов герцога, и особенно возможностей его союза с принцем.
— Союза с принцем? Союза Бирона с Антоном-Ульрихом? И вы серьезно думаете, что он возможен?
— Если только он уже не намечен, ваше высочество.
— Тогда придумайте что-нибудь, Миних! Скорее придумайте! Должен же быть какой-то выход? Без моего участия.
— Что ж, ваше высочество, в таком случае благоволите отпустить со мной вашу карету. Все будут думать, что в ней находитесь вы. То же самое гвардейцы скажут Бирону.
— Вот видите, Миних, как все превосходно устраивается. Надеюсь, эта поездка во дворец не займет у вас слишком много времени? Боже праведный, как я буду без вас волноваться.
— Клянусь честью офицера, ваше высочество, все будет выполнено по вашей мысли, осечка невозможна. Я возьму с собой восемьдесят солдат. Так будет надежней.
— О да, берите побольше и, пожалуйста, пока ничего не говорите принцу. Воображаю, как он удивится, не правда ли, Миних?
…Михайла Ларионыч прав, без Миниха где бы Анне Леопольдовне с Бироном справиться. А тут Бирон в заточении. Его сторонники тоже. Принцесса Анна — единовластная правительница. Принц Антон-Ульрих — генералиссимус, но все дела перешли к Миниху. Остерману и то чин генерал-адмирала на радостях достался, а Разумовскому — камер-юнкера. Надолго ли замирение такое? Анну кто-нибудь уговорит. Кто-нибудь передумать заставит… Вон и Линар уже в Петербурге — готовится в покои Бирона въехать. Фрейлина фон Менгден готова место Бенигны занять. Бирону четвертование ссылкой в Пельм заменено. Хотя нет, четвертование принцесса для Алексея Бестужева-Рюмина придумала. Регенту — просто казнь. У нее все так: замахнуться замахнется, а ударить побоится. Это все знают. На правительницу никто положиться не решится. И с супругом все счеты сводит. Может, сейчас и подходит та, воронцовская, минута?
Глава 3 Заговор
Франция. Париж. Дворец кардинала Флёри. Флёри и секретарь.
— Монсеньор, депеша из Петербурга.
— Подробности похорон?
— Нет, кончины императрицы Анны. Наш министр спешно сообщает некоторые ее обстоятельства, о которых не известился ранее.
— Начните с диагноза, Лепелетье. Кончина ее императорского величества была достаточно неожиданной, если не сказать скоропостижной.
— Шатарди настаивает на этом последнем определении: скоропостижная, при остающихся невыясненными обстоятельствах.
— Что ж, для нас не было секретом, что уход императрицы из жизни устраивал всех сколько-нибудь влиятельных лиц в ее окружении. Сменившие ее лица были одними из многих. Так редко случается, но ей не желали долгоденствия даже собственные министры.
— В связи с этим, монсеньор, маркиз подчеркивает: императрица последнее время чувствовала себя не хуже, чем обычно. Ее грузность, тяжелая походка, угрюмый нрав, слов нет, могли служить прикрытием самой серьезной болезни. Остается неясным, существовала ли в природе такая болезнь. Во всяком случае, пятого октября Анне стало дурно за обеденным столом.
— В присутствии приглашенных лиц?
— Нет, в обычном ее, если можно так сказать, семейном кругу: она и семейство Биронов с детьми. Но в тот день по какой-то причине не было и детей.
— Императрица скончалась сразу?
— О нет. Только шестнадцатого. Через одиннадцать дней.
— Паралич?
— Ничего подобного. Анна теряла сознание, но приходя в себя, свободно владела и рукой и речью.
— Тем не менее самочувствие ее было таково, что она позаботилась о завещании!
— В том-то и дело, что, по словам отлично осведомленного Михайлы Воронцова, Анна до конца сопротивлялась необходимости поставить на документе свою подпись.
— Вопрос регентства?
— Вот именно. Во дворце, как конфиденциально сообщил маркиз Воронцов, царило великое замешательство. Назначение регентом Бирона состоялось шестнадцатого, и на следующий день Анны не было в живых.
— Любопытна самонадеянность герцога Бирона. Он всем был обязан императрице и, кроме нее, не пользовался ничьей поддержкой. Как он рассчитывал удержать власть и, главное, положение едва ли не коронованной особы, и это при естественных амбициях русской многочисленной и очень состоятельной аристократии? Не мог же он так нелепо, по-детски просчитаться?
— Маркиз пишет, что расчет герцога основывался на своего рода коалиционном правительстве. Назначению его регентом способствовали фельдмаршал Миних, канцлер Черкасский, обер-шталмейстер князь Куракин, гофмаршал Шепелев, начальник Тайной канцелярии Андрей Ушаков, такой опытный дипломат, как Бестужев-Рюмин.
— Но подобное столь многочисленное и влиятельное сообщество не способно быть долговечным. Его члены непременно начнут интриговать друг против друга. Это же неосмотрительно со стороны Бирона.
— Скорее всего, монсеньор, Бирон надеялся в самом скором времени приобрести личную популярность.
— Популярность? У кого?
— Среди дворянства. И среди простого народа. Князю Алексею Черкасскому он вернул камергерский чин.
— Сомневаюсь, чтобы подобная милость из рук временщика без роду и племени удовлетворила тщеславие князя, обиженного императрицей при несомненном участии того же Бирона.
— Придворный поэт Тредьяковский получил некоторую сумму из конфискованного имения казненного Волынского.
— Но это же настоящая глупость! Какое значение в глазах дворянства может иметь автор заказных славословий, к тому же награждаемый из дворянского имущества? Я уверен, как раз у казненного Волынского достаточно и родных и друзей, которых подобная милость оскорбит своей бесцеремонностью.
— Монсеньор, Бирон сбавил подушный оклад, объявил амнистию и объявил манифест о строгом соблюдении законов.
— То есть не сделал ничего. Заявлять о соблюдении законов значит их полностью игнорировать. Но подождите, что это за строчки о цене тканей на платья и запрещении роскоши при дворе? Вы мне об этом не доложили.
— Это сущие пустяки, монсеньор. Бирону пришло в голову ограничить безумные траты придворных на выезды и туалеты, и потому он потребовал, чтобы ткань на платьях стоила не дороже четырех рублей за аршин, иначе сказать, не было бы парчи, атласов, шелка.
— Бог мой! Комментарии здесь излишни. Как скоро последовало падение этого регента?
— Спустя двадцать дней, восьмого ноября.
— Логично и поучительно. Бирон, не касаясь старых его деяний, сделал все, чтобы быть немедленно свергнутым. Русские проявили редкий темперамент.
* * *
…Мой дворец. Мой. Ее королевского высочества правительницы Российской империи. Королевское высочество — не сумела тетка титула отнять, а радости нет. Какая радость? Откуда ей взяться? Кабы делать что хочешь, видеть кого хочешь, запереться на семь запоров от немилого света. Принц Антон-Ульрих постылый. Дети… Любить не любит, а дело свое знает. Куда деваться? Где защиты искать? Кабы без него, кабы с Линаром… Одной Менгден открыться можно. Юлия не выдаст. Вместе поплачет, вместе роман прочтет. Да где же это она? По дворцовым залам шаром кати — ни души. Не прибрано. Не метено. Пыль кругом. Окна не развешены. Никому дела нет. Разве к вечеру порядок наведут. Линару не нравится, а что правительница может? Слуги сами должны свой долг помнить. Придворные чины тоже…
— Куда же вы запропастились, Юлия? Вас теперь всегда приходится ждать. Это становится невыносимым!
— Ваше королевское высочество, я нехотя вас прогневила? Боже мой, но вы не назначили мне часа.
— Какая разница, назначала — не назначала. Вам лучше знать, как мне скучно, а вас нет.
— Но, ваше королевское высочество…
— Никаких «но». Мы давно могли бы сесть за карточный стол, а вместо игры я вынуждена выслушивать этих надоедливых стариков.
— Карты с утра… Кто же эти докучавшие вам посетители?
— И где Линар? Мне необходим его совет. Господь Вседержитель, неужели надо было столько пережить с арестом Бирона, стать правительницей империи, чтобы ни в чем не принадлежать самой себе?
— Граф Линар, ваше королевское высочество!
— Вы не в духе, ваше королевское высочество? Вас кто-то сильно раздосадовал?
— Ее королевское высочество возмущалась надоедливыми стариками.
— Да, да, вообразите, граф! Вчера это был Остерман. Он, видите ли, недоволен, что отстранен от внешних дел государства, в которых будто бы фельдмаршал Миних ничего не смыслит. Сегодня это Головкин, который лишился в пользу Миниха управления внутренними делами. И к тому же целыми днями брюзжит принц Антон. Ему кажется, что чин генералиссимуса он получил от Миниха или что-то в этом роде. У меня совсем кругом идет голова. Знаю только, что обещала все эти права Миниху и должна сдержать слово, не правда ли?
— О, конечно. Слово правительницы должно быть свято, но…
— Вот видите, а они продолжают настаивать. Положительно, Линар, надо поспешить с вашим переездом во дворец, чтобы все дела просто перешли в ваши руки.
— Я попытался изъяснить некоторые особые обстоятельства…
— Никаких особых обстоятельств, Линар! Юлия, пойдите распорядитесь картами и откажите всем, кто дожидается, в приеме. Я не склонна сегодня заниматься делами. Да идите же!
— Ваше королевское высочество…
— Нет, Линар, нет! Мы одни. Не надо никакого высочества — просто Анна. Ваша Анна. Наша разлука стоит мне слишком дорого.
— Но, ваше королевское высочество, осмелюсь напомнить, рядом с вами ваш супруг и соправитель. Что же касается меня, то, как подданный другого короля, состоящий к тому же на государственной службе, я не вправе заниматься делами вашей державы. Это ставит меня по меньшей мере в двусмысленное положение.
— Значит, следует что-то сделать. Придумайте, что необходимо. И прошу вас, не будем тратить столь дорогих минут: Юлия может вернуться с минуты на минуту.
Франция. Версаль. Людовик XV, кардинал Флёри.
— И на этот раз цесаревна Елизавета оказалась за бортом судьбы. Досадно. И за наших дипломатов, и за очаровательную женщину, которую лишь голый расчет не сделал повелительницей в Версале.
— Да, сир, розыгрыш состоялся без ее участия. А после свержения власти герцога Бирона правительницей себя объявила принцесса Анна Мекленбургская.
— Я решительно ничего не знаю о ней и не помню ваших докладов. По всей вероятности, она сумела обмануть нашего министра и остаться вне поля его зрения.
— О сир, простите за такое поэтическое сравнение, но принцесса всегда представлялась сорванным листком, послушным любому ветру. У нее действительно нет характера.
— И своей партии, хотите вы сказать. Тем удивительней ее победа.
— Одержанная старым фельдмаршалом Минихом.
— В спальне регента. Кстати, как решилась судьба Бирона?
— Как ни странно, довольно благополучно. Специальный суд приговорил его через пять месяцев после переворота к смертной казни, а Алексея Бестужева-Рюмина даже к четвертованию.
— Им обоим повезло: после стольких месяцев утихают любые страсти и сглаживаются обиды.
— Просто, сир, приходят новые и не менее чувствительные. Для регента все обернулось ссылкой на далекий Север, для Бестужева-Рюмина — в отцовскую деревню. Его собственное имущество подверглось конфискации.
— Все довольны, и наступило всеобщее спокойствие.
— Думается, это не совсем так, сир. Присылка саксонским курфюрстом в качестве своего посла графа Линара рассчитана на то, чтобы расстроить семейную жизнь правительницы. Она действительно отдалась старому чувству и совершает один неосмотрительный поступок за другим, как будто рядом нет ее супруга.
— Поразительно! Принц может быть безразличен принцессе, но существуют еще и определенные нормы поведения.
— О которых эта дурно воспитанная женщина не хочет знать.
* * *
…Граф будто ждет возвращения Юлии. Не может быть. Но он старается не оставаться наедине, уверяя, что печется о достоинстве правительницы. Моем достоинстве! Но ведь для того и существует самодержавная власть, чтобы все делать по своей воле. А принц! Боже праведный, не случайно он был мне неприятен со дня приезда в Петербург. Прошедшие годы только утвердили меня в моей неприязни. Впрочем, надо отдать ему справедливость — он не искал моего расположения, но и ничем не скомпрометировал себя. Решительно ничем. Иногда кажется, он жил монахом, чтобы потом обрушить на меня свою страсть, которую бы легко удовлетворила любая девка…
— Хотите ли вы переезда во дворец, Линар? Хотите ли так, как я? Мне кажется, вы совсем не тот, что были семь лет назад. Я жду откровенного ответа, и никакой другой мне не нужен.
— Мое уважение к вам, ваше королевское высочество, и восхищение перед вами остались неизменными. Но теперь, благодарение Богу, вы стали у кормила правления целой державы, и было бы нелепо не понимать разницу между юной прекрасной девушкой и мудрой государыней, матерью все растущего семейства.
— Ваше королевское высочество, ради Бога, извините меня. К вам граф Миних, и я не сумела его удержать. Кажется, он очень раздосадован и разгневан.
— Нет, Юлия, нет, я не хочу его видеть!
— Ваше королевское высочество, разрешите мне вставить единственное слово: вы не можете отказать столь почтенному и доверенному человеку.
— Но тогда вы и говорите с ним, Линар! От моего имени. А чтоб вы не ссылались на то, что не имеете отношения к русскому двору и его делам, жалую вас чином обер-камергера. Сейчас же! Юлия, распорядитесь, чтоб указ был составлен немедленно. Я подпишу его еще до обеда. Так будет лучше для нас всех. А пока, граф, вы будете присутствовать при аудиенции фельдмаршала.
— Но это неудобно, ваше королевское высочество.
— Достаточно, что я так хочу.
…На кого положиться? Кому довериться? У правительницы были Миних, Манштейн да восемьдесят гвардейцев. Восемьдесят. А тут и пяти не сыскать. Какое там, ли одного нет! Шуваловых да Михаилу Воронцова в мундиры не оденешь. Роман Воронцов — ин и Бог с ним. Ему и говорить не надо. Разве Маврушку мужиком обрядить? Опять же одной кареты во дворец ехать мало. Если у Романа вторую взять, на козлы кто сядет? Своего человека нужно. А где он, свой-то? Алексей Григорьевич — его разве в карету для пущей важности посадить? На козлах с перепугу с лошадьми нипочем не справится.
Как Бирона скинули, никому верить не стала. Ведь с каждым мог столкнуться, каждого подкупить. Вот разве Салтыков Василий Федорович — ему поверить. На него никто не подумает — из прямой императрицы Анны Иоанновны родни, а правительницей обижен. Крепко обижен. Сам сказывал — за язык не тянула, — что цесаревну на престоле видеть был бы рад. Для красного словца ляпнул? Да нет, стар выдумывать-то. Седьмой десяток не вчера разменял. Детей два короба — всех не перечтешь. Может, захочет? Самой если потолковать, на особности. О братцах двоюродных толковать не приходится. Все по углам сидят, опасятся. Такие и предать первые, Бог с ними.
И Лесток, конечно. Он после Михайлы Воронцова самый первый. Сколько уж лет при дворе. Никак, с Прутского похода. После него в Петербург приехал. Дворянин, а лекарем стал. Все имение родители порастеряли, сам зарабатывать начал. С государем-батюшкой сошелся. Нужным человеком при нем заделался, да из-за девки все прахом пошло. Лет пять в Казани просидел. Матушка государыня в Петербург вернула. Он при цесаревне младшей сразу завертелся. Из-за планов французских, надо полагать. Сказывали, двору французскому он служит. Посол не посол, а так — соглядатай да советчик. Переговорам брачным способствовать хотел. Не вышло, так и при императрице Анне Иоанновне от цесаревны не отшатнулся. Ныне и вовсе мухой осенней вьется, только и слышишь: дочери Петра власть брать надобно. Хуже Мавры. Да, Лесток, непременно. Сводить всех вместе не след — неведомо, до чего договорятся, а с каждым конфиденцию иметь, может, и настало время. Может…
— Вы меня убиваете, Линар. Опять эти несносные государственные дела. Опять разговор с этим надоедливым Минихом.
— Но если вы разумно этот разговор поведете, ваше королевское высочество, он легко может стать последним. Кроме вас одной, никто не положит конец претензиям фельдмаршала.
— Какие претензии, граф? Какие претензии могут быть у подданного к монархине? В самом деле, чтобы старик мне не докучал, я велела ему сноситься не со мной — только с принцем Антоном. Должен же и Антон-Ульрих чем-то заниматься!
— Вы вполне благоразумно передали дела внешнеполитические Остерману, ваше королевское высочество. Граф опытен, обладает обширнейшими связями. Но главное — вы тем самым перевели его из стана врагов в лагерь друзей. Поверьте, это очень ценное приобретение.
— Значит, тем более можно перестать говорить на эти скучные темы! Мы собирались с вами почитать на голоса ту великолепную трагедию, зачем медлить?
— Осмелюсь напомнить, ваше королевское высочество, фельдмаршал Миних дожидается вашей аудиенции с самого утра, и вы сами назначили ему это время.
— О Боже, какое наказание! Зовите его, раз нет другого выхода.
— Ваше королевское высочество, я так счастлив возможности лицезреть мою повелительницу…
— Здравствуйте, фельдмаршал. Вам, я слышала, пришлось ждать аудиенции, но мы были заняты государственными делами. У нас и так крайне мало времени для разговора с вами.
— Но почему же вы отстраняете меня от этих дел, ваше королевское высочество? Чем старый вояка мог заслужить ваше неудовольствие?
— Неудовольствие? Полноте, Миних. Вы можете быть уверены в неизменном нашем благоволении.
— Но за несколько недель моего нездоровья вы передали все внутригосударственные дела князю Черкасскому и графу Головкину.
— Ах, это. Я просто хотела освободить вас от лишних забот, милый Миних, ничего более.
— Если мне будет позволено вставить слово…
— Говорите, Линар.
— Я хотел бы напомнить фельдмаршалу, что ему поручено заведовать всей сухопутной армией, артиллерией и фортификацией.
— И кадетским корпусом, Линар.
— И кадетским корпусом, и Ладожским каналом.
— Вы смеетесь над старым солдатом, ваше королевское высочество. Моя компетенция до вашего счастливого и благословенного прихода к власти была значительно шире. Стать обыкновенным администратором с кучей мелких обязанностей и безо всяких возможностей! Мне остается сделать вывод, что я просто перестал вам быть нужен. Мое присутствие кому-то мешает, а мои обязанности соблазняют. Я чувствую за плечами дыхание своего преемника.
— Вы забываетесь, фельдмаршал! Так разговаривать с ее королевским высочеством правительницей России просто недопустимо.
— Вот именно, граф, фельдмаршал забывается!
— Государыня, после всего мною сделанного я имею право слышать ваш голос, а не подсказки появившихся после вашего прихода к правлению креатур.
— Если мне не следует слышать доводов господина Миниха, я немедленно и охотно удаляюсь. Тем более что я не в состоянии равнодушно слышать тона, которым подданный осмеливается говорить со своей монархиней.
— Граф Линар, я приказываю вам остаться! А вы, вы должны немедленно объясниться, Миних!
— Полагаю, единственным объяснением может служить моя просьба об отставке. Полной и безоговорочной.
— Насколько мне известно мнение ее королевского высочества, вы получите отставку, господин Миних.
— Что? Я получу отставку по очередной подсказке заезжего иноземца? Ваше королевское высочество, я не верю себе!
— Господин фельдмаршал, я оставляю вас с графом. Вы без меня решите этот вопрос.
— Без вас, ваше высочество?
— Мне не о чем говорить с вами. Граф Миних, я предоставляю вам право отдохнуть от всех трудов. Считайте это полной отставкой, я более не задерживаю вас, фельдмаршал.
Франция. Париж. Дворец кардинала Флёри. Кардинал и секретарь.
— Я недоволен последними депешами маркиза Шатарди: они настолько сумбурны, что разобраться в происходящем в России становится просто невозможным. Укажите ему на это, Лепелетье. Я требую предельной ясности в изложении и не меньшей ясности в мыслях.
— Боюсь, монсеньор, это вина не столько маркиза, сколько русских событий. Они действительно развиваются стремительно, и, судя по сегодняшней депеше, можно ждать очередного переворота.
— Вы хотите сказать, принцесса Мекленбургская плохо справляется со своими подданными? Это для меня очевидно. Она бесхарактерна, боязлива, но, подобно ребенку, цепко держится за свои удовольствия, чаще всего во вред себе самой.
— Вот именно, монсеньор. Отправив в неожиданную отставку Миниха, правительница лишилась единственной реальной своей опоры.
— Она просто забыла, что облагодетельствованные ею Остерман, Черкасский и Головкин стояли у кормила правления страной при ее тетке и никогда не придавали никакого значения принцессе. Каждому из них легко справиться с правительницей.
— Да, эту дату в истории России можно отметить: третье марта семьсот сорок первого года — день отставки Миниха и прихода к власти троицы. Между тем семейная жизнь правительницы совершенно разладилась. Она всем сердцем привязана к фрейлине Менгден, к влиянию которой необузданно ревнует жену принц Антон. И она спит и видит рядом с собой графа Линара, тем более ненавистного принцу Антону.
— Чем может грозить подобный скандал?
— Надо отдать справедливость австрийскому двору, они не спускают глаз с Линара. Сейчас они подсказали вариант, при котором будет внесен разлад в дела троицы. Остерман якобы становится на сторону принца, что, естественно, вызывает переход Головкина на сторону правительницы. Уже было несколько случаев, когда, по словам Шатарди, принцесса Анна поручала важные дела Головкину, минуя и Остермана и супруга. Тем самым острота супружеских разногласий уходит на задний план.
— Неплохой ход. Как ведет себя в этой обстановке Елизавета?
— Лестоку удалось ее настроить против Остермана, и будто бы цесаревна сказала, что Остермана пора поставить на место.
— Все дело в том, умеет ли цесаревна претворять свои пылкие эмоции в столь же решительные дела. Думаю, Лестоку следует подсказать необходимость большей активности, поддержанную внушительной суммой денег. Его пора побудить к решительным действиям.
— Красота-то какая, кумушка-матушка, это посольство персидское! Чисто сон наяву али сказка чудесная. Слоны-то, слонищи преогромные по улице идут, домов не видать! Хоботом к крыше потянется, того гляди трубу своротит. И погонщики все нарядные — халаты шелковые, на оружии рубины да бирюза.
— Уймись, Маврушка, не до твоих глупостей. Лучше ты, Михайла Ларионыч, растолкуй, что за посольство и к чему оно.
— Полагаю, ваше высочество, целей тут несколько.
— Даже несколько? И какие же тебе на ум пришли?
— Прежде всего силу да богатство шаха Тамас-Кули-хана показать. Он посольство после своих побед в Индии к нам направил. Чтобы престол русский на державу его уважительнее глядеть начал.
— Да разве батюшка государь Петр Алексеевич с ними не считался? Не припомню, кто сказывал, сколько к походу Персидскому готовились. Государь с собой матушку брать изволил.
— Нет, ваше высочество, Тамас-Кули-хан прочного союза ищет.
— С кем союз-то? С курляндцами нашими да с их царицей?
— Вот как раз потому, что правление их недолгим считает, ему иной союз нужен.
— Ты что мне, Михайла Ларионыч, одни загадки загадываешь? Что у тебя там — прямо говори.
— Судите сами, ваше высочество. Шах хотел, чтоб посольство его из шестнадцати тысяч воинов было, да еще с двадцатью пушками.
— Это что же, на штурм какой собрался, или как?
— Нет, Мавра Егоровна, по моему разумению, женихом завидным показаться решил. С такой силой не воевать — мириться сподручней, да и невесте лестней.
— Невесту? У нас? Кумушка-матушка, вот они, сказки-то, где!
— А никаких сказок, Мавра Егоровна. В каком виде посол в Петербург въехал?
— Сама видала. Посол на коне, за ним солдат видимо-невидимо.
— Три тысячи, Мавра Егоровна, целых три.
— А хоть и три — самой не счесть. Зато слонов сочла: четырнадцать. Это где ж такое видано!
— Так вот, ваше высочество, девять самых больших слонов в подарок императору Иоанну Антоновичу.
— Только ему, в младенческие его лета, слонам дивиться!
— Пусть император по малолетству не поймет, и не надо. А те, кто за него правит, сразу разберутся. По одному слону правительнице, принцу Антону, Остерману, Левенвольде и цесаревне. Всем слонов прямо по дворам развели, а цесаревне посол непременно пожелал сам слоном поклониться, подарки особые передать. Не дал ему Остерман. Посол слона-то оставил — куда с ним на обратном пути в Персию деваться. А подарки с собой забрал, никому не объявил. Выходит, были те подарки для особого случаю, до которого дело не дошло.
— Думаешь, Михайла Ларионыч, шахиней меня персиане заделать решили?
— А что за чудо, ваше высочество? Держава у персов огромная. С Россией породниться в самый бы раз — путь себе в Европу проложить. Там и торговля бойчее пойдет.
— Нет, Михайла Ларионыч, не выходит по твоему расчету. Коли ты прав, правительнице с Головкиным в самый бы раз меня за персидского женишка просватать, подальше от престола наследственного отослать. Ан и разговоров таких нету.
— Отошлет, ваше величество, в любую даль, только прав ваших наследственных на престол не изменит. Что, если их супруг могущественный с армией несметной поддержит, каково тогда правительнице придется?
— Ты уж, кумушка-матушка, разреши и мне словечко молвить. Не все Мавре молчать да дурой представляться. А что, если посол персидский хотел цесаревне нашей поддержку обещать, помочь при случае силою?
— Ну, Мавра Егоровна, дипломат ты у нас, ничего не скажешь. А впрочем, чем черт не шутит, как полагаешь, Михайла Ларионыч?
Зима рано встала. В сентябре все Царское Село снегом завалило. Приметы что — Бог с ними, с приметами. Снег скоро сошел — морозы грянули. По сухому пути. Вьюжит над черной землей. В печных трубах воет. Кормилица твердит — к скорой перемене. К какой только? Разные перемены бывают. При Бироне не в пример покойней жизнь шла. Знала, твердо знала: в последнюю обиду не даст. До монастыря не допустит. А Анна свет Леопольдовна — кто, прости Господи, за такую поручится! Семь пятниц на неделе: то Головкин сказал, то Остерман присоветовал, то с принцем-регентом повздорила — все ему наперекор делать начнет. Решить ничего толком не может. За что ни возьмется, все вроде лихоманки обманной: потрясет и бросит, и жару нету, и озноб колотит.
Опять в трубе завыло. За окнами зги не видать. А разговоры разные пошли. Будто гвардию из Петербурга выводить будут. Ой не к добру. До лагерей летних целая зима впереди. Да и офицеры бы наперед знали. Только во дворце разговоры ходят. Посланник Петцольд от графа Линара узнал, Михайле Ларионычу ненароком пересказал. Линар — чистая сорока бессмысленная: трещит, трещит, рад-радешенек, что ко двору правительницы сызнова пришелся, что, того гляди, и вовсе во дворце угнездится.
Анна-то ему не нужна — за версту видать. Минуты лишней с правительницей не задержится, предлоги, чтобы высвободиться поскорее, придумывает. Известное дело, с ней попробуй не заскучай! Зато Линар к Юлии фон Менгден присматриваться стал. Это тебе не Бенигна Бирон. Тут, того и гляди, амуры начнутся. Правительницу вдвоем как есть обведут, оглянуться не успеет, как под их дудку запляшет. И так правительница каждому из своих любимцев угодить торопится, а коли эта парочка вдвоем за дело возьмутся, порастрясут Аннины денежки, да и казну государственную кстати. Ой-ой как растрясут!
На бал ехать надобно. Охоты нет — на душе муторно. От соглядатаев устала. Все досмотреть хотят: кому улыбнулась, с кем в танце прошлась, с кем о чем толк вела. Племянница Анненка не верит ни слову. Остерман и подавно. Принц набычился, ровно и он персона какая важная. Через губу не переплюнет, иной раз и поклона не отдаст. Только цыплят по осени считают: кому верх брать, кому власть держать — вам ли или цесаревне всероссийской…
— Что ты насчет дворов иностранных полагаешь, Михайла Ларионыч? Станет ли кто за правительницу заступаться? Вмешается ли? Император Римский Карл Шестой долго жить приказал, стало быть, в Вене перемен не миновать. Может, от Брауншвейгской династии отступятся?
— Интерес-то интересом, да сил уже поубавилось, ваше высочество. Мария-Терезия после батюшки своего едва престол заняла, а уж Силезии лишилась: король Прусский враз отобрал.
— Не иначе Мария-Терезия русской помощи ожидала — как-никак прямые родственнички у власти.
— Ждала, да о Минихе не подумала. Фельдмаршал на союзе с прусским королем всегда насмерть стоял.
— Подумать только, правительница вдвоем с принцем Антоном со стариком не справилась: настоял на своем.
— Оно так, ваше высочество, но монаршья чета дружбы с двором Венским все равно не прекратила.
— То-то и оно, ни два ни полтора вышло. Да еще, сам же сказывал, Швеция на войну идет. При слабых правителях как рук загребущих не погреть. Оглянуться не успеем, как Выборг захватят. Вот и выходит, остается для наших планов одна Франция.
— Разве мало, ваше высочество? К тому же Лесток все гарантии правительства французского дает.
— И ты ему веришь, Воронцов?
— Ваше высочество, знаю, как не любит Алексей Григорьевич лейб-медика. Но мне приходится высказывать мнение, отличное от его мнения. Я не могу уверять вас в безусловной преданности Лестока — такого поручительства нельзя дать ни за кого, — но в нынешнем раскладе обстоятельств ему выгодно быть на вашей Стороне. Как, впрочем, и французскому королю.
— А я верю простому здравому смыслу Разумовского. Может, в тонкостях каких Алексей Григорьевич и неискусен, да сразу, где правда, поймет. Друг мой нелицемерный всегда моей выгоде служит.
— Вы сомневаетесь в моей преданности, ваше высочество?
— Что ты, что ты, Михайла Ларионыч! Как тебе такое на ум пришло? Поопаситься надо — ведь не угадаешь, нам всем голов не сносить. Мне первой.
…Неужто все наконец разрешится? Юлия так добра, что решилась посвятить свою жизнь моему счастью. Она долго колебалась, заставляя замирать мое сердце, пока согласилась стать супругой Линара. Боже милостивый, и я должна радоваться обстоятельству, что супругой любимого человека станет другая женщина. Юлия уверила меня, что брак их может быть условным. Но Линар отверг наш план. Он утверждает, что подобная тайна легко откроется во дворце, где все на виду и на слуху, и вызовет слишком серьезные осложнения. Для него очевидно, что супружеская его жизнь должна протекать как положено. Воображаю, как это нелегко, когда ничего не чувствуешь к супругу и просто приговорен к супружескому ложу. Но я уже погибаю от ревности и стыда перед Юлией, которая не узнает настоящего счастья в жизни. Линар считает, что главное препятствие будет представлять принц Антон, что он непременно выставит свои резоны и не захочет видеть Линара с супругой во дворце, а я, целыми днями думая о нашем будущем, просто не вспоминаю об этой ничтожной креатуре. Правда, он так упрямо домогается своих супружеских прав, и я снова жду ребенка. Ребенка от него! И переезд Линара во дворец ничего не сможет изменить. Но неужели же мы не придумаем выхода или нам не придет на помощь случай? Не может моя звезда быть такой несчастливой. Пусть пока Линар едет к своему королю получить апшид для вступления на российскую службу. Его отсутствие продлится всего несколько недель, а Юлия за это время подготовит все к их свадьбе. К их свадьбе…
— Кумушка-матушка, на тебе лица нет — случилось что?
— Воронцова зови, Мавра, Воронцова ко мне!
— Господи, да что случилось-то?
— Зови, сказала! Толковать потом будем.
— Гляди-ка, кумушка-матушка, никак Михайла Ларионыч к крыльцу подъехал. Все по желанию твоему деется. Пойду его потороплю… Идешь, что ли, Ларионыч, поспеши, голубчик. Цесаревна с бала вернулась, в лице ни кровинки. Тебя кликнуть велела. Анна Карловна с ней. Отхаживает матушку нашу.
— Михайла Ларионыч, наконец-то! Ты, Аннушка, и ты, Мавра, останьтесь, дверь накрепко заприте.
— Алексея Григорьевича не позвать ли?
— Десять раз, Мавра, повторять не буду. Хватит нас тут, боле никого не надобно. Так вот, вспомни, Михайла Ларионыч, какие были распоряжения по наследству, как правительница родила дочь?
— Коли с Иоанном Антоновичем что учинится, передать престол одной из дочерей.
— Верно. Только министры с тем не согласились, пожелали правительницу императрицей провозгласить.
— Быть не может, кумушка-матушка!
— Боже мой, Лизанька, сестрица!
— Верная ли весть, ваше высочество?
— Вернее некуда. На балу мне знающий человек сказал, быть тому на день рождения правительницы — седьмого декабря.
— Уже через две недели, спаси и сохрани нас, Господи! Времени-то осталось всего ничего!
— Нет, Мавра Егоровна, и того времени нету. Правительница со мной прямо на балу пожелала конфиденцию иметь. Письмо мне прочла. Будто бы из Бреславля. Против моих козней, вишь ты, ее упреждают и советуют Лестока, как сторонника моего и смутьяна, немедля арестовать и дознанию подвергнуть.
— О, мой Боже, так далеко все зашло, Лизанька?
— То-то и оно, слишком далеко, Аннушка. Правительница у меня вроде извинения просила, что Лестока арестовывать будет, а за компенсацию Алексею Григорьевичу Разумовскому чин камер-юнкера пожаловала.
— Откупилась, стало быть, кумушка-матушка.
— Суди, Мавра Егоровна, как хочешь. Только никакой чин ни аресту, ни ссылке не помеха. Сегодня даст, завтра осудит.
— Ваше высочество, новости, с которыми я спешил, боюсь, также вас не обрадуют. Шведский генерал Левенгаупт объявил, что со своей армией в пределы России вступает. Требует удовлетворения за обиды, нанесенные шведской короне.
— Да нам-то что, Михайла Ларионыч? Все-то ты со своими дипломатиями, моченьки нет.
— Погоди, Мавра. Правительство, говоришь, об этом знает?
— Всенепременно, ваше высочество. В казармах замешательство: офицеры на ногах, каптенармусы фуры загружают. Завтра в поход к Выборгу четыре тысячи гвардейцев выступить должны. Приказ есть. В Санкт-Петербурге гвардии не останется.
— Вот оно что, почему правительница решила Лестока арестовывать. Мне об обиде и клич кликнуть некому будет. Никто не отзовется. Выходит, нынешняя ночь последняя. Завтра поздно будет. Пока гвардия воевать станет, Остерман с цесаревной покончит. Тут уж все они скопом навалятся, свое черное дело сделают.
— Нет уж, государыня ты наша матушка, правительницу арестовывать пора и ни о чем не думать! В ночь ее и брать!
— Никак, дверь скрипнула, Аннушка?
— Алексей Григорьевич пожаловал, Лизанька.
— Мир честной компании.
— Спасибо на добром слове, господин камер-юнкер. Мы-то полагали, отдыхать вы изволите.
— Соснул маленько, это правда. А что за титул такой вы, Мавра Егоровна, присвоили? Никак, шутить собрались?
— И не подумала. Сама правительница тебя новым чином пожаловала. О старом теперь забыть надо.
— Неужто правда, государыня цесаревна? Вот праздник так праздник! За милость великую как и благодарить не знаю.
— А чего тут знать, Алексей Григорьич? Чином твоим правительница позолотить мне пилюлю вздумала, что Лестока арестовывать будет. Теперь понял?
— Да Бог с ним, с Лестоком. Всегда говорил: он смутьянством своим беды себе наживет. Коли ты медик, так больными и занимайся — в дела здоровых не суйся. Что ему спокойно-то не сиделось?
— А тебе сидится, Алексей Григорьич?
— Почему же нет, цесаревна матушка? Житье у нас тихое, вольготное. Не то что при Бироне, не к ночи будет помянут, нечистая сила.
— Вольготное, говоришь. Только не тебе это говорить, не мне, цесаревне российской, слушать. Больно мою судьбу дешево ценишь.
— Господи, да лишь бы ты, цесаревна матушка, жива да здорова была, улыбаться не переставала. О чем еще Бога просить?
— О короне отеческой, Алексей Григорьич. Полночь подойдет, мы за ней и поедем — правительницу под арест сажать, себя самодержицей империи отцовской и дедовской объявлять.
— О Господи! Страсть-то какая! А коли не арестуете, вас под стражу возьмут — тогда что?
— «Вас», Алексей Григорьич? А с тобой как же? Не поедешь, что ли, с нами?
— Нет, матушка Лизавета Петровна, уволь! Уволь, Христа ради! Я на такие дела не гожусь и тебя Христом Богом заклинаю: не езди. Откажись от соблазна проклятого, не езди. Кто у тебя есть, чтобы на скипетр державный замахиваться? Людей откуда возьмешь? Нету их у тебя, матушка, нету. Отступись ты от дела неправедного. Не выбрало тебя шляхетство, значит, так тому и быть. Не из-за Лестока же жизнь на карту ставить. Ну, помечталось, ну, приснилось, да и минулось. Вон, никак, кормилица идет, ты у нее спроси, коли мне верить не хочешь. Кормилица! Кормилица!
— Замолчи, Алексей Григорьевич!
— Как это «замолчи», когда жизнь твоя, государыня ты наша, решается? Кормилица, слышишь, что ли?
— Слышу, сударик, как не слышать. Чего тебе?
— Замолчи, Алексей Григорьевич, кому сказала?
— Нет уж, цесаревна, молчать не буду! Скажи, кормилица, вот Елизавета Петровна наша собралась ехать у правительницы власть отбирать, можно ли на такое пойти? Головы своей не жалеть?
— Никак, сударик, ты боле о своей победной головушке печешься? Страх тебя облетел. А цесаревна на то и царская дочь, чтобы разуму поболе твоего иметь. Ей виднее. Наше дело холопское — во всем ей, матушке нашей, помогать да рот на замке держать. Правильно тебя цесаревна окликала: с чего это язык не ко времени распустил, с чего с кормилицей совет держать решился? Ты, государыня, никого не слушай! Как решишь, так тому и быть. Известно, семь бед — один ответ. Чем в страхе всю жизнь дрожать, лучше раз, да по-царски поступить. Так-то, сударик. А коням в таком разе овса задать надо поболе. Пойду распоряжусь.
— Спасибо, мамушка! А ты, Алексей Григорьевич, к себе ступай. Брать мы тебя с собой не будем. Лучше за порядком в доме присмотри, кормилице вон помоги.
— Нет, матушка цесаревна, нет!
— Разговор наш с тобой кончен, Разумовский. Не мешайся боле. Будет. В опасениях твоих нужды нет.
— Ваше высочество, все собрались, в зале дожидаются.
— Что же, так и порешим. Первые сани мои будут, и поедем мы в них с Лестоком.
— О, вы не пожалеете о своем решении, ваше высочество.
— На запятках быть тебе, Михайла Ларионыч, да братьям Шуваловым. Тут и соскочить легче — не из возка громоздиться. Вторые сани… Василий Федорыч, на санях ли ты приехал?
— А как же, государыня цесаревна. И сани-самокаты, и кони-звери — с каждым потягаться могут.
— Молодец ты у нас, Василий Федорыч. Так, значит, ты — в санях.
— Нет, матушка, не гневись: на облучок взгроможусь. Мои кони чужой руки не послушают, а кучера брать не стану. За холопа кто поручиться может? Армяк вот его прихватил, в него и оболокусь и при конях буду. Мало ли что!
— Не мне тебе советы давать, Василий Федорыч, поступай как знаешь. Только тогда санки пустыми пойдут — гвардейцев наших на запятки ставить надо.
— Гвардейцев, матушка?
— Да есть один такой — полковой музыкант по фамилии Шварц. Форма-то у него есть. И еще рядовой Грюнштейн. По контракту в наших войсках служил, начальству не потрафил. С хлеба на квас теперь перебивается. На все он готовый.
— Как же за того разбойника поручиться можно? Смилуйся, матушка цесаревна! Лучше уж и вовсе без него да и без этого музыкантишки, Господи прости! Они, поди, и с пистолетами не управятся, разве что ружье когда в руках держали.
— Им, господин Салтыков, оружие не понадобится. Мы все решим без единого выстрела. Слово Лестока! Если на стрельбу рассчитывать, народ нужен. Пока соберем, время потеряем.
— Коли так, с Богом!
— Присядем, господа, на дорожку. Я заранее благодарю вас за отвагу и преданность, что порешили со мной ехать. Я надеюсь на благополучное окончание нашего замысла и тогда сумею вас достойно наградить. Наградить так щедро, как того не делал ни один из российских государей. Поверьте, я заранее радуюсь такой возможности. А теперь в путь.
…Опять не спится. Это все цесаревна. Как она расплакалась, когда я сказала о подозрениях, которые над ней тяготеют. Это не могло быть лукавством. Она все время повторяла, как обижаю я ее своей подозрительностью, что она так счастлива при моем правлении, так желает мне благоденствия и долголетия. Да нет у меня никакой подозрительности. С чего бы? Это все Остерман и Головкин Бог весть какие страшные вещи о ней говорят. Все твердят, что ее надо остерегаться. Остерегаться! Да ей при такой красоте, акромя туалетов да танцев, ничего в жизни и не нужно. Ночь напролет протанцует, а утром раздвинут занавеси на окнах, а она одна как розан, будто только с постели встала, ключевой водой умылась. Зальется смехом, завидки берут. Ни забот, ни дел. Знай со своим певчим нянчится. А Разумовский, Остерман сказывал, и грамоте-то не знает, лыка, как говорить начнет, толком не вяжет. И то правда, не в книгах счастье. Линар до книг тоже не большой охотник. Вслух читать начнем, задремывает. Пьесы декламировать перестал. Изменился граф. Или нет? Обстоятельства изменились, вот он и робеет. Что это за шум? Словно люди идут. Каблуками стучат. Не может быть. Да нет, голоса слышны. Разговаривают. Сюда идут? Крикнул кто-то. Не солдат ли на часах? Двери отворяют. Принц! Да проснитесь же, принц, проснитесь!
— Принцесса Анна Мекленбургская и вы, принц Антон-Ульрих Брауншвейгский, арестованы. Одевайтесь и следуйте за нами.
— Арестованы? Что значит арестованы? Это я, принц-регент? Чьим именем, позвольте узнать?
— Именем императрицы российской Елизаветы Петровны.
— Послушайте, Лесток, но это же бред!
— Да, моим именем, принц. Отныне отеческой державой правлю я, Елизавета Первая. Справедливость восстановлена. Заберите их, камер-юнкер Воронцов. Им не обязательно одеваться в придворное платье. Платье официального выхода им более никогда не понадобится.
— Елизавета, но вы сегодня вечером сами мне клялись в верности, и я не дала вам упасть мне в ноги…
— Я не собираюсь с вами разговаривать, Анна, и впредь извольте обращаться ко мне по императорскому титулу. Передайте мне ее сына, Шувалов. Младенца мы тоже заберем с собой.
— Не моего сына — императора всероссийского Иоанна Шестого, цесаревна! Не забывайте об этом. У вас нет права на императорский титул — его носит этот мальчик.
— О нет, я этого никак не забуду. Бедное дитя, тебе придется, несмотря на крики твоего отца, провести всю свою жизнь вдали от дворца, разделяя участь родителей. О твоей судьбе можно только пожалеть, но помочь тебе никто не в силах. Вы забрали арестованных, Воронцов? Шувалов, захватите и другого ребенка. Почему он так кричит? Его уронили? Ну так заставьте его замолчать!
— Ваше императорское величество, не тратьте более времени. Вам следует поспешать к преображенцам принимать присягу на верность гвардии.
— Благодарю вас, Лесток. Ваше напоминание как нельзя более кстати. Надеюсь, преображенцы нам будут рады.
— Будьте прокляты вы все и ты, обманщица!
— Это смешно, принцесса. Надо уметь проигрывать.
— Кричите все: виват императрица Елисавет! Виват! Виват! Виват!
Франция. Версаль. Людовик XV, кардинал Флёри.
— И все-таки Елизавета выиграла. Это великолепно.
— С точки зрения политических интересов Франции, сир…
— Монсеньор. Я прошу пощады — дайте мне хоть несколько минут без политических затей. Меня приводит в восторг моя несостоявшаяся королева. Теперь нам остается заискивать перед ней.
— Несомненно, де Шатарди и Лесток сделали свое дело, сир.
— Полноте, монсеньор. Если даже с их стороны и последовала какая-то подсказка, решение принимала сама Елизавета, и надо отдать ей справедливость, с решительностью зрелого мужчины. Как там развертывались события, у нас есть более подробные сведения?
— Трудно судить об их полноте. С момента переворота Михаил Воронцов как будто избегает общения с нашим министром и, во всяком случае, противится откровенно дружеским контактам. Он, если хотите, сир, словно вырвался из своего кокона, подобно Елизавете.
— Это свидетельствует о его уме, в котором, помнится, вы и так не сомневались, монсеньор. Но не испытывайте моего нетерпения.
— К прежде бывшим донесениям мне остается добавить, что арест правительницы и ее семейства состоялся в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое ноября семьсот сорок первого года. В ту же ночь гвардейцы присягнули дочери Великого Петра, а к утру по приказу Елизаветы были арестованы все советники правительницы: Головкин, Остерман и даже лишенный милостей принцессы фельдмаршал Миних. Утром двадцать пятого был издан манифест о восшествии на престол.
— Можно подумать, что окружение Елизаветы продумало заранее все подробности операции.
— Судя по досадливым оборотам в депеше министра, руководителем операции была сама Елизавета, а ее правой рукой — Михаил Воронцов. Императрица, несомненно, обязана ему очень многим.
— Но дальше, дальше!
— Дальше, двадцать восьмого, последовал манифест об отправке всей Брауншвейгской фамилии из России. Семейство правительницы вместе с маленьким императором Иоанном было отправлено двенадцатого декабря в Ригу. Но когда кортеж достиг Риги, императрица изменила свое первоначальное решение и оставила Брауншвейгскую фамилию под арестом в Риге. Шатарди уверен, что это временное пристанище узников и для них будет найдено более удаленное и безопасное, с точки зрения общения с иностранными державами, место ссылки. Единственное проявленное Елизаветой снисхождение свелось к разрешению фрейлине Юлии фон Менгден разделить судьбу своей повелительницы.
— Но там ведь готовился какой-то своеобразный любовный треугольник, связанный именно с этой фрейлиной. И вообще, куда делся приобретший такое исключительное влияние граф Линар? Вена успела его отозвать?
— О нет, сир, графа Линара просто покинула удача. Он действительно решил сочетаться браком с фон Менгден и поступить на русскую службу, для чего поехал получать увольнение. Увольнение он получил, но на обратном пути в Россию узнал о произошедшем перевороте и, естественно, больше в Петербурге не объявился.
…Себе не верю: неужто свершилось? Неужто нет больше цесаревны-бесприданницы, но ее императорское величество императрица всероссийская? И так уже до конца? Только чтоб конец этот наступил не скоро, очень не скоро. Все теперь спины гнут, благоденствия желают, заискивают. Так и быть должно. Главное, обиженных всех вернуть, обласкать, чтобы все поняли: Елизавета не Анна Иоанновна. От Елизаветы — милость, добро. И деньги. Много денег. В казне, думать надо, на всех хватит. Сантия вернуть, живописцев Ивана да Романа Никитиных. Лучше Ивана никто персоны моей не писал. И голубчика моего Алексея Яковлевича. Где-то он? Жив ли? Каков ни стал, вернуть в Петербург со всеми почестями! Офицера послать — пусть всю Сибирь объедет, до Камчатки доберется, только бы сыскал. Непременно сыскал. Мавра за руки хватает: мол, Разумовскому неприятно будет. А коли и будет, вытерпит и виду не подаст. Императрица не цесаревна, около нее только верноподданные. Долгоруковых вернуть. Государыней невестой самой заняться — замуж с приданым выдать. И детками Артемия Волынского — Воронцов не раз и не два о них напоминал. И самого Михайлу Ларионыча устроить. А как же! Его, голубчика, прежде всех…
— Михайла Ларионыч, не обессудь, не могла тебя раньше принять — дела. Ты садись, разговор у нас будет непростой. Пожаловали мы тебя в камергеры.
— Ваше императорское величество, вы можете располагать моей жизнью и смертью. Из ваших сиятельнейших рук любая награда вдвойне ценна и превосходит мою ничтожную службу.
— Погоди, камергер Воронцов, не торопись. Пожалован ты и в генерал-поручики, и в лейб-кампании поручики.
— Ваше императорское величество, я не нахожу слов…
— И не ищи. Скромность твою не первый год знаю, преданность ценю, но не о чинах у нас пойдет речь. Собирался ли ты обзавестись семейством? Имеешь ли кого на примете?
— Государыня, мне не приходило в голову…
— Видишь, а мне пришло. Положись на мой выбор — лучшей невесты не сыщешь. Сватаю я тебе, Михайла Ларионыч, любимую свою кузину Анну Карловну Скавронскую. Что это ты глаза-то утупил? Зарделся, никак? Аль показалось? О приданом не думай — моя печаль. О свадьбе — тоже. Где уж такому скромнику пиры задавать, а я желаю, чтобы стала ваша свадьба первой при моем императорском дворе, чтобы всем надолго запомнилась, чтобы узнали все, каково это жить при Елизавете Петровне! Так что, Михайла Ларионыч, как тебе невеста?
— Ваше величество, я могу только снова и снова благодарить вас за вашу доброту и ласку.
— Ты доброты и ласки Аннушке не жалей, а отблагодарить за ее счастье и спокойствие я сама отблагодарю. Ступай, обожди в приемной. Позже позову у невесты руки просить. Ступай… Анна Карловна! Аннушка! Где ты там? Догадайся, кто у меня сейчас был.
— Да видала я — Михайла Ларионыч.
— Какой тебе Ларионыч — жених.
— Жених? Батюшки светы. А чей, государыня?
— И не догадаешься?
— Да нет, где же. Вроде ничего за ним не примечала.
— Твой, Аннушка, твой! У тебя хочет руки просить, а у меня справлялся, как на него глядишь, угоден ли будет. Так весь пятнами красными от стеснения-то и пошел.
— Вот сюрприз так сюрприз! И что же вы, государыня, изволили ему сказать?
— Скрывать не стану, обнадежила. Однако велела тебя дожидаться. Тебе замуж идти, тебе и решать. В богатстве будешь купаться, а скромности да обходительности Михайле Ларионычу не занимать стать.
— Что же я, государыня. Как велите.
— Вот и славно. Иди в антикамеру жениха обрадовать, а я сразу и сговор назначу. Чего тянуть-то? А впрочем, кликнем-ка его сюда. Эй, кто там, Воронцова Михайлу Ларионыча ко мне! А, господин камергер, ты здесь? Поздравляю! Передала я невесте твое предложение. Она согласна. Свадьбу через месяц назначим. А что, если на день святителя Никиты Новгородского, тридцать первого января? Святой-то больно хороший: от молоньи да пожаров охраняет. Вот пусть их в жизни вашей никогда и не будет.
…В воронцовских палатах тревога. Чины, земли… кажись, ни на что новая императрица не скупится, да больно щедрой рукой всем раздает. Тем, кто и прежним правителям служил, угодить хочет. Вот и выходит: как всем, Воронцовым достается. И места их не то что самые первые, а день ото дня больше в толпе. Старого стольника мысль мучит: недополучат сейчас сыновья, дальше и ждать не приходится. Не одного самодержца перевидал, а все на одно выходило. Не любят самодержцы добро да верную службу помнить, ой не любят! Кому больше обязаны, тех быстрее с глаз убирают. С чего бы Елизавета Петровна лучше родного батюшки аль родимой матушки оказалась. Нарышкины — они и вовсе скаредные. Вон государь Петр Алексеевич носки, прости Господи, до седьмых дыр занашивал, о ночном колпаке и не говорил. Сколько Елизавета Петровна поначалу даст, на том дело и кончится: жалеть начнет, траты считать. Торопиться, торопиться надо с монаршьими милостями. Да и сам бы Ларион Гаврилыч не прочь за сыновнюю службу благодарность императорскую получить, только спроворить суметь…
— Послушай, братец Михайла Ларионыч, а с ними как будет? Тебя, скажем, императрица по всем статьям удовольствовала: и чины, и при дворе самое что ни на есть высокое место, и жена с приданым, в императорскую опочивальню без доклада вхожа. Вот только вспомнить бы тебе: не твоими деньгами цесаревнин двор держался — Марфиными. Без моей Марфы Ивановны куда как туго цесаревне бы пришлось! А мы с ней — не то что я, она сама ни места при дворе, ни чина статс-дамы не получила. Где ж такая неблагодарность видана?
— Сам вижу, Роман, а как подступиться, не знаю. Теперь ведь запросто в царские покои не войдешь. Мавра Егоровна дверей не распахнет. Аудиенцию надо заранее получить. А на аудиенции снова с глазу на глаз почти никогда не бываешь. То тебе секретарь, то разные придворные чины, камер-юнгферы тоже туда-сюда бегают. Вот разве Алексею Григорьевичу поклониться, чтобы государыне напомнил?
— Это что, нам-то, Воронцовым, пастуху кланяться, чтобы наши кровные денежки заслуженный доход принесли? В себе ли ты, Михайла?
— Зря в гнев впадаешь, братец. Так оно и есть. Мавра Егоровна и та у Разумовского защиты да поддержки ищет. Про свою «кумушку-матушку» и думать забыла. Если удача выпадет, можно ее императорское величество лицезреть. Просить-то и можно, а о старых долгах ни-ни. Такое до добра не доведет. Тут изловчиться надо.
— Так кто ж тебе мешает? Думай, изловчайся. Сам знаешь, при дворе сегодня ты нужен, а завтра от ворот поворот — никто и имени не вспомнит. Конечно, пока твоя Анна Карловна защитой послужить может, да ведь и то до первого неудовольствия. Императрица наша чистый порох. Ты лучше вспомни, как на кончину да похороны отца Анны Карловны приехать не соизволила. Мы все еще тогда в Александровой слободе время коротали. А спроси почему — покойников не любит, и весь сказ, хоть граф Карл Самойлович из родни царицы самый близкий.
— Поунялся бы ты, Роман Ларионыч, язык бы не распускал! Тут тебе не Александрова слобода я не матушка цесаревна. Государыня подчас круче батюшки своего покойного бывает, а уж слова назад нипочем не возьмет. Остерегаться, братец, надо! Ой как остерегаться! Помяни мое слово, в Сибирь скоро дорогу такую раскатают, какая покойной Анне Иоанновне и не снилась.
— А верно ли, будто Бирону послабление вышло?
— Куда вернее. Из Пелыма в Ярославль перевели, ходить без стражника разрешили, делами заниматься.
— Ишь ты. И государыню невесту порушенную, Екатерину Алексеевну Долгорукову, вернули?
— Ее-то прямо в столицу. Небось после трех лет молитв под клобуком монашеским в одиночной келье монастыря Горицкого мир ей чудным показался.
— Вот поди ж ты, кого только государыня не вернула. Тут тебе и живописцы Никитины — Иван-то не доехал, по пути погребли незнамо где. И меншиковская золовка Арсеньева Варвара, и асессоры, и монахи. Всех не упомнишь. А государыня запомнила.
— Только одного Романа Воронцова с семейством забыла.
Глава 4 Пора детства
Вот и наше время пришло. Батюшка Ларион Гаврилович так и говорит: воронцовское. Теперь, мол, все от нас с Романом одних зависит, что от государыни получим, каких милостей удостоимся. Коронация, после нее какие споры? Только все равно глаз да глаз нужен. Мало ли! На власть императрицыну не покусятся, так Воронцовых как раз сметут. Царский гнев что порох, оглянуться не успел — вспыхнул. Не так ярко горит, как долго тлеет.
В Москве все чинно было. Благолепно. От Тверских ворот триумфальных до Куретных в Китай-городе ланд-милицкие полки стояли. У триумфальных ворот Синода — студенты Московской Славяно-греко-латинской академии. По двадцать человек с каждой стороны. В белых одеяниях. На главах — венцы. В руках — ветви лавровые. Песню спели преотличную, дай Бог память:
Изо всех сторон Вдруг стал свет дивно. Все переменися, Весело смотрети, Власть свою имете И ветер здешний хладный В зефир прохладный Превратить…Министры от шести дворов европейских собрались. От Франции — старый знакомец, дай ему Бог доброго здоровья да всяческого процветания, маркиз де Шатарди, всяческих похвал и доверия достойный, преотличнейший человек. От Венгрии — господин Гохгольцер. От Пруссии — барон де Мардефельд. Хоть не любит государыня пруссаков, а барону благоволит. От Голландии — де Шварц, креатура малопримечательная. Да и какие у нас интересы с его державой. Было время — прошло. От Саксонии — целых двое послов: Герсдорф и Пецольд, злобой так и пышут. И то сказать, каково им с Брауншвейгской фамилией прощаться. Досада одна. От Голштинии — господин Бухвальд. Здесь держава, так скажем, родственная. Государыня, жалуя меня в вице-канцлеры, так и сказала: следи за канцлером Бестужевым-Рюминым — первый тебе наказ, второй — на одного голштинского посланника полагайся. С ними нам дела государственные иметь.
Оно и понятно, единственный племянник императрицы, покойной цесаревны Анны Петровны сынок, в Киле растет. Не иначе захочет его государыня в Петербурге около себя видеть. А как же! Графиня Мавра Егоровна сказывала, что не забыла государыня и жениха своего покойного, епископа Любекского. Очень по сердцу пришелся. Все оттуда! Кабы ее воля, еще когда с сестрицей в Киль уехала, — государыня Екатерина Алексеевна согласия не дала. Зато теперь империей управлять станет. Господь знает, как судьбами человеческими распорядиться.
Оно и то верно, народ много меньше радовался, чем мог. Братец Роман первый о том сказал. По Москве ездит, в поместья женины наведывается — людей видит. Как-никак шестнадцать лет со дня кончины государя Петра Алексеевича прошло. Сколько правителей смениться успело. Забылось старое-то. Память людская скорее доброе, чем злое, забывает. А было и при Петре Алексеевиче разное, ох было! Поди, потому государыня затеяла и театр в Лефортове наскоро строить. Не придворный — городской. Так и нарекла: Оперный дом. Архитекта графа Растреллия позвала. А от Петра Трезина отмахнулась: прост очень. Императорского великолепия не уразумеет. Где там! Акромя Растреллия и разговоров нет. На пять тысяч мест театр строит. Махина, аж страх. Чтобы весь город собирать. Чтоб в день спектаклей ввечеру по всему городу фонари да плошки на улицах зажигать — для безопасности проезду. Чистая иллюминация! Коновязи у театра на полверсты протянулись. А себе дворца строить не стала. В Петербурге жить будет. Оперный дом — для старой столицы подарок. Тот-то, первый, что покойница Анна Иоанновна на Красной площади возвела, в пожар 737-го года сгорел. Будут оперы дивные слушать, Елизавету Петровну помянут, — собственные государынины слова. А для жизни и отцовские покои сгодятся. Всему свое время.
— Братец Михайла Ларионыч, разговоры кругом о Брауншвейгской фамилии пошли. Слыхал, сколько народу надзирателями за ней набиваются. Денег, понятно, на фамилию в достатке дают, почему бы ими не поуправлять.
— Сам не знаешь, что плетешь, Роман. Да к фамилии лучше близко не подходить. Какие там деньги. Это поначалу государыня о деньгах советовалась, после все наперекосяк пошло.
— По какой такой причине?
— Мой тебе совет, Роман Ларионыч, поменьше любопытствуй, покрепче язык за зубами держи. Одно дело цесаревна, другое — царица. Никаких шуток да глупостей императрица не приемлет. Вспомни, сколько, сказывали, государь Петр Алексеевич обиды помнил — всю жизнь? А дочка-то вся в отца.
— На языке мед, под языком лед, стало быть…
— Про то нам, грешным, толковать не дадено. Про фамилию речь шла. Так вот, может статься, так в Риге под арестом они бы и остались, да крепко ее императорское величество напугалась. Сначала лакей Турчанинов убить ее пытался. Потом заговор в пользу Брауншвейгской фамилии раскрылся.
— Не верится что-то в заговор, Михайла, ой не верится! Не тех людей к нему приплели. Скажем, Степан Лопухин с женой да сыном Иваном. Сам генерал-поручик. Супруга статс-дама нашей государыни. Красавица. Первая на балах танцорка. С кем только, прости Господи, ни махалась. Может, позавидовала одна красавица другой? Приревновала, может? И такое ведь говорят.
— Ну, коли так, скажи, махалась Лопухина с сосланным камергером Лилиенфельдом? Все о том знали. За него отомстить и чтоб из ссылки воротить захотела. Такое тоже услыхать можно. Только не бабьими обидами дела большие делаются. К Лопухину-то сколько народу примкнуло — страсть.
— А как же! Кое-кого сам знаю. Флотский кригскомиссар Александр Зыбин, наприклад. Или подпоручик Нил Акинфов — семья богатеющая. Тоже адъютант Степан Колычев — не в поле обсевок.
— А кого не знаешь: капитан Путятин Иван, невестка канцлера Бестужева-Рюмина Анна, гвардии поручик Мошков.
— И то сказать, сам Степан Васильевич Лопухин персона куда какая почитаемая. В Лондоне корабельному делу учился, чин вице-адмирала имел. В Астрахани воеводствовал — это уже при Елизавете Петровне. Самой царице Евдокии Федоровне Лопухиной двоюродным братом приходился, а тут, неведомо с чего, за Брауншвейгскую фамилию выступил. Кем они ему да с какого боку пришлись?
— За то и оказался в Сибири с женой-красавицей, палачом меченной. Урезали язык Наталье Федоровне, до самой глотки урезали. Подумать страх.
— И не вспоминай, братец. Нужды нет. Так из-за них Брауншвейгскую фамилию и перевели в глухомань?
— Не такая уж глухомань Дюнамюнде. Король прусский посоветовал государыне фамилию в глуши лифляндской заточить, чтоб и память о них в Европе стерлась. Государыня совет приняла, только по-иному исполнила.
— Знаю, из Дюнамюнде под Рязань отправила. То глухомань европская, а то наша, русская. Наша-то куда вернее: ни до какой границы не доскачешь, не добежишь, помощи как есть ни от кого не дождешься.
— Государыня и меня соизволила спрашивать. Только я наотрез отказался. Сказал, что в делах внутригосударственных несведущ, как бы плохого совета не дать. Ни к чему грех на душу брать.
— Твоя правда, неизвестно еще, как дела-то обернутся. Поопаситься никогда не повредит.
…Были курляндцы, стали голштинцы. Изо всех щелей, как тараканы, Господи, спаси и сохрани, лезут! Какое местечко теплое ни откроется, уже голштинец усами шевелит, ботфортами грохочет. Со стороны глянуть, все путем. Раз государыня племянничка своего единственного наследником объявила, иного и ждать нечего. Ну да, внук он родной государя Петра Великого, а сердце к России не лежит. Ненавистна она ему. И то сказать, матери не знал, сызмальства рос в тени шведской державы, о шведском престоле мечтал. Православие принял, а духовенства нашего не любит. К лютеранам тянется. Бог весть откуда взял, будто погибель его на русской земле ждет. Мол, обреченный я. Всего опасаться стал. Учиться не желает. Где там! Ему бы все плац-парады устраивать, с солдатами на прусский манер возиться. Как это в свое время правительница принцесса Анна Леопольдовна говаривала: покуда чертенок этот заморский жив, не будет нам покоя. Думала о своей фамилии, а вышло для всей России.
Через Голштинию решила государыня чертенку и невесту выбирать. Епископ Любский новый — принц Август, брат жениха покойного, портрет племянницы своей привозил, сестриной дочери. Лицо лошадиное. Сама желтая. Нос длинный. А государыне хоть бы что. Чертенку своему и показывать не стала — влет согласие дала. Пусть, мол, родительница везет дочку в Россию, да не на смотрины — сразу на свадьбу. На толки о Иване Иваныче Бецком рукой махнула: есть ли в невесте русская кровь, нет ли, время покажет, что лучше, что хуже.
Разговоры и верно давно кругом идут. Известно, Иван Иваныч — сынок побочный князя Трубецкого. От графини шведской, когда князь в плену шведском был. Сынка не бросил. Образование дал редкое, путешествовать по Европе отправил: в России держать не с руки, а там видно будет. Оно и увиделось. Бецкой амурных историй не хоронился, денег на них никогда не жалел. Дошло дело и до принцессы Иоганны Ангальт-Цербстской. Принцесса в ссоре с супругом была. В Париж одна умчалась. Злые языки твердили, будто к жизни Супружеской принц непригоден оказался, да и старше супруги без малого на четверть века — стариком ей казался.
Амурам конец быстро пришел. Принцесса Иоганна от любовника русского понесла, да и кинулась к законному супругу — от греха подальше. Бецкого тоже в Россию отозвали. А ребенок у Иоганны в положенное время родился. Девочка. Нашему чертенку невеста. Государыня всю историю куда как хорошо знает. Потому за принцессой-матерью не кого-нибудь — самого Бецкого и отправила. Сама смеялась: пусть все семейство приезжает — порядку больше будет. Доказать-то все едино ничего нельзя: никто Бецкого за руку не поймал, в ногах со свечкой не стаивал. Поболтают люди добрые да и бросятся — чем иным развлекаться начнут. А за невестой, коли бойкой станет, кто, как не родной отец, приглядит, острастку даст. Только сладилось по-настоящему дело из-за заграничного министра господина де Ботта. Его правительству брак с наследницей Ангальт-Цербстской выгоден, он его и охлопотал. Государыня же им настоящей веры николи не давала. Вот снова письмо конфиденциальное переслала:
«Друг мой Михайла Ларивонович,
Прикажите вы с Алексеем Петровичем (Бестужевым-Рюминым), чтоб наикрепчайше смотреть письма принцессы и Брюмеровы и королевского высочества шведского, что какие они интриги имеют. Мне очень сумнительно их представление, что я вам об их здесь сказывала, чтоб дать месяц Великому князю покой, что он вздумает. И иное они не без основания говорили, и то надлежит в том осторожность иметь. Может быть, что не ожидают ли того, что им королевское высочество отпишет. И то еще думаю, что вещи, которые он забрал, чтобы тем временем сюда возвратил и тем вывести племянника из мнения, что ложно на него сказали, что он вывез. Надеюсь, у них никогда в мнении не бывало, чтоб мы с такой осторожностью дело сие начали: а наипаче Корф наш солон, что он все сведает. И так оной месяц им безмеру нужен для очищения и вымышления их неправды. И остаюся верный друг ваш, чем и пребуду
Елизавет
20 июня 1743 году. Петергоф».— Благодарствуй, жена, за дочку. Хоть и третья уж в семействе нашем, а родилась куда как кстати. Расстаралась ты у меня, Марфа Ивановна, в самую пору.
— Про что это ты, Роман Ларивоныч? Не пойму чтой-то.
— Как «про что»? Крестить новорожденную нашу теперь не цесаревна — императрица Российской державы будет, а за крестного — сам наследник великий князь Петр Федорович.
— Почет-то тебе какой, Роман Ларивоныч!
— Заслужили мы его, жена, что там говорить, как есть заслужили!
— Имечко выбрал ли, батюшка? Так мне подумалось…
— Думать, матушка, не тебе — мне положено. Наречем дочку Екатериною — в честь великой княгини и супруги государя-наследника. Елизавета Романовна — в честь матушки твоей незабвенной тоже. Каким приданым бабка внучек наградила — всем на зависть. А теперь черед великой княгини подошел. Надо и наследников уважить: дочке-то с ними, в их правление, надо полагать, жить. Не помешает.
— Может, ей бы и крестить, Роман Ларивоныч? Больше о крестнице думать будет.
— Да что толку от дум-то ее? Сама как есть нищая, на хлебах государыни императрицы сидит. Свой двор у наследников — смех один, как у цесаревны когда-то в Александровой слободе. Великая княгиня сама старается. Языку нашему российскому, вишь, денно и нощно обучается. Книжки тоже разные читает. Да и то сказать, с ее-то наружностью на балах не покрасуешься. И ростом не вышла. И стати нет. И в танцах показать себя не может.
— Да ведь почем знать, батюшка, без красоты да ловкости государыне императрице скорей потрафишь. Другие красавицы государыне, сам сказывал, ни к чему.
— Твоя правда, Марфа Ивановна. Графиня Мавра Егоровна Шувалова на том только и держится, что собой дурна. Государыня, сказывали, перед зеркалом сидючи, иной раз расстроится, а на Мавру Егоровну глянет и смеется: все я, Маврушка, тебя краше. Графиня едва поддакивать успевает. Может, и с великой княгиней Екатериной Алексеевной так. Слава Богу, наша дочка попозже подрастет, как и братнина Анна Михайловна. И как это вы с невесткой в одночасье вместе родить собрались? Сговорились, что ли?
— Не погневайся, батюшка, уж скорей вы с братцем Михайлой Ларивонычем порешили вместе за дело взяться, дочек себе задумали.
…Надо же такое удумать: канцлер Алексей Петрович государыню просить решил сочетаться законным браком с графом Разумовским. Мало Алексею Григорьевичу титула графского, чтоб еще и власть за ним навеки закрепить. Снова министры иностранные воду мутят, а канцлер в мутной водичке куда как горазд рыбку ловить, Знает, прокурат: не верит ему государыня царица, так угодить решил. Плохо только Елизавету Петровну знает. Это тебе не правительница, да и не Анна Иоанновна. Ее, матушку, не проведешь, не выведешь. Без подсказок разберется!
Канцлеру ведь какой расчет? Повенчается государыня с графом Разумовским, браку ее с иностранным принцем не бывать. А коли родит после венца наследника, великому князю Петру Федоровичу одна дорога — обратно в Киль. Всего ничего как в Россию приехал, а уж, гляди, всем и каждому поперек дороги встал. Как дитя какое несмышленое. Едва наследник с великой княгиней Екатериной Алексеевной, принцессой Ангальт-Цербстской, повенчался, разговоры при дворе пошли. Мол, Петра Федоровича из страны выслать, а супругу с будущим сыном правительницей оставить. А то и вовсе обоих супругов выслать, одним младенчиком обойтись. Тут государыне бы в самую пору родить. Почему бы и нет? Чай, не впервой. Четверых родила, чего ж пятого, законного, на свет Божий не произвести? Вон Богдан Умской, старшенький, уж в службе числится. Принцесса Августа за Голштинского принца просватана. Это Шубины-то. А Разумовские оба еще учатся.
Так оно по простоте душевной выходит, да на деле куда все хитрее. Детьми от нецарственного супруга обзавестись — хлопот не оберешься. Кто в державах других признает, кто не признает. Здесь тоже смута пойдет. А смуты государыня никогда не хотела. Осторожничала. Вон какие хороводы с Брауншвейгской фамилией водит — у всех голова кругом идет. В Дюнамюнде год продержала, в Раненбург отправила. Поместье Александра Даниловича Меншикова богатейшее, устроенное, что твоя крепость. Да крепость и есть — на горушке, с башнями, каменными стенами. Только туда Юлию фон Менгден не допустила. До тех пор она правительницу сопровождала, опять-таки никому не ведомо, с какой целью. В дружбу не поверишь — известно, какие амуры с графом Линаром за спиной правительницы развела. Разве на принца Антона глаз положила, чтоб место принцессино занять. Корф государыне при мне докладывал. А уж это государыне и вовсе ни к чему. Одно дело жена постылая, другое — любовница. Такая на любую глупость смутит. Оглянуться не успеешь, в дураках останешься.
Это барону Николаю Андреевичу Корфу доверено было исполнять: фамилию в Архангельск, а оттуда на Соловки препроводить. Фрейлину же немедля в Петербург отослать. Только она и в столице не растерялась. Разговоры пошли, будто к ней Лесток зачастил. Лестока напрямки не спросишь — соврет. К фон Менгден никого не подошлешь — никому не верит. А интрига тут непременно есть, дал бы Бог вовремя разгадать.
И с Корфом не легче. С дорогой, неведомо почему, замешкался. К сроку в Архангельск не поспел, а там и на Соловки дороги не стало. Государыне донес, что от Шенкурска фамилию далее везти нельзя. Лучше бы их в холмогорском архиерейском доме оставить. Погневалась государыня, погневалась, слов обидных про барона наговорила, да делать нечего — согласилась, чтобы сам Корф весенним путем в столицу поспешил. Человек ценный: где что прознать, сыскать, выведать, лучше не найти. Доверенный — на графине Скавронской Марии Карловне женат. По моей Анне Карловне и мне свойственником приходится.
<На ужине у императрицы> я к случаю быть чаял, по поводу того в шутках такой разговор зачать, который бы господина Воронцова пред его государынею в смущение привесть мог, не потревожа, однако, Принцессу тем опасением, которое она всегда имеет, чтоб о нею о делах не говорить…
Из донесений маркиза де ла Шатарди, 1743 г.— Горе у тебя, Роман Ларионыч, большое горе!
— Осиротел я с детками, государыня: не стало супруги моей.
— Что здесь скажешь, голубчик, в животе и смерти Бог волен. Не нам судить да пенять. А о детках не беспокойся. Дочек старшеньких, Лизавету да Марью, во дворец фрейлинами возьму. Все хлопот меньше. Да и политесу учить их надобно. Невесты-то завидные растут. А младшей-то, крестнице моей, Катеньке, сколько?
— Два годочка, матушка государыня.
— Да, ранехонько Марфа Ивановна прибралась, куда как рано.
— Да Катерину я бабке ее Сурминой пока оставлю. Дите малое, младенец. Без няньки никуда.
— И то верно. Пусть маленько подрастет — там и ее судьбой распорядимся. А с сыновьями как? При себе оставишь?
— Какое, государыня, — только старшего, Александра. Ему скоро в службу идти.
— Опять моя забота. Пусть братец твой Михайла Ларионыч вовремя мне напомнит. Не обойдем молодца лаской. А младший-то совсем, чаю, мал. Не им ли и кончилась Марфа Ивановна?
— Дохтур сказал, им. Роды тяжелыми были. Родовой горячкой Марфа Ивановна от нас и ушла. Вот Ивана хочу к батюшке своему. Он за ним лучше моего приглядит, да и живет в поместье.
— Ан, глядь, ты и в женихи выходишь, Роман Ларионыч. Теперь тебе только невесту сыскать.
— Ой нет, государыня, сердце к новому браку не лежит. Мы, Воронцовы, однолюбы. Кончилось мое семейное житье, так тому и быть. Переигрывать судьбы не стану.
— Что ж, и так поживешь, себя, поди, не обидишь. Не так ли, граф?
Тяжко Роману, что и говорить. Какой дом крепкий да ладный был, в один час все прахом пошло. Поди догадайся, что так любил свою Марфу Ивановну. Любил, а на вид нипочем не скажешь. Покорливая, покойница, была, безответная. Кроме мужа, света в окошке не видала. Другое диво, что государыня сама вдовцом заняться соизволила. Охладела за последнее время к Воронцовым. Старого и в помине нет. Со мной слова лишнего не скажет, аудиенции не назначит, поручения секретного не даст. Только и разговоров что с Бестужевым-Рюминым. Все измены его забылись, как перед правительницей стлался, как чин наследования для фамилии Брауншвейгской придумывал. Гневается на меня государыня. Из-за Лестока, что дружу с ним. Поди, и не без канцлера обошлось. Небось приплел меня к французам, а с ними у нас дружба врозь. И надо было маркизу в письме, хоть и партикулярном, про государыню конфиденции разводить! Мол, и красота ее женская приувяла, и туалеты не к лицу носить стала. К чему про такое писать? Забыл, что каждое письмецо-то через десять рук пройдет, до дыр зачитано будет. Российская почта, она с незапамятных времен прозрачная: что написал, что на Ивановской площади прокричал.
Да, а о красоте своей женской государыня ой как печься стала. Анна Карловна моя сказывает, сто раз на дню в зеркало глядится — морщин нет ли, седой волос не пробился. Иной раз глядит-глядит да и вздрогнет, плечики сведет, будто зябнет. Намедни ктой-то во дворце шепотком сказал: помирать, мол, завсегда страшно, а куда денешься. Обернулась, будто гром грянул, таково-то зло поглядела. Нет, говорит, стареть куда страшнее. Мавра Егоровна подвернулась: что за страх, государыня, годы — дело житейское, никого стороной не обойдут. Чего себя крушить, коли помочь нельзя. Тебе нельзя — как ножом отрезала.
А тут правительница с ума нейдет. Корф сказывал, удалось оставить фамилии земли всего-то четыреста на четыреста шагов. На земле три дома. В одном принц с принцессой и детьми, в другом — караул, в третьем — император Иоанн взаперти да в одиночку. Господи! Ни ему из того дома выйти, ни к нему войти. С едой офицер приходит, словом не обмолвится — разговоры с императором строго-настрого заказаны. Да и какие разговоры, откуда дитяти речи-то человеческой обучиться? Все мычит да знаки руками делает. Бог с ним, с императором, — куда для империи хуже: правительница одних сыновей рожать принялась. В 745-м — Петра, спустя девять месяцев — Павла. От последних родов и преставилась. Как иначе — без лекаря, без повитухи. Вот тогда-то тело ее в Санкт-Петербург повезли, чтоб на общее обозрение выставить. Мол, никакого зла ей не содеяно, казней никаких не было — огневицею померла. Про сыновей всем причастным говорить строго-настрого заказано. Будто и не было их, принцев Брауншвейгских, родных братцев императора Иоанна Антоновича. Государыня сама с правительницей простилась и всему двору велела. За порядком при погребении сама следила, уж на что похорон не любит. Себя превозмогла. Коли надо, все перетерпит, все сможет, словечком не пожалуется. Сильная.
Да и другого погребения не обошла. Государыню невесту из роду Долгоруковых какими-никакими милостями осыпала. Из ссылки вернула. При себе на первое место сажала. За графа Брюса замуж выдала — на приданое не поскупилась. Только не было княжне Долгоруковой веку дано. Через несколько месяцев супружеской жизни померла. При дворе судили, от гордости. Что за простого графа после императора пошла. Помирая, приказала все платья свои сжечь, чтоб никто их, не дай Господи, не носил. И впрямь гордая была.
Другое дело — голштинцы. Эти на часах у опочивальни царской сколько хошь простоят, лишь бы выгоды своей дождаться. Вон принц Август, по титулу епископ Любский, в 742-м ко двору российскому приехал — государыне портрет своей племянницы показать: мол, не сгодится ли в невесты наследнику? Дело сделал, тут бы и честь знать. Ан нет. Спустя три года снова заявился — на правах родственника императорской семьи Голштинию себе в правление просить. Два года в нашей столице провел. Обжился. Про Голштинию свою вроде и думать забыл. Лежит, мол, себе у непогожего моря и пусть лежит. При государынином дворе, известно, вольготней да веселее. За императорским столом сидит, почести вместе с государыней по доброте ее сердечной принимает. Кабы не канцлер, нипочем в обратный путь бы не пустился. Бестужев-Рюмин настоял: пусть на месте Голштинией управляет, за порядком следит, интересы российские блюдет. Двадцать пять тысяч рублей в дорогу ему у государыни охлопотал, лишь бы с глаз долой. Государыня сама отказывать не любит. На то и слуги, чтобы черную работу выполнять.
— Хотел с тобой, братец Роман Ларионыч, потолковать.
— Дело какое спешное?
— Дело и есть. О дочке твоей Катерине Романовне.
— А чего о ней толковать: живет в деревне и живет. Аль полагаешь, о судьбе ее пора с императрицей поговорить?
— Нет, Роман, разговору с государыней сейчас не выйдет. Сам видишь, не ищет она моей службы.
— Неужто так и гневается? Сколько лет мы ей правдой и верой служили. Ничем себя не опорочили.
— О том мы с тобой знаем. У ее императорского величества счет иной. Вон сколько лет с Лестоком ссорится. За картами намедни так и сказать изволила: мол, дай Лестоку волю, он всех моих подданных зараз отравит. Видно, конец графу наступил.
— Не иначе старая бестия Бестужев-Рюмин своего добился. Благодари, брат, Бога, что за тебя еще не взялся.
— Не соперник я ему, вот пока и не добрался. А Лестока так обнес, что и ареста добился, и до допросов в Тайной канцелярии дошло. Сказывали мне в великой тайне, что и без пыток не обошлось.
— Господи, помилуй и спаси! Да в чем пытать-то графа?
— На дыбу подымут, что дадут подписать, то и подпишешь, на бумагу не глянешь. Разбирайся потом, в чем сам себя оговорил.
— Не враг же он государыне.
— Теперь такого вслух не скажешь. Тайный сыск политическим преступником признал — будто на державу Российскую покушался, против нее злоумышлял. К казни приговорили, да государыня милосердие проявила — разрешила навечно в Углич сослать под караулом.
— А верно ли, что преображенцу тому, что с вами правительницу арестовывать ездил, тоже досталось?
— Верно, Грюнштейну. Только Грюнштейн сам виноват. На Украине старшую сестрицу Алексея Григорьевича Разумовского встретил — накинулся. Стал корить, что, мол, заслуги его перед государыней выше заслуг ее брата. Мол, он, Грюнштейн, во дворец государыню сопровождал, жизни не жалел, а граф Разумовский со страху под лавкой дома отсиживался. Вот теперь все Разумовские в чести, а ему с семьей и жить не на что.
— Батюшки светы, так и сказал? Отчаянный!
— Отчаянный и оказался: с места под арест и по приговору вместе с женой и сыном в Сибирь на вечное поселение. Доехал ли, нет ли, кто узнает.
— Тебя, братец, послушай, сон вперед на год отобьет. Лучше скажи, что о Катерине моей Романовне толковать хотел?
— Хотел. Отдай ты ее нам с Анной Карловной. Во фрейлины ей по летам рано, да и не время Воронцовым о себе вести подавать. А Аннет наша Катюше ровесница. Будут как сестры родные расти, ни в чем для нас разниться не будут. Сам знаешь, как Анна Карловна моя деток твоих, почитай как родных, любит. Без Катюши скучает. Толкует, что пора, мол, за учение ее браться. Что мы для одной Аннет, что для них обеих гувернеров да учителей нанимать будем самых лучших. А у Сурминых, не гневайся, какая наука!
— Не ждал я такой пропозиции, братец, никак не ждал. Огорошил ты меня, ничего, не скажешь. Пожалуй, я бы и не прочь. Только с людьми как быть? Обнесут ведь, света белого невзвидишь: при живом-то отце крестницу императрицы вроде в приемыши отдавать.
— О том не тужи. Анна Карловна сама все государыне доложит, согласием крестной заручится. Может, государыня и слово какое в собрании скажет оправдательное, мол, сама тебе такое подсказала, чтобы обе крестницы вместе росли у нее на глазах. Обрадуй нас с графиней, а уж Анна Карловна сумеет тебя от наветов защитить. Государыня ее очень любит.
— А коли Катерина сама не захочет? Убиваться начнет?
— По ком убиваться, братец? Марфы Ивановны не вернешь, да и забыла она мать, поди. Совсем еще несмышленышем к бабке уезжала. Что ей в пустом доме-то делать? Положим, пока Александр Романович твой в нем живет, так досуг ли молодому человеку с дитятей возиться. Для начала ты и власть родительскую показать можешь, а там Катюша сама к нам привыкнет, ни о чем спрашивать не станет.
— Ну, коли так…
— Так что, братец, по рукам?
— Стало быть, так. По рукам, и помогай вам Бог, Михайла.
В связи с неожиданной болезнью императрицы Елизаветы целую ночь были собрания и переговоры, на которых между прочим решено было главными министрами и военными властями, что, как скоро государыня скончается, великого князя и великую княгиню возьмут под стражу и императором провозгласят Ивана Антоновича. Число лиц, замешанных в это дело, очень велико, но до сих пор никто друг друга не выдавал… Я подозреваю многих в том, что они принимали участие в этом заговоре, особенно из имеющих причины опасаться великого князя и вполне естественно ожидающих более милостей от принца, который всем им будет обязан.
Из тайной депеши датского посланника Линара, 1748 г.…Все от припадка государыниного переполошилось. Кто постарше, государя Петра Алексеевича, батюшку царицы, вспомнил — у него под самый конец его дней такие припадки случались. Кто помоложе — о годах стал говорить. Кому сорок годков пустяком кажутся, кому припомнится, сколько лет государыня Екатерина Алексеевна прожила. Может дочка матушку и не пережить.
По мне, не того опаситься надо. Никак, Мавра Егоровна права — на то и поговорка: сорок лет — бабий век, сорок пять — баба ягодка опять. Больно ласкова государыня с графом Разумовским стала, а в разговорах былой откровенности нету. Если кто с Алексеем Григорьевичем не согласится, тут же вскинется: ее мысли он высказал, она сама иначе бы никогда не сказала. Другое дело в беседах с Маврой Егоровной или Анной Карловной. Примечать графские промашки стала. Не худо бы, мол, книжек почитать, ученых людей послушать. Иной раз и при нем досады не сдержит — все скажет.
Оно и верно, чему Алексей Григорьевич учиться мог? Да не поздно ли теперь за голову хвататься? Французский диалект — сколько лет при государыне — не перенял. О немецком и итальянском и не мечтай. Государыня, может, не так чисто, да на всех трех языках изъясняется. О крестницах так и сказала, чтоб Аннет и Катерина на всех трех обучались. Не худо бы к тому английский присовокупить, да и русский не помешает. На нем сама больше всего ошибок делает, так пусть крестницы сильнее ее будут. Графиня Мавра Егоровна вмешалась, не много ли девочкам? Отмахнулась, только то и запомнишь, что в младенческие лета, играючи, услышишь.
Четырем языкам учителя девиц наших учат. Аннет порой и поленится. Катюша только бы над тетрадками да книжками сидела. Аннет более танцам прилежит, танцовщика на урок еле дождется. Катюша к музыке более расположена — отличной клавесинисткой станет. Анна Карловна с великим удовольствием садится слушать, как Катюша экзерсисы свои исполняет. Есть у нее грех. Как не быть! Во всем первой быть хочет. Никому нипочем не уступит. Чтоб толковали кругом, что лучше всех, хвалили. За похвалу живот положить может. Нелегко ей с таким нравом, ох нелегко.
Вот толкуют, государыня театральным действам привержена. Что оперу италианскую, что пиесу французскую комическую — все до конца досматривает, от души веселится. В театр на репетиции машинерии непременно ездит — посмотреть, как машина чудеса всякие на сцене представляет. День за днем на спектакли ходит. И стихосложение не забывает. С нами, оно правда, о виршах своих новых более не толкует, а пиитам суд чинит. Тредьяковского, придворного сочинителя Анны Иоанновны, на дух не принимает. Да и как принять — больно много императрице покойной од слагал, перед правительницей тоже у ног расстилался. Такое не забывается. Но государыня чаще о скуке толкует: мол, длинно и замысловато Василий пишет, читать скучно, безрадостно.
Тут уж без Теплова Григория Николаевича дело не обошлось. Не без его суждения. Хоть и молод, а при цесаревне еще давно был. В школе Феофана Прокоповича на Черной речке в Санкт-Петербурге учился. В Германии пару лет провел. Толки-то разные о нем ходят. Будто не чужой он преосвященному Феодосию человек, а даже самый родной. Потому, дескать, Феофан на него одного денег не жалеет. Может, и впрямь сынок: кто Богу не грешен, царю не виноват? Перед восшествием нашей государыни на престол адъюнктом в Академии наук стал, а по восшествии в доме Алексея Григорьевича — свой человек. Ученость графу заменяет. На все руки мастер: письмецо ли какое написать, слово сочинить, господам министрам ответ придумать. Сейчас с младшим братом графа Кирилой Григорьевичем за границу отправился. А вместо секретаря у графа человек тоже предостойнейший — Ададуров Василий Евдокимович, из первых воспитанников академической гимназии. Господин профессор Бернулли Ададурова адъюнктом при кафедре математической оставил. Только Василий Евдокимович и переводами занимается, и русскую грамматику составил. Не случайно государыня его для обучения языку российскому к великой княгине назначила. Слово единого по-российски супруга наследника не знала, а теперь, поди ж ты, как чисто говорит, редко-редко слова подбирает или от волнения по-свойски выговаривает.
Василий Евдокимович и мне всех учителей для наших девиц присоветовал. Катюша о российском просила, Ададуров господина Бехтеева назвал. Слог, мол, у него преотличный. Аннет господина Бехтеева и видеть не желает, а Катюшу от него не оторвешь — часами заслушивается.
— Спасибо тебе, Михайла, за дочку. Ей бы парнем родиться, а девке чего над книжками корпеть — не в коня корм. Все едино: замуж пойдет, все науки перезабудет — до них ли?
— Не скажи, братец, по нынешним временам во французской ли державе, в английской ли дамы свои салоны имеют. Светские люди, господа министры в салонах собираются для приятного времяпрепровождения, о делах толкуют, новостями обмениваются. Не слыхал разве? К ним и послы с поклонами едут дела государственные решать.
— Коли так, из Катерины прок выйдет, супруга бы ей достойного сыскать. С прощелыгой бы да щелкопером не связалась.
— До того еще время есть. Пока похвали дочку лучше — она страсть это любит. Вон братцу Александру за похвалу одну что ни день письма пишет.
— Александру письма? В одном-то городе? Шутишь, поди, братец.
— Какие шутки. Слог свой, дескать, полировать хочет. Обо всем, что на дню было, Александру нашему Романычу описывает.
— И что Александр — неужто глупости такие читает?
— Читает да поправки свои делает, с Катюшей обсуждает.
— Гляди, что деется!
— Дочки своей не знаешь, Роман Ларионыч. Тебе дивиться ей да дивиться, а ты часу не найдешь с Катюшей потолковать.
— Ну уж, уволь, Михайла Ларионыч! По делам дипломатическим ты у нас прокурат, вот и майся с девкой, коли охота.
…А перемены грядут — что глаза закрывать? Все едино готовиться надо. Недолго графу Разумовскому во дворце жить-поживать: надоел государыне — на новое потянуло. С Никитой Бекетовым графиня Мавра Егоровна по старой памяти быстро справилась. Увидела государыня мальчишку за кулисами театра — заснул ненароком, — сердечушко-то и подтаяло. Пошли подарки да посулы. Камер-паж закичился, голову потерял. Только Мавра Егоровна притирания ему присоветовала — чтоб румянец ярче стал. Со свинцом. Ну и стал — все лицо сыпью обметало. День ото дня хуже да хуже. Императрица и так заразы каждой, как огня, боится, а тут ненароком кто и шепнул: не от дурной ли, мол, болезни. Дело молодое, девок кругом много. Государыня на глаза больше к себе камер-пажа не пустила. Наградила щедро, но прочь отослала. Графиня Мавра Егоровна вне себя от радости за Шуваловых да за графа Алексея Григорьевича. Ан, выходит, поспешила с радостью наша графинюшка.
После припадка тяжкого в 748-м государыня чаще на богомолье выезжать стала, обедные да всенощные отстаивать. Известно, коли смерть увидишь, к Богу потянешься. И потянулась. В июле 748-го решила ее императорское величество Саввино-Сторожевский монастырь навестить, а оттуда в Новый Иерусалим отправиться. Вместе с Алексеем Григорьевичем. Честь честью, посемейному. По пути остановилась у Алексея Григорьевича в имении его графском на берегу Москвы-реки. Его будет Знаменское-Денисьево, а через речку Петровское Николая Федоровича Голицына. Время летнее, жаркое. Ночи короткие, душные. Государыня решила поразвлечься — за реку съездить. У князя Голицына скоро свадьба — на Прасковье Ивановне Шуваловой жениться собрался. Государыня любит свадьбы играть. А в Петровском брат невесты — Шувалов Иван Иванович, другой камер-паж.
Известно, государыне он с малолетства представлен. Сама его при короновании в камер-пажи производила, только ко двору являться не требовала. А тут ужин отличный. Музыка в парке. Танцы. Апраксин с Бестужевым-Рюминым подоспели, о производстве в камер-юнкеры Ивана Ивановича попросили. Государыня просьбу сановников тотчас уважила. Больно поторопилась. Граф Алексей Григорьевич на глазах с лица спал. Двор как-никак — чего тут только не бывает.
…Любовь <императрицы составляют> самые безделицы, услаждение туалета, четырежды или пятью на день повторенное, и увеселение в своих внутренних покоях всяким подлым сбродом, лакеями себя окруженною видеть, все ее упражнение составляют. А зло, которое от того происходит, весьма велико есть, ибо она, будучи погружена в таком состоянии, думает, когда она себя тем забавляет, что ее подданные к ней более адорации иметь будут и что потому она меньше их опасаться имеет. Всякая персона высшего ранга, нежели те, с которыми она фамильярно обходится, ей в то время неприятна. Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит…
Маркиз Шатарди — Амелоту. Москва, 1744 г.— Ваше императорское величество, к вам граф Петр Иванович Шувалов с докладом.
— Пусть войдет. Здравствуй, здравствуй, граф. Сделал ли, как просила? Все вызнал?
— Государыня матушка, что успел за один день, вызнал. Коли мало тебе покажется, еще искать буду.
— Ищи, Петр Иванович, только чтоб ни одна живая душа не знала. Ни брату, ни Мавре Егоровне не проговорись. Ни к чему мне любопытство это. А Воронцова Михайлу Ларионыча иной раз и проверить не грех. Лишь бы не догадался, обиды не затаил.
— Понимаю, государыня, как не понять. Вера проверке не враг.
— Не тяни, граф. И без того дел множество. Какие там амурные интрижки у брата нашего, французского короля? Чай, не первую метреску завел — сколько там у него перебывало, а по докладу Бестужева-Рюмина выходит, будто теперь не монарх, а метреска всем в державе ихней заправлять стала. Без нее ни войны, ни мира, ни союза, ни законов. Как такое быть может?
— То-то и оно, государыня, что может — конфиденты наши парижские подтверждают. Да и у министров иностранных здесь тоже окольными путями повыведал: Помпадурша теперь королевой, и весь сказ. К ней подходов ищут, аудиенции просят, подарки везут.
— Помнится, сказывал Михайла Ларионыч, была у короля в метресах одна госпожа. Из знатного семейства. Незамужняя.
— Надо полагать, госпожа де Мэйи.
— Ишь, запомнил.
— Для докладу, врать, государыня, не стану, записал, а так нешто имена их иноземные в памяти удержишь?
— И то верно. Так к ней в Версаль младшая сестра поселилась, вдовушка, а король на нее тут же глаз и положил, на вдовушку-то.
— Господин министр назвал — маркиза де ла Турнелль.
— Может, и так. Король-то глаз положил, а маркиза условия его королевскому величеству поставила: сколько ей на содержание в год давать, чтоб детей, коли родятся, узаконить, а перво-наперво сестру с глаз долой.
— Король на все согласился и титул ей герцогини де Шатору дать изволил.
— Титул-то недорого королю стоит. Откупился, поди, и в доме тишина. Развлекайся, когда охота придет.
— Оно только на вид так, государыня, а на поверку его величество и без герцогини шагу ступить не мог. Дело-то недавнее — герцогиня Шатору, никто другой, его королевское величество к союзу с Пруссией против Венского двора склонила. Она же со своим государем на поля сражений отправилась — король перед ней молодцом показаться хотел. Захворал в лагере, герцогиня его и отхаживала.
— Ни от кого не скрывалась?
— Скрываться-то они, может, и скрывались, да от людских глаз нешто убережешься. Куда ни приедут, королю и герцогине два дома рядом готовили и через стенку потайной ход на время их пребывания пробивали, а там и снова закладывали, чтоб следов не оставалось.
— Хитро, ничего не скажешь. А как же все кончилось? Откуда Помпадурша появилась?
— Разное толкуют, государыня. Кто ее, правду о коронованных особах, до конца, узнает? Будто дал король обет, коли выздоровеет, с метреской расстанется. Пошел на поправку и впрямь герцогиню от себя отослал. А как совсем выздоровел, снова ее к себе затребовал.
— Любил, значит.
— Может, и любил, аль каприз свой тешил. Только герцогиня в день своего приезда в Версаль захворала да через две недели Богу душу и отдала. Слухи ходили, не от яду ли.
— Что ж, поди, многим поперек дороги встала.
— Да прок-то какой? Герцогини не стало, другая навернулась. Как король ни убивался, свято место пустым не осталось: добрые люди Помпадуршу подсунули.
— Это кто ж такие?
— Не скажу, государыня, не знаю. Про то лучше Михайлу Ларионыча спросить вели — он дока, каждый секрет знает.
— Гляди-ка, кто пожаловал. Легок ты на помине, Михайла Ларионыч. Только что мы с Петром Иванычем тебя поминали, говорил он мне, какой ты в своем деле дипломатий разных прокурат, а я графу про новые порядки версальские рассказать хотела, да все, никак, перепутала. Ты теперь ступай, Петр Иваныч, кланяйся Мавре Егоровне. Услуги твои мне более не надобны. У меня с Михайлой Ларионычем разговор будет.
— Я весь к вашим услугам, государыня.
— Сказывал ты, будто теперь во французском королевстве новая метреска всем заправляет. Выходит, через нее можно и к королю подход иметь?
— Трудно сказать, ваше величество. Мадам де Помпадур такие деньги от короля получает, что ей уже и льститься-то не на что.
— Не скажи, крадут-то люди от двух причин — кто от бедности, а кто от богатства. Бедные по мелочи, богатые по-большому. Чем богатства больше, тем руки жаднее. Сколько ж Помпадурша королю стоит?
— Судите сами, ваше величество. На наряды полтора миллиона ливров в год, на притирания, румяны да всякие женские хитрости — три с половиной, на придворных ювелиров — два. Да к тому прибавить надо на лошадей — три миллиона, на прислугу — полтора да на театр — четыре. Оно все вместе на шестнадцать миллионов ливров и потянет. На что такая метресса позарится?
— Батюшки, в глазах потемнело. Российской императрице впору, и все это лакейской дочке, под забором выращенной.
— Лакейская-то дочка она на словах, а на деле что-то иначе получается. Сызмальства ею синдик Ленорман де Турнем занимался. Лучших учителей нанимал, что рисовать, что на клавесинах да арфе играть, что танцевать, что на сцене представлять или стихи читать. А в возраст вошла, за собственного племянника Ленормана Д’Этиоля выдал. Синдик через друзей ее вовремя и королю показал. Ахнуть не успели, а уж она на месте герцогини Шатору всем заправлять стала, министров снимать да назначать, о политике судить.
— Дорогонько королю любовь-то его обходится. Глядишь, казна ради одной девки опустеет.
— Да любви-то уж и в помине нет.
— Нет? Чего ж тогда о ней толковать, о Помпадурше?
— А то, ваше величество, что хоть король повсюду на холодность мадам де Помпадур сетует, ледяной статуей обзывает, из рук его маркиза нипочем не выпустит. Слово, видно, такое знает.
— Надолго ли слова-то приворотного хватит?
— Так ведь госпожа де Помпадур все в новом обличье государю своему является. Раз спектакль разыграет лучше всех королевских актеров, другой концерт музыкальный устроит, третий портрет его величества лучше придворного художника напишет. Королю и занятно и лестно: найди попробуй другую такую. С расчетом куда дольше удержаться можно. А коли король с какой красавицей при дворе и начнет махаться, маркиза и то дозволит, лишь бы дело далеко не зашло, лишь бы она могла себя еще лучше показать.
— А персоны Помпадурши, Михайла Ларионыч, у нас ни у кого нет? Поглядеть хочу.
— Непременно найдется, ваше величество. Не в Петербурге, так из Парижа привезем. Художнику, коли понадобится, закажем.
— Только чтоб не знал никто, а прежде всех Бестужев.
— Не извольте сумневаться, ваше величество.
— Да, еще забыть спросила, партия какая у Помпадурши есть? Дворянство за нее стоит ли?
— Маркиза куда хитрее, государыня. Она сама знатных молодых людей ко двору рекомендует. Король оглянуться не успел, а вокруг все ее люди. За примером ходить недалеко — Пьер Франсуа Иоахим де Берни. Нынче квартиру в самом Тюильри имеет, пенсию от короля, членом французской академии недавно стал. Сказывали, не ждал он, не гадал при дворе оказаться. С детства о духовном звании помышлял. Семинарию Сен Сульпис окончил. А маркиза осемнадцатилетнего аббата королю представила. Собой хорош.
— В осемнадцать-то лет некрасивых поискать.
— А этот будто и впрямь красавчик. Обхождения самого изысканного, характера ровного, мягкого. Стихи тоже слагать умеет. Дамам при случае угодить. Наш конфидент парижский за ним сразу присматривать стал — дипломатией больно интересуется, а Помпадурша тому потакает. Того гляди, министра нового иметь будем.
— Неужто в Петербурге?
— Нет, государыня, того выше — в самом Париже. Умные дамы там великая сила, французы сами признают.
…Батюшки не стало. Большого ума был человек. Слов нет, пожил. Государя покойного Петра Алексеевича всего двумя годками моложе был, а нынче 750-й на дворе. И стольником был, и графом, как государыня Елисавет Петровна на престол взошла, стать успел. Деньгам цену знал — вон состояние какое собрал: на всех сыновей хватит. Дом московский Роману отойдет. Будет с утра благовест крестовоздвиженский слушать, от обедни из стен монастырских возвращаться. По весне в саду монастырском соловьи поют. От березы дух легкий, вольный. Словно и города окрест нет. Тишина.
Надо бы и самому домком московским обзавестись. На всякий случай. Что ни случись, есть где голову приклонить. Анна Карловна слышать не хочет. Сестрице-императрице верит: никогда, мол, доверия не лишит, расстаться не пожелает. А как же с родным племянником быть, с великим князем Петром Федоровичем? Плох ли, хорош, угоден, неугоден, а все родная кровь, да и наследник объявленный. Ан неделями государыня видеть его не желает, к столу своему не допускает, словом не обмолвится. Одно только и слышишь, как извернуться, чтоб наследования его лишить, чтоб державы Российской ему не оставлять. Родной, а тут всего-то и дел — сестрица двоюродная. Сегодня в чести, завтра в забвении.
Слыхал, Петр Алексеевич Соковнин двор свой московский торговать собрался. В Сретенской Большой улице, в приходе Спаса в Пушкарях. Высокий — в три апартамента. Просторный — всего восемнадцать палат. Сам в гостях бывал. Обои шелковые да лаковые. Коробки у окошек да дверей и панели золоченые. Хоть сию минуту балы давай — не стыдно. На дворе хозяйство целое — конюшня на семнадцать лошадей, баня, деревянных изб людских семь. Анне Карловне не понравилось — под палатами на улицу три лавки каменные. Так на то и улица торговая — каждая лавка доходу по сто рублев дает. Можно спесью-то и поступиться. Вроде и еще одна лавка есть, деревянная, а доход тот же. Четыреста рублей не шутки. Жить в Москве, пока Бог милует, и не надо, только денежки и будут идти. Еще каково при новом-то фаворите дела пойдут. Хоть обхождения Иван Иванович Шувалов пока и мягкого, да кого власть не портит. Слаб человек, ой слаб, а этому и вовсе едва за двадцать перевалило. Держится достойно — сызмальства таким был, а душой мальчик еще, несмышленыш.
— Никак, засиделся вчера долгонько, Иван Иваныч? Опять от писаний своих оторваться не можешь? Гляди, до времени постареешь — что за радость! Нет потанцевать аль за картами поразвлечься. Огорчаешь ты меня, мой друг, слов нет как огорчаешь!
— Прости, государыня, если гнев твой нехотя навлек. Только сама знаешь, до танцев я не охотник, а за картами скучать начинаю — такой уж нескладный выдался.
— Иной раз думаю, может, меня опасишься.
— Тебя, матушка? С какой такой стати? В толк не возьму.
— Себя не выдать, коли с какой дамой помахаться вздумаешь. Дело молодое, не без того ведь.
— Чем же обиду такую, государыня, от тебя заслужил?
— Какая обида! Грех да беда на кого не живет.
— Да тут ни греха, ни обиды. Рядом с тобой, государыня, ни на кого и глаз-то подымать охоты нет. Коль с лица смазливы, обхождения не знают. Коли обходительны, все равно для разговору не годятся: амуры одни на уме.
— Так-то мой двор, Иван Иваныч, тебе плох? С европейскими не сравнится?
— По мужеской части еще как сравнится, а вот по дамской — далеко нашим дамам до французского политесу. А ведь будут такие, государыня, право слово, будут, и скоро.
— О ком это ты?
— Да хоть о крестницах твоих Воронцовых, что Анна Карловна всегда в одинаковых туалетах водит: близняшки — не близняшки.
— А одногодки, это верно. Так разглядел ты их, Иван Иваныч?
— У Анны Карловны с визитом был. Она девиц пригласила.
— Аннушка-то куда как хороша, вторая мать будет. Катюша, та похуже — тоже в мать, да покойнице красотой хвалиться не приходилось. Ее сестрицы старшие, Лизавета да Марья Романовны, попригожей будут. Бойкие.
— Что ты, государыня, уж бойчее Катерины Романовны вроде и быть нельзя. Прямо в глаза смотрит, на каждый вопрос тотчас отвечает, от шуток не смущается. Я уж и то диву дался, сколько для своих лет книг прочитала. Кантемировы оды одну за другой наизусть читает. Над Тредьяковским посмеялась — придумщик, говорит, от него язык наш смысл теряет.
— Неужто сама так и сказала?
— Сама, государыня, сама. Графиня остановить Катерину Романовну решила: мол, не след в ее-то годы придворного пиита поносить. А Катерина Романовна как начнет его вирши читать, графиня сама смехом зашлась. Да еще добавила: государыня наша куда лучше сочинять умеет.
— Не иначе Анна Карловна порассказала. Да и то сказать, когда это было: все временем припорошило.
— Нет, государыня, истинную поэзию никакое время не припорошит. Нас всех давным-давно и в помине не будет, а здесь все твои песни распевать станут, как намедни графини молодые Анна Михайловна да Катерина Романовна на два голоса спели — только что в пляс не пошли: «Во селе, селе Покровском, середь улицы большой». Любо-дорого послушать.
— Вот разодолжил, Ванюша, вот разодолжил — ровно теплом весенним пахнуло. Что ж раньше-то молчал?
— Да к слову, государыня, не пришлось.
— А еще чему графинюшки наши обучились, чем порадовали?
— Не поверишь, государыня, как начала меня Катерина Романовна расспрашивать, уж и не вспомню, как ответ держал. Все про сочинителей французских — откуда толь о них наслышалась.
— Ты-то хоть не осрамил, Иван Иваныч? Это тебе, друг сердешный, не с Ломоносовым разговоры разговаривать. Девичий ум любопытный: захочет вызнать, все вызнает. Ай да Катюша.
— Осрамиться не осрамился, а попотеть пришлось — Анна Карловна подтвердит. Уж графинюшка Анна Михайловна позевывать начала, а Катерине Романовне все неймется. Только на том и спасся, что обещал графине новинки парижские присылать — здесь-то их найти негде.
— А Аннушка неужто ни о чем не попросила?
— О нотах, государыня, новомодных. Усиленно просила, раскраснелась даже вся — графиня ей выговор сделала. Да, поглядишь да позавидуешь.
— Чему это вдруг, Иван Иваныч?
— Образованности. Немало сил надобно приложить, чтобы таких барышень воспитать. Да и под родительским приглядом.
— Ах, вот ты о чем. Так ведь и тебе никто не мешает нашей принцессой заняться. Сам говорил, способная, только мала еще очень. Да вот и Катерина Романовна не у отца с матерью растет.
— То-то глаза у графинюшки грустные.
— Грустные. Замуж выйдет, домиком своим обзаведутся, грусть-то, глядишь, как в воду канет. Не дам я им обеим, невестам моим ненаглядным, в девках засидеться. С таким-то приданым да родством женихов сыскать куда как просто.
— А нашей принцессе?
— Неужто труднее? Дал бы Бог веку.
— Даст, государыня, непременно даст на радость нашу. На мое счастье несказанное.
— Графиня. Графиня-матушка. Горе-то какое. Катерина Романовна, Катерина Романовна наша…
— Господи. Да говори же ты, Дуняшка, толком говори.
— Уж и не знаю, как сказать, Анна Карловна, в жару вся мечется, ротик-то открыть не может, Господи.
— За дохтуром послать немедля.
— За которым прикажете?
— За Бургавом, как водится. За кем же еще? Да времени, времени не теряйте.
— Если разрешите сказать, графиня, может, с Бургавом следует повременить.
— Как это повременить? Почему?
— Лейб-медик он, у государыни что ни день.
— А как же иначе?
— Так вот, а болезнь, похоже, у фрейлен графини заразная. Помнится, ее императорское величество указ издали, чтоб не только что во дворец приезжать, а из города увозить больных немедля, дабы его высочество наследника, не приведи, не дай Господи, не заразить.
— У вас есть подозрение на оспу, фрау Ильзе? А как же, как Аннет? И я? Боже мой, Боже мой. И тогда мне нельзя являться ко двору, не говоря об опасности быть обезображенной. Лицо, побитое оспой, — это же чудовищно. Пошлите немедленно за графом.
— Но, может быть, все лучше решить до его прихода.
— Почему? И как решить? Я не знаю, просто не знаю.
— Да вот управляющий идет, он непременно подскажет.
— Степан Ефимович, ты слышал?
— Слыхал, графиня, Дуняшка все сказала. Так понимать надо, корь это. Болезнь тяжкая. Около больной день и ночь сидеть надоть. Жар держаться долго будет. И не простудить чтобы — двери, окна перво-наперво законопатить…
— Ты совсем с ума сошел, Степан. При чем здесь это? Что мне делать и Аннет? А Катерину Романовну в имение отправить сей же час. Вы, фрау Ильзе и фрау Эмма…
— Матушка барыня, как отправить? Больное дите за тридцать-то верст, по морозу? Да не довезем мы Катерину Романовну, нипочем не довезем.
— Герр Степан, вам не следует обсуждать решения госпожи графини. В конце концов, это не ее дитя, а в шубы можно хорошо закутать. Прислуги больше послать, наконец.
— Да, да, вот именно — больше прислуги. Чего же ты стоишь, Степан Ефимович? Чего еще ждешь?
— Слаба больно Катерина-то Романовна. Может, барыня, дом на две половинки разделить, чтоб к больной и от больной никто не переходил? Это мы мигом…
— Никаких половинок. Я хочу с чистым сердцем ездить к ее императорскому величеству и не брать на душу греха лжи. Ее императорское величество распорядилась вывозить больных из города, так оно и будет. Фрау Ильзе, вы всем распорядитесь сами. Я не могу видеть Катрин — это слишком большой риск. Поветрие так прилипчиво.
— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, я за всем прослежу, и уверяю вас, через несколько дней благополучно вернемся в ваш дом.
— Никаких дней, фрау Ильзе. Через несколько недель или месяцев. Собирайтесь же, и счастливого пути.
…Оно, может, и к лучшему, что Анна Карловна сама распорядилась, меня ждать не стала. Откуда решимости набралась. Обычно ни о чем не распорядится, ничем не обеспокоится, а тут… Катеньку жалко. Одна-одинешенька. Дом большой, пустой. Степан Ефимыч сказал, две горницы только и затопили: ей да девушкам. Немки обе при кухне, в людской — там теплее. Как стемнеет, к себе уберутся — и до утра. Девушки под боком, да ведь разоспятся, поди, из пушек пали — не разбудишь. Каково оно, с лежанки-то по полу ледяному идти дверь к ним, в случае чего, отворять. Катенька и не выходит целыми днями от себя. Велит, чтоб дверь плотно прикрывали, а то и от себя скобой заложит. Слышат девушки, как сама с собой то ли разговаривает, то ли вслух читает. Две недели прошло — клавесин открыла. Нет-нет да и поиграет. Похоже, и домой ворочаться не спешит. Последний раз записку прислала — книжек все новых просит. Спасибо, Иван Иванович Шувалов заботится. Иной раз оторопь берет, а ну как глаз на Катеньку положит. Не приведи, не дай Господи несчастья такого. А так — диво невелико. Государыня фаворита-то двадцатью годами старше, а он Катеньки всего четырнадцатью. Тоже немало, только так-то по-божески выходит, мужу старше жены быть.
Нет, нет, и думать про такое не след. Государыня нынче все больше не в духе пребывает. Анна Карловна частенько вспоминает, как по многу раз туалеты перед выходом меняет: к лицу — не к лицу ли. Последнюю пятницу представление на полтора часа задержали: все никак решиться не могла. Гневается, коли фаворит с утра пораньше придет, до полного туалету.
Если разобраться, какие такие ее годы. Жить бы да жить, ан молодости хочется. А как ее, разлюбезную, удержишь, чем приманишь? Вон Анна Карловна, одних притираний цельный поднос, а поглядишь, все не то, что было: там морщинка, там складочка, кожа на шее жухнуть стала. Иной раз спросит, мимоходом будто, что ж, покривишь душой ради мира семейного: мол, для всех годы как годы, для тебя одной, графинюшка, как с гуся вода. И не то чудо, что глупость скажешь, а то чудо, что безоглядно верит.
Катюше, надо думать, куда легче будет. Платья новые принесут, Аннета до ночи перед зеркалом вертеться станет, Катюша спасибо скажет, да и велит убрать, не надеваючи. Мол, будет случай, тогда и надену. А уж с книгой новой сейчас к себе убежит. И сообразить не сообразишь, в кого такая умница. Правду пословица молвит: ни в мать, ни в отца.
— Говорил тебе, Михайла Васильевич, какое чудо встретил. Графинюшка маленькая, Романа Ларионовича дочь, что у вице-канцлера воспитывается, Катерина Романовна. Не поверишь, французскими сочинителями интересуется. В последних месяцах болезнью какой-то прилипчивой болела, в поместье жила, так мне все списки через дядюшку слала. Письмо написала, руками разведешь, как все уразумела.
— Романы какие, любовные, Иван Иванович?
— Стал бы я тебе о глупостях таких толковать. Ты послушай только. Тут тебе и Пьер Бейль, и Монтескье, и Вольтер.
— Шутить изволите, ваше превосходительство.
— Не веришь. Так и я поначалу не поверил. Спросил, чем же Бейль ей интересен показался. Да тем, говорит, что силы в себе сыскал с суевериями и предрассудками бороться. Мол, в человеке все от нравственности, а не от веры.
— Так что же графиня читать изволила, в толк не возьму? Журналов и брошюр его у нас не сыскать.
— Да не о них толк — о Словаре историческом и критическом. Сама призналась, со стола у нее не сходят. День одно читает, день другое. Особенно, сказывала, комментариями интересуется. Не то, мол, любопытно, до чего мысль человеческая доходит, а какими путями выводы те достигаются.
— И кто же наставник юной исследовательницы? От простых гувернеров, поди, барышне такого не узнать.
— В том-то и дело, что до всего сама доходит. С книгами все время проводит. Ныне, как из ее письма выразумел, графом де Монтескье всерьез занялась. «Персидские письма» не один раз прочла, мечтает «Дух законов» у себя видеть.
— Думается, не просто графине будет в обществе нашем. Язвительность господина де Монтескье все заставляет увидеть в ином свете. А уж коли понять суть его куртизанов…
— О куртизанах и речь. Вон как она портрет сих светских бездельников и трутней перевела: «Честолюбие в праздности, низость в надменности, желание обогатиться без труда, отвращение к правде, лесть, измена, коварство, пренебрежение ко всем своим обязательствам, презрение ко всем обязанностям гражданина, опасение добродетелей государя, расчет на его слабости и всего более осмеяние добродетели». И от себя добавить изволила, мол, поразмыслить следует, чем своеволие и деспотизм монархов ограничен быть должен в разумном обществе. Так и подчеркнула: разумном. Поручиться можно, в дому воронцовском никто таких мыслей не держится. Разве что старший братец графинюшки. Молод-молод, а филозофией всерьез интересуется. Они с сестрицей особый род переписки завели. Она Александру Романовичу что ни день письма отписывает: что прочла, о чем думала. Одно сказать могу: дай Бог, чтоб прекрасный цветок сей до времени не увял, не сломился. Думается, тогда жизнь Катерины Романовны бесполезной для Отечества не станет.
Глава 5 Графинюшка
Глаза болят… Ровно кто песку насыпал. Слезу сморгнешь, опять печет. Фрау Ильза велела окошки рядном занавесить. Не хочу. Так хоть через силу глянешь на свет белый. Ветки от пуху снежного долу гнутся. Птица встрепенется — облаком метельным все закружит. Веки примкнешь, снежинки долго летят. Тихо. Утешно. Иной раз снегирь на рябине сядет. Клюет. Не торопится. Сороки — те шумят. Ссорятся. Как девки в девичьей. Одна другой пустяки толкуют. Им в сугроб не сесть. Мимо летят. Не хочу занавески. Ровно в яму могильную провалишься. От тишины страх пробирать начнет. Который уже час пошел, никто не зайдет. У девок на все один ответ: позвоните, графинюшка, — мы мигом. Да что мигом! Покуда услышат, покуда прибегут — лица неохотные, с ноги на ногу мнутся: уйти бы. А немок обеих не надо. Злые. О тетушкиных благодеяниях толковать не устают. Только проговорились: когда прошлым годом Аннет увезли с тетушкой, той же хворью болела. Тетушка ни на час с ней не рассталась. Дочь родная. Любимая. Тетушка налюбоваться не может. Гостям толкует, как Аннет минавет да лансе танцует. Учитель меня хвалит. А для тетушки Аннет все равно лучше.
Глаза бы прошли поскорее. Книжек дядюшка много прислал. Иван Иваныч Шувалов слово держит: целая пачка с запиской его лежит. Фаворит, а все говорят — обходительный. Грубого слова не скажет, голосу не подымет. Во дворце, дядюшка толковал, будто стесняется. Сам первый никуда не идет. Ждет, чтоб государыня позвала, место указала. Каждому слову любезному ответ находит. Университетом занимается. И своих денег не жалеет, лишь бы дело сладилось.
— В толк не возьму, братец Роман Ларионыч, то ли ты в Москве, то ли в Петербурге обосноваться решаешь. Сам говорил, что в Москве новый дом строить затеял, и вдруг на всю зиму решил у нас задержаться. Дела, что ль, какие?
— И так назвать можно, Михайла. А может, поважнее всяких дел.
— Секрет какой?
— Секрет-то секрет, да не для тебя.
— Опасишься, братец?
— Не без того. Помнишь, Михайла, как ты от меня все дела государынины скрыл, как во дворец за правительницей собрались? Зла на тебя никогда не держал, а только так выходит, что нынче мой черед настал.
— Окстись, братец, что затеваешь? Супротив кого?
— Не супротив кого, а на случай. Сам рассуди, здоровье у государыни…
— Нишкни! И заикаться не смей!
— Да я что? От правды не уйдешь, годочки у всех нас не к молодости катятся. Зря, что ли, государыня сразу и наследника назначила, и о браке его беспокоилась. Все люди смертные, от чего до времени Боже избави.
— Не пойму, куда клонишь.
— Чего ж тут понимать. Государыня — благодетельница наша, а вот про наследничка-то уж так не скажешь.
— Да это и государыню крушит.
— Не любит его матушка наша, ой не любит. Видно, сердце-то ее беды от него ждет.
— Что уж, хорошего не жди. Капризов не оберешься. Ни о чем, кроме Пруссии да ее порядков, и помышления нет. Все б ему в солдатики играть да на плацу честь отдавать.
— Кабы в одних солдатиков! Вот мне намедни Лизавета-то моя слово какое молвила.
— Лизавета Романовна твоя?
— Она и есть. Журить ее начал — на наряды тратится непомерно, счету деньгам знать не хочет. А она мне: недолго, мол, батюшка, тебя печалить буду. Бог даст, еще сама тебе помогу да пригожусь.
— Замуж, что ли, собралась? Без твоего благословения?
— Замуж! Такой намек дочка бросила, что озноб пробрал.
— Да ты бы, Роман Ларионыч, загадок мне не загадывал — впрост бы сказал, коли начал.
— То-то и оно, что язык выговорить не решается. Я к Лизаветке приступил со всей отеческой строгостью. А она, она насчет…
— Неужто из той кадрили воронцовской какое воображение себе составила? Ну, собрались твои три дочки, моя Аннет, потешили императрицу, наследника в восторг привели, так что из того? Мало ли что императрица…
— Не о государыне, Михайла, толк. Его императорское высочество куры Лизавете строить стал. Сказывает, давненько уже.
— Погоди, погоди, братец, какой же из великого князя дамский любезник? Разве что взболтнет по случайности, не боле.
— Я так Лизаветке и сказал, прикрикнул, чтобы и думать про такое забыла, не то враз в Москве у братца Ивана Ларионыча окажется. Невестка, графиня Марья Артемьевна, известно, баловства никакого не потерпит.
— А она?
— Что она! Во дворце, говорит, батюшка, не одни залы танцевальные, есть местечки и позатишней. В переходах, мол, всегда свету мало, свечей, мол, жалеют.
— Господи, неужто далеко так дело зашло! Да и Анна Карловна моя как проглядела. А может, все это одно девичье мечтание?
— Экой ты, братец, несговорный! А мне так граф Линар ночами сниться стал. Это когда было, как императрица покойная Анна Иоанновна, упокой, Господи, ее душу, за племянненкой глядела, как Анна Федоровна Юшкова за всем и каждым караул несла, а вот поди ж ты, слюбился граф с принцессой, слюбился же!
— И то правда — чего во дворце не бывает. Вроде все на виду да на слуху, а такое деется подчас. Проверить бы надо.
— То-то и оно, что проверил.
— Ты что? Как?
— По старой памяти к Василию Чулкову с подарочком подкатился. Камердинер довереннейший, за великим князем пригляд держит негласный, ее императорскому величеству все слухи передает.
— Додумался же!
— С горя не до того додумаешься. У тебя одна дочка, дома да под материнским присмотром, а мои-то две дуры во дворце, в тех, прости Господи, переходах, на которых свечей нет. За ними разве что для сплетен прислуга присмотрит.
— Подожди, подожди, братец! Так что же Чулков? Коли чего заприметил, почему мне словечка не шепнул?
— А то, Михайла Ларионыч, из слов я лакейских льстивых выразумел, что ее императорское величество обо всем знает и даже таким обстоятельствам рада.
— Чтоб великой княгине наперекор!
— Вот теперь верно. Мало что Екатерины Алексеевны не жалует, желает, чтобы племянник в том утвердился, от себя супругу отторг. Известно, ночная кукушка денную завсегда перекукует. Днем повздорят, ночью в постели к согласию придут.
— Стой, стой, Роман, не все так просто. Должно быть, её императорское величество о присмотре за наследником печется. Воронцовы свои, Воронцовы не выдадут, коли что, знать дадут.
— Может, так поначалу и думалось, не спорю. Да Лизаветка моя не тот пароль загнула. У нее, дескать, дорога, вымолвить страшно, на престол всероссийский.
— Это каким же манером?
— Самым что ни на есть простым. Так и отрубила: неизвестно, батюшка, какая у кого судьба, глядишь, и отцу дочке к ручке прикладываться придется. Забыл, мол, как Алексей Долгорукой да все его семейство государыню невесту Екатерину Алексеевну чествовали, а потом и о правах ее хлопотали.
— О Господи, придет же на ум такое. Хоть бы напомнил дочке, чем дело кончилось. Одной ссылки мало оказалось, спустя десять лет и до казни дошло.
— Так не государыни же невесты. Лизаветка так и сказала: государыню невесту императрица до конца ее дней чествовала. Вот ведь до чего додумалась!
— Тут расчет был. Государь Петр Алексеевич Младший — Петров корень, его государыня и почтила. Кабы не то, гнить бы той невесте в Березове до конца своих дней. Неразумно рассчитала Елизавета Романовна. А вот если и впрямь Петра Федоровича к рукам приберет, для Воронцовых, несумненно, пользу сделает.
…Снег по колеям темнеть начал. Под окном капель звенит. День ото дня звонче. Садовник к розовым холмам дорожку торит — оглянуться не успеешь, сымать начнет. В теплицах девки спозаранку поют — тетушка молчать велела: сон утренний легкий — спугнут, вдругорядь не заснёшь. Жаль. Хорошо, когда поют. Голос заводной тихо начнет, за ним втора выводит, а тут и все прилучатся. Как в деревне. Вот и разберись, что человеку надо.
Везли в деревню, в забытьи от жару была. Ничего не понимала. Очнулась — комната вроде чужая, неприютная. Акромя постели на печной лежанке да столика со стулом ничего нет. Из углов изморозью тянет. В печке солома трещит. Дымком тянет. Плакать хочется. Не плакала — чего немок радовать. Что ни спросят, на все отказом отвечала, ничего от них, злыдней, не хотела. Как слезы в горле заклубятся, мыслями себя отвлечь можно. Интересными, не сплетни же вспоминать. Радоваться начала, что без Аннет, что в горнице одна, не мешает никто. Думаешь, думаешь — мысли, как шерсть на веретене, свиваются, свиваются. Только что все в разброде, глядишь, и лад найдешь, всему свое место.
В город везти батюшка приехал. Озабоченный. Сказывали, у него в Петербурге ложа теперь. Масонская. И то удивительно, в армии батюшка не служил, а в ложе под его управлением одни почти что офицеры молодые. О просвещении толкуют. Об истории. По возвращении батюшка некоторых им с Аннет представил. Болтин Иван Никитич. Семья старинная, род боярский. Образование преотличное дома получил. С шестнадцати лет рейтаром в конногвардейский полк записался, нынче уж в офицерах. Историей особо интересуется. Толковал, что Россия ни в чем державам европейским не уступит. Если только ей счастье улыбнется. С Монтескье спорить стал. Но Монтескье куда ближе к истине: все зависит в ходе истории от причин нравственных. Для господина Болтина страничку выписала, где Монтескье с Плутархом спорит о той же материи: «Не счастье управляет миром; об этом можно спросить римлян, которые одерживали непрерывный ряд успехов, когда следовали в управлении своем известной системе, и претерпели непрерывный ряд неудач, когда стали руководствоваться другою. Есть общие причины, нравственные и физические, которые действуют в каждом государстве, возвышают, поддерживают или разрушают его. Все события находятся в зависимости от этих причин, и если случайный исход сражения, то есть частная причина, погубил какое-нибудь государство, то за этим скрывалась общая причина, в силу которой государство должно было погибнуть вследствие одной только битвы. Одним словом, главное течение истории народа влечет за собою все частные случаи».
Молодой князь Михаил Михайлович Щербатов особенно батюшке по душе. Известно, богатый. Знатный. По матушке своей, княжне Ирине Семеновне Сонцовой-Засекиной, свойственником приходится. Образование тоже домашнее преотличное получил. С семнадцати лет в Семеновском полку служит, но к службе, сам сказал, сердцем не прилежит. Об устройстве государственном больше думает. Историю российскую изучает.
Но далеко им до Александра Петровича Сумарокова! Каких только сочинений его не читала. О театре, на котором кадеты Сухопутного шляхетного корпуса его комедии да трагедии представляли, тетушка с дядюшкой немало толковали. На «Хорева», «Гамлета», «Синава и Трувора» их с Аннет возили, а на комедии не довелось побывать. Только и запомнились титлы пречудные: «Трессотиниус» и «Чудовища». Александр Петрович к батюшке приезжал. Толковали, что самодержавие тогда хорошо, когда хорош венценосец. А ежели венценосец в тирана превратится, то пагубнее сей власти для народа нету. Такие вирши сразу на память ложатся, словно перевод Монтескье:
О честь, единственный источник нашей славы. На коей истины основаны уставы, Геройска действия и общей пользы мать, Сильна едина ты сан царский воздымать. Коль нет тебя с царем, он Божий гнев народу, И скиптр его есть меч, воздетый на свободу.Дядюшке сии толки не по душе. Ему бы дипломатия одна, а о власти рассуждать не любит. Может, опасится. Иначе чего бы с младшим дядюшкой Иваном Ларионычем встреч не искал. Да дядюшка Иван Ларионыч Петербурга не любит. Малость побудет — и в Москву. Там, сказывают, у него дворец с садами обок Кремля что твой Версаль. Тетушка Анна Карловна так и толковала: садовников из самой Франции выписывал, чтоб королевский сад ему в точности повторили. Может, и поменьше размером, зато на своем берегу реки — у него там Неглинная через сад течет. Баркасы для прогулок плавают.
Всех чудес в Москве воронцовских не перескажешь. Девушку Настю туда посылали учить кружева плести. Без малого год прожила — все в подробностях описала. Дворец Воронцовский на холме, насупротив монастыря Рождественского, который еще при великом князе Дмитрии Ивановиче Донском заложили для вдов и матерей, на Куликовом поле осиротевших. Дядюшка Иван Ларионыч туда большие вклады делал, а церковь свою особую поставил. Для строительства своего архитектора держит знаменитого.
— Худо мне, Иван Иваныч, ой худо.
— Полно, государыня, полно, красавица наша. День непогожий, вот ты и не в себе. Дай солнышку выглянуть…
— Мое солнышко уже не выглянет, и обманывать себя не хочу.
— Не рви ты душу мою, государыня, нет у тебя на то причины. Да хоть сама в зеркало поглядись.
— Гляделась, Иван Иваныч, еще как гляделась. Думаешь, не примечаю, как Чулков половину зеркал из уборной вынес.
— Так это для отделки. Сама же говорила, чтоб по новой моде в серебро оправить…
— Может, и говорила.
— Видишь, видишь, запамятовала, государыня, а теперь на камердинера и клепаешь.
— Кабы… Да нет, больно жалостливо и куафер на меня поглядел.
— Неужто, матушка, за взглядами куаферовыми следить стала? Ты сама посуди, коли впрямь чего бы заметил, так виду ни за што не подал. Куафер что актер, его мыслей не прочитаешь, а на языке всегда мед. Коли взгляд жалостливый, поди, куафера как положено не получилась, исхитриться не знал как.
— Спасибо тебе, ненаглядный мой, что утешить хочешь. Спасибо.
— Не веришь мне, государыня. Да вон, никак, Мавра Егоровна идет — у нее спроси. Ей ли тебя не знать!
— Здравствуй, государыня, здравствуй, благодетельница. Как почивать изволила? Изрядно, видно, — личико что маков цвет. Вот притираний тебе новых принесла, не сомневайся, государыня, Петр Иваныч мой исхитрился — от французского посла достал. Будто бы для меня, чтоб не согрешили ненароком, чего не подсыпали. Да ты не сомневайся, государыня, я и на себе пробовала. Красавицей, что правда, не стала, а и зла никакого не вышло.
— Спасибо, что озаботилась, Маврушка. Ты у нас хлопотунья.
— Ну, хлопотунья не хлопотунья, а для своей государыни все сделаю.
— А чего в такую рань пришла — дело какое? Просьба?
— Упаси Господь, какая просьба. Я так… О притираниях подумала… чтоб к утреннему туалету…
— Хочешь спросить, как я после припадку? Жива ли? Больно крепко меня взяло. Напугались, поди, оба?
— Государыня матушка!
— Ваше величество!
— Да чего уж. Сама глазам своим не поверила, как в себя пришла да на часы взглянула: два часа без памяти пролежала. Шутка ли! Два часа… Так с батюшкой никогда не бывало. Даже перед самым концом. Ну, начнет дергаться, упадет, пена изо рта пойдет, минут пять-десять полежит, а там и помнить не помнит, что с ним сталось.
— Зачем же тебе, государыня матушка, себя с государем Петром Алексеевичем равнять! У государя, упокой, Господи, его душу, падучая сызмальства была. Вспомни, Меншиков чего толковал — будто с годами-то ему много полегчало. А до Нарвы случалось, на дню пару раз в припадке бился. На то и падучая. У тебя же такой напасти николи не случалось.
— Зато теперь случаться стало.
— А ты не торопись, не торопись, государыня матушка, себе приговор выносить. Известно, на бабьем веку перелом такой случается. Хворь не хворь, а недуг временный! Его и лечить не надо — сам пройдет. Потерпеть маленько надо. Каждому б твои силы, государыня, утешение ты наше. Забыла, как верст по двадцати без роздыху на охоте скакала?
— Когда это было…
— Ваше величество, то, что пристало юной цесаревне, не пристало императрице всероссийской. И пробовать нужды нет.
— Вот-вот, Иван Иваныч, а в карете-то я двадцать верст как-никак, а проеду.
— Что ты снова, государыня матушка, все в потемках да в потемках? Иван Иваныч, не кликнуть ли камер-юнгфер, чтоб занавеси на окнах подняли? Уж день занялся, да такой погожий.
— Нет, нет, не смей!
— Так чесаться, туалет делать все равно при свете станешь.
— Сказала, нет. При свечах. Мне много света не надо.
— Как велишь, государыня. Мне лишь бы тебе угодить.
— Знаю. Ступай лучше, Мавра. Или нет, погоди. Распорядись там, чтобы от сего дня покойников мимо окон моих ни под каким резоном не носили. Пусть другую дорогу найдут. А то как на кладбище живешь: так и тащат покойников, так и тащат. И чтоб в близлежащих ко дворцу нашему церквах их не отпевали.
— Ваше величество, вы правы — это душераздирающее зрелище, которое не должно ранить вашу природную чувствительность. Мы все предусмотрим.
— Да и вообще, пусть поменьше под окнами снуют в экипажах. Покоя нет, тишины. И еще, чтоб никто в трауре ко двору не являлся и ни о каких смертях мне не докладывал. Хватит!
…Вспомнила, вспомнила! Храм Николы в Звонарях. Тетушка, графиня Марья Артемьевна, не пожелала ни в приходской, тем паче в монастырский храм ходить. О монастырском сказала, что в нем стоны великой княгини Соломонии из роду Сабуровых, первой супруги великого князя Василия III, слышит, как ее насильно постригали, как плетью бояре били, когда монашеский куколь на себя надеть не давала. Понять графиню не трудно — какую жизнь страшную прожила. Когда батюшку ее, Артемия Волынского, в Петербурге казнили, ей едва пятнадцать стукнуло. Тоже насильное пострижение приняла и в сибирский монастырь выслана была. Только характер у княжны отцовскому под стать. В день пострига обет молчания на себя наложила. Два года, что в одиночной келье провела, ни единым словом ни с кем не обмолвилась. Милости не просила, на голод и холод не жаловалась. Что князья Волынские! По матери Марья Артемьевна самому государю императору Петру Алексеевичу племянница двоюродная.
Через два года княжну из монастыря забрали, от монашеского обета освободили. А она будто застыла вся. Ни тебе веселья, ни придворной жизни. Обяжет императрица — ко двору приедет, вечер просидит, не обяжет — и вовсе месяцами являться не будет. В туалетах полутраур соблюдает. Больше всего о могиле отца хлопотала, чтобы со всеми почестями где казнили — у церкви Симеона и Анны, там и погрести, и памятник достойный поставить. Тетушка Анна Карловна говорила, будто укором совести всем была. Виноват — не виноват, каждому не по себе становилось. Спасибо, приняла Марья Артемьевна предложение дядюшки Ивана Ларионыча. Твердо сказала: в Петербурге при дворе жить не станет. Милостей от императорской фамилии принимать не станет — ни в чем не нуждается. А что дорого было, и так у нее навеки отнято — не вернешь, не забудешь. Государыня Елизавета Петровна спорить не стала. Может, и впрямь, как тетушка Анна Карловна толкует, лиц постных при дворе не терпела. Супругам Воронцовым-младшим полный апшид дала и разрешение Ивану Ларионычу проживать в старой столице. Как-никак человек служивый. Мало что генерал-поручик, сенатор, Вотчинной коллегии президент. Они все друг, на дружку непохожие: батюшка, дядюшка Михайла Ларионыч да дядюшка Иван Ларионыч. Батюшка то ли от службы сторонится, то ли должности достойной не присмотрел. Дядюшка Михайла Ларионыч, он всю жизнь при дворе. Иван Ларионыч память тестя блюдет.
Артемий Волынский против злого самодержавия выступал. Чтобы непременно Сенат был, как при Петре Великом, и нижнее правительство, законами ограниченное, безо взяток и лихоимства. Каждому сословию, дядюшка Михайла Ларионыч толковал, привилегии большие — что духовному, что городскому, что крестьянскому сословию. О грамотности много пекся — чтоб неграмотных в России не оставалось, а от духовенства и священничества образованности требовал. Так и писал в своих сочинениях, что России монархия необходима, только бы государь священные права шляхетства соблюдал. Бумаги его все в Тайную канцелярию свезли, но кое-что уберечь удалось. В деревне по застрехам не шарили, а князь доносчиков опасился. Дядюшка сказывал, коли в Москву соберусь, у графини Марьи Артемьевны полюбопытствовать могу. А рассуждения его были о гражданстве, о дружбе человеческой и об улучшении государственного управления. Графиня Марья Артемьевна с чужими разговоров не ведет — так молчуньей и осталась, а с племянницей потолковать может. Видно, в справедливом управлении такое прегрешение, что за него головы посеред столицы рубят да воткнутыми на колу держат.
— Михайла Ларионыч, конфиденцию с вами иметь хотел бы, коли есть у вас на то время и охота.
— Всегда к услугам вашим, Иван Иваныч. Чем могу быть полезен?
— Польза-то у нас здесь общая выходит. Хотел я у вас спросить, давно ли от братца Ивана Ларионыча вести имели?
— Поди, с неделю назад письмецо от него получил.
— В благополучии ли пребывает?
— Грех пожаловаться.
— Вот и отлично, а у меня к нему просьба — разузнать, как там на самом деле господин Локателли подвизается. Антрепризу в Петербурге бросил, в старую столицу перебрался. Что там поделывает, успех имеет ли?
— А о том я известен и без брата. Петр Васильевич Урусов приезжал, сказывал. Очень Москва Локателлиевым театром занята. Жаль, что Оперный дом впустех стоит. Старая столица к нему попривыкла.
— Да уж там, кроме государыниных визитов, никогда спектаклей не будет. Дорого, хлопотно, да и статочное ли дело ради москвичей декорации придворного театра взад-назад возить. Государыне беспокойство и неудобство одно. А вдруг в те самые дни, что актеры в Москве будут, захочет какую оперу послушать.
— Вот-вот, а Локателли тот в Красном Селе театр новый срубил. Быстрехонько управился — трех месяцев не прошло.
— В Красном Селе? Не далековато ли?
— Так и Лефортово не ближний свет. Поди от Кремля до Кокуя дотащись, да еще по морозу аль в непогодь. Москвичи привычные.
— Да ведь, помнится, на Красном пруду только на Троицу гулянья бывали — простой народ веселился.
— У Локателлия и для простого народу места хватит — на три тысячи мест театр-то, и это безо всякого утеснения. А коли охотников больше найдется, то и потесниться можно.
— А представления какие? Пиесы-то откуда берет?
— Что и в Петербурге показывал — оперы всякие итальянские с чудесами и машинами.
— Презабавно! А на каком же диалекте актеры изъясняются?
— На итальянском.
— И без переводу?
— И без переводу, ваше сиятельство. Особенно по вкусу москвичам «Граф Кармелла» пришелся. На неделе хоть раз да покажут.
— Я ведь не случайно любопытству волю дал, Михайла Ларионыч. Авторов у нас, сочинителей молодых немало. Здесь-то их наши бывшие кадеты представляют, а в Москве быть такого не может, чтоб университет открылся без театру. Надо быть и о театре похлопотать, полагаю. Вы сами-то сочинения Александра Петровича Сумарокова читали ли?
— Читал-с с великою приятностию. Да вот у меня моя Катерина Романовна великая его почитательница. Наизусть множество его любовных пиес, тем паче монологов знает.
— Про то и я бы догадаться мог. Сочинения господина Буало, что я по просьбе графинюшки ей переслал, образцом Александром Петровичем провозглашаются. Да вот что-то в театре я племянницы вашей не вижу. Не захворала ли, не дай Господь, снова?
— Бог миловал. Бог миловал, ваше сиятельство. Тут уж пожаловаться должен: сладу с нашей графинюшкой нет. После болезни приехала, только над книгами и сидит. Комнату отдельную от Аннет попросила, чтоб сестру не беспокоить, до первых петухов читает. Ей бы молодцем родиться, великих бы успехов в науках достигла.
— Ваша правда, Михайла Ларионыч. Способности у Катерины Романовны только позавидовать. Кажется, на всех диалектах читает. Мне записочки благодарственные за книги раз по-французски, раз по-немецки, а последний раз по-английски написала. И слог, доложу вам, преотменный. Мысли свои ясно выражает, а ведь почти дитя. Откуда бы осведомленность такая!
— Сам дивлюсь, ваше сиятельство. Гости ли к нам съедутся, дипломаты ли с визитом заглянут, графинюшка тут как тут — к каждому с расспросами. Страны ее интересуют чужеземные, обычаи, а более всего устройство государственное. Кажись, о парламентах европейских не хуже чиновников наших знает. А в гостиной у тетушки скучает. Выдавать себя не хочет, а все предлогу ищет, чтоб уйти да снова в своей комнатке запереться. Супруга моя жаловалась — к портнихе не выманишь, о фасонах толковать нипочем не будет. На все один ответ: «Как изволите, тетушка! Как скажете, тетушка! Как Аннет, так и мне — на Аннет меряйте!» Это где ж такое видано, ведь, того гляди, заневестится, при дворе придется бывать. Неглижировать куафюрой да туалетами никак нельзя.
— Полноте печалиться, Михайла Ларионыч, Катерина Романовна в каждом туалете первой в обществе будет. И собой хороша, и умна, и повадлива. Неужто вам наши махалки больше по сердцу?
— Нет, нет, от того Боже избави, но ведь молода племянница — жизни порадоваться в самую пору. Не поверите, что в альбоме своем дала мне прочесть:
Когда вступил я в свет, вступив в него, вопил, Как рос, в младенчестве влекомый к добру нраву, Со плачем пременял младенческу забаву, Ростя, быв отроком, наукой мучим был, Возрос, познал себя, влюблялся и любил, И часто я вкушал любовную отраву, Я в мужестве хотел имети честь и славу; Но тщанием тогда я их не получил. При старости пришли честь, слава и богатство; Но скорбь мне сделала в довольствии препятство, Теперь приходит смерть и дух мой гонит вон. Но как ни горестен был век мой, я стонаю, Что скончевается сей долгий страшный сон: Родился, жил в слезах, в слезах я умираю.— Как же, сонет господина Сумарокова, и преотличный. В отменном вкусе племянницы вашей, граф, никто усомниться не может. Сожалею, что лишен возможности частых бесед с нею.
— Для нее и так честь великая, что ваше сиятельство ее своей благосклонностью дарит. А за новинки книжные уж и вовсе не знает, как благодарность свою сердечную высказать.
— Пустяки, сущие пустяки. Мало здесь до них охотников, так что мне в радость ими поделиться. Я и государыне докладывал не раз о редких успехах ее крестницы. Большое в том удовольствие ее императорское величество имела.
— Премного благодарен, ваше сиятельство. Всенепременно графинюшке нашей передам. Только…
— Только? Никак, в чем засомневались, Михайла Ларионыч? Не таитесь — со всей откровенностью скажите.
— Ваше сиятельство, Иван Иванович, сердце у вас золотое, ко всем снисходительное — всем то ведомо. Только, может, не след государыню нашу пустяками такими лишний раз утруждать…
В Москве лето — за город уезжать не надо. Дядюшки Ивана Ларионыча палаты старые, сводчатые — в Петербурге нипочем не сыщешь. Под новый отели только фундамент подводят. Место высокое — промеж Кузнецкого мосту и площадью, где дровами да животиной торгуют. Сад и впрямь загляденье. Беседки, гроты, статуй множество, боскеты цветочные. А река Неглинная прозрачная-прозрачная. Повсюду дно видно, рыбешки плещутся. С Невой не сравнить, а красиво. Тихо течет, не грозно. Каждый день на яликах прогулки с музыкой. Музыканты с рогами на другом ялике плывут, чуть-чуть поодаль. В теплице деревья персиковые, ореховые. На лето теплицы раскрываются — как роща стоят. Еще тутовое дерево во множестве. Сказывали, было таких рощ в Москве множество — при государе Алексее Михайловиче собирались свой шелк вместо привозного делать. Деревья вырастили, а с червями не получилось. Смоковницы без уходу пропали почти все, а у дядюшки стоят. На кисейное платье одна ягода упала, Настя свести не могла: краску из них делают, чернила, помнится.
Тетушка, графиня Марья Артемьевна, до разговоров не охотница, а бумаги показала. Смотреть смотри, а от вопросов уволь. Одно письмо с ее дозволения списала. Ее батюшке покойному его брат двоюродный из Москвы писал, когда Анну Иоанновну на престол шляхетство выбирало. Мол, своими руками собственную свободу погребли. По «Кондициям» следовало императрице во всем со шляхтой советоваться, ее решениям послушной быть, а они просить стали «Кондиции» преступить и самодержавие принять. Тетушка Марья Артемьевна сказывала, не менее сорока тысяч недовольных в крепости сгноили, кого казнили, кого в Сибирь послали. Все новой императрице радовались — мол, Елизавета Петровна с милостью да правдой придет. Ан не вышло. Еще больше народу в Тайный сыск да на каторгу пошло. Тетушка Марья Артемьевна сказала, едва не вдвое больше. Да и казне досталось. Там Бирон да курляндцы до нее добирались, а тут семейство Разумовских, многолюдное да ненасытное. Имущества-то за душой у них никакого, а жить желают на императорской ноге. Граф Алексей Григорьевич не уставал за родню просить, и все побольше да получше. Иван Иванович Шувалов, тетушка сказала, всех в изумление приводит: ничего от императрицы не берет, от званий да титулов наотрез отказался. Тетушка слово непонятное бросила: ему, мол, и так вся Россия принадлежать может, и без императрицы Елизаветы Петровны. Спросить графиню — резона нет: говорит только по своей воле, когда захочет и о чем захочет. Иначе даже дядюшка Иван Ларионыч словечка от нее не добьется. Тяжело молчит, так что подступиться боязно.
Другой раз сказала: будто народ несправедливости не видит. Государыня всем Разумовского как мудреца да благодетеля представляла, а на деле новоиспеченный граф так пастухом и остался. Вон в Тайном сыске сколько дел — люди про него да императрицу толкуют. Сначала те, что ко дворцу ближе. Тут тебе и капитан-поручик Преображенского полка Тимирязев — тетушка его знавала, и дворецкий мундшенкский помощник, и бунчуковые товарищи из Малороссии, и солдаты, и однодворцы, и монахи. У одного — строителя Троицко-Волновского, близ Белгорода монастыря иеромонаха Пафнутия, тетушка на богомолье была. А с годами и попроще люди пошли — крестьяне, солдаты, дворовые. Купцов немало. Что ж, каждого в застенках пытать, кости ему перемалывать, на дыбе вытягивать, а потом еще и христианами называться? Тетушка в разговоре побледнела вся, губы дрожат, рук на коленях сплести не может. Все своими глазами видела, через все сама прошла: «Не может самодержец без законов править, не может!»
А иеромонах Пафнутий тем Тайный сыск прогневал, что подробности о венчании государыни с графом Разумовским знал. Не он один — тетушка называла: тут тебе и генерал-майорша Бредихина, и иеромонах Троице-Сергиевой лавры Тимофей Куракин, и строитель приписанного к Троице-Сергиевой лавре Троицкого Богоявленского монастыря в Кремле иеромонах Афанасий Дорошевич. Певчих много — на клиросе во время венчания пели. Венчал супругов в Петербурге, как только государыня на престол вступила, Кирилл Флоринский, которого за то произвели в архимандриты Троице-Сергиевой лавры и в члены Синода.
Тетушка Марья Артемьевна толковала, будто всем тот брак нужен был, чтоб места свои при императрице нововенчанной за собой оставить, ничего не менять. Дядюшка Михайла Ларионыч смолчал, а Иван Ларионыч мириться не стал, в Москву уехал. Только будто бы теперь, как фаворитом его сиятельство Шувалов, государыня доверенного человека к графу Разумовскому посылала, чтоб отдал венчальную грамоту и все ее письма. Граф посланного принял, за бумагами, слова не вымолвив, сходил, а вернуть не вернул — тут же в камине сжег. От себя добавил: в мыслях не держал свою благодетельницу чем обеспокоить, не то что огорчить. За то государыня его снова поместьями да крестьянами наградила. За послушание и безропотность. Он и вправду из дворца по первому намеку выехал. Из апартаментов своих нитки не взял. Похвально, заметил дядюшка Иван Ларионыч, только ему в них ничего не принадлежало, как не могут принадлежать и все многочисленные подаренные государыней поместья, раз ничем он, акромя фаворитизма, их не заслужил. Тут и следует подумать над словами персианина Узбека в письмах Монтескье: «Монархия есть полное насилия состояние, всегда извращающееся в деспотизм… Святилище чести, доброго имени и добродетели, по-видимому, нужно искать в республиках и в странах, где дозволено произносить имя Отечества». Вот и выходит, всему начало — нравственность человеческая.
Тетушка Марья Артемьевна с утра в будуар позвала, про Петербург спрашивала, про Ивана Ивановна Шувалова, какие беседы со мной имел, какие книжки посылает. Более других ей интересен был. Потом посоветовала мыслями своими ни с кем не делиться, ни с тетушкой Анной Карловной, ни с Аннет, тем паче с гостями дядюшкиными или, не дай Господь, с господином Шуваловым. Мол, так тебе здоровее выйдет: от мыслей горести одни, мне ли не знать. Обняла, перекрестила. До дверей дошла, обернулась, чтоб присесть, а она и вдогонку крестит мелко-мелко.
От жасмина в окно духом тянет легким, сладостным. Припозднившийся соловей в кустах щелкает. На Неглинной гребцы поют — катанье такое: к Кремлю, до былых Аптекарских садов. У кого ялики получше — и на Москву-реку. В воскресенье у дядюшки в саду огни штучные будут — день рождения кузена младшего. Народ смотреть со всего города собирается. Песельники петь непременно станут. И театр зеленый на острову. Зрители на берегу, а сцена на плотах, на каждое действие новый плот привозят. С декорациями, с актерами новыми. Живые картины с аллегориями.
— Друг мой, обеспокоена я очень. Совет твой нужен.
— Что случилось, Анна Карловна?
— Случилось, нет ли, большое опасение о Катеньке имею.
— О Катеньке? Да я ж ее за завтраком видел: жива-здорова. Правда что потолковать с ней часу не было…
— Может, и надо бы тебе с ней потолковать, да боюсь, проку все едино не будет. И я к ней с расспросами приступала, и Настю-кружевницу — она ей больше доверяет — подсылала, и Аннет разговоры заводила. На все допросы ответов не дает, а на деле после Москвы есть плохо стала, ночами подолгу не спит — то окошко встанет распахнет, то свечу зажжет, читать примется, то опять загасит да по комнате ходит. Прислуга обо всем докладывает.
— Не неможется ли ей, не приведи, не дай Господи?
— О том и речь, что отвечать не хочет.
— К дохтуру надо.
— Не ты первый, государыня давно примечать неладное стала, сегодня господина Бургава в полдень прислала.
— И что лейб-медик сказал?
— Да ничего не сказал. Болезнь у нее, мол, может быть только душевная. Развлечь графинюшку нашу надо, чтоб над книгами меньше сидела, развлекалась, танцевала, пустяками всякими отвлекалась. Иначе как бы в чахотку не впала.
— Час от часу не легче! Катеньке-то сказали ли?
— Сказали.
— А она что?
— Плечиками повела. Не извольте, мол, себя беспокоить. Вы, что надлежит добрым родственникам, и так сделали. Так что тревожить вам себя не след.
— Ну, вот видишь, Анна Карловна, а ты и в самом деле тревожишься попусту.
— Так я, друг мой, думала, тебе приятно будет.
— Слов нет, приятно, и сердце твое золотое я всегда ценил и ценю. Только есть у нас с тобой, Анна Карловна, дела и поважнее девичьих капризов. Скажи лучше, как государыня?
— Плохо, Михайла Ларионыч, день ото дня хуже.
— Как «хуже»? С чего ты взяла?
— А с того, что Ивана Иваныча к себе пускать перестала. Ночь вместе, три отдельно, это она-то!
— Погоди, погоди! А может, и Иван Иваныч свое отбыл, за графом Разумовским и его черед настал?
— То-то и оно, что нет. Голубит его, ласкает, день-деньской от себя на шаг не отпускает, а ввечеру всем апшид общий и двери на запор. Чулкова спросила, глаза отвел. Значит, правда.
— Так думаешь, от нездоровья все?
— От чего ж бы иного. Сам, граф, сочти, как часто припадки-то случаться стали. Двух месяцев не прошло — и снова.
— А Бургав что?
— Смеешься, Михайла Ларионыч, да нешто Бургав сам себе петлю на шею наденет? Проговорится кто, и конец ему на веки вечные.
— Но Лесток-то говорил — тоже ведь лейб-медиком состоял!
— Сравнил! Лесток французской короне служил — теперь-то кто о том не знает! Знал, что свое от Парижского двора в благодарность за службу усердную получит. Да и здесь у него цесаревна была. Рисковать ради чего было, не правда разве?
— Все правда. Значит, молчит Бургав. Ивану Ивановичу и тому ничего не говорит?
— Шувалову меньше всех. Сам посуди: чем его фаворит за правду, что земля у него из-под ног уходит, благодарить может?
— Смотри-ка, Анна Карловна, как ты у нас в дипломатии разбираться стала, хоть сейчас к какому двору полномочным послом посылай! Не ожидал от тебя, женушка, не ожидал.
— Ты еще и над тем, Михайла Ларионыч, голову поломай, что вечор государыня, фаворита отослав, графа Разумовского к себе на конфиденцию позвала. Чулков сказал, не менее часу при закрытых дверях в будуаре толковали. Алексей Григорьевич вышел весь в слезах, слова вымолвить не мог.
— Господи!
— На мой разум, о завещании речь пошла.
— Никогда не поверю! Елизавета Петровна — и завещание! Да она чужой смерти как огня боится, что уж о своей говорить.
— А кто говорит, конечно, боится, только престол кому-то оставлять надо.
— Да уж, загадка. Правительницы Анны Леопольдовны не стало, так после нее сыновей целый кошель, живы, нет ли, кто знает. Одно верно: тот, что императором Иоанном Шестым провозглашался, земной юдоли еще не покинул, иначе бы торжественного погребения в Петербурге не миновать.
— Так тут и дочери в счет.
— Ну, им до трона далека дорога! А вот наследник-то наш объявленный Петр Федорович, сынок его Павел Петрович.
— Да и великую княгиню со счетов не сбросишь. Она престола из рук не выпустит, и не мечтай, ни мужу, ни сыну. Недаром государыня ее видеть не может, на глаза к себе который месяц не пускает. Ни единому ее словечку не верит, все за притворство да лесть принимает.
— Знаю, Анна Карловна, не любишь ты великую княгиню. Сам ее не люблю, да что делать будешь. Екатерина Алексеевна скольких к себе молодых гвардейцев приманить сумела. Может, еще и то государыне не в удовольствие, что науки да ученые разговоры всем развлечениям дворцовым предпочитает. В танцах пройдется ровно нехотя, будто одолжение делает, а сама опять за разговоры.
— Ну, это-то что за печаль. С таким-то личиком в танцах не покрасуешься. Чистая лошадь!
— Полно, Анна Карловна, в последние годы великая княгиня повыровнялась, повадки набралась, по-российски почти что чисто говорить стала.
— А все для чего? Государыню позлить. Даже стихи слагать стала да гвардейцам почитывать.
— Не стихи, а прозаические сочинения.
— А хоть бы и так! К чему ей это? Государыню дразнить?
— Да Господь с тобой, Анна Карловна, уж это ты, матушка, перебрала. Ведь ей же, если что, на престоле быть придется. Российском престоле! Тут уж и языку научиться не грех, не то что наш Петр Федорович — выговор у него как есть немецкий. А так, как ты судишь, и вашим графинюшкам образованность свою при дворе оказывать не след.
— Не графинюшкам, а Катеньке. Если до сих пор не сообразил, Михаил Ларионыч, так впрост скажу: не нужна государыне ее ученость! Не нужна, и все тут! Хочешь добра племяннице, поменьше при дворе об успехах ее ученых толкуй, а уж тем паче с Иваном Ивановичем Шуваловым. Ты про одно думаешь, другие про другое подумают — государыне все равно донесут. Какой она вывод сделает, никто не поручится. А Катерине Романовне нашей жить надо, замуж выходить, детей рожать, хозяйство вести. Ученость, она чтоб жениха хорошего приманить, не боле. Ктой-то там? Никак, шум какой под дверью? Не девки ли подслушивать принялись? Строжайше наказать надо. Ишь, моду какую взяли, негодницы!
— Тише, Анна Карловна, тише. Это Катенька войти, видно, собиралась, да слова твои услыхала, раздумала. Нехорошо-то как вышло!
— Очень даже хорошо! Не дитя малое — своей головой пора думать. Узнала правду, пусть за ум берется. Сам знаешь, как я ее люблю, да иной раз и строгость не помешает. Это с Аннет так нельзя — Аннет тут же слезами зальется, а то и чувств лишится. Катенька — сильная.
…Не надо было к тетушке идти. Не надо. Сама знаю, девицам книги не к лицу. Да мне-то что! Не буду по-тетушкиному жить. И тайком от супруга из дому уходить не буду. Знать не хочу, что девки мелют, а и то верно, николи дядюшке тетушка об отлучках своих не говорит. Перед ним иной раз еле-еле воротиться успеет, непременно туалет выездной менять — в домашний оболокаться. Будто без него весь день проскучала. Ни о чем знать не хочу, а жить по-своему буду. Тетушка приневоливать начнет, к батюшке попрошусь, за хозяйку у него стану. Не все ему одному мыкаться. Того лучше замуж выйду. Своим домом жить стану. Все по-своему заведу. И мужа по сердцу найду. Не знаю какого, а найду.
За клавесин сесть? Душа не лежит. Лучше книга. Иван Иванович последним разом прислал. Нет, сначала Сумарокова наугад открою:
Суетен будешь Ты, человек, Если забудешь Краткий свой век, Время проходит, Время летит, Время проводит Все, что ни льстит, Счастье, забава, Светлость корон, Пышность и слава — Все только сон. Как ударяет Колокол час, Он повторяет Звоном сей глас: Смертный, будь ниже В жизни ты сей; Стал ты поближе К смерти своей…Оно и верно: предостережение. От злобы да счетов ничего доброго не случится. Бог с ней, с тетушкой. Как это Иван Иванович толковал, что господин Сумароков примеру следует Буало. Буало, Никола Буало-Депрео. На мой вкус, так лучше всего у него сатиры. Королевский историограф, а какой смелости набрался, и король Людовик XIV сердца на него не держал, одобрял! А «Искусство поэзии» — может, Александр Петрович и по его законам свои стихи слагает, мне в виршах не форма — смысл надобен. Разум! Пьер Бейль куда интересней. Его «Словарь» читать и читать. Постулаты церковные, а в комментариях рассуждения: ничего нельзя на веру принимать, все доказывать, подвергать суду разума. Поэзия никогда до таких высот не поднимется, разве что поразвлечь может, как экзерсис на клавесине: уху приятно, и только.
Что дядюшка с тетушкой о великой княгине говорили? Слыхала, что ученостью отличается, по всем вопросам дискутировать может. А в честолюбии какой же грех? Стала великой княгиней, должна и императрицей стать. Не век же государыне жить да править. Река времен и ее в положенный час унесет. Великого князя не люблю. Грубый. По паркету идет — башмаками, как ботфортами, грохочет. Дразнить всех любит. Дразнит, дразнит, а там смехом зайдется — сам себе радуется. На французском выговор плохой — немецкий. Да и по-русски не чисто говорит, в словах путается. Чуть что — на немецкий норовит перейти. Со мной всегда на немецком изъясняется. За локоть больно хватает. В танцах неловкий — того гляди, на ногу наступит, того хуже — волан оборвет. Извинения не скажет — опять захохочет. И с великой княгиней, тетушка Анна Карловна сказывала, груб. В опочивальне на постелю норовит в грязных ботфортах завалиться — бахвалится, что немец, что солдат и в лагере бы ему жить. Может, и верно, да в глаза-то ему не скажешь.
— Михайла Ларионыч, друг мой, я ждала тебя в великим нетерпением. Что так задержался? Уж полночь скоро.
— С господином Пецольдом конфиденцию имел. Веришь, господин канцлер его за нос водить собрался, так господин Пецольд…
— Погоди, друг мой, со своим Пецольдом. Новости у меня из дворца не лучше.
— Неужто припадок опять у государыня?
— Не припадок, другое тут. Знаешь, как ее величество о прошлом поминать не любит, покойников никогда не назовет, а тут целый вечер о матушке своей, блаженной памяти государыне Екатерине Алексеевне, толковать изволила.
— Скажи, Анна Карловна, о тетушке твоей родной.
— Конечно, о тетушке. Так вот, государыня с утра толковать начала, в каких туалетах императрица Екатерина Алексеевна хаживала, какие особливо любила. Зеленого колера не жаловала, всему малиновый предпочитала. Сказывала, как государя Петра Алексеевича не стало, тут же портрет свой в рост с арапчонком написать приказала — платье темно-красное, жемчугом расшитое, а мантия темно-зеленая, с горностаем. Все, мол, дивились, что скипетр на вытянутой руке держала — по силе государю Петру Алексеевичу под стать. А потом захотела, чтоб ее в золотом парчовом платье списали, с диадемой золотой и мантией алой, с горностаем. А при государе супруге, когда по Европе с ним ездила, в желтой робе, синими цветами расшитой, щеголяла, только не к лицу ей была. Петр Алексеевич хвалил. Да, забыла еще малиновое платье с белым кружевом да зеленой мантией на горностаевом подбое…
— Анна Карловна, матушка, смилуйся! Где мне в туалетах ваших разбираться, да и к чему вся опись эта?
— К тому, что никогда такого не бывало. Примета больно дурная. Не к добру.
— Что не к добру? Да толком-то, Анна Карловна, говори!
— А я и говорю. Потом стала епископа Любского поминать, как с ним в Петербурге танцевала, как ее в боскетах Летнего дворца обнимать осмелился, а она и противства ему никакого не оказала. И матушку великой княгини когда с дочкой увидела, сразу губы жаркие ее братца припомнила, так что озноб прохватил.
— Да кому ж государыня такое говорить могла?
— Кабы мне одной, а тут и Мавра Егоровна сидела, и Василий Чулков при туалете прислуживал, и куафер, и камер-юнгферы.
— А Иван Иванович?
— Который сряду день с утра на глаза не допускает, пока не причешется, румян да белил не наложит.
— Ну, а примета-то при чем?
— Погоди, граф, до конца послушай. Мы все как на иголках сидели, кто в пол утупился, глаз поднять не мог, кто уйти норовил. А государыня и Шубина Алексея Яковлича припомнила: где-то он там на Волге, в своих Работках, поминает ли ее добрым словом. Она, дескать, в мыслях никогда его не оставляла.
— Господи! Час от часу не легче.
— А я что говорю! Это ведь к кончине близкой человек памятью к молодым годам ворочаться начинает. К кончине, Михайла Ларионыч. И все руками свои руки гладит, как кожу разглядывает. Усмехается. Встала, ко мне подошла и говорит: Аннет и Катеньку, крестниц моих, замуж бы поскорее выдать, а то не порадоваться мне на их свадьбах. Не успеть. Слышишь, Михайла Ларионыч?!
Глава 6 Ея сиятельство княгиня
Тревога… Теперь и не вспомнишь, когда в доме угнездилась. Ночами ни дядюшке, ни тетушке Анне Карловне спать не дает. Все чудится, кони к крыльцу мчатся. Нарочный, того гляди, в двери стучаться станет, ботфортами по лестницам загремит. Из дворца. Дядюшка с тетушкой друг от друга кроются. За столом молчат, словом не перемолвятся. Анна Карловна одна в будуаре нет-нет слезу смахнет и скорей к туалету, за пудрой, чтоб следов не осталось. Тревога… Из дворца смурные приезжают. Ни новостей, ни толков дворцовых, пересудов. Плохо с императрицей. Прямой болезни вроде и нет, а гаснет Елизавета Петровна, как свеча оплывшая, то былым весельем вспыхнет, то на нет сходит. Мыслями недобрыми мучается. Ни с кем делиться не хочет. Тетушке Анне Карловне все про свадьбу Аннет твердит, будто пристроить торопится, женихов перебирает.
С пустяка будто и началось — кузины государыниной Марфы Симоновны, в замужестве сенаторши Сафоновой, в сентябре 757-го году не стало. Мало ли кругом смертей! И об этом промолчали, как повелось. Ничего государыне не сказали, а она прознала и в гнев — как посмели, откуда смелости такой набрались, чтоб ее сестрицу да без нее в последний путь проводили. Мавра Егоровна не сдержалась — окстись, матушка, не сама ли велела, твою же волю блюли! Слышать ничего не хочет, а там и в слезы. Мол, все в их семействе прибираются, все из жизни уходят. Еле успокоили, в чувство привели.
Мавра Егоровна к тетушке Анне Карловне заезжала, вспоминали, как слезные письма братец Марфы Симоновны Андрей Симонович Гендриков, граф нынешний, Алексею Григорьевичу Разумовскому писал, о милости да деньгах фаворита просил, чтоб перед царственной кузиной за него предстательствовал. Тем часом государыня на Разумовского осерчала: больно просителей много, мошна царская не бездонная, разуму терять не надо. Только дядюшка Михайла Ларионыч братцам Шуваловым, да и Мавре Егоровне большой веры не дает: больно много богатств получить успели да служб государственных. Куда ни кинь, какой-нибудь Шувалов да стоит. Сразу видно — не родня Ивану Ивановичу, бессребренику. Дело это темное, и говорить о нем никто не хочет. По фамилии родственники, а на деле родни Ивана Ивановича никто в глаза не видал. Между тем образование редкостное получил, в деньгах утеснения никогда не знал. Еще дитятей, при покойной царице Анне Иоанновне, во дворце на почетных местах, сказывали, сиживал. От правительницы Анны Леопольдовны, да и самого Бирона уважение имел. Государыня наша и вовсе в день восшествия своего счастливого на престол в камер-пажи без ходатаев да просьб возвела, а ко двору не требовала, словно и законы для него одного не писаны.
Опять не то! Иван Иванович первый нынче в тревоге. Дядюшка толковал, подчас с утра и лица на нем нет. Глаза запали. Вокруг глаз круги черные-пречерные. А о здоровье графинюшки осведомляться не перестает. С каждой оказией из Парижа книжки шлет. На той неделе ноты венские прислал.
На новый 758-й год во дворце еще разговор. Невесть откуда прознала государыня, что маркиза Шатарди не стало, а за ним графа Левенвольда. Будто и дела ее императорскому величеству до них нет. Ан не так все выходит.
— Слыхал новость, братец Роман Ларионыч? Маркиз да Шатарди в Турине скончался. До конца посланником французской короны там оставался.
— Не поверишь, Михайла, от самой государыни узнал.
— Быть не может!
— Еще как может. Недобрым словом его поминала.
— Это-то известно, венценосцы благодарить не любят. Им службу сослужил и с глаз долой, радуйся, что живым ушел.
— А немало тогда денежек маркиз передал, чтобы государыню на престоле российском увидеть, ой немало!
— Не своих же! Только что перед короной отчитаться. Ты-то не в пример больше, и не один раз, тратился. Спасибо, что хоть теперь государыня цену тебе узнала, что ни день во дворец зовет, о делах толкует.
— Лихо тогда Алексей Петрович Бестужев-Рюмин в доверие войти сумел. Все свои промашки враз отыграл.
— Что-что, а в лихости господину канцлеру не откажешь. Понтирует так, что у любого игрока в глазах темнеет.
— Тут и со стороны маркиза промашка была большая. Пришел к государыне на Бестужева-Рюмина жаловаться, что депеши дипломатические вскрывает, а того не подумал, что в тех депешах. Ладно бы дела дипломатические, а то осуждать государыню решил — и не так-то она одевается, и не с тем народом водится, и развлечениями подлыми себя в личных апартаментах тешит. Да и то бы не такая беда, внешности ее императорского величества коснуться осмелился. Шатарди к государыне с гневом, а Бестужев возьми депеши-то и выложи. Только и оставалось маркизу навсегда пределы Российской империи покинуть.
— Не все так просто, Роман. Со стороны оно, может, и гнев простой, на деле не нужен был больше здесь Шатарди. Зачем императрице всероссийской наставления да уроки, что цесаревна хотела, не хотела — принимать должна была? На мой разум, государыня сама предлогу обрадовалась, чтоб от французской опеки навсегда освободиться.
— А как со свадьбой Аннет, братец? Восемнадцатого февраля так и состоится?
— Сама государыня день выбирала, сама о всех мелочах заботиться изволит. Нам с Анной Карловной ее только за милость да ласку благодарить.
— Аннет женихом довольна?
— Ты ж ее знаешь, истинный ангел во плоти. На все вопросы родительские: как прикажете, так и будет.
— А сама, сама-то что? С графиней мыслями не делилась ли, с моей Катериной?
— При ее-то кротости да мягкости, чтоб никого не обидеть, не огорчить? А с Катенькой они давненько секретами делиться перестали. У каждой свое — не мешают друг дружке. Да и что о молодом Строганове поносного скажешь?
— Ну, батюшка, на наш взгляд одно, а на их, может, что совсем другое выйдет. Верно, что хорош молодец. Собой хорош, воспитания самого изысканного. Императрице всегда по сердцу был — старой любви к отцу его никогда не забывала.
— Да, было время, в фавориты Сергея Григорьевича прочили.
— И то верно, сам от своего счастья отказался. Достоверно знаю, не побоялся цесаревне сказать, мол, каждому случаю предел положен, одному ранний, другому попозже, а я вашего императорского высочества верным рабом и слугою покорным до гробовой доски быть хочу, не замай, цесаревна, отступись.
— Так ведь отступилась.
— Всплакнула и отступилась. Утешилась-то и впрямь быстро, зато Сергей Григорьевич от нее всю жизнь ни на шаг. А вот теперь сынка его для Аннет выбрала.
— Хорош-то молодец хорош, да больно учености всякой понабрался. С Иваном Ивановичем до первых петухов толковать готов. Годков девятнадцати батюшка по заграницам его уму-разуму набираться послал. Сергей Григорьевич, покойник, сказывал, и в Женеве лекции слушал, и по италианским землям путешествовал, в Париже химию, физику да металлургию изучал. А вернулся, батюшки в живых не застал — государыня сама о нем заботиться пообещала. Вот слово свое и держит.
— Прямо моей Катерине под стать.
— Не говори! Только Катерина Романовна наша больше филозофическими материями интересуется. А Строганов-младший и потанцевать не дурак, и в карты перекинуться игрок не из последних.
— В сентябре прошлого году сговор-то, помнится, был?
— А как же, только им государыня от мыслей о кончине Марфы Симоновны и развлеклась. Одно меня, братец, заботит.
— Теперь-то что? Больно ты, Михайла Ларионыч, хлопотлив стал, тормошишься все не судом.
— Да ты послушай, потом суди. Аннет вместе со старшими дочками твоими очень к наследнику благосклонна, а жених-то нет. Сколько его в Ораниенбаум великий князь зазывал — ни в какую. Сказывали по секрету, недоученной обезьяной его обозвал. Смелость не в меру показывает.
— Так ты сам ему растолкуй, нешто монархов от сердца кто любит? Не девки красные, не суженые-ряженые. Какие достались, к тем и прилаживаться приходится. Иной раз как на сердце закипит, терпишь, словечком не обмолвишься. А обмолвишься, до скончания веку каяться придется.
— В конфиденции с зятьком богоданным пускаться до свадьбы резона нет, а после свадьбы тем более. Не приведи Господь, в разговоре супружеском Аннету во все посвятит, а уж там через Анну Карловну дорога к государыне куда какая короткая. Тем и живы ведь, братец, что языков не распускаем.
— Твоя правда, Михайла Ларионыч. О Лизавете своей Романовне и говорить не хочу. Одно семье поношение, государыне в глаза глядеть не могу, а что поделаешь.
— Бог даст, молчание твое при новом царствовании всем нам на пользу выйдет.
— Сам знаю, не за горами то время. Государыня что ни день к себе зовет, о престолонаследии разговор заводит, а до конца довести не может. Все меня пытает.
— А ты что?
— А я? Покуда воли ее императорской не угадаю, словом не обмолвлюсь. Ее императорское величество передумает, а за старые-то мысли я в ответе окажусь? Увольте, милостивые государи, Роман Воронцов и так своего часу заждался. Жизнь целая как ночка летняя промелькнула, и теперь самому себя порешить?!
…Вот и нет с нами Аннет. Дружны мы не были, а все в доме пустота. Тетушка Анна Карловна, запершись на своей половине, глаз не кажет или со двора едет. Дядюшка в хлопотах. Брат Александр раз навестил, больше не едет. К тревоге тоска добавилась.
А свадьба распрекрасная была. Государыня сама крестницу к венцу убирала — в придворной церкви венчались, — сама бриллианты на невесту одела. Аннет не грустила, а так — невеселая была. То ли дома родительского, матушки жалко, то ли сердце не очень к жениху лежало. Спросила ее, рукой махнула: стерпится — слюбится, говорит. В церковь вступила — красивей ее ни дамы, ни девицы не было. Красавица писаная, взгляд прямой, гордый. «Да» свое жениху громко, явственно сказала — во всем храме отозвалось. А на коврик у налоя замешкалась первой ступить. И колечко обручальное едва не обронила — жених на лету подхватил. Тетушка Анна Карловна как плат побелела: быть беде. Еще в проходе у Аннет волан один оторвался — на ходу булавкой зацепили. Тетушка разобиделась, когда я пустяками все назвала. Неужто разум человеческий в плену суеверий таких существовать достойно может.
На лето дядюшка с тетушкой, как всегда, в Царское Село собрались. Тетушка без памяти рада: рядом с молодыми Строгановыми жить будут. Что ни день дочку видеть сможет. Июнь холодный стоит. Два раза снег идти принимался, а то и дождь со снегом. Ветер в оконницах гудит — еще на лето и не открывали. Вся надежда — удастся у тетушки с дядюшкой отпроситься в Петербурге задержаться. От головной боли, скажем, полечиться или еще какого недуга нервического. На все лето не удастся, а хоть неделя-другая проволочится, и то ладно.
Москва. Дом князей Дашковых. Старая княгиня, ее сестра, дворецкий.
— Барыня, карета княгини Гагариной к крыльцу подъехала. Никак, княгиня Анна Михайловна пожаловать изволили. И впрямь, ее сиятельство.
— Не диво, Петрович, сама же за ней посылала. Забыл, старый, письмо от князя Михайлы нарочный привез. Новостями поделиться надо. И ты не уходи, тут побудь, а сейчас встречать беги. Да за порог опять не запнись, экой неловкой стал!
— Сестрица-матушка, спешила к тебе без роздыху, всех девок загоняла, покуда собралась. Случилось что?
— Случилось, Аннушка, случилось! Князь Михайла письмо прислал.
— Здоров ли князюшка?
— Слава тебе Господи. Да не о том речь — в Москву собирается, днями здесь быть должен.
— Вот радость-то, вот радость! И надолго ли?
— А уж тут все, матушка, в наших руках. Жениться князь Михайла решил — за благословением едет.
— Да что ты! Неужто с амурами своими покончил? Давно пора — не к лицу князю Дашкову с замужними дамами махаться. И невеста наша заждалась — не солить же девку.
— Вот тут, Аннушка, и загвоздка: не о нашей девке речь. В Петербурге сыскал.
— Да чьих же будет-то?
— Воронцовых, сестрица, Воронцовых.
— Тех, что при дворе, что ли?
— Их самых, Аннушка, из дому вице-канцлерского.
— Да ты меня, мать, не путай. У Михайлы Воронцова одна дочка, да и ту нынешней зимой, сказывали, за Строганова замуж отдали, Сергея Григорьевича сынка, что из-за границ приехал.
— Так и есть, Аннушка, так и есть. Да Михайла Воронцов вместе с дочкой племянненку растил, Катерину Романовну.
— Вертопраха-то ихнего старшего дочку?
— Что уж ты так строго — вертопраха!
— А как его назовешь? Жена померла, всех детей по свету раскидал, дому родительского лишил.
— Опять же о Катерине Романовне сама государыня беспокоилась — крестница это ее любимая. Чем с отцом-бобылем жить, рассудила, чтоб у дядюшки вместе с его дитем росла. Как-никак графиня-то государыне кузиной приходится. Тут уж против царской воли не пойдешь.
— Э, мать, да тебе, видно, уже невеста по вкусу пришлась, коли все расчесть можешь.
— Тебе бы, сестрица, шутки шутить, а мне совет твой нужен, да и с родными со всеми потолковать не грех. Нелюбимая невестка какую хочешь семью порушит. Тут лад должен быть.
— Ну, прости языкастую, согрешила. Молчу уж, молчу! Только помнится, у Романа Воронцова не одна дочь. Слыхала, одну за Бутурлина сговорили.
— Это Марью, старшую. Что ж, родство достойное, ничего не скажешь.
— Да вот еще об одной слухи ходят…
— Собаки, матушка, лают, ветер носит. Обе старших сестрицы Катерины Романовны фрейлины, во дворце живут, а там что твой гадюшник — знай один на другого с утра до вечера клепает, от скуки больше.
— И то правда. У нас на Москве все насквозь видать, уж коли чего скажут, значит, есть на то причина.
— Тоже всяко бывает. Ты лучше о приданом спроси.
— Ну, тут, полагаю, и толковать не о чем. Роман Большой Карман дочку бесприданницей не оставит. Год от года богатеет — откуда что берется!
— Злые языки толкуют, рука у него на деньги, сестрица. За что ни берется, все деньгами оборачивается. Только я не о том тебе сказать хотела. Сама рассуди — не судьба ли это князю Михайле на Катерине Воронцовой жениться?
— А что, приметы какие?
— Да вот что сынок в письме пишет. Шел он в Петербурге от приятеля ни много ни мало в одиннадцатом часу вечера. Видит — карета с гербами. Кучер, лакеи ливрейные, как водится. Сразу самаринский экипаж узнал. А впереди экипажа идут гуляючи дама и девица. Дама немолодая, издавна ему в свете знакомая, а девицу первый раз увидал. Пишет, росточку невысокого — князюшка-то мой во какой вымахал! — а тут маленькая, ладненькая, глаза черные, ну, там и всякие амурные глупости. Их повторять — время терять. Князюшка мой, как положено, поклон отдал даме, дама же его девице представляет, да и ее имя называет — графиня Катерина Романовна Воронцова. Тут мой сынок и сомлел, так и пишет: государыня матушка, судьбу свою встретил. С тех пор как на улице-то распрощался, стоит у меня графинюшка перед глазами, света белого за ней не вижу, а в дом ее без твоего родительского благословения и с одним визитом поехать не могу, потому что намерения мои самые сурьезные и скрываться с ними я не намерен.
— Чисто сказка! Только погоди-ка, мать, с чего это госпожа Самарина да еще с графской дочерью в такой поздний час променад устроили?
— Вот и суди сама, сестрица. Катерина Романовна с горничной поехала проведать старшую Самарину — прихворнула она, так на ужин к себе графинюшку и зазвала. А как время после ужина ворочаться настало, сестра Самариной и позови графинюшку малость пройтись, мол, ночь расчудесная — да какая там ночь, светло как в белый день! — квартал пройти пешком можно, а тут князь Михайла возьми и навернись. Ну, не судьба ли?
— Что ж, может, и судьба, только до приезда племянника все справки собрать не мешает: и характеру девица какого, и здоровья, капризов ли каких за ней не водится, а главное, о приданом оповеститься следует.
— Потому, государыни мои, что про судьбу тоже знать надо: милостивая она аль немилостивая. Даже в гаданьях народных и то так делается. Что ж, когда единого нашего княжича, последнего Дашкова, матушка родимая женить собирается!
— Умница ты у меня, Петрович! Потому тебя и оставила — сразу всему черту подвел. Вот и займись, батюшка, прислугу воронцовскую — Ивана Ларионыча поспрашивай. Князь пишет, приезжала к ним в гости Катерина Романовна, очень по душе графине Марье Артемьевне пришлась.
— Так бы и начинала! Графиня особа высочайших добродетелей. Коли девицу привечает, и толковать не о чем.
Как наваждение какое — в мыслях один князь. Словом толком не перемолвилась, образа мыслей не узнала, а целыми днями о нем думаю. Все ждала, может, приедет, может, объявится. Лишь потом поняла: какой визит, когда известно, что одна живу, да и то со дня на день в Царское к дядюшке и тетушке собираюсь. Как в Петербурге задержаться хотела, а теперь сердце в Царское рвется. Князь там, у дядюшки с тетушкой, объявиться может. Если захочет… Откуда знать, захочет ли. Нет, захочет, непременно захочет. Глаз от меня оторвать не мог, говорить стеснялся. Даже госпожа Самарина заметила, удивилась: никогда робости никакой за ним не замечала. Да уж какая робость — ростом с коломенскую версту, косая сажень в плечах, волосы русые кольцами вьются. Глаза серые. Внимательные такие. Вскинет на меня и в землю утупит, чуть что не краской зальется. Бывает же такое! Едва не первый раз с приятностию Александра Петровича Сумарокова строки читать стала:
Тщетно я скрываю сердца скорби люты, Тщетно я спокойною кажусь: Не могу спокойна быть я ни минуты, Не могу, как много я ни тщусь, Сердце тяжким стоном, очи током слезным Извлекают тайну муки сей; Ты мое старанье сделал бесполезным, Ты, о хищник вольности моей! Ввергнута тобою я в сию злу долю, Ты спокойный дух мой возмутил, Ты мою свободу пременил в неволю, Ты утехи в горесть обратил…— Вот мы и у праздника, Анна Карловна! Никак, и у Катеньки жених, того гляди, объявится?
— Кто ж бы это?
— Нипочем не догадаешься: князь Михайла-Кондратий Дашков!
— И в самом деле сюрприз. Откуда ж он взялся? С нами незнаком, представлен нам не был, никак, и с Катенькой не встречался, и на-поди — сразу жених.
— Что нам не представлен, то верно, а вот насчет Катеньки…
— Да что ты говоришь, Михайла Ларионыч, опомнись! Чтобы наша Катенька вольность какую допустила? Да быть такого не может.
— А она и не допускала, матушка. Когда с госпожой Самариной по улице прогуливаться пошла, случайно встретились. Госпожа Самарина их и познакомила, а теперь хлопочет, чтобы нам князя представить. Как полагаешь, для какой такой нужды, акромя жениховства?
— А по службе-то он от тебя не зависит?
— Какое! Он на военной, да и все больше около наследника. Ему у меня интересу искать не приходится.
— Жених, говоришь. А что про него известно? Кондуит-то у него какой? Состояние есть ли? Фамилия-то старинная, а что кроме?
— Ино правда, старинная. Рюриковичи они — Дашковы-то. Князья! От последнего Смоленского князя род свой ведут. Заслуг особых перед государями не имели, а служить честно служили, да и земли копить умели. А матушка князь Михайлы из Эверлаковых, бабка за Михайлу Леонтьева замуж вышла, сестра же ее — за Ивана Панина. Петр и Никита Ивановичи Панины матушке князя кузенами приходятся, как и княгиня Александра Ивановна Куракина.
— Как не знать, супруга покойного обер-шталмейстера Александра Борисыча. Сколько лет в чине этом высоком состоял. Покойная императрица Анна Иоанновна еще в должность его произвела, а государыня ничего менять не стала. Очень ему всегда благоволила.
— Сама, Анна Карловна, посуди, как таким человеком бросаться. Александр Борисыч царевичу Алексею Петровичу двоюродным братцем приходился, государю Петру Алексеевичу Младшему — двоюродным дядей. Женат-то батюшка Александра Борисыча был на сестре царицы Евдокии Федоровны — Ксении Федоровне Лопухиной. Хоть царица и опальная, насильственно от супруга отлученная и в монастырь сосланная, а все едино из царского рода не вычеркнешь.
— Что ж, мой друг, выходит, ровня он Катеньке.
— Ровня не ровня, а охулки на руку такой претендент не положит. Надо будет с Романом Ларионычем потолковать, и если на то будет его согласие, разрешить представить ему молодого князя. Потом уж и о доме говорить можно.
— А не думаешь, граф, что и государыню о том в известность поставить надобно? Не дай Господь, прогневается или несогласие будет иметь. На тебя же гнев и падет. Роман Ларионыч подождать может — о дочке лишь для виду радеет. Кабы не мы…
— Ни к чему такой разговор, Анна Карловна, совсем ни к чему. А государыне и впрямь сказать надобно — улучи минутку, замолви словечко за ее крестницу.
— Катеньке ничего говорить не станешь?
— Что говорить-то? Сладится дело, даст Бог, тогда для порядку и поговорим. Госпожа Самарина сказала, что когда Катеньку о впечатлении от нового знакомства спросила, графинюшка наша вроде благосклонно о молодом человеке отозвалась, даже что он «бэль ом» сказала.
…Себе не верю! Неужто так все счастливо сложиться может? Князь Дашков исхлопотал, чтоб представленным быть батюшке, а великий князь соизволил его предложить вниманию дядюшки. Меня при том не было. Увидела князя, как на званый вечер к нам приехал. Танцевал со мной ланжу, купе, а как о минавете попросил, тетушка Анна Карловна отказала: столько-то раз за один вечер не положено. Жаль-то как! Хоть князь рядом со мной преогромный, а в танцах легкий, кружится — шпора не звякнет. Может, не так уж и не права была Аннет, когда танцы мне расхваливала.
Потом на обед князь приехал — со мной его не посадили. Для разговору случаю не было. Издалека раскланялся низко-низко, а я как присела в реверансе, головы поднять не смогла: все перед глазами поплыло. Спасибо, дядюшка рядом был — под руку подхватил — да и в сторону. Видишь, говорит, что значит людей-то дичиться, акромя книг ничего не видать. Что о тебе князь подумает? А он возьми на другой день и приезжай с командиром своего полка — предложение руки и сердца тетушке и дядюшке делать. Меня позвали. Дядюшка все о предложении изъяснил, спрашивает, по сердцу ли мне князь Михайла, соглашусь ли стать его супругой. Дыхание перехватило. Кровь в лицо бросилась, а князь уж рядом стоит, вопрос повторяет, мол, может ли на такое счастье надеяться, чтоб меня своею назвать. Откуда силы взялись «да» сказать. Батюшка с образом подходит. Благословили нас все трое, и тетушка тоже, расцеловали. Вот и обручены мы с князем Михайлой, теперь наговориться бы вдоволь можно, да князь спешно стал в Москву собираться матушке доложиться, еще раз благословения на брак спросить. На день один задерживаться не стал: маменька ждет, беспокоить ее не хочет. Что тут скажешь!
— Вот теперь идти тебе, братец Роман, к государыне, бесперечь идти. Времени для отговорок да проволочек не осталось. Последний наш час пришел — от тебя все зависит.
— Подожди, Михайла, подожди, в пекло да на виселицу спешить не к чему. Расскажи толком, что случилось. Надо же, как раз меня и не было!
— Мне-то хоть головы не морочь! Сам не захотел прийти, сам нарочно дома задержался, в Царское уж после обедни приехал.
— Да ты что, хоть у Васьки-кучера спроси…
— Не до Васьки теперь. Задержался, и ладно. А случилось вот что. В церкви государыня, как обычно, стояла. Может, чуть бледнее, Чулков говорит. Невелико диво — опять в пятом часу утра спать пошла, рассвета за карточным столом дожидалась. На паперть вышла, по ступеням сошла да посередь самого народу-то и упала, биться начала. Придворные кое-как заслонить собой хотели. Где там! Все видали. Крики на всю площадь слышны были. Народ так и замер — стоят не шелохнутся. Вот тебе и секреты все наши. Чего ни придумай, ни во что не поверят.
— Да ладно тебе с народом! Кто у твоего народа когда в Российской империи мнения спрашивал, кто с ним когда совет держал? Может, припомнишь, братец?
— Да не в народе сила, Роман, не в народе, а что охотники найдутся воду мутить, на престол зариться, народ-то им и не воспротивится. Гвардия преемников искать начнет.
— Есть же наследник объявленный.
— Есть, а только чего ж тогда государыня с тобой совет о престолонаследии держит? Думаешь эту тайну сохранить? Во дворце-то?
— Не думаю, ничего не думаю — о голове своей да твоей пекусь. С тебя хватит? Так что же дальше было?
— Подхватили государыню, во дворец скорехонько на руках снесли. Два часа без памяти лежала — ничем в чувство привести не могли. Кровь пустили, шпанских мух да пиявок поставили — все без толку. А как в себя пришла, говорить не может.
— Известно, от слабости. Бывало уж так.
— Ан нет, братец, язык отнялся. Мычать мычит — и только. Оно верно, что к утру еле-еле заговорила, да таково-то непонятно. Один Чулков и мог разобрать, чего велит, чего хочет. Лейб-медик за исход не поручился: может, в себя еще придет, может, и… Да что там говорить. Иван Иванович голову совсем потерял — со всеми насчет завещания советоваться стал. Сам не слыхал, но верный человек сказал, будто даже дочку свою поминать стал под именем принцессы Елизаветы.
— Это восьмилетнюю-то?
— Что и говорить, политика не для Ивана Ивановича. Всегда-то насчет нее простоват был, а тут и вовсе осторожность потерял.
— Теперь, говоришь, государыня меня видеть желает? Нет, Роман Ларионыч, миссия у тебя посложнее будет. Тут не один Иван Иванович опростоволосился. Тут куда умнее люди впросак попали. Только бы нам по горячему следу их за руку поймать да государыне представить.
— О ком ты, братец?
— О канцлере! Глаз больших-то не делай, о нем самом.
— И в чем же старая лиса промашку дал?
— Место у нового престола захватить решил — великой княгине о серьезности государыниного положения запиской сообщил.
— А все, поди, и раскрылось? Ведь Анне Карловне приглядывать за наследницей приказано.
— Приказано не приказано, а как не следить, когда Екатерина Алексеевна государыню императрицу куда как люто ненавидит. В общем, отписка записки этой у нас — представить ее государыне можно. Да и на том старый бес не унялся — нарочного к Долгорукому в Польшу отправил, чтобы как можно скорее в Петербург ворочался — при дворцовых разборках нужен будет.
— И доехал нарочный?
— Поди, доехал. Только отписка у нас тоже есть — не отречется.
— Вот тогда-то…
— Не торопись, Роман Ларионыч, не торопись, сообрази сначала, как половчее государыне при первом же свидании все дело представить. Тут дело нешуточное, тут от каждого слова живот зависит. До окончательного розыгрыша, братец, далеко. Не промахнись! И еще запомни: Бестужева-Рюмина в порошок стирай, а великой княгини не трогай. Пусть государыня по своей воле с ней разберется, а то, не ровен час — костлявая с косой времени не выбирает, а нам с тобой еще служить да жить при дворе надо. Так что снова тебе говорю: поостерегись!
…Князь Михайла согласился: деспотизм не выходит на пользу государству. Все разыгралось так быстро. Государыня неведомо откуда прознала, что канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин о недуге ее сообщил великой княгине и по тому же случаю предупредил главнокомандующего в Польше. Не могло же государство оставаться без монарха, когда на великого князя надежда плоха. Простая мера предосторожности: великой княгине следовало вовремя оказаться во дворце и защитить права своего сына, за которого гвардия куда охотнее выступила бы, чем за великого князя. Ее императорское величество рассудила иначе. Над канцлером устроен срочный суд, и приговор был ужасен: казнь через четвертование, всемилостивейше замененная лишением всех владений и пожизненной безвыездной ссылкой в какое-то глухое бестужевское сельцо под надзором солдат. Вообразить только, что пережил бедный канцлер, и за что! Потому еще Волынский настаивал на конституционном порядке, чтобы никому и в голову не приходило строить заговоры и расплачиваться за них. Князь Михайла сказал: гвардия к канцлеру никак не относилась, но здесь следует говорить об абсолютной справедливости. Россия нуждается на будущее в просвещенном монархе, который бы превыше всего ставил интересы всей державы.
Но все это лишь первая часть событий. Вторая — дядюшка занял должность канцлера. Он давно заслуживал этой чести хотя бы своей преданностью государыне, и тетушка всегда толковала, что дядюшка несправедливо обойден графом Бестужевым-Рюминым, который и при императрице Анне Иоанновне, и при правительнице принцессе Анне одинаково интриговал против нашей государыни. Справедливость восторжествовала, а родные князя Михайлы и вовсе прислали гратуляции и дядюшке и мне. Досадно, что может существовать такое мелочное тщеславие. Но князю Михайле назначение дядюшки заметно приятно, и он сказал, что в Москве, куда мы непременно поедем для знакомства со всеми многочисленными его родственниками, свои законы, которых не следует неглижировать. Я дала себе слово, что найду способ проявлять свое расположение ко всем тем, кто дорог и приятен князю Михайле, лишь бы он был счастлив и доволен.
Батюшка уверен, что перед свадьбой мне непременно следует попросить у государыни чина для князя Михайлы и добавления приданого для себя. Ни за что ничего такого делать не стану, хотя не раз слыхала, что дядюшка Михайла Ларионыч не упускает случая попросить у государыни земель и поместий, не отказывается и от наградных. Императрица ему не отказывает, потому что по службе дядюшка лихоимства и казнокрадства отнюдь не допускает и жестоко за него расправляется. Выходит, что дядюшка получает доплату за честность. Но откуда же взять лишних средств всем его чиновникам; если возникает нужда? Ведь строгость дядюшки вознаграждается едва ли не сторицей. Князю Михайле о том знать не след. Боюсь, он пожмет плечами и снова скажет, что человечество следует переделывать все, а на это понадобятся многие поколения, так что нынче и резону нет что-нибудь менять. Согласиться с его фатализмом трудно, да для меня и невозможно, однако свой резон в его рассуждениях есть. Тетушка Анна Карловна сказала, что князь Михайла, как все молодые гвардейцы, немалое состояние проиграл в карты и что мне за ним придется следить, а того лучше взять все мужнино состояние в свои руки и научиться хозяйствовать.
— Поздравляю, братец, поздравляю! Катерина Романовна-то наша не то что женишка своего обошла да вывела — такой сердцеед, а акромя графинюшки, света Божьего не видит — великой княгине и той голову как есть вскружила.
— Да ты, Михайла Ларионыч, с больной-то головы на здоровую не вали. Не я наследника с супругою ужином угощаю, не я с ними разговоры полночные веду. Вон какой ты у нас прокурат, только дивиться можно. А что великая княгиня с графинюшкой нашей беседу завела, так и быть должно. Мало кто у нас из дам науками интересуется. Екатерине Алексеевне, стало быть, любопытно: почему с младшей в доме хозяюшкой не потолковать при случае. Не ради нее ведь Петр Федорович и сам приезжал, и супругу свою привез. Не зря старался, ой не зря. Прост наш великий князь, прост, а тоже свои планы строит.
— Анна Карловна прямо с утра государыне все и доложила. Государыня знать хотела, про что племянничек ненаглядный толковал, к чему речь клонил. Да и о беседе великой княгини с Катенькой все изложила. Как иначе!
— Что доложила, хорошо. А сам-то как думаешь, что тут за секрет такой великокняжеский?
— Есть секрет, как не быть, только ничего хорошего в нём не вижу. Говоришь, великая княгиня долгонько с Катенькой толковала? Так-то оно так, да перед тем Пётр Федорович немало внимания графинюшке уделил. Не знаю, о чем речь шла, но раздосадовался великий князь, кончил тем, что язык Катеньке показал и к общему разговору перешел.
— Язык-то он всем показывает, как разговор кончить собирается. Кому покороче, кому подлиннее. На той неделе с духовником в спор вступил. Тот ему о вреде лютеранства толковать начал, великий князь поначалу вспылил, ногами затопал, а там язык на всю длину вытянул, да и прочь пошел.
— А все-таки порасспросил ты Катеньку?
— Я-то не стал, Анна Карловна походя спросила. Катенька отмахнулась только. Пустяки, мол, да глупости, и пересказывать не стоит. Одно знаю: имя Лизаветы Романовны поминалось.
— Вон оно что, не дремлет, выходит, лихо.
— Где там! Лизавета Романовна месяц от месяца к рукам великого князя прибирает. Он уж и перед великой княгиней не кроется, что видеть ее хочет, в пти-жё играть аль в танцах прыгать.
— Так ведь и великая княгиня тому не противится: свободы больше имеет. Виноватый муж всегда лучше невинного — рад потакать, лишь бы самому ответа не держать. Не правда разве?
— Да, друзей заводить Екатерина свет Алексеевна куда как горазда. С тем потолкует, того послушает, тому поддакнет — много ли мужскому полу нужно.
— А Катерина ей к чему? Али на один вечер?
— На один не похоже. Вроде всерьез великая княгиня заняться ей порешила. Все к Воронцовым ход иметь будет. Ну, Катенька и впрямь девица у нас ученая, да Екатерина Алексеевна без малого вдвое старше и не столько до ученых бесед, сколько до мужских восторгов охоча. Ей Катеньку обойти ничего не стоит, а графинюшке нашей лестно: еще бы, подругу такую найти!
— Толковал ты с ней, братец?
— Толковал? А какой в том резон?
— Поостерег бы, чтобы лишнего не взболтнула, в словах бы поосторожней была. Восторги-то девичьи знаешь куда завести могут.
— Нет, Роман Ларионыч, мне Катерине Романовне мораль поздновато толковать. Она теперь уж и не наша, а без пяти минут дашковская. Коли кого и послушает, так своего князь Михайлу, а с князем говорить опасно. Да и не может Катерина Романовна ничего лишнего сказать. Я не то что ей, супруге и то с расчетом говорю. Бабьи языки — дело куда какое неверное.
— Да ведь знаешь, что выйти может: великая княгиня Бог весть куда Катерину заведёт, да и в виноватые перед государыней выведет. Хитра, ох, бестия, и хитра. Надо же такому простофиле такую разумницу.
— Гляди, братец, как бы того же о князь Михайле не стали говорить. Что-то мне видится, не усидеть нашей Катерине. Романовне у домашнего очага. Как при дворе окажется княгиней Дашковой, так за дело и примется.
— Почем знать, может, и твоя правда: ученость-то, она все равно выхода своего искать будет, а Катерина Романовна девица с амбициями, последней нигде не согласится быть. Тут уж и спору нет. Лишь бы супруг не помешал.
— Э, Роман Ларионыч, велик-велик князь Михайла, а ходить в жениной струнке будет, помяни мое слово.
Вот и свадьба прошла. Думала, не дождусь. Восемь месяцев в невестах ходила. Все дивиться начали. Да что делать. То матушка князь Михайлы расхворалась — ему в Москву ехать пришлось, то по службе его посылали, то и вовсе тетушка Анна Карловна расхворалась. Два раза венчание переносить пришлось — без нее какая свадьба! Пышности никакой не было. Я бы, может, и не прочь: не для себя — для мужниных родных. Не вышло. Все по-родственному прошло. Императрица тоже хворает. Слова добрые еще когда нас с князь Михайлой в ложе итальянской оперы увидала сказала. А потом уж ослабела. Видно, ни к чему охоты нет. Дядюшка Михайла Ларионыч так и сказал: не след ее императорское величество чужой радостью волновать. Мол, государыня и смолоду на чужое счастье завистной была. Когда принцессе Анне по поводу ее брака с принцем Антоном Брауншвейгским гратуляции приносила, при всем дворе с досады расплакалась. Странно только, почему Аннет не позавидовала.
С приданым все просто решилось. Князь Михайла торговаться и не думал. Вот и вышло, что моя доля меньше, чем у Лизаветы да Марьи оказалась. Батюшка сказал, при таком женихе о приданом толковать смешно — на наш век с лихвой хватит. Хватить-то, наверно, хватит, да только хочу быть хозяйкой, из чужих рук не глядеть. И порядки свои завести. И хозяйством сельским непременно заняться. Очень последнее время агрономия занимать стала. Энциклопедисты так и толкуют: должен человек для гармонии своего бытия ближе к природе быть. Князь Михайле сказала, он и с тем согласен. Говорит, в их имении подмосковном Троицком охота преотличная, а уж насчет полевых да садовых работ не его дело. Скучно ему.
Скучно? Так и не надо. Ничем не надо поперек себя заниматься. Моей воле простору будет больше. Матушка князь Михайлы как о моих намерениях услыхала, в восторг пришла, давно, мол, дела наши молодой хозяюшки ждут. Хоть и не они меня для князя выбирали, главное, для свекрови, чтоб сын женился, семьей обзавелся. Сам признается, что семейных уз не искал, девушки по сердцу не встретил, да и остепениться никак не мог. Зато теперь счастлив безмерно. Только я счастливее. Дня без него пробыть не могу — тоска на сердце ложится. Сама себе не верю, что стихи слагать захотелось. И как только так долго не ценила поэтический дар господина Сумарокова, ведь будто про нас с князь Михайлой написано:
Прости, моя любезная, мой свет, прости, Мне сказано, назавтрее в поход ийти; Неведомо мне то, увижусь ли с тобой, Ин ты хотя в последний раз побудь со мной, Покинь тоску, — иль смертный рок меня унес? Не плачь о мне, прекрасная, не трать ты слез. Имей на мысли то к отраде ты себе, Что я оттоль с победою приду к тебе. Когда умру, умру я там с ружьем в руках, Разя и защищаяся, не знав, что страх; Услышишь ты, что я не робок в поле был, Дрался с такой горячностью, с какой любил.Князь Михайла и сам большой любитель сумароковских песен, хоть делам литературным времени и не посвящает. Что ж, каждому свое.
— Вот те, Михайла Ларионыч, и новый узелок завязываться стал. Ты про Лизавету Романовну толковал, ан великая княгиня не то что за супругом глядеть, сама, того гляди, во все тяжкие пуститься готова.
— Веришь, в толк взять не могу — скромница такая, ученая да рассудительная. Все больше со стариками про материи высокие толковать горазда, а тут на тебе.
— Верь больше учености-то бабьей. Супротив гвардейца подлинного кто из ихней сестры устоит? Так сказать, нешто зятек мой князь Михайла Иваныч Катерине Романовне нашей ровня? Он и за книгу-то, поди, лишнего разу не возьмется, а сладят с женушкой, не сглазить бы, любо-дорого.
— Да ведь грех-то какой: окошки опочивальни княгининой супротив окошек молодца оказались. Он со своей стороны все глаза проглядел, она поначалу мельком поглядывала, а теперича, толкуют, накрепко и сама засела. Улицей, гляди, интересоваться стала.
— Это из Орловых который же будет?
— Известно, старший — Григорий.
— Да нет, Михайла Ларионыч, Григорий не старший. Старший у них в семействе Иван Григорьевич, достойнейший малый. Наград не ищет, к начальству не льнет, а храбр — ничего не окажешь.
— Может, и так. Только и Григорий не промах. При Цорндорфе отличился, ранение получил. Правда, что в Шляхетском кадетском корпусе среди первых не бывал, да ему и ни к чему. При его-то статях! И ростом вышел, и в плечах косая сажень, и подковы смеючись гнет. На гулянье в семик каждая девка такому на шею кинется.
— То мне любопытно, куда такие амуры завести могут. Великий князь и так супругой помыкает, спит и видит, как ей развод дать да из России выслать, а она ему интенцию дает. Сама себя виноватит. Да и государыня уж как невестки не жалует, если что, каждое лыко в строку пойдет.
— Ну, пока-то дело не очевидное. Орловых всех великой княгине представили, ведь без малого рота молодцов. К старшим-то прибавь: Федор, Владимир, один Алексей чего стоит. Ребята ладные, смелые, от жизни свое взять рады бы, а средств никаких. Им, думается, в большую игру играть впору.
— Так не с великой же княгиней начинать!
— Может, во дворец через боковую дверку протиснуться решили. Еще поглядеть надо.
…Господи, досада какая — опять князь Михайле на службу отъезжать. Так бы и не отходила от него ни на минуточку. Ласковый. Чуть что — в глаза глядит. Опечалишься, приголубит. Задумаешься, веселить станет. После Петербурга Москва и не город вовсе. Садов да деревьев множество. Мостовые битые. Где камень — на экипаже не проехать, где пыль — в окошке кареты ни зги не видать. В какой двор ей въедешь, курдонёру и в помине нет — кругом службы, люди снуют, скотина мычит, журавли у колодцев скрипят. И в домах далеко до петербургского фасону. Мебели дорогие, новомодные, а так уставлены, что настоящего приему не сделать, разве что сидеть да толковать за чаем. От колокольного звону по утрам спать нельзя: земля гудит. Разносчики кричат. Да не то что простолюдины — порядочные люди их из окошек летним временем высматривают и на дворы зазывают. Свекровь чего только за день от них не накупит, а то и торговаться сама примется — за материи какие, кружева аль холсты. А по магазинам сама не ездит, разве что раз-другой за год на Кузнецкий мост выберется, потом рассказов не оберешься. В опере даже ложи своей не имеет — мол, от шуму театрального голова болит. Всего больше с гостями толковать любит. Сколько девки за день самоваров перетаскают: один отпоет, другой тащат. Меня обо всем рассказывать заставляли. Принять хорошо приняли, а любопытничают. Как со свекровью спорить, когда князь Михайла матушку дороже всего ценит. Да и княгиня об сыне обмирает. Вот только толковать-то с московской родней оказалось не просто: французского не знают, а моему русскому до совершенства далеко. Где ошибки делаю, где слова не к месту подбираю. Попросила у свекрови да сестрицы ее, княгини Анны Михайловны Гагариной, уроков, очень обе утешились. Что родной речью не пренебрегаю, что потрафить им хочу. Как не хотеть! Лишь бы в дому лад да тепло были, лишь бы семья наша с князь Михайлой как след сложилась. Лишь бы…
Так случилось, едва мы с князь Михайлой до Москвы доехали, в Петербурге графини Мавры Егоровны Шуваловой не стало. Очень добра ко мне была. Государыню жаль — очень графиню любила. С юных лет в поверенных Мавру Егоровну имела, а теперь и сама недомогает, и на-поди — какое горе.
Спасибо Ивану Ивановичу — и в Москве милостью своею меня не оставил. В Петербурге книжки доставать не просто, а уж в Москве и толковать не приходится. Тут шуваловские посылочки куда как дороги. Свекровь дивится, что чуть что — за книгу берусь, только отъездами князь Михайлы мои книжные занятия и объясняет. А мне подчас трудно скрыть нетерпение, с каким выдерживаю продолжительность застольных семейных бесед — так хочется открыть недочитанную страницу. Энциклопедия — кто бы знал, какие волшебные перспективы познаний она открывает. Когда бы мне ее удалось получить, кабы не любезность Ивана Ивановича. Одних разговоров и споров о ней сколько. Иван Иваныч рассказывал, как расправились со священнослужителями, написавшими статьи о церкви и теософии в первых томах — еще скольким книгам предстоит выйти! Сорбонна лишила аббата де Прада ученой степени, архиепископ парижский послание издал, где труды аббата осудил, так что пришлось ему искать убежища у Фридриха II. Еще одного автора заставили из Франции бежать, а который не успел, заключили в Бастилию. Как же трудно человечество мирится с познанием! Кажется, все против того, чтобы перед их глазами открылась истина. Издатели от своих гонителей хотели устремиться в Берлин, под покровительство императора, но Вольтер их остановил, сказав, что в Берлине больше штыков, чем книг, и Афины только в стенах королевского кабинета.
У меня всего лишь семь томов, других, кажется, еще и нету, но какая бездна мысли в этих книгах! Вот уж точно написано в предисловии: «Цель энциклопедии — объединить знания, рассеянные по поверхности земной, изложить их в общей системе для людей, с которыми мы живем, и передать людям, которые придут за ними: дабы труды минувших веков не были бесполезны для веков грядущих, дабы наши потомки, став образованнее, стали также добродетельнее и счастливее и чтобы мы могли умереть в сознании исполненного пред человечеством долга».
— Вот и кончается наше с тобой время, братец Роман!
— С чего это хоронить нас, Михайла Ларионыч, собрался?
— Худо, голубчик, с государыней. Который день из покоев не выходит, к себе никого не допускает. Все одна да все в потемках.
— Так окон и не раскрывает?
— Не велит, да и весь сказ. Только что на столе свечи горят, да и то счетом — чтобы лишнего свету не было.
— Что ж теперь делать. Значит, время его императорского высочества Петра Федоровича настает. Приготовиться надобно.
— Говоришь, Петра Федоровича…
— Кого же еще? Другие законные наследники мне неведомы.
— Господин Шувалов о завещании хлопочет.
— Его дело.
— Не скажи, братец, не скажи. Многие при дворе к его доводам склониться готовы.
— Покуда в фаворитах ходит.
— И да, и нет. Ведь коли его правда выйдет, все по-старому останется. Многим время нынешнее-то по сердцу.
— Стар я в игры такие играть. И против государя наследника интриговать не стану.
— О Лизавете Романовне думаешь?
— Да как ты, Михайла Ларионыч, сказать такое мог! Я в делах Лизаветы Романовны не указчик и не советчик. Сама не маленькая. Только государству большая польза будет, коли все неизменным пребудет: государыне наследник, ею же назначенный и избранный, наследовать должен. Иначе смута пойдет, раздоры.
— Государыней назначенный… Экой ты, Роман, неприступный. Тебе ли не знать, сколько раз государыня в выборе своем каялась, изменить его собиралась.
— Не собралась же!
— И то знаешь, почему не собралась: смерти благодетельница наша завсегда боялась, А тебе что говорила? Что с тобой в завещании обсуждала? Ни разу ведь, братец, со мной не поделился. Меня Иван Иванович как ни спрашивал, а мне, по твоей милости, и донести нечего. Кто поверит, братец родной правды не говорит.
— И хорошо, что донести было нечего. Престолу там для Ивана Ивановича не бывало.
— Да он бы и сам, голубчик, не согласился. Пуще грому небесного смуты да раздоров боится.
— То ли и впрямь боится, то ли в правах своих сомнений не имеет. Как дело ни повернись, ему в почете ни один государь не откажет.
— Бог с ним, с Иваном Ивановичем. Кабы все так ладно да складно было — об одном наследнике речь шла, чего ж что ни день толковали? Может, права его государыня ограничить желала, о Павле Петровиче думала?
— Опять же, братец, разговоры те давно были. Почем знать, как раздумалась с тех пор государыня, что для себя положила.
— Так по какой дорожке мысль-то ее догонять?
— По единственной — о законном наследнике. О регентстве Ивана Ивановича при великом князе Павле Петровиче толк, прямо скажу, был только в том смысле, что, мол, великий князь очень к Ивану Ивановичу большое доверие имеет, куда большее, чем к родному батюшке. А коли о великой княгине думаешь, Михайла Ларионыч, так не мне тебе говорить, сколь креатура ее государыне ненавистна. В наследнике каялась, а уж в ней и вовсе.
…Кабы не тягость моя, уговорила бы князь Михайлу в Петербург вернуться. На крыльях бы сама туда полетела. Князь Михайла, со слов матушки своей, опасается очень, что беременность первая, да и я молода, сложения некрепкого. Оно и верно, когда занеможется, все лучше, что свекровь, золовки или княгиня Анна Михайловна сами ухаживать за мной начинают. Каждую прихоть исполнить готовы, хотя утруждать их никак не хочу. Только поговорить не с кем. Свою Энциклопедию разве что прятать не приходится. Свекровь в голову взяла, будто от чтения головокружение начаться может, да и глазам вред. Боже, как скучно! Когда князь Михайлы нет, ввечеру да ночами читать приходится. Девушки мои молчат, знают — прогневаться могу. Чуть что — скажут.
Иван Иванович помог в дополнение к Энциклопедии приобрести преотличный труд господина Морери — «Большой исторический словарь». Вышел он без малого сто лет назад, а у нас никто и не знает, хоть в Европе сейчас двадцатое издание вышло. Оно-то ко мне и попало. И то интересно, как человеческая мысль на месте не стоит, все новых и новых дорог ищет. На труд господина Морери через двадцать с небольшим лет антидот вышел — труд господина Бейля под титлом «Словарь исторический и критический» с великим множеством поправок и споров с Морери. Автор где неточности заметил, где в прямой спор вступать стал, — цитат из разных трудов множество приводит. Как на диспуте публичном присутствуешь. Комментариев в десять раз больше, чем текста! За один раз разве что в одном примечании разберешься, да и то сразу не усвоишь. Кажется, все виды наук собраны; и география, и история, и филология, и литература, и филозофия, и теософия. Ее императорское высочество Екатерина Алексеевна говорила, что главное — человек все по своему разуму представлять начинает. Только французы в этом самых высоких вершин достигли, в подлинное царство разума войти смогли. Один издатель решил на французский язык знаменитую английскую «Энциклопедию и Универсальный словарь искусств и наук» Эфраима Чемберса перевести и с тем обратился к господину Дидро. Дидро же решил создать совсем новый труд — вместе собрать все, что человеческой мысли открылось. Потому и назвал свое издание «Энциклопедия, или Систематический словарь наук, искусств и ремесл», выбранный из лучших авторов и особенно из английских словарей обществом ученых и расположенных по порядку, Дидро — и в отделе математики — Д’Аламбером. Потщиться надо и Чемберсову энциклопедию сыскать — для сравнения.
— Ну, матушка сестрица, наконец-то опросталась молодая княгинюшка наша. Страх подумать, как намучилась.
— Не говори, Анна Михайловна, минута была — думала, простимся мы с ней. Слава Создателю, выдюжила! День да ночь целые промаялась.
— Так и ты, сестрица, от нее не отходила.
— А как прикажешь? Неужто повитухе доверишься?
— Назвать-то как новорожденную решили?
— Похвастать могу — по бабке: Анастасией.
— Сама захотела, сестрица?
— Не я сама, а Катерина Романовна. Князь Михайла и подумать не успел, как Катерина Романовна нас с ним просит.
— Вот и славно. Всех уважить молодая княгинюшка умеет.
— Только знаешь, сестрица, так что-то мне кажется, не больно она рада дочке. Все о сыночке толковала, радовалась, что Михайлой по отцу назовут.
— Э, матушка, дело молодое. Лиха беда начало, а там, Бог даст, и сыночков и дочек еще принесет.
— Да я ей так и сказала.
— А она?
— Что она! Молчит, головой кивает да вздыхает: тяжко больно первенец-то дался.
— А князюшка наш как?
— Рад без памяти. Мне, толкует, много наследников надобно, не угасать же дашковскому роду.
— Жены словом каким невольным не обидел?
— Веришь, сестрица, будто и не гвардеец, будто не штабс-капитан, да еще Преображенского полка — все так ласково да деликатно, с Катериной Романовной как с дитем малым.
— А дальше-то что — здесь жить станут аль в столицу ворочаться? Вон государыня какое поздравление да гостинцев крестнице на зубок прислала! Глянула на фермуар — глаза от блеску заболели. Бриллианты все прекрупные и воды чистейшей.
— Да уж своего счастья при дворе упускать никак не надобно. Только императрица отпуск князь Михайлы продолжила, чтоб при жене да при матери побыл.
— И то славно, нас всех порадует.
— Да князь Михайла положил в орловские поместья с Катериной Романовной поехать, супруге показать, может, и к хозяйству помаленьку приучать. Не век же во дворцах паркеты натирать. Коли дети пойдут, и в поместье посидеть не грех, делом заняться.
— Староста там у тебя добрый.
— Э, там! Добрый — не добрый. Все едино, свой глазок — смотрок, чужой — стеклышко. Пусть приучается.
…Снег. Снег кругом. Ровно саван все прикрывает — ни кустов, ни сада. На улице пока с утра дорожки проторятся, первые экипажи проедут. Розвальни так в пуху белом и грязнут. Дымки от труб вьются тоненькие-тоненькие. Столбом стоят. Будто жизнь еле-еле теплится, того гляди, замрет. Дворник покуда лопатой ворота откопает, с крыльца сугробы скинет. Лакеи в поварню за кушаньем побегут. Что ни день, все то же. Свекровь толкует, так бы до конца жизнь прожить — новостей поменьше да перемен. Может, старому человеку так и надо. А мне…
Сынок родился. Михайла. В семье радость. Родных пол-Москвы в моей спальне перебывало. С поздравлениями. С подарками. Говорить по-московски будто стала. Свекровь похваливает, что стараюсь. А привыкнуть сил нет. Все перед глазами покои петербургские, порядки наши, воронцовские. Верно, что здесь таких не заведешь — осмеют, за чудачку прослывешь. Князь Михайле стыду наделаешь. Как только он сам применяться может: во дворце один, в дашковском доме другой. Да и многие наши петербургские знакомцы в Москве меняются. Говорят, свободней себя чувствуют. А по мне, какая свобода — воспитание дурное да лень. Подумать только — после обеда и стар и млад на боковую заваливаются. Иные от сна пухнут, будто время убивают. Научилась: со свекровью не спорю, а только у себя в кабинетце, рядом с детской, запираюсь. Князь Михайла тоже в это время вздремнуть не прочь. Как времени не жалко!
Сама себе не верю: неужто скука? Ничто не радует, ничто не дивит. И князь Михайлу хочу прежним видеть. Петербургским. Он иной раз спросит: что пригорюнилась? Да разве правду скажешь! Лучше к шутке свести. Скучно! Господи, как скучно! Неужто в другой раз на лето в поместье ехать? Батюшке бы знак какой подать, чтоб князь Михайлу в Петербург позвали, в полк явиться обязали. Да кому доверишься? О великой княгине здесь и разговоров нет. Немка, и весь сказ. О наследнике лучше говорят, потому что законный, потому что цесаревны Анны Петровны сын. А что голштинец по делам и мыслям, что образованности никакой, не поминают. Будто известия из чужого царства — никому до двора дела нет. Ко двору на службу ездят, живут да отдыхают в Москве и те, что опальные, и те, что в фаворе. Будто граница русская промеж Москвой и Петербургом легла. Свои обычаи, свои суды. О книгах и толковать не с кем. Князь Михайла и тот отмахивается. Профессоров Московского университета чуждаются. В домах, как наш, никогда не принимали. Да и им такая честь нужна вряд ли. Только и радости — последней почтой дядюшка Михайла Ларионыч Гельвеция «О разуме» прислал. Новостей от них почти что никаких. Известно, как дядюшка канцлерскую должность получил, тетушка Анна Карловна в обергофмейстерины произведена. Сестрица Аннет с супругом не очень счастливо живет. Не то что раздоры, а так — не по душе он ей пришелся. Куда больше с сестрицей Лизаветой Романовной дружит да время около наследника проводит. На то и поговорка: от одной яблони одинаких саженцев не жди. Сколько Воронцовых, а каждый своим умом живет, в свою сторону тянет. Батюшка проездом был, на внука поглядел, сказывал, у них с дядюшкой прения идут. По-былому ничто не складывается. Никогда дядюшка на стороне великой княгини не был, но и за наследника не высказывался, а нынче, батюшка сказывал, только о наследнике и толкует. Может, и впрямь век государыни к закату клонится?..
— Дождалась сестрицы, Лизавета Романовна?
— Дождалась, дождалась, ваше высочество.
— С сынком приехали?
— А как же, с сынком, Петрушенька. Такой младенчик утешный, на руки возьмешь — так бы и не отдавала!
— А мой подарок-то передала?
— Как же иначе! Передала. Катерина и князь Михайла благодарить ваше императорское высочество велели. Днями сами приедут предстать перед великим князем. Сестрица малость после дороги приболела.
— Никаких болезней! Все бабьи гримасы да глупости! Передай, чтоб немедля ко мне явились. Князю Дашкову по службе надлежит перед командиром полка явиться, а уж о княгине особо напоминаю. Видеть ее хочу. Немедля!
— Все передам, все передам, Петрушенька. Полно тебе себя волновать. Рабы мы все твои покорные — как велишь, так и будет.
— Не мои вы рабы, а то бы руку мою узнали. Все за тетушку прячетесь: как императрица, да что императрица. А вот не станет императрицы, тогда мы с тобой, Романовна, им решпекту покажем. Как один к ручке твоей подходить будут, в тебе заискивать. Знаю эту свору жадную, навылет их всех знаю!
— Ой, не болтай, Петр Федорович, зазря. Придет твое время, вот тогда…
— Тогда и толковать с тобой, Романовна, не стану, и просить тебя не буду: как велю, так и делать будешь. Для всех царица, а для меня одного…
— Служанка верная, как же иначе, ваше императорское — чуть не оказала «величество».
— Самую малость ждать осталось, Романовна, потерпи!
— Господи! Господи, тошно-то как! Не продохнуть. Который день легкости нет. Думы одни — что было, чего не было. Иной раз хоть в омут головой, да где его, омут, сыскать. Где?
— Государыня матушка, граф Разумовский по зову твоему пожаловал. Просить ли?
— Проси, Василий, проси. Заждалась, сил моих нет.
— Ваше императорское величество…
— Оставь, Алексей Григорьич, не для церемоний звала. Поговорить мне с тобой надобно — боле не с кем.
— Что прикажете, ваше величество?
— Говорю же, брось, брось это, Алеша. Друг мне верный да старый нужен, потому за тобой и послала. Сядь; сядь поближе, как бывало, развей тоску ты мою смертную…
— Что ты, матушка, что ты! Как можно! Тебе-то, красавице нашей, о смерти поминать, не дай Господь, в недобрый час скажешь.
— Знаю, Алеша, что любишь. Знаю, что обидела любовь твою, только ты прости меня, голубчик, вот сейчас, сегодня прости, потому много у нас с тобой хорошего было.
— За тебя, государыня, не скажу, а со мной что хорошего было, все от тебя.
— Вот и скажи, кому любовь да лад наш поперек дороги становился. Помнишь, в Тайной канцелярии дел невпроворот — все тебя костили. Каких только грехов смертных не вешали.
— Бог им судья, матушка, чего старое-то ворошить.
— Да я из-за старого тебя и видеть хотела. В колдовстве ведь тебя винили: малороссиянин-колдун, иначе не называли. Будто Петра Федоровича, наследничка моего богоданного, со свету сжить собирался. Покойница Маврушка пересказывала со слов шуваловских, будто шесть раз на живот его покушался. Про дом в твоих Гостилицах, где ты на плечах своих балки рухнувшие удержал, и то с подозрением говорили. И что команда твоя из малороссов всех русских губила. И что из дворцов моих вещи матери своей отсылал, а она их в Польше прятала.
— Ну какие же вещи, государыня! Сама же, матушка, мне волю давала, счету никогда не вела…
— Да не о вещах толк, пропади они все! Я после тех толков к племяннику соглядатаев, помнишь, приставила. Старика Трубецкого, Чоглокова и твоего братца Кирилу Григорьевича для верности, чтоб комар не проскочил, чтоб о каждом слове знать.
— Как иначе, матушка!
— Как иначе… А между мной и племянником с тех пор кошка и пробежала. Год от году хуже становилось.
— Его вина, государыня, что благодеяний твоих не ценил.
— А я вот тебя спросить хочу. Захворала я тогда, в постели без памяти лежала. Бестужев уж отходную над царицей читать собрался. По ночам с Апраксиным у Чоглокова совещался, как власть царскую делить будут: кому достанется, кому нет.
— Государыня!
— Помолчи, граф! Лучше ответь мне как на духу: тебя-то там случаем не было?
— Государыня!
— Не скажешь правды, так и знала. А ведь великий князь с супругой тогда летом у Чоглоковых в поместье близ Тайнинского поселились. И Кирила твой Григорьич туда что ни день наезжал. Заговор, выходит, плели. Вот и вся твоя любовь да дружба, граф! Прочь поди, не надобен ты мне такой. Поди!
…Кажется, невозможно себе представить большей противоположности, чем великий князь и великая княгиня. Их вкусы ни в чем не совпадают, интересы столь различны, а манера обращения являет у одной век просвещения и разума, у другого… худшие черты прусской казармы. Великий князь любит топать сапогами, непременно громко хохотать, отпускать солдатские непристойности, и ему доставляет удовольствие видеть смущение присутствующих от его нескончаемых выходок. Он счастлив только на плацу, где производит учения, но и там, как говорит князь Михайла, внешняя выправка заботит его много больше, чем хороший маневр.
Нам не удалось избежать немедленной по приезде в Петербург встречи с ним. Князь Михайлу уже ожидал нарочный с предписанием немедленно явиться к командиру полка, в котором великий князь из чистой видимости числится. Нашлось предписание и для меня: неуклонно сопровождать мужа на всех вечерах и праздниках в Ораниенбауме, поскольку таково правило для всех полковых жен. Моя усталость от дороги не являлась оправданием и могла навлечь на князь Михайлу нелепый, а может быть, и жестокий в своём проявлении великокняжеский гнев. И хотя мне и впрямь было не под силу пускаться в новый путь, я не рискнула пожертвовать служебными обязанностями мужа, а радость увидеть наконец-то мою дорогую княгиню поддержала меня. Подумать только — два года в Москве как один прошли.
Ораниенбаум совершенно несносен. Его заполонили немецкие офицеры, которых его высочество умудрился собрать из самых отходов немецкого общества. Эти вчерашние беглые солдаты, булочники и башмачники вполне освоились во дворце. Они не знают русского языка, а всякая ошибка в немецком вызывает у них непозволительное веселье и хохот, к которому охотно присоединяется великий князь и, к моему величайшему стыду, сестрица Елизавета Романовна и кузина Аннет. Все попытки спокойно поговорить с великой княгиней в первый раз оказались тщетными. Позже мы договорились о встречах вне дворца. Вы удивляетесь нашей разности с великим князем, заметила как-то раз великая княгиня, но в свое время она была совсем невелика и даже наоборот. Она рассказала, что впервые познакомилась со своим кузеном, которым великий князь ей приходится, когда ему было одиннадцать лет и когда он был красивым, любезным и прекрасно воспитанным мальчиком, каким и остался в ее памяти. Следующий раз она увидела кузена в Петербурге в качестве его невесты.
Думается, однако, что это ошибка чувств и памяти. Дядюшка Михайла Ларионыч, встретивший великого князя всего три года спустя, не скрывал никогда своего разочарования и приводил слова государыни о на редкость дурном воспитании племянника. Кто знает, почему произошла подобная метаморфоза. Теперь все праздники происходят в специальных солдатских палатках, украшенных по стенам зелеными ветками, что придает им вид по крайней мере конюшни или солдатского бивака. Князь Михайла согласен с моими вкусами, хотя и склонен быть более снисходительным к своему командиру.
Великая княгиня ранее меня прочитала Гельвеция и увлечена его мыслями. Да и трудно не увлечься положением, что каждый человек носит в себе от рождения задатки гения, и лишь от окружающей среды и обстоятельств зависит, сможет ли он свою гениальность развить и проявить. Значит, усилия каждого человека в этом направлении оправданы и могут увенчаться успехом!
— Ну, Роман Ларионыч, сам ты у нас в генерал-аншефы, благодарение Богу, вышел, а теперь и вовсе, того гляди, всем двором командовать станешь.
— С чего бы это, братец?
— А с того, что малый двор весь в руках твоих дочек. Лизавета Романовна великого князя к рукам прибрала, Катерина Романовна с великой княгиней такую дружбу водит, только диву даешься.
— Что правда, то правда.
— И сестрицы между собой не вздорят? Великому Князю все друзья супруги — враги.
— А знаешь, с Катериной Романовной не так. Сколько раз он с ней конфиденцию имел, уговаривал с великой княгиней дружбы не водить, словам ее не верить.
— И не приказывал? Не ругал?
— Где там. Княгиня наша сама удивлялась, какие речи разумные вел, рассудительные. Слово в слово не повторю, а смысл такой: мол, с такими простаками, как я, куда безопаснее дело иметь, а великие умы из каждого лимона умеют сок до последней капли выжать и выбросить. Катерина так и повторила: сок из лимона выжать.
— Поди ж ты, пример какой…
— Правильный?
— Ему, братец, виднее.
— Поживем — увидим. А только из супруга, пожалуй, она сок-то уже выжала. Как может, его перед гвардейцами выставляет на посмешище, каждый промах огласке предает. Поначалу-то совсем другое дело было.
— Может, оттого и другое, что русскому языку только теперь обучилась.
Глава 7 Петр Третий
…Вот и все. Вот и не стало великой государыни. Знали, что конец близок. Ждали, а все равно как гром с ясного неба. Еще с лета немочь её совсем одолела. Припадки что ни месяц. Собрались в конце лета в Петербург из Петергофа ехать, государыня только ногу на приступок кареты поставила, да навзничь и упала — спасибо, Иван Иванович да лакеи на руки подхватили, обратно во дворец понесли. Припадок на редкость долго длился. Все лакеи измучились, государыню державши. Попритихнет малость, поуспокоится, руки отпустят, а ее снова колотун бить начнет. Всего больше боялись, чтоб язык не откусила. Потом три дня страшных было — смотреть смотрит, глаза открывает, а слова вымолвить не может, пальцем шевельнуть. Еле тем разом отходили. С великим бережением до Петербурга довезли. Она так уж из дворца больше и не выходила. По залам иной раз пройдет, в театр раз ли, два ли заглянула — и в свои апартаменты, никого видеть не хочет. В декабре ни разу придворным не показалась, на приемах не была. Сказывали, работает, мол, с министрами. Какая работа!
А на самое Рождество конец и наступил. Мучилась государыня очень — Чулков батюшке рассказывал, плакал. Все воздух ртом ловила. Глаза испуганные. Рот кривится, будто что сказать хочет, а звуку нет. Потом руками замахала, ровно встать хотела, приподыматься стала, доктор руку протянул — оттолкнула. Сердито так, досадно. Иван Иваныч кинулся — не видит, узнать не может. На подушки завалилась, последний раз прохрипела и застыла. Все как окаменели. Архимандрит и тот застыл, пока в себя пришел, покойницу крестным знамением осенил, слова приличествующие промолвил. За великим князем заранее послали. Кто-то и о великой княгине подумал. Его императорское высочество супругу увидел, на всю опочивальню сказал: «Вам ни к чему здесь быть. Это не ваше место». Да громко так, отчетливо — все расслышали. И командовать начал, будто покойницы и в комнате нет, а ему до ней дела. Не знаю, чему можно приписать его слова, но думается, ничему хорошему для великой княгини.
Я ждала, что великая княгиня в ближайшие дни что-то предпримет, собравши своих друзей, и оградит себя от возможного несчастья и несправедливости. Но все говорят, она только оплакивает покойную государыню и выходит из своих покоев лишь для того, чтобы лишний раз оказаться у ее гроба. Она кажется совершенно подавленной и не скрывает своих слез, которых не видно ни у кого из придворных, кроме, пожалуй, прислуги, искренне к покойной привязанной. Между тем великая княгиня сумела передать мне в один из коротких наших разговоров записку, которая должна послужить ответом на мой вопрос о престолонаследии. Я не могу расстаться с этим чувствительным знаком доверия и потому предпочту его сохранить, с какими бы неприятностями это ни было связано. Имена в тексте обозначены лишь инициалами, которые я решаюсь раскрыть:
«Последные мысле п<окойной> и<мператрицы> Е<лизаветы> П<етровны> о наследстве точно сказать не можно, ибо твердых не было. То не сумнительно, что она не любила П<етра Федоровича>, и что она его почитала за неспособного к правлению, что она знала, что он русских не любил, что она с трепетом смотрела на смертный час, и на то что после ее происходить может, но как она во всем решимости имела весьмо медлительное особливо в последние годы ее жизни, то догадываться можно, что и в пункте наследства мысли более колебалися, нежели что нибудь определительное было в ее мысли. Фаворит же И. И. Ш<увалов> быв окружен великим числом молодых людей, отчасти не любя же от сердце, а еще более от лехкомыслие ему свойственное, быв убежден воплем всех: множеством людей, и не любили и опасалися Петра III, за несколько времени до кончины и<мператрицы> Е<лизаветы> П<етровны> мыслил и клал на мере переменить наследство, в чем адресовался к Н<иките> И<вановичу> П<анину> спрася, что он о том думает и как бы то делать, говоря, что мыслы иные клонят отказав и высылая из России в<еликого> к<нязя> с супругою ему правление именем царевича, которому шел тогда седьмой год, что другие хотели высылать отца и оставить мать с сыном и о том единодушно думают, что в<еликий> к<нязь>… кроме бедства покарался ему… На сие Н<икита> И<ванович> П<анин> ответствовал, что все сии проекты суть способы к междуусобной гибели, что в одном критическом того переменить без мятежа и бедственных средства не можно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено самодержавие. Н<икита> И<ванович> о сем тотчас мне дал знать, сказав мне притом, что если б больной императрице представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к сему, благодаря Богу, фавориты не приступили, но оборотя все мысли свои к собственной своей безопасности стали дворовыми вымыслами и происками старатся входить в милости Петра III, в чем отчасти и преуспели».
Но то же проявление дружеского доверия и крайне меня огорчило. Из записки следовало, что великая княгиня не набралась решимости заявить о себе и отстаивать свои права, а также то, что у нее недостаточно преданных друзей. Между тем обстоятельства складываются таким образом, что медлить нельзя. Бог весть до чего может додуматься великий князь и на какие действия подвигнет его ненависть к великой княгине и откровенная любовь к графине Елизавете Романовне. Боже, дай мне сил найти и подсказать выход! Князь Михайла во всем со мной согласен, но не знает, как следовало бы действовать. И вообще следует ли.
— Звал меня, Михайла Ларионыч?
— Звал, братец. Дело спешное и сумнительное. Рассудить надо.
— Великий князь что новое удумал?
— Не забывайся, Роман, нет больше великого князя, а хоть и до торжеств коронационных — император всероссийский Петр Третий.
— Виноват, виноват, не подумав брякнул.
— А по нынешним временам тем паче думать надо. Благоволения да и головы лишиться — простое дело. Не слыхал, как наша Катерина Романовна с его императорским величеством еще при жизни покойной императрицы реприманд словесный имела — о смертной казни. Так Петр Федорович и сказать изволил, мол, все непорядки в России от недостаточного применения смертной казни. Вот он, дескать, эту казнь введет, а вместе с нею и порядок настоящий будет. По-русски сказал, а там и на немецкий перевел для друзей своих, офицеров. Немцы от удовольствия мало что не заржали. Рихт, мол, русским, давно пора. А Катерина Романовна тут и вверни, что, мол, государыня-то пока жива и здорова, державой Российской благополучно управляет. Все как онемели. Немцы беспонятные и те застыли, сообразили, видно. А его императорское высочество возьми да и покажи Катерине Романовне язык. Мол, разговор окончен.
— Слыхал. Как не слыхать. Помнится, тогда весь Петербург неделю битую только о том и говорил. Припомнить не могу, о чем дело у них пошло?
— Да об амурной истории, не больно пристойной. Племянница государынина, графиня Гендрикова, с гвардейцем одним куры строить начала. Великий князь решил за честь семьи императорской вступиться: кто с нашей родней махаться будет, всех на виселицу или на плаху, а оттуда уж и до всей России недалеко.
— Думаешь, не шутил?
— Какие шутки! Сам знаешь, как власть человека меняет. Одно дело до престола, другое — на троне. Тут уж былого и поминать не след: обожжешься.
— Да про что ты мне сегодня сказать хотел?
— Про императора Иоанна Антоновича.
— Эва кого вспомнил!
— А ты не больно-то, братец, отмахивайся. Покуда жив Иоанн Антонович, от титула его жди беды.
— Да ведь он давно, сказывают, образ и подобие Божие потерял. Как есть несмышленыш.
— Пусть так. Более того скажу. В Холмогорах его не только ото всей семьи в особности содержали, но мог былого императора видеть один-единственный офицер, Миллер по имени. Так вот Миллеру велено было называть узника своим сыном, да еще и Григорием.
— О Господи! Даже имени крестного лишили.
— И снова скажу, не его первого. Да не в том дело. Сам того не ведал, лишь при аресте Бестужева-Рюмина дело прояснилось. Помнишь, слух тогда ходил, будто в доме Петра Ивановича Шувалова узник важный появился, будто одна графиня Мавра Егоровна сама за ним ходила, ключ от двери всегда при себе носила.
— А как же, и такое толковали.
— Ну так узник и впрямь важный был: Иоанн Антонович собственной персоной. Петр Иванович его в собственной кибитке из Шлиссельбурга по императрицыному приказу доставил. От Бестужева-Рюмина известно стало, что государыня несколько раз будто навестить Мавру Егоровну заезжала и исподтишка за узником смотрела: каков, за человека сойдет ли. Сама убедилась, не сойдет. Где уж, и косноязычный — говорить толком не умеет, и вести себя как положено не в силах. Тут его Петр Шувалов опять же сам, ни на кого не полагаясь, в Шлиссельбург-то и вернул.
— Выходит, хотела государыня им наследника заменить.
— То-то и оно. Разрыв тогда с Пруссией да Фридрихом Вторым вышел, а великий князь им душой и телом предан был. Государыня еще говорила: быть такого не должно, чтоб пруссаки землю русскую топтали.
— Значит, так и сидит Иоанн Антонович в Шлиссельбурге?
— Да дай же, братец, досказать! Экой ты, прости Господи, нетерпеливый. Снова он в Петербурге, снова.
— Ты что?
— Тем разом император Петр Третий распорядился. Анна Карловна вчерась услыхала, что государь планы строит, как его на принцессе Голштейн-Бекской женить, благо под рукой, на наших хлебах который год живет.
— Да государю-то на что он сдался? Что у него, сына и наследника нет? Павел Петрович, слава тебе Господи, растет и в ум входит. Постой, постой… Так это значит…
— Теперь расчел? То и значит, что государь Павла Петровича сыном своим признавать не хочет. Всегда-то его не жаловал, к нему не наведывался, а теперь как шепнули ему, что супруга на сносях…
— Да правда ли? Наплести Бог весть чего всегда можно.
— Так ведь как ни скрывай, рожать придется.
— И то верно. Не иначе, Гришка Орлов виноват.
— Гришка не Гришка, только не государь. Кому, как не ему, правду знать. Он в супружескую опочивальню давным-давно дорогу забыл. А как добрые люди доложили о прибавлении семейства, тут он и власть над собой потерял. Сам со мной толковал.
— И что ты?
— Известно, подождать присоветовал, покуда все не проявится.
— А говорил он с супругой?
— Как не говорить. Ото всего отперлась.
— И на что только надеется? Уж коли такое случится…
— Быть Елизавете Романовне на российской престоле.
— Что ж, намедни его императорское величество отозвал Катерину Романовну в сторонку да так напрямки и сказал: быть твоей сестре, крестница, императрицей, а тебе почитать да лелеять Лизавету Романовну придется. Так что ты поторопись и сейчас ей угождать, тем паче не расстраивать.
— Видишь, братец, тут уж не до шуток. Знаю, Катерина Романовна руку новой императрицы держит.
— Не дура же она, сама свою выгоду поймет — родственницей императорской четы стать. А с великой княгиней — ой, прости, с супругой императора — так уж это какая у нее судьба. Не нам ее судьбу переиначивать.
Шепот. Изо всех углов шепот. Тихий. Занудный. Чуть притихнет, опять шуршит. Как листья сухие. В зале черно: ни окон, ни дверей — все в черных сукнах. Одни свечи на сквозном ветру колышутся. Много свечей. Потрескивают. Воск как слезы роняют. Иные гнутся, к земле клонятся. Гроб с державной покойницей словно в огне плывет. Пышный. Одинокий. Никто не подойдет, не задержится. У стен жмутся, и рады бы уйти, нельзя — дежурство почетное. За придворными чинами местные приглядят, высшие чины городские сами чести такой не упустят. Поповское чтение у налоя мерное, ровное, ко сну клонит. А если присмотреться, суета. Кругом суета. Двери отворяются да притворяются. Кто скользнул, кто выскользнул. На дню сколько раз новая императрица приходит. Непременно гробу, чтобы все видели, поклонится, слезу прольет — и к стенке, в кресло. Перешептывается. В темноте да духоте поди разбери с кем.
Императору-племяннику и дела до покойной нет. Если ненароком под пьяную руку и заглянет, шуметь примется. С дежурными дамами хихикать. Иной раз и шутку соленую отпустит. Над супругой при всех потешается. Мол, не успела тетка ее от дому отрешить, от радости и приходит удостовериться: не встанет ли покойница. Гвардейцы на карауле молчат. Рта не раскроют. Зато супруга каждому гвардейцу слово ласковое найдет, кому и вовсе из солдат золотые в карман опустит — на помин души. Ласковая. Глаза красные, будто и впрямь с горя.
— Не заходи пока на мою половину, Гришенька. Здесь видеться будем. И людей своих сюда присылай. Оно так способней, и императору на глаза не попадешься.
— Боязно мне за тебя, Катенька. Таково боязно, сердце щемит, места себе не найдешь.
— Спасибо, голубчик, спасибо, дорогой ты мой. Только так оба мы целей будем.
— Соглядатаев, поди, полно?
— На то и дворец. Да ты не сомневайся: и Чулков возле меня — кто камердинера в чем заподозрит, коли куда выйти, сходить потребуется. И Катерина Ивановна.
— Не больно ли ты им веришь, матушка?
— В меру, Гришенька, я всем в меру верю. Душа нараспашку это ты у нас один, голубчик.
— Как жить-то, Катюша, будем? Гляди, какую Петр Федорович силу забирает, Все сам, все один. Ни советчиков, ни тебя признавать не хочет.
— Что-что, а советчиков у императора хватает. Одни принцы Голштинские чего стоят. Он их с собою да со мною в один ряд ставит, мол, члены императорской фамилии. Вставать мне за столом велит, когда их здоровье пьют.
— Позор-то какой, матушка Екатерина Алексеевна! И ты смиришься?
— А что я могу? Расплакалась с обиды, слез сдержать не сумела. Граф Александр Сергеевич Строганов разговорами веселыми развлекать меня начал, так его на следующий день император от двора отрешил.
— Так вот откуда ветер-то подул! А мы головы ломали, с чего вдруг барону такая немилость.
— Все, дружок, через меня. Ты гвардейцам-то порасскажи, какие императрица обиды терпеть от солдафона прусского должна. Это нам на будущее ой как пригодится.
…Ее императорское величество Екатерина Алексеевна все еще бездействует. От нее ничего не слышно. На приемах она не ищет возможности разговора со мной, сознавая, что каждое слово может быть подслушано и незамедлительно передано императору, который следит за ней с кошачьей зоркостью. Его бесконечные гримасы и ужимки по моему адресу доводят меня до исступления. При случае он, начавши ничего не значащий, вздорный разговор, обрывает его, показывая мне язык и спину. Даже иностранные дипломаты удостаиваются чести лицезреть императорский язык и убедиться в его отменном здоровье. Император множество времени проводит за столом, не скупясь на возлияния, непременно в обществе своих прусских лакеев. Русские офицеры не просто отстранены — они находятся в нарочитой опале, которую император всячески подчеркивает. Я вижу, как день ото дня закипает возмущение гвардии, оказавшейся под властью такого ничтожного шута.
Боже мой, но почему, почему императрица не сочла возможным довериться мне и моим самым лучшим интенциям в канун кончины государыни? Она выглядела такой слабой и потерянной, что невольно хотелось начать за нее действовать. Мысленно вновь и вновь я возвращаюсь к злосчастному вечеру 20 декабря. Мне уже давно нездоровилось, и последние полторы недели я провела в постели, но охватившее меня беспокойство за судьбу великой княгини было так велико, что, еле дождавшись отлучки князь Михайлы, я, одевшись в меховые сапоги и меховую шубу, приказала везти меня во дворец, но не к парадному крыльцу, где мне было невозможно объяснить свое появление в столь поздний вечерний час. Из рассказов князь Михайлы я знала о существовании бокового входа и потайной лестницы, которой пользовались для приема секретных посетителей, и бесстрашно направилась к нему. Входная дверь и впрямь была открыта и даже никем не охранялась. Слабый свет фонаря едва освещал ступеньки. По счастью, первой и единственной, кого я почти тотчас же встретила, была доверенная горничная великой княгини Катерина Ивановна, изумившаяся моему виду. Я спросила ее о великой княгине. Горничная ответила, что великая княгиня уже легла и хотя еще не спит, но было бы странным докладывать ей в такой час и при таких обстоятельствах о посетителях. Я настаивала, чтобы Екатерина Ивановна немедля доложила о моем приезде, предоставив великой княгине самой судить, нужен или не нужен ей наш разговор. Горничная нехотя подчинилась, но почти сразу вернулась с приглашением как можно скорее пройти в покои великой княгини, где уже другой прислуги не было.
Великая княгиня и впрямь лежала в постели с книгой и с изумлением спросила, что привело меня в столь поздний час, и к тому же больную — она знала о моем недуге от князь Михайлы. Я бросилась к ней со страстной речью, что вижу, какие грозовые тучи сгущаются над ее головой, и могу только догадываться, каким громом они разразятся, если государыня скончается, что все друзья великой княгини глубоко обеспокоены и хотят ей помочь и что от нее зависит открыть нам свои планы, которые все мы безоговорочно поддержим. Я говорила не только от себя, но и от имени многочисленных офицеров-преображенцев, друзей князь Михайлы, которых он и впрямь надеялся убедить выступить на стороне великой княгини. Однако мои доводы ни к чему не привели. Великая княгиня со слезами меня обняла, много раз поцеловала, но уверила, что никаких планов никогда не строила, уповает во всем на случай в Господню волю и вполне покорилась своей, как она сама понимает, горестной судьбе.
Меня слова великой княгини еще более взволновали и окончательно убедили в необходимости немедленных действий. Тем не менее добиться от великой княгини хотя бы тени согласия на наше участие мне не удалось. В мою душу даже начало закрадываться сомнение, не опасение ли говорит словами великой княгини и вполне ли она со мной откровенна. Однако великая княгиня продолжала меня ласкать и обнимать, убеждая с искренней заботливостью, не медля, возвращаться домой, пока наше свидание еще можно сохранить в тайне. В свою очередь, Екатерина Ивановна, стоявшая за дверью на часах, проявляла все признаки нараставшего нетерпения. Мне ничего не оставалось, как в последний раз поцеловать прекрасную, мокрую от слез руку великой княгини и устремиться по той же крутой лестнице к выходу, который, по счастью, был по-прежнему свободен и никем не охранялся. Дома меня ждал уже воротившийся князь Михайла, умиравший от страха за непонятным образом исчезнувшую с ложа болезни жену. Я передала ему состоявшийся разговор, который его не удивил, и он стал меня уверять, что в нужную минуту мы найдем и мужество, и необходимых помощников, чтобы противостоять несчастьям великой княгини, которая заслужила самую искреннюю любовь среди преображенцев, особенно по сравнению с ничтожной креатурой ее супруга. Спустя четыре дня государыни не стало, а мы — мы продолжаем ждать благоприятного развития событий. И все-таки сердце мне подсказывает: пора перевести ожидание в действие. Так будет лучше для нас всех, и прежде всего для России, которая может получить достойную монархиню.
В «Печальной зале» духота. Который день покойница стоит. Воздух густой. Сладковатый. С непривычки голова кружится. Свечи все тусклее горят. Синева между черными полотнищами колышется, на сердце давит. Кроме дежурных, никто из придворных и глаз не кажет. Император и дорогу к гробу забыл. На плацу с прусскими офицерами развлекается. Солдат на чужой манер муштрует. К месту, не к месту про Киль да Голштинию поминает — каково хорошо там ему в детстве жилось. Во всем порядок, чистота. Женщины всегда улыбаются, чуть что — книксен делают, умных из себя не строят. Одна утеха — Романовна. Ей и впрямь ни до чего дела нет. Ни интриг, ни сплетен знать не хочет. На все хохочет до упаду. Ума бы ей у сестрицы призанять, да и так ладно. А Катерина Романовна тоже в «Печальную залу» зачастила. Император застал, подтрунивать начал — ровно не у гроба, ровно в танцевальной зале. Коротко ответила, мол, у смертного порога шутить не след, а она последний долг крестной матери отдавать приходит. Родной не помнит, так всем государыне императрице обязана. Петр Федорович фыркнул, на каблуках повернулся, на отходнем, как мальчишка, через плечо бросил, дескать, потому только и терпит ее глупости да дерзость, что скоро станет она сестрой императрицы всероссийской. Негромко сказал, а вся зала притихла: быть беде.
— Ваше императорское величество, как я счастлива видеть свою государыню!
— Полноте, княгиня, полноте, друг мой! Какую радость могу я принести и кому? Вы же знаете, что дни мои во дворце сочтены, и если и скорблю, то не о власти — о российском дворе, который станет сколком прусского. Ваша сестра на моем месте не сумеет противостоять прусским симпатиям его величества. Она далека, думается, от политики, и голштинские принцы окончательно заберут всю власть в свои руки.
— Умоляю вас, государыня, не говорите о сестре. Надеюсь, что этот позор нашего семейства продлится недолго. Простите мне мою вольность, но его императорское величество не отличается стойкостью чувств.
— Почему же? Он выказывает редкое постоянство в своей неприязни ко мне и к нашему сыну. А впрочем, друг мой, я не хочу продлевать нашей беседы: кругом слишком много ушей и глаз. Бог милостив, скоро свидимся…
— Ваше императорское величество!
— А, это вы. Рада вас видеть, подпоручик Талызин.
— Вы так бледны, государыня, не могу ли я предложить вам свою помощь — прикажите.
— О нет, Александр Федорович. С моей горестью мне надлежит справляться самой. Но кто знает, может, в самом недалеком будущем ваша помощь окажется неоценимой, если вы не откажетесь от нее.
— Никогда в жизни! Вы так любезны, ваше величество, — даже запомнили мое имя.
— Я никогда не забываю имен тех, к кому испытываю расположение. Мое расположение к вам — это вера в ваше благородство и искренность. Как российской армии нужны такие офицеры!
— Вы слишком добры, государыня!
— Добра? Я только объективна. Монархи не вправе давать волю своим личным чувствам. Добро нашей армии для меня превыше всего. Как бы я хотела позаботиться о наших доблестных воинах, а не отдавать их на издевательство прусских неучей.
— Тихон Силыч, а Тихон Силыч! Никак, карета к нам едет. Кучер у ворот замешкался. Чего делать-то надоть? Господа принимают, нет ли?
— Карета-то чья, Федосеич? Гость гостю, сам знаешь, рознь, да еще в такие-то, прости Господи, времена!
— Не видать еще: чего-то завозились.
— А ты гляди, лучше гляди; мне вон еще сколько до спальни графской бежать — чай, не молоденький.
— Так ведь больные все. Как государыня, упокой. Господи, ее душу, скончалась, все с постелей не встают. И Михайла Ларионыч, и Анна Карловна. Лакей от Дашковых с запиской прибегал, сказывал, и княгинюшка наша из спальни не выходит, никого не принимает. Кушать и то у себя изволит.
— Нашел чудо! Это тебе, дураку, все впросте, а господа люди знаменитые, государственные — им про все подумать надо.
— Наконец-то тронулись! Так и есть — Тришка это шуваловский. Разу не было, чтоб у ворот не запутался. Как только его Иван Иванович держать изволят.
— Иван Иванович, говоришь? Бегу к графу, бегу. Ты тут, в дверях-то, тоже позамешкайся, чтобы мне впору поспеть.
— Здорово, старый. Господа дома?
— Как же, ваше сиятельство, как же-с! Хворать только изволят…
— Что глупости несешь, Федосеич?
— Ваше сиятельство, граф просить велел… Недужится ему, так, может, вам не в труд будет прямехонько в опочивальню пройти…
— В опочивальню, говоришь? Оно и к лучшему, пожалуй, — без церемоний.
— Ваше сиятельство! Счастлив видеть вас в добром здравии.
— Спасибо, граф. Вы занемогли? Который день не вижу, вас во дворце, решил сам заехать.
— Простыл, ваше сиятельство, жестоко простыл, да у Бога не без милости: еще день-другой, глядишь, и обойдется.
— И то сказать, какая радость во дворце бывать.
— Как можно при столь скорбных обстоятельствах о своих удовольствиях помнить! Моя воля, не отошел бы от смертного ложа нашей благодетельницы.
— Вот о воле и заехал с вами потолковать, граф. Хотел аудиенцию у его императорского величества получить, объясниться — отказ. Государь и слышать не захотел, хотя никогда милостию своею меня не обходил. Князь Барятинский так и ответствовал от высочайшего имени, чтобы не беспокоить. Что там — лишний раз, без приглашения, ко двору не ездить. Мол, понадобится — позовут, а пока дома сидеть.
— Обождать, ваше сиятельство, надо.
— Какое, граф, обождать! Вон сколько вокруг государя новых людей завертелось. Такое наплетут, что и вовсе с глаз сгонит. Выразить его императорскому величеству свои мысли и интенции медлить нельзя.
— Есть ли в том резон, Иван Иванович?
— Как же не резон? Служил я верно покойной государыне, готов служить и наследнику престола. Государю ли не знать, как всегда я за интересы его стоял, гнева императрицы не боялся. Да вот с собой письмо захватил — сколько он мне таких писывал. Вот, прошу вас, взгляните, граф.
— Нет, нет, ваше сиятельство, как можно!
— Не хотите читать, сам вам прочту. Хоть бы вот это — когда великий князь всенепременно в европейский вояж ехать собирался. Послушайте: «Я столько раз просил вас попросить ее величество разрешить мне отправиться на два года в путешествие по чужим краям. Я повторяю ту же просьбу снова, настойчиво умоляя вас представить ее таким образом, чтобы она была уважена. Мое здоровье слабеет день ото дня, ради Бога, окажите мне эту дружескую услугу и не дайте мне умереть от огорчения. Мое положение это не то положение, в котором можно выдерживать мои огорчения и постоянно усиливающуюся меланхолию. Если вы находите, что есть надобность все это представить ее величеству, вы доставите мне самое большое в мире удовольствие, и тем более об этом я вас прошу. В заключение остаюсь преданный вам Петр». Видите, граф!
— И государыня изволила отказать?
— Нет, я не решился тревожить ее императорское величество: способности не было.
— Великий князь об этом узнал?
— Откуда же?
— Наведывался у вас, поди?
— Сам наведываться не изволил, а я в подробности не входил. Да разве мало просьб всяких у наследника было!
— Вашей благосклонностью великий князь Павел Петрович похвастать мог.
— Так ее императорскому величеству так угодней было. Да я и записки нынешнего наследника прихватил. Великой милостью Павла Петровича одарен был. Году не прошло, отвечать мне изволил: государыня недовольство свое передать велела, что за столом беспокоен был. «С охотою ответствую вашему превосходительству и исполняю мое обещание. Должно жить в пользу и угождение других: так мне нетрудно просидеть несколько за столом особливо для вас; мне в том больше удовольствия, нежели вам одолжения: только бы вы были довольны. Я буду стараться быть достойным похвалы, о которой вы говорите, и прошу вас, по обещанию, говорить мне всегда правду и верить. Государь мой, что я непременной вам друг. Павел». И мысли высокие, и слог преотличный, даром что дитя еще. Государыня очень письмом этим утешена была.
— Да, не жалует государь наследника, ничего не скажешь. Никогда не жаловал, теперь и вовсе примечать перестал.
— А я подумал, граф, может, вы по старой памяти государю обо мне доложите, напомните…
— Дорогой душой, ваше сиятельство, вот только простуда моя когда отпустит. Морозы стоят, не ровен час, инфлуэнца начнется.
— Может, через день-другой, как изволили сказать, Михайла Ларионыч?
— Все в руце Божией, Иван Иванович, на все его святая воля — то ли выздороветь, то ли еще горше заболеть.
— Значит, не собираетесь, граф, во дворец.
— Как можно не собираться! Только не уехать ли вам, Иван Иванович, покуда суд да дело, куда в имение. Здоровье свое отчего не беречь. Государь, надо думать, имея к вам заслуженный решпект, не откажет.
— До погребения? Что вы говорите!
— Что там, Иван Иванович, от правды-то прятаться. Старым слугам от нового барина ласки не дождаться. О том и речь.
— Граф, поверьте, сколь тягостна мне моя миссия обременять вас одолжением, но мне негде искать защиты и покровительства, кроме старых друзей. Ваше семейство, хвала Богу, огорчений от перемен не претерпело и не претерпит. Государь о вас самого высокого мнения, да и дочери ваши с должным решпектом при новом дворе приняты. Тем паче поймите, не обо мне одном речь, и горести сердца родительского мне не чужды…
— Полноте, полноте, ваше сиятельство, я к тому только, чтобы вы себя прежде часу не крушили. У Бога не без милости. Нелегок характер у государя, да авось все обойдется. На глаза бы ему раньше времени не попадаться, вот что.
— Михайла Ларионыч, друг мой, не поверите, что мне каждый Божий день монастырь Ивановский видится. Как наяву. Двор просторный, широкий. Могилки кругом позабытые. И колокол тренькает редко так, жалостно. Будто на постриге.
— Монастырь Ивановский? Не московский ли?
— Он и есть.
— Икона там Божьей Матери Умягчения Злых Сердец — великой силы образ. Сколько батюшка покойный у нее молебнов отслужил — при государыне Анне Иоанновне за семейство наше боялся. Помнится, в пожар тридцать седьмого года сгорел монастырь-то.
— Сгорел дотла. Только государыня Елизавета Петровна, благодетельница наша, как последний год сильно хворать начала, восстановить приказала. Денег немало отпустила. Для сирот и вдов из благородных семейств. Собиралась сама побывать. Не пришлось. Всех поименно поминала, кто конец свой в стенах монастырских нашел.
— Вот чего не видал. А узниц-то высоких как не знать. Не с царицы ли Марии Шуйской ряд их пошел?
— Нет, государыня императрица невесток Грозного называла. С обеими родством считалась — и с Евдокией Богдановной Сабуровой, и с Пелагеей Михайловной из семейства Соловых. Обе жизнь свою там скончали. Это потом уж их в Воскресенском монастыре погребали, как по царскому чину положено. Вот и тут в голову мысли идут: не на беду ли дочери своей собственной государыня обитель отстроила. Что, если…
— Полноте, ваше сиятельство, все беды на себя кликать.
— Утомил я вас, граф, извините великодушно. Таково-то тяжко на сердце — света Божьего не видишь. От дум голова кругом идет — никак судьбы своей не раскинешь, а как бы надо! И лежите, лежите, не провожайте.
— Тихон! Тихона Силыча ко мне!
— Здесь я, батюшка, где ж мне еще быть.
— Проводил гостя?
— А как же! Смурной какой их сиятельство. Шубу в рукава вздевать не стал, кое-как на плечи накинул и на крыльце стоит.
— Смурной! Каким же ему при такой оказии и быть? А теперь запомни и Федосеичу крепко-накрепко накажи: нету меня для господина Шувалова, никогда нету. И Анны Карловны тоже. Разок приедет — сам поймет, коли сегодня не понял. Надо же, за него перед государем просить! Неужто не передали, что Петр Федорович на плацу перед всеми офицерами так и крикнул, мол, не надобно мне книжников да умников. Попользовались при тетушке государской казной, повеселились — хватит. Мне, мол, одни офицеры нужны, да и то лучше бы прусские.
…День ото дня государь все больше входит во вкус власти и становится все более несносным. Былые неловкости переходят в бесцеремонность, а любое неудовольствие — в грубость. Его величество ни в чем не считает нужным себя сдерживать и находит особое удовольствие в том, чтобы ставить самых почтенных людей в неловкое или двусмысленное положение. От пожилых дам он требует большого реверанса, на который им не позволяют больные колени, и старая графиня Бутурлина в последний раз едва не упала, если бы ее не подхватил один из придворных кавалеров, получивший за то императорское замечание. От стариков с подгибающимися ногами и на высоких по старой моде каблуках его величество требует бегать по зале, где они рискуют сломить себе шею. Вчера он и вовсе заявил, что придворных следует отбирать, как полковых лошадей, по возрасту и статям, иных же отрешать от двора или пускать в расход. Не удовлетворившись одними словами, его величество изобразил в руках ружье и сделал громогласное «пиф-паф». Посол английский достопочтенный господин Кейт склонен думать, что решительно все действия императора направлены на то, чтобы заслужить неприязнь со стороны подданных и лишиться каких бы то ни было друзей. Мое положение счастливее других, потому что государь пока прощает мне мои маленькие вольности в обращении с ним, мои замечания и по-прежнему дозволяет называть себя папой, что его всегда очень веселит. Но Бог весть сколько будет еще продолжаться это благоволение, тем более что сестра Елизавета Романовна стала коситься на наши перебранки и даже решилась сделать мне несколько замечаний. Ее веселый нрав стал ей изменять, и она допускает вольности в отношении государыни.
Намедни государь неожиданно объявил, что намеревается ужинать в доме дяди, который давно не покидает дома по причине затянувшегося нездоровья. Объяснения по поводу недомогания графа не помогли, и его величество, просидев более часа у постели канцлера, согласился не вызывать его к столу, за которым тем не менее охотно занял место. Дядюшка заранее распорядился вызвать по этому случаю Аннет, сестру Марью Романовну и меня. Семейство наше оказалось в полном сборе, потому что сестру Елизавету Романовну его величество привез с собой, обращаясь с ней с нарочитым почтением и требуя того же ото всех нас. Если Аннет и Марья охотно подчинились императорскому желанию, то я предпочла стоять за стулом государя, прислуживая ему одному и обмениваясь с ним замечаниями. Одна из шуток государя была: не нахожу ли я Елизавету Романовну особой более любезной и приятной в обхождении, чем погруженную в интриги императрицу? На мое возражение, что я не знаю никаких интриг императрицы, государь пристально на меня посмотрел и заметил, что я слишком молода и неопытна, а потому мне еще предстоит на собственном опыте убедиться, сколь расчетливы и бессердечны особы подобного рода. Вам бы следовало, заметил он, держаться меня со всеми моими недостатками и фантазиями, чем Екатерины Алексеевны, которая вас выжмет и выкинет, как ненужный лимон. Замечание это было мне крайне неприятно, но я не могла не отдать должного неожиданной серьезности рассуждений постоянно кривляющегося и издевающегося надо всеми императора. Заметив произведенное его словами впечатление, государь усмехнулся и более за весь вечер не сказал со мной ни слова.
Впрочем, мне удалось отплатить за неловкость. После нашего разговора его императорское величество почти сразу пустился в воспоминания о проведенном в Киле детстве. Со всей серьезностью он стал уверять австрийского посланника графа Мерси и прусского министра, что по поручению отца во главе эскадрона карабинеров и роты пехоты чуть ли не за полчаса очистил город от наводнивших его богемцев. При этом оставалось непонятным, кого именно император подразумевал под богемцами — бродячих ли цыган или подданных императрицы австрийской, королевы Венгрии и Богемии. Я не преминула шепотом указать государю и на его бестактность в отношении посла, и на явную выдумку. В своем возрасте он еще не мог командовать воинскими частями. Мои слова могли бы вызвать настоящий взрыв негодования, но его императорское величество был слишком пьян и ограничился своим любимым выражением, что от дурочки нечего ждать умных речей. Смущением графа Мерси, он также пренебрег, хотя и нашел еще в себе силы дружески похлопать его по плечу и расцеловать неизвестно по какой причине, повергнув посла в полнейшую растерянность.
Бедная государыня! После такого вечера я чувствую себя предательницей, хотя всей душой нахожусь на ее стороне. Ее одиночество во дворце все больше бросается в глаза, потому что придворные, опасаясь гнева государя, предпочитают избегать встреч и разговоров с ней. Даже карточные партии составляются для государыни по приказу гофмейстерины, которая назначает в них провинившихся или неугодных ей самой особ. К сожалению, совершенно так же держит себя и батюшка, утверждая в то же время, что далек от всех придворных хитросплетений.
Стужа. Экая стужа. Окошки заиндевели. По углам изморозь. Утром в туалетной льдинки в кувшине, как государыне для умыванья подавать. Печи за ночь простынут — холодом дышат. Государыня за столик для писания сесть изволит, руки долгонько в рукавах душегреи держит: пока-то отойдут, перо держать станут. Истопников не дозовешься. На словах с нижайшим поклоном, на деле не видят будто. Его императорскому величеству угождать стараются. Лишняя она во дворце, государыня, как есть никому не нужная. Придворные, известно, опасятся. От дежурств уклоняются — кому будто неможется, кто к государю переводу ищет. Цесаревич и тот матушке не рад. Государыня к нему что ни день заходить изволит — бычится, в полслова отвечает. Известно, все уши наследнику прожужжали, коли не государю, так ему самому на престоле быть пристало, что все беды от матушки. Отца не видит, а прогневить его боится, да и скучает, поди, матушкиными разговорами. Ее императорское величество все более о книгах да уроках, цесаревич же с плацу бы не уходил — страх как строй да экзерциции любит. Им бы с батюшкой вместе, ан Петру Федоровичу ни к чему. Надысь сказать изволил: у нас-де в семействе старшие сыновья все негодящие. Считать стал: у государя Грозного Ивана второй сын престол унаследовал. У Алексея Михайловича, прадедушки, тоже второй — царевич Алексей в одночасье помер. У государя Петра Алексеевича и вовсе первенца порешить пришлось. Зато вот от второй супруги дочки любимые — сколько лет тетушка Елизавета Петровна царствовала, а Анна Петровна вот его родила. Шутка ли!
У государя в покоях жаром пышет — тепло любить изволит. На плацу намерзнется, ботфортов не скинув, в покоях греться раскинется, о шелковые занавеси иной раз руки обтирает. Прислуга порядок наводить станет — отсылает: не надобно, мол, и так ладно. За обедом да ужином вина не мера. Все сорта перемешает, что к мясному, что к рыбному. Главное — чтоб в голове быстрей зашумело. Говорить тогда громко начинает, смеяться до распуку, Нарциску-арапа тормошить да обнимать. Его императорское величество — ему виднее. А только нехорошо во дворце. Иностранные министры перешептываются, к господину канцлеру Воронцову за новостями спешат. Во дворце какие новости — одни обиды да смущения. Поди, про такое и в депешах написать срам один, своим государям беспокойство.
Еще с княгиней Екатериной Романовной толкуют. Молода-молода, а ума палата. Ее императорское величество так и сказать изволила, мол, боится княгининых девятнадцати лет да нраву неуемного, горячего. С самим государем на равных разговаривает. «Папа», «папа», а там такое словечко ввернет — министр сказать не решится. Сказывали, за обедом государь господина секретаря Волкова в конфузию вогнал. Тот, известно, при покойной императрице над секретными решениями военными сидел, так государь хохотать принялся, что те самые секретные решения до армии и не доходили вовсе, потому как он сам о них прусскому королю сообщал. Господин Волков что сказать не знает, багровый сделался. Ведь он же сам великому князю все бумаги читать давал. А то как же, наследник российской короны! Правда ли, нет ли, кто знает. Государь до упаду смеяться изволит. Кто из господ офицеров был, глаза утупили. Одна княгиня наклонилась к его императорскому величеству да внятно так сказать изволит, мол, шутка ваша, государь, не у места. Над российской армией доблестной какие шутки, тем паче при иностранных министрах. Еще за правду принять могут. Государь зашелся весь, ногой притопнул — посуда на столе зазвенела. Мол, никаких шуток, мол, так все и было. Княгиня на своем стоит. Коли так, дескать, с чего бы армии нашей победы одерживать? А держался, дескать, прусский король на английских подачках. Пока лорд Питт у власти стоял да средств не жалел. Лорд Бют против договора о субсидиях высказался, тут королю и конец пришел. Какие же такие секретные реляции ему помочь могли?
В столовой муха пролетит — слышно. Лакеи замерли. Дамы веера оставили. На княгиню да государя взглянуть боятся. Государь же в полной досаде кричать начал, слюной брызжет, вилкой по тарелке бьет. Англичан подлецами обзывает. Мол, слава Богу, нет больше королю Прусскому до них нужды, мол, теперь русская держава ему поможет и у него учиться станет. А пруссаки правы: нечего бабам о материях государственных рассуждать. Один позор и смущение от того выходят. И ей бы, княгине, своим делом заниматься — детей рожать да мужа ублажать, когда с учений домой приходит. Княгине бы промолчать. Где там! Голос повысила. У меня, государь, двое детей, и третьим я в тягости, а к русскому достоинству это отношения не имеет, потому что детей надо иметь от достойных российских офицеров, которые честь свою блюдут и помнят. Графиня Елизавета Романовна вмешаться изволила. Не повреди, мол, сестрица, моему будущему крестнику, не себя, так его побереги. И то верно, не женский разговор ведешь, слушать скучно, пригласила бы лучше кавалеров трубки выкурить, кофейку отведать, от дам отдохнуть. У всех от сердца отлегло. Наконец-то!
— Здравствуй, Тиша! Маменька дома ли? Никак, ее карета мне на Невском прешпекте привиделась.
— Здравствуйте, матушка Анна Михайловна! Радость-то какая, что заглянули, то-то радость! А графиня Анна Карловна четверти часу нет как вернулись, поди, еще в убиральной сидят. Пожалуйте, пожалуйте салопчик-то, сапожки сейчас снимем…
— Не хлопочи, старый, не труди себя, нешто народу мало.
— Как не быть народу в боярском-то доме, только уж разреши, матушка, самому тебе услужить, красавице нашей. А вот и матушка собственной персоной — материнское сердце, известно, куда какое чуткое.
— Маменька!
— Аннушка, друг мой! Не ждала тебя в такой час. Случилось что? Лица на тебе нет — не захворала ли?
— Бог миловал, матушка, а огорчение и впрямь есть — потому к тебе и поспешила.
— Ко мне, ко мне пойдем, да дверь притвори поплотнее, коли дело важное — хоть Тихон Силыч за слугами и следит, да у канцлера везде соглядатаи найдутся, будь он неладен.
— Да не про то, маменька!
— Про что же, Аннушка? Ты, никак, от государева стола…
— То-то и оно — там все и случилось. Кабы знать, о чем речь зайдет, Александр Сергеевич…
— Снова зятек наш богоданный тебя огорчил!
— Хуже, маменька, куда хуже!
— Говори же, Аннушка, скорей говори!
— Сестрица Елизавета Романовна жалеть стала, что господин Преннер из Петербурга уехал. Мол, некому портрету заказать пристойного, с аллегориями.
— Умница племянница, ничего не скажешь. И государю удовольствие — как-никак художник берлинский, придворный, из благородных: Каспар Иосиф фон Преннер, и семейству нашему честь — батюшка ведь твой его пригласил.
— Все так, да не так, маменька, вышло.
— Что не так?
— Сестрица Елизавета Романовна поначалу портрет семейный воронцовский расхвалила — деток дядюшки Ивана Ларионовича. Мол, кузен Артемий на вороном коне, кузина Аннушка с гончей, младшенькая наша Авдотьюшка в траве с мопсом, кругом парк такой распрекрасный, дворец в стороне виден. И что, мол, хорошо бы государю самому там побывать — в Москве, на Неглинной, и какая бы то честь всему нашему семейству оттого была.
— Умница Елизавета Романовна, даром что Михайла Ларионыч к ней никогда симпатии не питал, все Катеньку расхваливал.
— Погодите, маменька, погодите! Тут Александр Сергеевич — вечно ему боле всех надобно — возьми да скажи, что и краски у мастеров не те, и лица, мол, кукольные, и цвет плохой. Мол, такой портрет и вешать неловко, коли кто художествам цену знает.
— Надо же!
— Да вот оказалось, что и надо. Государь на него покосился, а там и говорит, что, мол, правда, мастер хоть и именитый, а никуда не годный, что, мол, тетушку, покойную императрицу, несуразно написал — в венке цветочном. От венка, мол, и ее величества не видать, как, мол, Помона какая, а не самодержица российская, императрице, мол, только Шувалов и мог такого расхвалить — стыдоба одна!
— А по мне, так очень даже распрекрасно государыня представлена. Позитура танцевальная, легкая, какой в семнадцать ее лет была.
— Да дайте же досказать, маменька! Так государь разошелся — давно его таким веселым не видывали. Портрет преннеровский припомнил, где государыня покойная в рыцарских доспехах на вороном коне, генералитет весь на конях, да и дамы придворные верхами и тоже в рыцарском облачении и со шпагами. До распуку смеялся государь, дам по именам называл, на дуэль вызывать собирался. А тут Катенька наша возьми да и прерви государя. Мол, с дамами-воительницами, может, и впрямь смешно, зато портрет их императорских величеств с придворными очень даже достойный.
— Это какой же? Что-то не упомню.
— Да и как упомнить, маменька. Его прусский посол тогда откупил, государыне не по вкусу пришелся.
— Вот как! Разговор такой припоминаю, а портрета не видала.
— Маменька! Там сам господин фон Преннер у холста портрет великой княгини Екатерины Алексеевны пишет. Екатерина Алексеевна в мантии горностаевой, с великим князем на руках. Обок государь Петр Федорович в римских доспехах и шлеме представлен, поодаль придворные.
— Что ж тут дурного?
— А то, что великая княгиня главнее всех — ее портрет на холсте посередке стоит, да еще и без дитяти царственного.
— Как так? Сама же сказала, что ее императорское величество с великим князем.
— В том-то и штука: сидит с дитем, а на холсте дитяти нет, и место для него не оставлено, и туалет другой.
— Да как же такое возможно! А Катя что, не уразумела?
— Еще как уразумела. Потому и припомнила, чтобы любимую свою государыню вперед выдвинуть. Государь и не стерпел. Не дождаться, говорит, Екатерине Алексеевне, чтобы император всероссийский у нее в придворных состоял, что художник дурак, а княгиня-крестница последнего ума от своих книжек решилась. Так при всех и оборвал.
— Господи! И к чему Катенька с огнем играет! Как такое можно, чтобы законного правящего государя раздражать. Охладел государь к супруге, не он первый, не он и последний, только как верноподданным в такое дело мешаться? Говорила же я ей!
— Что ей говорить, маменька, Катерина Романовна только свой норов тешить горазда. Иной раз думаешь, спорит с государем ради спора, чтоб себя показать, снисходительностью государевой при всех попользоваться.
— Твоя правда. Граф Михайла Ларионыч уж с супругом ее толковать брался. Где там! Князь Михайла жениными глазами на все глядит: что ни сделает, все ладно. Сам о семье позаботиться не может. Ему бы долги делать да имение проматывать. Там за карты сядет — тысячи-другой недосчитается, там друзей примет, а то угощение всему полку выставит.
— Так богатства у Дашковых немалые.
— Немалым тоже конец прийти может, а Катенька вон уже третьим дитем тягостна. На все деньги нужны. Ей бы государя лелеять да холить, Бога за него молить, что все ее продерзости терпит.
— Батюшка, беда у нас, великая беда!
— Что ты, Катерина Романовна, какая беда? Не с детками ли, не приведи, не дай Господи.
— Нет, нет, батюшка, — с князем Михайлой.
— Час от часу не легче! В карты проигрался или что?
— Полно, батюшка, князя чужими грехами корить. Михайла Иванович раз проиграет, другой выиграет. Как можно от товарищей отбиваться в одном полку-то.
— Выиграет! О проигрышах княжеских знаем, о выигрышах что-то не слыхивали — не доводилось!
— Батюшка, да уж сколько о том говорено!
— Выходит, мало, коли воз и ныне там: что ни вечер — зеленый стол. Уж на что государь добр да отходчив, а и то примечает, Елизавете Романовне попенял.
— Так о государе и речь. Утром на плацу учения смотрел. Рота князя Михайлы прошла, развернулась как положено, а ему не понравилось. Князя к себе призвал, распекать при всех начал, будто учить солдат не умеет, а командовать и вовсе.
— Значит, заслужил. Поди, за тобой да зеленым столом службой неглижировать стал.
— Неправда! Неправда, батюшка! Все офицеры, что на плацу были, как один, говорят: не было на князе никакой вины, преотлично солдаты прошли и команда правильная была.
— Что ж, матушка, тем хуже. Себя, стало быть, вини. За женины продерзости мужу кнут. И так бывает — не диво.
— А если и так, все равно князя от гнева царского спасать надо. Государыня Екатерина Алексеевна так мне в секрете и поведала. Мол, гроза бы не собралась. Придумать что-ничто надо.
— Государыня! Вот тебе, Катерина Романовна, и разгадка. Что ты в немке этой длинноносой сыскала, чем прельстилась? Государь сам тебе говорил, перестань ее руку держать, что тебе от ее руки. Сестре только родной дорогу перебить хочешь.
— Батюшка, Бог с ней, с государыней. Мне бы князь Михайлу уберечь, чтоб дядюшка за него попросил, тетушка Анна Карловна.
— Что ж, сама к ним не пойдешь? Не повздорила ли и с ними случайно?
— Какие раздоры! Только они руку государя держат, прихоти его каждой потакают. Знаю, и слушать не станут. Тут еще Аннет…
— Что Аннет — и тут свою волю творить собралась? У сестры с мужем нелады, а ты, прости Господи, за супруга распинаешься. Чему дивиться, что ни от кого из родных помощи не дождешься. Или тебе мужнина родня, Богом забытая московская, на помощь молебнами да богомольями придет? Ты у них прижилась, тебе и знать.
— Батюшка! Не обо мне да князе, о детках подумай!
— Теперь подумай, когда своя воля впрок не пошла?
— Батюшка, неужто Воронцовы своих бросить могут?
— Разве что Воронцовы.
— Отослать бы куда князь Михайлу с государевых глаз на время, чтоб под горячую руку не попадался, пока государь его сам в какой отдаленный гарнизон не сошлет. Было ведь уже такое, было!
— Ну, тут подумать надо.
— Какие думы, батюшка, час дорог. Мне тут такое на ум взошло. Ко всем престолам дружественным послы с радостным известием о вступлении государя на престол отправляются. Не найдется ли и князь Михайле какого двора?
— Сама собственными руками с любимым мужем разлуку готовишь? Не ожидал. Думал, тебе бы только миловаться с твоим разлюбезным.
— Батюшка, лучше самой — вернее будет.
— И то правда. Неплохо бы супругу твоему и от Петербурга оторваться. Помнится, вчерась брат Михайла Ларионович про Константинополь что-то сказывал. То ли тот, кого назначали, приболел, то ли для другого дела запонадобился. Никому к туркам ехать неохота.
— А может, и впрямь к туркам?
— Ишь, отчаянная какая! А ну что случится — турки все-таки!
— На все Божья воля, с государем же князь Михайле оставаться опасно.
— Из-за одной выволочки-то?
— Не говорила я тебе, батюшка, князь Михайла за честь свою вступился, с императором спорить стал…
— Что-о-о?
— Так уж вышло — слово за слово, князь Михайла на своем стоял. Даже за шпагу схватился…
— Час от часу не легче, это против императора-то?!
— Так ведь прав он был — не государь.
— Господи Иисусе, а что же его величество?
— Убежать изволил…
— Еду! Сей же час еду к канцлеру. Только бы Бог помог твоего князя к туркам отправить. Твоя правда — все лучше, чем здесь приговора царского дожидаться!
— Милое дитя мое, я не верю своим ушам: вы способствовали отъезду князя в эту длинную и опасную поездку в Турцию?
— Да, ваше императорское величество, Бог сохранил для князя Михайлы последнее место среди послов к разным дворам. Конечно, Турция — не лучший вариант, но здесь оставаться князю было попросту небезопасно.
— Но почему? Вся ваша семья пользуется благоволением императора, если не сказать большего.
— Отдельные члены семьи Воронцовых, государыня, но не я.
— Вы сами провоцируете государя на вспышки.
— Может статься. Но мне трудно скрывать истинные побуждения моего сердца. А для того чтобы их воплотить в жизнь, мне не нужен князь Михайла. Я боюсь за его жизнь.
— Вы пугаете меня, княгиня! Что вы имеете в виду?
— Только то, государыня, о чем я неоднократно имела честь вашему императорскому величеству говорить: приход к власти императрицы Екатерины Второй.
— Но это чистое безумие, дитя мое. Ради Бога, прекратите подобные разговоры.
— Государыня, вы не можете мне их запретить, потому что я убеждена: с царствованием вашего супруга на мое отечество надвигается грозовая туча несчастий. Престол должен перейти к просвещенной и гуманнейшей правительнице, под властью которой начнется подлинное процветание Российского государства. И я далеко не одинока в своих планах — их разделяет множество достойнейших людей, поверьте, ваше императорское величество.
— Вы сказали «правительница», княгиня? То есть вы имели в виду регентство до совершеннолетия великого князя?
— О нет, государыня! У меня нет оснований сомневаться в великих достоинствах Павла Петровича, но как можно сравнить дитя с зрелым умом я уже проявившимся талантом его родительницы. Великий князь должен наследовать императрице, своей матери, в делах, ею начатых и успешно проводимых. В этом мы расходимся во мнениях с моим дядей Никитой Ивановичем Паниным.
— Вы говорили на подобную тему и с ним?
— С ним, как и со многими другими.
— Вы назвали Никиту Ивановича дядей — у вас и в самом деле такое близкое родство?
— О да, ваше величество. Панины приходятся двоюродными моей свекрови. Ее и их матери — родные сестры Эверлаковы, и семьи чрезвычайно дружны между собой.
— Кстати, Никита Иванович не собирается жениться?
— Ваше величество, он уверяет, что ему вполне достаточно того великого множества племянников, которыми его дарит что ни год брат Петр Иванович.
— Это не объяснение.
— Вы правы, ваше величество. Никита Иванович недавно признался мне, что пережил до своего отъезда на дипломатическую службу глубокое чувство, с которым не расстанется до своей кончины.
— Я не знала, что это чувство так глубоко…
— Так что вы осведомлены о нем, государыня?
— Думаю, что да, впрочем, поговорим о более важных предметах. Так что же имеет в виду Никита Иванович?
— Ваше регентство при сыне, и во всяком случае необходимость освобождения престола.
— Дорогая княгиня, меня глубоко трогает ваша преданность и забота, но вы забываете: прошло немногим более месяца со дня вступления на престол Петра Федоровича. Ни народ, ни дворяне еще не могли успеть узнать особенности его правления.
— Позвольте возразить, ваше императорское величество. Достаточно, что его узнали мы. Когда очередь дойдет до народа, правление слишком укрепится и будет поздно для изменения судеб России. Нынешнее время самое подходящее.
— Как вы нетерпеливы, дитя мое! Это нетерпение может положить конец вашим мечтам слишком скоро и, не дай Бог, слишком жестоко.
— Я не могу сказать, что мне незнаком страх, государыня, но я нахожу в себе достаточно сил и решимости действовать в вашу пользу. В конце концов, это для меня единственный способ вернуться к счастливой семейной жизни. При нынешнем государе я никогда не буду покойна за мужа.
— В последнем вы, несомненно, правы, а в остальном…
— Если вы не хотите дарить меня доверием, ваше императорское величество, я все равно буду действовать на свой страх и риск. Все равно!
— На кого же вы рассчитываете, княгиня?
— Прежде всего на гвардейских офицеров. Армия возмущена симпатиями императора к Пруссии. Отказаться от всех завоеваний Семилетней войны ради необъяснимых восторгов перед проигравшим ее Фридрихом Вторым — такого наши воины не смогут простить. Мне это подтвердили множество офицеров.
— Но сейчас с отъездом князя вы теряете связь с гвардией, княгиня.
— Нет-нет, ваше величество, мои связи осуществлялись не только через князя. Я всегда предпочитала личные встречи и разговоры, когда можно понять истинные намерения собеседника. Недостатком князя Михайлы всегда была его редкая доверчивость, которой я никак не страдаю.
— И слава Богу!
— Но встречи во дворце далеко не безопасны.
— Какой же у вас выход?
— Как супруга офицера, тем более уехавшего далеко и надолго, я вправе молиться в полковой церкви. Там никакие разговоры с сослуживцами князя не кажутся подозрительными.
— Дитя мое, я не оценила вашей мудрости! Мне остается лишь восхищаться вами. Но умоляю, ради вашего же собственного блага и блага вашего семейства, о предельной осторожности. Поверьте, я слишком хорошо знаю, каким бессердечным способен становиться император. В своем гневе он похож на своего деда, святой памяти Петра Первого.
— И у меня есть еще постоянный и самый надежный союзник.
— Союзник? При дворе?
— Вот именно, ваше императорское величество, — сэр Кейт.
— Английский министр? Полноте, княгиня, он же так дружен с императором и пользуется такой его симпатией!
— Что не мешает старому дипломату думать об интересах своей державы. Сэр Кейт отлично отдает себе отчет в том, что при императоре Петре Третьем перевес всегда будет на стороне Пруссии и прусских порядков. В Семилетней войне они были союзниками, но ведь их союз распался и вряд ли будет восстановлен.
— Да, английское правительство не намеревается раскошеливаться на военные расходы, а без них союза не будет.
— Ну, что, Михайла Ларионыч, что слыхать о нашем после турецком, зятюшке богоданном?
— Да что слыхать — до Москвы добрался.
— За неделю-то?
— А куда ему спешить? От княгинюшки нашей наказ был такой: поспешать не спеша.
— Оно и верно, зимним временем хоть езда и легкая, да морозы стоят трескучие. Лошадей жалко.
— Вот-вот, есть чем перед государем оправдаться. Да и скуки у князя никакой: товарищей своих сам выбирал, жалованье вперед на полгода получил.
— Катерина Романовна наша сказывала, что у матушки намерение имеет попризадержаться. Неужто получится?
— Чего ж не получиться? Ответ ведь только в конце держать, а там и времена измениться могут.
— Ты о чем, братец?
— Да так — всяко в жизни бывает. Помнишь, Роман Ларионыч, фаворит менялся, двора не узнать. А у нас тут разговоры разные ходят.
— Э, собаки лают, ветер носит — охота слушать.
— Как, братец, не слушать! В гвардии, верные люди говорят, пошумливают. Недовольство проявляют.
— То-то, я гляжу, княгинюшка наша ни слова о государе боле не вымолвит. Все больше молчком.
— Испугалась, может?
— Катерина-то Романовна? Шутить изволишь, канцлер! Может, недужится. Может, и затевает что — без дела сидеть не любит.
— Ну, уж тогда бы проговорилась. Вернее, беременность ее донимает. Оттого и с лица спала.
— Да ты, Михайла Ларионыч, и то в расчет прими, как Катерина Романовна неприятностей с кражей-то нахлебалась.
— Какой такой кражей?
— А ты что, не знаешь?
— Первый раз слышу.
— Вот те на! Видал, племянница сколько с тех пор раз к вам заезжала, а о несчастье не проговорилась.
— Так какое несчастье?
— Как князь Михайла уехал, княгинюшка наша без малого всю прислугу отпустила — из экономии. Долги-то мужнины скрывает, да всем они известны. Вот тут-то матросы, что в Адмиралтействе работали, окно в доме у нее взломали, как раз в бельевую да гардеробную угодили.
— Неужто на белье позарились?
— Все как есть до нитки вынесли: кстати, из гардеробной платье, шубу, парчой серебряной крытую прихватили, а там и до денег добрались.
— Господи! Вот страху-то натерпелась!
— Страх страхом, а одеть Катерине Романовне стало нечего. Так она изо всех родных к одной Лизавете Романовне обратилась.
— И про императрицу любимую забыла?
— Какое! Спасибо, Лизанька ей всего наприсылала: штуку полотна голландского, белье разное, да и деньгами поделилась.
— А ты, братец?
— Что я, Михайла Ларионыч? У меня, сам знаешь, вольных денег не водится — все в деле. Да и без меня обошлось.
В трубе гудит. За окнами снег пуховым покрывалом раскинулся. Сколько дней валил. Перестал. По тропкам прохожий идет, скрип сквозь ставни слышен. Хруст, хруст, хруст… Истопник в который раз солому таскает. Просила дров — ровно не слышат. По коридору соломинки под ногами путаются. Жить как? Как жить? Завтра. Послезавтра. Днем еще ничего — по покоям походишь, за столом посидишь. Вечером одна-одинешенька. Может, и к лучшему. Дитё нет-нет да зашевелится. Покоя не дает. Надо же как не ко времени. Петру Федоровичу, не иначе, донесли — приглядывается. Предлоги ищет, чтобы встала, скоро пошла, того лучше — наклонилась. Катерина Ивановна утром шнурует — головой качает: сколько еще платья старые носить удастся. Новых не сошьешь — портные смекнут.
Надоумил Петра Федоровича кто-то: с плаца прямо в убиральную. Дверь ногой распахнул, ровно вышиб. На пороге стоит, смотрит. Сквозным ветром потянуло, захлопнул. Ничего не сказал. Не иначе, воронцовская семейка старается. Они во всем как покойная императрица. Государя, может, и не любят, а решпект имеют. К оставленной супруге не повернутся. Графиня Елизавета Романовна за каждым разом все глубже в поклоне приседает, глаз не поднимает. За столом по ранжиру сидит, из-за стола встали, сейчас на государеву половину. Сказывают, покои для нее готовятся. Что делать? Неужто так ото всего и отказаться? После стольких лет муки?
Никак, орел мой спешит. К заднему крыльцу. Как только дежурства себе устраивает? Любят его с братьями в полку. Да с чего бы не любить? Денег на гулянье не жалеет, товарищей привечает, наездник, каких поискать. Пудовой гирей, сказывали, сто раз перекреститься может. Веселый. Ума не много. Да и к чему ему ум? И так всеми статями взял.
— Катеринушка, матушка, как здоровьечко твое бесценное?
— Спасибо, Гришенька.
— Спасибо-то спасибо, да что-то бледна ты больно. Аль недужится?
— От мыслей разве?
— От каких таких мыслей? Над чем, люба моя, раздумалась?
— Родить час подходит, Гришенька.
— Так не сейчас же!
— А тебе что ни отсрочка, то и праздник.
— Как иначе, Катеринушка? Сама знаешь, на умные речи Гришка Орлов не мастер. Чего-нибудь да придумаем.
— Как придумаешь? Сам роды принимать придешь аль у дверей встанешь, никого пускать не будешь?
— Как прикажешь, Катеринушка, все исполню. Жизнь за тебя положу, ей-ей не жалко.
— Людей верных нет, кроме тебя, Гришенька, — в том и беда.
— И княгине Дашковой, смугляночке-то этой махонькой, тоже не веришь? К ней бы тебе в гости выбраться, там все в положенный час и спроворить.
— Не могу, Гришенька, к ней как раз и не могу. Ничего она о нас с тобой не знает и знать не должна.
— Все-таки не веришь?
— Верю, верю, да не след ей о грехах наших ведать. Строгая она больно, ни себе, ни другим потачки не даст. Мне для нее без сучка и задоринки быть надо, тогда она для меня что хошь делать будет.
— Сумеет ли?
— Сама не сумеет, родные помогут. У нее при дворе каждый третий кровный, каждый второй свойственник. На них положиться можно. Вот еще из ее сродственников братья Панины объявились.
— Ну, эти, поди, свой расчет держать будут.
— Не иначе. Только они от меня больше других и ждать будут.
— Это почему же?
— Долго рассказывать, Гришенька. После венчания моего с великим князем Никита Иванович… Да что старое ворошить!
— На тебя, матушка, заглядываться стал? Эко диво! Кто ж мимо тебя пройти, Катеринушка, может? Нет таких и быть не может.
— Ах ты, Гриша-Гришенька, ласковый ты мой! Только Никита Иванович о себе напомнить просил, о верности своей на случай.
— Вот это ладно! Да с родами-то как, матушка?
— Если бы где на тот час пожар какой приключился. Сам знаешь, Петра Федоровича медом не корми, дай на пожаре покомандовать. Нет для него дела интересней — непременно поехал бы.
— Пожар, говоришь, матушка? Так пожар — дело нехитрое. Божьим произволением что загореться, что долго гореть может. Поразмыслить над этим делом надо. А людей, матушка, найдем, непременно найдем. Лишь бы ты за тот час управилась.
— Управлюсь, Гришенька. Надо, так управлюсь.
— Знаю, Катеринушка, все знаю. Ты крепче иного мужика будешь, не гляди, что на вид махонькая!
— Государыня! В который раз прошу прощения за свою дерзость. Знаю, как вы не любите визитов на вашу половину, но у меня нет возможности встретиться с вами, между тем время не ждет. Гневайтесь, но выслушайте меня.
— Дитя мое, мои опасения связаны только с вашей судьбой, к моей собственной я совершенно равнодушна.
— Но это же и плохо, ваше императорское величество! Я денно и нощно думаю о России и, значит, о вас. Вы нужны России, и мой долг послужить нашей несчастной отчизне, которую неразумное правление готово повергнуть в пучину бедствий. Я не устану этого повторять.
— Что же я могу, друг мой? Чего вы ждёте от меня?
— Действий, достойных вашего блистательного ума и ваших безусловных прав.
— Вы говорите, прав? Но как раз прав у меня нет и не может быть, разве что не станет, не дай Бог, императора. Но и тогда, вы сами передали мне слова Никиты Панина, речь будет идти о прямом наследнике престола и о регентстве.
— Государыня, я не перестану настаивать на своем мнении. Почему вы не предпринимаете никаких шагов, чтобы спасти будущее вашего сына, а вместе с ним и России? Поверьте, число сочувствующих вам растет день ото дня. Я могла бы назвать десятки имен.
— Нет, нет, только не это. Я ничего и ни о чем не хочу знать. Я готова отречься даже от вашего визита, тем более от подобного разговора. Любая неосторожность может погубить нас всех, но и ввергнуть страну в пучину беззакония. Будьте осмотрительны и осторожны, княгиня! Будьте осторожны!
— Но я ничего и не предлагаю вам, ваше величество, кроме согласия стать объектом наших совместных усилий. Мы должны быть уверены, что вы не откажетесь от нашей победы, в которой я не сомневаюсь.
— Дитя мое, вы непременно обратите на себя внимание новым родом своих занятий и интересов. При дворе слишком много широко открытых глаз и ушей. Любое изменение привычного уклада вашей жизни не останется незамеченным.
— Поверьте, государыня, этого условия я не упустила. Я также часто езжу ко всем родным, и кстати, это дает мне прекрасную возможность знать, что происходит в непосредственном окружении императора. Мои родные, не исключая батюшки и дядюшки, убеждены, что мои мысли заняты возведением нашей дачи в Красном Кабаке.
— И они не удивляются вашим неожиданно открывшимся хозяйственным способностям?
— Ни в коей мере! Они уверены, что все дело в моем желании построить для нас с князем Михайлой уютное гнездышко, тем более что средств на покупку готового дома с разбитым садом у нас попросту нет и вряд ли будет в будущем. Я поддерживаю их заблуждения, отправляясь через день на это отвратительное болото, которое не заслуживает ни моих забот, ни наших расходов. Зато там я могу обдумывать наши планы, а иногда и встречаться с нужными людьми, будто бы помогающими мне в строительстве.
— Такими, как Александр Строганов, позволивший вам промочить ноги и подхватить инфлуэнцу!
— О, государыня, Строганов нисколько не виноват — он не ожидал стремительности моих действий и не мог им воспротивиться. Я оказалась в болоте исключительно по моей глупости.
— И каковы же результаты ваших размышлений?
— Их достаточно много, но я ограничусь небольшой выдержкой, которую захватила с собой специально, чтобы представить вашему величеству.
— Я не стану брать ее в руки. Если вы настаиваете, дитя мое, прочтите сами.
— Как вам будет угодно, государыня. Итак, каждый благоразумный человек, знающий, что власть, отданная в руки толпы, слишком порывиста или слишком неповоротлива, беспорядочна вследствие разнообразия мнений и чувств, желает ограниченного монархического правления с уважаемым монархом, который был бы настоящим отцом для своих подданных и внушал бы страх злым людям; человек, знакомый с изменчивостью и легкомыслием толпы, не может желать иного правления, кроме ограниченной монархии с определенными ясными законами и государем, уважающим самого себя и любящим и уважающим своих подданных.
— Узнаю мысли Панина. Забавно, что он вывез их именно из Швеции.
— Вы не согласны с ними, ваше императорское величество?
— Напротив. Вполне согласна, хотя полагаю, что время и обстоятельства непременно внесут в них свои поправки. Идея ограничения монархии законами допустима и желанна для меня, но совершенно невозможна для императора Петра Федоровича. Он не привык и не мыслит себя ограничивать какими бы то ни было законодательными установлениями.
— Но именно поэтому, государыня, для ваших подданных ваш приход к власти означал бы свершение самых заветных помыслов.
— Вы так думаете, дитя мое?
…Мне удалось добиться цели. Мой Красный Кабак все всерьез принимают за мое главное увлечение и перестали обращать внимание на мои частые отъезды из города. Тем лучше! Однако планы мои продвигаются слишком медленно, может быть, потому что их в натуре не существует. Убедить возможных союзников не значит приобрести план дальнейших действий. Я частенько стала ловить себя на мысли, что надеюсь на чудесный случай; вдруг рядом окажется кто-то, кто сумеет решить все необходимые действия. Но пока такого таинственного героя нет, и день за днем я убеждаюсь в несбыточности подобных мечтаний. Особого труда мне стоили разговоры с Никитой Ивановичем Паниным, для которого теория вовсе не означает необходимости ее претворения в практику. Панин готов часами рассуждать о достоинствах конституционной монархии, приводить великое множество примеров, но сама мысль предпринять для ее достижения какие-то усилия, тем более усилия, возможно чреватые серьезными последствиями, приводит его в ужас. Даже мой личный пример не способен пробудить в нем каплю смелости. Выслушивая мои доводы, он затем непременно начинает меня же убеждать в необходимости отказаться от борьбы, уверяя, что все в России всегда как-нибудь образовывается. Его главная надежда — на правильное воспитание порученного его попечениям наследника престола. Ему хочется думать, что рассуждения о высоких материях, которые он ежедневно ведет с нетерпеливым и слишком похожим на отца ребенком, в конце концов образуют нового человека, который законной властью проведет все необходимые преобразования. Бог мой, каким изощренным дипломатом выступает он в такие минуты! Я что ни день принуждена выслушивать однообразные сентенции, смысл которых способен смягчить разве что великолепный французский язык Никиты Ивановича. Приходится признать, я попала в мною же расставленную ловушку. Отступиться нельзя, потому что напуганный Панин способен разболтать мои тайны и будет молчать лишь до тех пор, пока останется связанным с моими действиями как их соучастник. Мне остается досадовать на себя, что на старого придворного куда больше действуют мои манеры и светский обиход, нежели мысли и логические доказательства.
Не меньшую опасность представляет и граф Кирила Разумовский. Его необходимо совместить с нами без его ведома или, во всяком случае, представив наши действия вполне безобидными и ничего не значащими. Любые перевороты претят графу, и главный способ воздействия на него — его давняя слабость к былой великой княгине, которая конечно же не могла быть удовлетворена, но все же оставила в его сердце приоткрытую дверь для сегодняшней, императрицы. Кирила Григорьевич скорее досадует на то недостойное положение, в которое поставлена императрица, нежели на бессмысленные поступки ее супруга. В одном из разговоров он мне со смехом сказал, что самодержцы на то и самодержцы, чтобы их глупости воспринимались окружающими как проявление высшей мудрости. Цинизм графа порой приводит меня в отчаяние, но отступиться от его кандидатуры решительно невозможно, главным образом из-за его влияния в обществе. Между тем лично государь проявляет к Разумовскому искреннюю симпатию и тем затмевает его взгляд на свои действия. Некоторым из них граф не придает значения, над иными насмешливо улыбается, но не более.
Между тем простая ссылка на имена Панина и Разумовского может значительно увеличить число наших сторонников и убедить в нашей правоте колеблющихся.
Порой я испытываю настоящее отчаяние, не имея, с кем поделиться своими сомнениями и колебаниями. И тем не менее я очень рада, что посольство князя Михайлы далеко до завершения. После многих недель, проведенных в Москве у матушки, он с нею же направился в Троицкое, благо оно находится на пути в Киев, через который должна проходить дорога его посольства. Горячность князь Михайлы и его понятия о чести непременно привели бы к новым столкновениям с императором и его все более многочисленными и все менее достойными любимцами. Меня приводит в ужас его арап Нарцис, пользующийся ничем не ограниченной свободой действий и высказываний, и нисколько не менее принц Георгий, с которым государь, повздорив за столом, едва не устроил настоящую дуэль. Только слезное вмешательство барона Корфе, бросившегося между дуэлянтами на колени, спасло российского императора от очередного позора. Князь Михайла никогда бы не согласился с тем, что подобные эксцессы имеют и свою положительную сторону, настраивая общество и гвардию против императора. Между тем это именно так. Сэр Кейт еще раз доказал свою редкую проницательность, предсказывая, что императору не избежать в самом скором времени всеобщего презрения, которое и может положить конец неудачному царствованию. С ним легко согласиться, но как не пропустить ту самую решительную минуту, которая должна принести удачу государыне и очистить для нее российский престол!
— Ваше императорское величество, пожар!
— Где пожар?
— На Охте.
— И большой?
— Большой, ваше величество, — усадьба целая занялась. Вон, столб огня отсюда и то видать.
— Шубу! Лошадей!
— Может, не надо, ваше величество? День был промозглый, морозцем все дороги прибрало, не простудились бы, ваше величество. Не государево это дело.
— Молчать! А как же дед мой, государь Петр Великий, на каждом пожаре бывал, сам крючьями да баграми орудовал? Жители столицы должны знать храбрость своего императора.
— Лошади поданы, государь.
— Вот и славно. Императрице скажи, чтоб к ужину не ждала, — вернусь, без нее обойдусь. А Елизавета Романовна…
— Елизавета Романовна, ваше императорское величество, уже в карете дожидаются. Сказать велели, что непременно с государем поедут, — за здоровье государя больно опасятся.
На царицыной половине дверь хлопнула. Половицы заскрипели. В окошке занавеска чуть приоткинулась.
— Уехали! Слава тебе Господи, уехали.
— Тебе бы туда, Василий. Твой дом-то горит.
— Ничего, ничего, государыня, в суматохе никто и не приметит — там ли я, нет ли. Племяннику строго-настрого приказал всем говорить, мол, сейчас тут стоял, отошел, поди.
— Благодарить-то тебя как?
— Какая благодарность, государыня! Родишь к сроку, управимся с делами, вот и радостью нас подаришь.
— Дом я тебе лучше отстрою, денег найду…
— Найдешь, найдешь, государыня. Всему свой час. Про дитё сейчас думать надо. В добрый час тебе, матушка. Катерина Ивановна с тобой побудет, а я на часах постою. Никак, к заднему крыльцу карета подъехала, кто-то по лестнице идет. Вот грех-то, Господи! Двери все запереть…
— Чего это ты, Василий, двери запираешь? Разве государыни нет?
— Княгиня Катерина Романовна! Да-с, нету ее императорского величества, выйти изволили. Мне тоже отлучиться надоть, так чтоб кто посторонний шастать не стал…
— Куда государыня ушла? Куда ты отлучишься? Чудно что-то.
— Жена у меня, ваше сиятельство, на сносях, ее императорское величество и решила проведать, а тем часом известие пришло — усадьба наша загорелась.
— Так что, государыня на пожаре оказалась?
— Да нет же, ваше сиятельство, жена тут неподалеку — у родственников.
— Так, может, подождать государыни? Я разочла, коли государь на пожаре, так и потолковать на Свободе можно.
— Простите, Христа ради, ваше сиятельство, дом мой горит…
— Ах да, ты меня прости. Передай только государыне, что приезжала, мол, потолковать хотела. Дела безотлагательные.
— Все, все, ваше сиятельство, передам. Позвольте к карете вас сведу — потемки тут у нас. Потемки…
— Василий! Василий! Да иди же ты скорей, Господи!..
— Что ты, Катерина Ивановна? Я тут едва от княгини Дашковой Екатерины Романовны оборонился.
— Оборонился, и ладно. Сыночек у нас родился, да славненький какой!
— Ну и слава тебе Господи! Камень с сердца! Государыня-то как? Плоха, нет ли?
— Тебя позвать велела, а мне туалет приготовить — ужинать с супругом решила.
— Да ты что? Какой туалет? Ей, поди, не встать.
— Уже встала. Да иди же, не топчись!
В комнате задух. Свечки две едва не до конца догорели. Чадят. В углу узел. С бельем, поди. Выносить надо. У постели корзинка, что прачки белье таскают. Младенчик спеленутый.
— Поторопись, Василий, пока не заплакал.
— С благополучным разрешением вас от бремени, государыня.
— Про благополучие позже потолкуем. Младенца увези. Скажешь, жена родила. Твой будет.
— Исполню, государыня, не сумлевайтесь.
— Покой прибрать надо. Сама бы помогла — сил нет. Все держалась — не крикнуть бы, не застонать. В пустом дворце ночным временем далеко слышно.
— Сам на часах стоял, ваше величество, ничего слыхать не было.
— Вот и слава Богу. А теперь забирай корзинку и узел прихвати. Лошади-то готовы?
— За углом который час дожидаются.
— С Богом, Василий, с Богом.
Окошко бы распахнуть. Где там! Все закупорено. Императрица, покойница, форточек не сносила. Разве печь открыть — все тепло вытянет. Пусть, лишь бы не задух. Голова кружится. От слабости нет-нет да и тошнота подступает. Встать, непременно встать надо. К притолоке прислониться можно. Долго не придется. Супруг от силы пару слов кинет, ужинать пойдет. Чтоб не толковали потом, будто на половине своей закрывалась. Так и есть, колокольчики. Государь приехал. Шумит на крыльце. Перед слугами и то хвастает. Про себя часами говорить может — не скучает. Вот и добралась до двери, вот и ладно. Теперь распахнуть только осталось. Спасибо, Василий не притворил — заботливый! Как пойдут, толкнуть только останется.
— Никак, супруга меня встречает! Вот чудо так чудо!
— Я не могла лечь, ваше величество, пока не удостоверилась в благополучном вашем возвращении.
— Да ты что, Екатерина Алексеевна, с чего забота такая?
— Пожар — не шутка, ваше величество, а вы решительно не хотите заботиться о своей безопасности.
— Как мой дед, так и я. Разницы никакой. А про пожар вы откуда узнали?
— Так ведь дом моего камердинера горел, ваше величество.
— И то правда. А вот его самого, выходит, я не видел.
— У него вторая беда, ваше величество.
— Что еще?
— Жена на сносях, так от огорчения родить собралась. Может, Чулков при жене был?
— Надо ему будет на новый дом дать.
— И на младенца, коли благополучно родится, тоже.
— Можно и на младенца.
Глава 8 Переворот
По улицам ручьи побежали. На Неве лед трескается, ровно из пушек палят. Полозья на мостовых камень скребут. Весна на дворе. Оглянуться не успеешь, в Ораниенбаум ехать пора, а уж там как в клетке — ни самой выйти, ни людей повидать.
— Вот теперь, Гриша, и за дело пора браться.
— Наконец-то! Думал, так и не решишься, матушка.
— Да ты что, Григорий Григорьевич! На последнем месяце и решиться?
— И то правда. Вот хотел тут сыночка посмотреть, к Чулкову съездить.
— И думать не моги! Какое посмотреть? Сразу людей в сумнение введешь, разговоры пойдут, толки. Вот коли все по нашей мысли станет…
— Повенчаемся тогда, Катеринушка, и сыночка во дворец заберем — пусть при родителях растет.
— Рано, Гриша, загадывать. Знаешь, не люблю. Товарищей-то многих ли уговорил?
— И уговаривать не надо, матушка. За тебя все горой — Орловым каждый поверит. Хотел тебе только сказать: не верь ты, государыня, княгине Катерине Романовне. Хоть она тебе душой и предана, а по глупости по бабьей глупостей может натворить. Так и братья полагают, не верят ей.
— Глуп ты, Гриша, сердцем добр, собой хорош, а глуп. По твоей простоте душевной тебе Дашковой не оценить.
— Да мы ж тебе, матушка, гвардию представим, а она что?
— А она, чтоб во дворце никто новой императрице противиться не стал. Такое гвардейцам твоим не по плечу.
— Не скажи, матушка. Кто штыку противустоять станет? Языком да сплетнями с ним не справишься. Ой гляди, Катеринушка, как бы княгиня-то тебя не оплела, не обошла. Хоть пьемонтца того вспомни.
— Одара?
— Вот-вот. Как с неба свалился. Ни кола ни двора, ни родни, ни службы, а она его тебе в секретари, почту твою, значит, доглядывать.
— Полно, полно, Гришенька. Не взяла же я его, близко к делам своим не подпустила. Нет у меня писем никаких, кроме родственных, вот и весь сказ.
— Да то, что ты мудра, матушка, и спору нет. Не о том разговор — к чему пьемонтец-то придуман был?
— Дозналась я о нем. Канцлер его на службу взял. Ловок, услужлив, расторопен показался. Граф Воронцов и возьми его в советники Коммерц-коллегии. Может, и удержался бы там Одар, только большего захотел, начал о службе при дворе хлопотать.
— А почему княгиня за него хлопотать стала? Ей-то что за интерес?
— Ну, Гришенька, чужая душа — потемки. Князь-то ее уже уехал. Всяко в жизни случается.
— Нет, матушка, о ней такого разговору нету.
— А Никита Панин?
— Да что со старика взять. Ему бы покрасоваться только. Башмаки с красными каблуками наденет, парик с бантом, кафтан расшитый. Сам себя за красавца да ловеласа принимает. Все говорят, Катерина Романовна веревки из деда вьет. День ли, утро ли к ней спешит, хвост пораспустить.
— Не так-то он уж и стар, Гришенька. Тебя-то много старее, а не стар.
— Все равно, матушка, Одара она тебе в соглядатаи прочила. Не иначе. Гляди, все он в Петербурге вьётся.
— Вьется, не спорю. Только верно знаю, княгиня его к опальному Строганову сватала, чтобы с собой в ссылку взял имениями управлять.
— Управляющий какой выискался!
— Надо полагать, никакой. Просто княгине его с рук сбыть хотелось. Может, прискучил, может, слухов поопасилась.
— Вот ты, матушка, на всякий случай мне и скажи, каких таких офицеров княгиня в твою пользу уговорила. Мы проверим.
— Откуда мне знать, друг мой. Я княгини не расспрашивала, рассказывать себе про них не велела.
— Что так?
— А так, чтоб, коли спросят, и впрямь ни слухом ни духом не ведать. Надежней.
— Сам дознаюсь.
— Нет, Гришенька, слово мне дай, что не будешь. Никому лишние разговоры не надобны. Помалкивай до поры до времени и свое дело делай, своих друзей собирай. Придет время, все друг дружку узнают, дай Бог, в добрый час. А пока поди, поди с Богом, засиделся ты, друг мой.
…Пошел. Дров бы не наломал. Прост, куда как прост. Обиходу не знает. С княгиней потрудней. Ей во всем первой быть надобно. Характер крутой, заносчивый. Потакать ей во всем надобно, может, тогда и удержится, бед не натворит. Все норовит в личные покои заглянуть, дружбу свою да преданность обозначить, к перевороту свою государыню склонить.
— Слыхал, братец, о новой конфузии?
— О чем ты, Михайла Ларионыч? Не о пирушке ли?
— О пирушке, говоришь? О которой?
— Да уж всех не перечтешь. О той, что в Летнем состоялась.
— Это после обеда-то парадного в честь мира, что ли?
— Вот-вот. Государю торжества мало показалось. Он с приближенными в Летний дворец поехать изволил. Немало до утра там оставался.
— Бог с ним, с обедом да ужином. Я о взятках.
— Эка невидаль!
— А то и невидаль, что государь решил от взяток себе часть брать.
— Как это?
— О том и речь. Помнишь, блаженной памяти Елизавета Петровна земли сербам, венгерцам и прочим народностям из Римской империи Священной, что нашу веру исповедуют, земли на юге для переселения дать изволила?
— Как не помнить. Места богатейшие. Земля что масло: посеешь оглоблю, тарантас вырастет. Их еще, помнится, Новой Сербией называть стали.
— Все так. Да еще покойная государыня денег на переселение немало дала, полки им особые формировать приказала, чтоб служили под ее державою со всяческим уважением.
— А с деньгами, никак, заминка вышла?
— О них и речь. Передали их Хорвату, а тот прикарманил. Переселенцам ничего, себе все, да и соотечественников своих как крепостных трактовать начал. Сербы тогда жалобу на имя государя передали. Дело в Сенат поступило, а Хорват возьми и сообрази по две тысячи дукатов трем нашим вельможам дать.
— Это кому же?
— Генералу Мельгунову, генерал-прокурору Глебову да Льву Нарышкину. Генералу и прокурору по делу, Нарышкину по его шутовству. Мол, всех вернее словечко государю замолвить может.
— Прокурат!
— Прокурат и есть. Только Мельгунов да Глебов сей час государю о взятке доложили: велика больно, да и человек посторонний — беды бы не нажить.
— И что государь? Осерчал?
— Какое! Обоих расхвалил. Половину денег у них для себя отобрал, а дело Хорвата против переселенцев самолично в Сенате в его пользу решил.
— Как половину себе взял?
— Так и взял. Только при этом и о Нарышкине дознал, что тот ему не повинился и долей своей не поделился. В наказание, да другим в пример, у Нарышкина все две тысячи изволил в свою пользу отнять да еще публично издеваться, мол, куда деньги девал, на что потратил?
— На все государева воля.
— Кто же спорит, да ведь чудно взятки напополам делить его императорскому величеству, коли вся империя Российская ему подвластна.
— Чудно. Да конфузия-то в чем?
— В том, что новые переселенцы, прознав про это дело, ехать в Россию отказались. Только что депешу получил. Без малого сто тысяч человек. Уж как бы они для степей наших безлюдных пригодились, и на тебе!
— Мы мчались к вам без души, княгиня, чтобы узнать судьбу императрицы и великого князя. В полку распространился слух, что они вывезены из Петергофа.
— Слава Богу, капитан, до этого еще не дошло. Я имею точные сведения, что ее императорское величество в Петергофе, хотя, думается, и не имеет особой свободы передвижения.
— Это значит, что она и великий князь могут быть в любое время вывезены.
— Умоляю вас, Пассек, не делать скоропалительных выводов. Я имела в виду всего лишь не слишком доброжелательное отношение к государыне Измайлова. Получить лошадей императрица может только через него, а он обо всем немедленно сообщит императору.
— Даже если согласится на ее приказание.
— Такое можно предположить.
— И вы спокойны, княгиня?
— Конечно же нет. Вовсе нет, Бредихин. Но чтобы начать действовать, необходим план…
— Которого еще нет!
— Что дает вам основание так говорить, капитан? План есть, но пока еще не наступил удобный момент для его воплощения. Нужда заставляет ждать.
— Разрешите с вами не согласиться, Катерина Романовна! Армия понимает, что если бредовая идея войны с Данией будет приведена в действие, гвардию выведут из Петербурга, император приобретет абсолютную силу, а императрица лишится всякой защиты. Неужели вы думаете, что кто-то сумеет разубедить его императорское величество, если даже вмешательство его любимого Фридриха Второго не изменило ход его мыслей.
— Пассек прав, ваше сиятельство! Император не знает армии и не представляет себе бедствий бессмысленной войны, которая будет вестись за никому не нужный клочок земли вдалеке от России. Для него армия — ряды на плацу, которые можно разворачивать в любом направлении, наслаждаясь их маршем и звуками полковой музыки. Новая война видится ему как его война, и он не откажется от этой игрушки.
— В этом и я убеждена.
— Так что же? Чего мы будем ждать? Офицеры не могут больше выносить того позора, которым день за днем покрывается честь солдата и знамена полков. Вы же знаете этот постыдный случай с арапом.
— Он показался таким обидным господам офицерам? Простите мою женскую неосведомленность: я увидела в нем лишь неуместную шутку.
— Какая шутка, княгиня! Арап подрался с профосом нашего полка. Государь поспешил вступиться за своего любимца, хотя профос по своей должности был совершенно прав. В конце концов, профос отвечает за имущество полка и не должен давать его портить, как то вздумалось арапу. Но государю вдруг пришло на ум, что тот же профос исполняет обязанности палача, вернее, человека, приводящего в исполнение наказания по полку. Этого было достаточно, чтобы поднять шум о страшном оскорблении арапа и о том, что арап более не может находиться рядом с императором, покрытый вечным позором.
— Мне говорили, фельдмаршал Разумовский нашел какой-то остроумный выход из положения и успокоил государя.
— Если это можно назвать остроумным! Фельдмаршал предложил покрыть арапа полковым знаменем и кольнуть шпагой, чтобы кровью смыть мнимое оскорбление. Мы все не знали, куда деваться от стыда и гнева. Полковое знамя, прошедшее с такой славой все семь лет войны!
— Но как же мог Кирила Григорьевич подсказать такую меру? Это и впрямь отвратительно!
— Фельдмаршал, несмотря на свое высочайшее звание, также далек от армии и ее правил. Такое можно себе представить в отношении любимого брата вчерашнего царского фаворита, но не государя, который обязан стоять во главе своих солдат и офицеров.
— Вы правы, капитан!
— Но есть и еще одно обстоятельство, подсказывающее необходимость крайнего поспешения. Разговоры, которые ведут между собой офицеры, могут быть подслушаны и переданы императору. В результате все мы окажемся на плахе или на каторге, а императрица и её сторонники станут предметом императорского гнева. В конце концов, это вопрос нашей общей безопасности. И если я могу рисковать собственной жизнью и благополучием, то никак не жизнью товарищей.
— Мы все в большой опасности, княгиня!
— Понимаю, и все же прошу повременить с выступлением. Будет гораздо осмотрительнее уговорить солдат несколько подождать. Уверяю вас, ожидание будет совсем недолгим. Оно необходимо, чтобы закончить последние приготовления.
— Вы так полагаете, княгиня?
— Безусловно, капитан.
…Дождь. Который день дождь. За деревьями море, как небо. К берегу подойти, так в воду и уйдешь. Пусто. Прислуга во флигеле. Редко кто зайдет. По приказу. На дню раз пять Измайлов по анфиладе пройдет, во все углы смотрит. Говорит, для порядку. Какой порядок! В Ораниенбаум донести. Лошадей на депеши не жалеет. То уедет курьер, то приедет. Цветы в рабатках вовсе сникли. Ниже травы к земле припали. Цветы! Даже на них государь пожалел трат. Ненавистная жена. Давно бы расправился. С пожара у Чулкова вернулся, во все глаза глядит — не иначе, упредил кто. В спальню заглянул. Верит — не верит. Предлога ищет. Теперь сам с Романовной в Ораниенбауме, императрицу — в Петергоф под присмотр. Романовна с ним учения досматривает. В пять утра встает. Что дождь, что мороз — устали не знает. Сказывали, с Екатериной себя равнять вздумала: сколько выпить может, сколько одной рукой поднять. Чара большая в руке не дрогнет — государь хохочет, радуется, перед пруссаками похваляется.
Зябко в покоях. Камин разжечь — Измайлов невесть что подумает. Душегрею накинуть. Катерина Ивановна и то не стерпела. Мол, в какой-никакой деревушке захолустной лучше. Покойнее. А так день ли, ночь ли — шагов ждешь, стуку. Может, маленькая княгиня и права, да кто из них решится? Не любят они с Гришей друг друга, не любят, и все тут. Вот не ко времени! Ни сговориться, ни подумать вместе. А может, и к лучшему. Один другого обидит, обоих потеряешь. Пусть как есть. Пусть. Авось Бог поможет.
— Ваше величество!
— Что тебе, Шкурин?
— Письмо, государыня!
— Письмо? От кого? Подай скорее!
— Не знаю, как и доложить, государыня. Письмо-то жене моей.
— Чего же мне говоришь?
— Да нет, государыня, письмецо-то от ее сиятельства княгини Катерины Романовны.
— Так жена твоя в Петербурге, никак?
— В Петербурге и есть. Княгиня пишет, чтобы жена наемную карету четверней к нам в Петергоф немедля прислала, а мне бы карету ту, не выпрягая, задержать на тот случай, если, не приведи, не дай Господи, какой приказ из Ораниенбауму воспоследует.
— И что, здесь карета?
— Сейчас примчалась. Ее сиятельство не скупясь извозчику заплатила: мигом у нас оказался.
— Верный ли человек?
— Того не скажу, да и в письме ничего не прописано. Ее сиятельство так рассуждать изволит, что, мол, коли оказия какая произойдет, чтоб придворных лошадей не брать, а тут же в Петербург к вашему императорскому величеству втайне ехать. К гвардейцам поближе.
— Так-то оно так, да нешто волнения какие или разговоры при императоре?
— Разговоров, государыня, там всегда хватает. Сдуру, сдуру, а там, глядишь, и по делу скажется. Уж как графиня Елизавета Романовна императора улещает, смотреть срамно, да от правды куда денешься: ночная кукушка дневную завсегда перекукует.
— А с четверней что делать будешь? Не иначе, вопросы пойдут. Измайлову бесперечь донесут.
— Прости, государыня, дурака, только я так размыслил — сказать жене, мол, после родов худо сделалось, вот нарочный-то и приехал.
— Плохо рассудил, Шкурин. А ну у извозчика кто спрашивать станет, а он: мол, сама супруга меня и нанимала.
— Да не назвалась она, государыня, баб мало ли. Сродственница какая аль соседка.
— А четверня зачем? На одиночке быстрее.
— Чтобы рухлядь всякую покласть, дитю понадобилась.
— Дай Бог! Только тогда и я по-дорожному оденусь. Платье мне подай, а сверху капот спальный накину. Так и в постелю лягу. В случае чего, чтоб не собираться.
— Вот и ладно, государыня. Да я Измайлова в опочивальню и так не допущу. Нездоровится, мол, государыне, и весь сказ. На слуху стоять буду. Бог даст, все скоро и разрешится.
…Все ждут. Все. Гриша весточку прислал, мол, разрешить бы им на Ораниенбаум напасть. Голштинцев в два счета скрутят, а с императором разговор короткий. Известно, трус, каких поискать. Права Катерина Романовна, нельзя, никак нельзя. Не с того конца начинать надо. Ну как за императора гвардия выступит, за порядок. Мне перед ними первой явиться надо. Слово какое сказать. И чтоб двор одобрил. Противодействовать не стал. Для меня покойная императрица Елизавета Петровна не пример. Она Петра Великого дочь, плоть от плоти его. Мне другое припомнят: откуда взялась, как на престоле оказалась? Другое, совсем другое измыслить надо.
— Балуете вы меня, Никита Иванович! Букет какой превосходный, другого такого во всей столице не сыщешь.
— Из своих ранжерей, Катерина Романовна. Сам следил, когда садовник срезал, о вас думал.
— Премного благодарна за память да благоволение ваше.
— Это мне вас благодарить, княгиня, нужно, что обществом своим старика осчастливливаете. Душой близ вас расцветаю.
— Думаю, мы оба счастливы мыслями о том, по какому пути может пойти Россия.
— От мыслей до яви, сударыня, далека дорога.
— Так полагаете, Никита Иванович?
— А как же! Новые царства можно только в мечтах строить, на деле наш долг — подчиняться законному монарху.
— Но вы же согласны, что действия императора могут оказаться губительными для государства?
— Это все рассуждения, княгинюшка, не боле.
— Ваше сиятельство! Приехал Григорий Орлов — доложить просил, не примете ли.
— Вы знакомы с Орловым, Катерина Романовна? Не знал.
— Видать видала, говорить не приходилось. Проси, Пантелей, да скажи, мол, у княгини сам Никита Иванович Панин.
Шаги по коридору скорые, чисто дробью. Сабля звякает. Пантелей дверь открыть не успел — будто сама на всю ширь распахнулась. Гвардеец весь проем занял. Росту с коломенскую версту. Косая сажень в плечах. Глаза серые. Волосы русые. Кольцами. Взгляда не прячет. Шаг сделал:
— Здравия желаю, княгиня. У меня новости дурные.
— Император?
— В Ораниенбауме. Тут другое — арестован капитан Пассек.
— Как «арестован»? За что? Вчерась у меня с Бредихиным были.
— Все так. Только в полку по возвращении от вас с офицерами да солдатами толковать принялся, как императрицу защищать да когда такой случай выйти может.
— Бог мой, какая неосторожность!
— О чем вы, Никита Иванович! Не мораль же ему сейчас читать!
— И все же, Катерина Романовна, думается, для тревоги пока нет оснований. Господин Орлов почитает, что арест произошел от разговоров, а может, все дело в нарушении порядка. Может, не вовремя вернулся в полк, может, на учении чего недосмотрел.
— Кто арестовал его, господин Орлов?
— То-то и оно, командир полка Воейков. Сам случаем разговор услышал, сам и арест произвел. Мол, не допустит смуты в полку.
— Но Воейков непременно донесет императору!
— Скорее всего, ваше сиятельство. Чтобы выслужиться.
— А государь начнет дознание… Боже мой, мы должны…
— Ничего вы не должны, Катерина Романовна! Сначала все разузнать следует, а уж там…
— Сделайте милость, Никита Иванович, мне что-то нехорошо сделалось. Кровь в голову ударила. Пойду прилягу, извините великодушно.
— Ложитесь, ложитесь, дорогое дитя! Я к вам завтра с утра загляну, проведать о здоровьечке.
— А вы, господин Орлов, задержитесь на минутку. Я хочу вас попросить передать одному из ваших офицеров привет от мужа. Полагаю, вас не очень затруднит передать мне также, что удастся выяснить о причине ареста Пассека. Чем скорей, тем лучше. Поймите, господин Орлов, все становится слишком серьезным! Если вы дорожите жизнью и благополучием императрицы, Бога ради, не медлите!
…Ехать в Ораниенбаум? Самой быть, слышать, предупредить? Нет, нет! Оттуда можно в пору не выбраться. Мой отъезд окажется подозрительнее, чем мой приезд. Графиня Елизавета Романовна и Аннет давно знают о моей преданности императрице. Там и дядюшка, и тетушка Анна Карловна. Батюшка и то туда уехал. Они о государыне и слышать не хотят. За мной следить будут. Нельзя! Господи, а что же можно? Никита Иванович сохраняет английское спокойствие и все старается объяснять «естественными причинами». Пассек и Бредихин уже были напуганы, теперь тем более. Если бы здесь был князь Михайла! А Орлов? Неужто всегда рядом с достойными преемницами престола должны оказываться столь никчемные люди? И это в его руках во многом судьба императрицы. Невероятно! Мои просьбы и предостережения не столько убедили, сколько припугнули его. Он вышел из покоев, сжав губы и едва откланявшись. Как скоро пришлет он весть о Пассеке? Или не пришлет совсем? Рассказывал же дядюшка, как Алексей Разумовский не решился ехать с покойной государыней императрицей арестовывать правительницу Анну Леопольдовну. Чуть не в ногах у нее валялся, чтоб не ехать, чтоб предоставить все воле Божьей. Бежать, бежать надо. Самой. Слуги здесь не годятся. К Рославлевым. У них разузнать. Их под рукой иметь. В мужской шинели никто на улице не узнает, да и идти недалеко.
Конский топот. Пригнувшийся всадник. Это на опустевшей улице, среди заснувших домов.
— Орлов!
— Вы не ошиблись, княгиня, хоть и не имел чести я быть вам представленным. К вашим услугам, Алексей Орлов.
— У вас какие-то известия?
— Самые худшие. Петр Пассек объявлен государственным преступником. Его сторожит множество солдат. Я успел сообщить Рославлеву. Брат помчался к Никите Ивановичу Панину. С минуты на минуту Ораниенбаум узнает о заговоре.
Вот оно! Теперь все зависело от решительности.
— Сударь, вы найдете еще курьеров?
— Конечно, княгиня. Сколько угодно.
— Нужно немедленно передать Бредихину, Ласунскому, Черткову и Рославлевым, чтобы ехали без промедления в свой полк. Он первый на пути государыни из Петергофа в Петербург. Ее императорскому величеству следует незамедлительно воспользоваться стоящей у Шкурина наемной каретой и мчаться во весь опор в тот же полк. Солдаты и офицеры подготовлены. Они провозгласят ее единственной императрицей. Лишь бы вас не опередили распоряжения из Ораниенбаума. Лишь бы не опередили! Солдаты могут привычно подчиниться императорскому приказу. Понимаете ли вы это, сударь? Теперь судьба императрицы Екатерины в ваших руках.
Странно, но эти братья не вызывают доверия. Мне показалась в глазах их скорее алчность, чем преданность государыне. И уж во всяком случае они далеки от высокого строя ее мыслей. Простые исполнители, с которыми предстоит щедро расплатиться? Может быть. Все равно, выбора нет и не будет. Алексей Разумовский выиграл все свои богатства и титулы, отстранившись от переворота, братья Орловы могут их приобрести, ввязавшись в переворот. Если он состоится. Надо самой мчаться в Измайловский полк. Там товарищи князь Михайлы. Укрепить их дух, убедить, поддержать…
Боже! И это невозможно. Горничная сообщила, что мое мужское платье не готово. От портного никто не приходил. Ехать в женском? Но чему можно в нем служить? Разве что придать оттенок несерьезности происходящему. Бог милостив, Бредихин и Рославлев сделают свое дело. Что это? Шум у крыльца? Разговор? Шаги? Какой-то человек…
— Княгиня! Извините за визит в столь поздний час. Я Владимир Орлов. Брат направил меня к вам узнать, есть ли нужда тревожить ее императорское величество ночным временем и не лучше ли дождаться, по крайней мере, утра. Он не решился волновать государыню.
— Как! Ее императорское величество до сих пор не знает, что произошло? Ей не доложили о судьбе Пассека? Что вы делаете, Орлов, вместе со своим братом, что вы делаете! Если государыня станет жертвой гнева императора, вы одни будете в ответе! Что же, прикажете мне самой сесть в коляску и мчаться в Петергоф? Я готова. Но это будет слишком долго.
— Вы так убеждены, ваше сиятельство, в необходимости выезда императрицы в Измайловский полк?
— Боже! И вы еще спрашиваете! Мне казалось, ваш брат, так недавно здесь побывавший, все понял. Нельзя рисковать Измайловским полком — в нем самое большое число верноподданных императрицы.
— Но нам более знаком Преображенский полк.
— И вы еще тратите время на споры! Пока вы доберетесь до Преображенского полка, император может двинуть Измайловский на столицу. Мы окажемся перед лицом неизбежного кровопролития, которое неизвестно чем кончится.
— Вы сомневаетесь в храбрости Орловых, княгиня?
— Никто не затрагивает вашей личной храбрости. Но у государя есть голштинцы, отлично вымуштрованные и лично ему преданные. Что будет, если они подкрепят тот же Измайловский полк, где к тому времени будут арестованы все верные императрице офицеры? Я не хочу даже в воображении рисовать себе этих ужасных картин. Поезжайте же, ради Бога, поезжайте!
— Вот и свершилось, матушка, государыня ты наша отныне и навеки! Присягнули измайловцы! Присягнули! Теперь, Бог даст, как по маслу пойдет!
— Дал бы Бог. Не ошиблась, значит, княгиня.
— Вот только самой ее не видно.
— Странно. По меньшей мере странно. Что она сказала твоему брату, Гриша?
— Торопила, чтобы в Петергоф мчался. Об Измайловском полке толковала.
— С ним вместе поехать не хотела?
— Вроде нет. У Владимира можно спросить, коли надо.
— Надо, голубчик, надо.
— Владимир Григорьич, государыня знать желает, не собиралась ли княгиня Дашкова с тобой вместе путь держать.
— Не было разговору такого. Ее сиятельство сетовали, что костюму мужского портной пошить не успел. И еще что непременно в Измайловском полку будет.
— Но ее нет здесь!
— Катя, матушка, неужто дожидаться ее станешь? Теперь-то и впрямь медлить нельзя. Полк выступить изготовился.
— Какое дожидаться! Давай команду, Гриша. Коли сюда Катерина Романовна собиралась, по дороге встретим.
— Если встретим.
— О чем ты, Гриша? В княгине засомневался?
— И рад бы, государыня, да о человеке не слова говорят — дела, если по-нашему, по-простому судить.
— То-то и оно, что по-простому. Не до судов сейчас. Скорее бы до Казанского собора добраться. Может, прослышала о чем Катерина Романовна, может, недобрые вести задержали.
— Так веришь в нее, государыня?
Спасибо, время летнее. До полуночи светло. Заря с зарей сходится. На улицах народу, что в полдень. Бегут. Кричат, Платками машут. Карет не видно — не проехать. Солдат множество. Глазам не поверишь, сколько прусские мундиры на старые петровские сменили. Ни к чему им голштинцы, совсем ни к чему. В церквах заблаговестили. Не иначе, Теплов постарался — у него с духовенством свои дела. Не прикажет, так подскажет. Вон батюшка крест вынес. С коня сойти, приложиться непременно. Руку пастырю поцеловать. Под благословение подойти. Пусть все видят. Женщины детей подымают — рассмотреть. Быть не может, чтоб так просто. Может, всегда так? Наболит, накипит, а там новый государь как освобождение. Наверно. Иначе откуда им новую императрицу знать, чего от нее ждать? Гвардейцев вокруг Гриши полным-полно. Обнимаются. Целуются. Любят…
В соборе толчея. Едва путь императрице проложили. Шумят. Крестятся. «Долой голштинцев!» — кричат. Духовенство в парадном облачении. Чинно все, будто давно ждали. Будто готовились. Офицеры. Солдаты. Придворных не видно.
— Княгиня здесь, Гриша?
— Не видал, матушка.
— Получше посмотри. Около государыни непременно кто-то из дам быть должен.
— Смотри не смотри, нетути. Разве обиделась на что? Может, норов ее не уважили?
— Перестань, Гриша. В который раз повторять, не время друг против друга зло держать.
— А может, государыня, самое время? Семейство-то все воронцовское при Петре Федоровиче. Да и ей на государя-то бывшего жалиться нечего. Никогда не обижал, все дерзости терпел. Не к нему ли переметнулась?
— О Господи! Не меня — себя пожалей, от глупостей побереги! Как увидишь, мне тотчас доложить.
— Слушаюсь, ваше императорское величество! Только к тому времени все трудности позади будут — разве что за парадным столом пировать останется.
— Вот и отлично бы было!
Свершилось. И без меня. Государыня не послала гонца сказать, что выехала в Измайловский полк. Ехать самой вперегонки с Орловыми? В шесть утра горничная принесла парадное платье. Город кишел слухами. Что Измайловский полк принес присягу. И что кортеж направился принимать общую присягу в Казанский собор. И что о государе ничего не говорят. И что никто в наш дом не приезжал. После Орлова двери всю ночь оставались закрытыми. Ехать самой? В собор? Через толпу пробираться? А не проберешься, тогда что? Во дворец! Только во дворец! Туда государыня непременно прибудет, там и платье парадное уместно будет. Все объяснить можно будет, что гонца ждала, что… Около нее во дворце оказаться. Может, посоветовать. Чем помочь. Рядом быть. Скорее! Теперь скорее!
— Княгиня, дитя мое, наконец-то!
— Слава Богу, ваше императорское величество, слава Богу!
— Вас задержало что-то?
— Стыдно признаться, государыня, — мой костюм. Его так и не успели приготовить. В придворном платье я едва пробралась через площадь. Спасибо, измайловцы донесли меня на руках — они помнят, сколько я хлопотала об этом дне.
— Да, это наш общий с вами праздник.
— Это праздник всей России, государыня!
— Друг мой, ваша экзальтация приводит меня в смущение, но мне пора. Меня ждут сенаторы — пора отредактировать манифесты. Мы скоро увидимся, княгиня. Пойдемте же, Григорий Григорьевич!
Сенаторы во дворце. Сенаторы! Без дядюшки. Без Панина. Без Воронцовых. Государыня просто не отдает себе отчета в том, что еще может быть. Государь на свободе, и его действия ничем не ограничены. Присяга полков значит совсем немного. Ей можно изменить. Или заменить предыдущей. Положим, императорский кортеж обратит на себя внимание на улицах столицы. Его могут задержать, остановить, не дать доехать до Зимнего дворца. Но остается Нева. Остается водный путь из Ораниенбаума, и у государя достаточно судов. Он может просто переодеться и проникнуть во дворец неузнанным, и тогда… Советы дядюшки могут оказаться куда более полезными, чем распоряжения Орловых. Нельзя останавливаться. Следует все предусмотреть. Унтер-офицеры при входе в зал, где заседает императрица.
Они видели меня с ней. Что, если попытаться войти. Поделиться с государыней своими опасениями. Предупредить, пока не поздно.
— Ваше императорское величество, простите мне мое вторжение, но я подумала о возможном приезде в Петербург вашего супруга. Не предпринято никаких мер, чтобы его предупредить. Нужны заставы на дорогах.
— О них позаботились, княгиня.
— Слава Богу! Но остаются реки. По ним путь из Ораниенбаума куда незаметней и безопасней. Галера может подойти никем не замеченной.
— Пожалуй, вы правы, мой друг. Это непростительная небрежность. Я тотчас распоряжусь. И не уходите далеко, княгиня. Сразу после легкой закуски мы направимся во главе полков в Петергоф. Я хочу видеть вас рядом с собой.
— Вы хотите ехать верхом, государыня?
— Непременно.
— Но тогда вы, вероятно, захотите надеть мундир одного из гвардейских полков?
— Княгиня, мне остается только удивляться вашей дружеской предусмотрительности.
— Я так мечтала об этих минутах, ваше императорское величество, что могла стать почти прозорливой из любви и преданности вам.
— Ото всей души благодарю вас, друг мой. Что же касается мундира…
— Я сумею его вам найти, государыня.
— У меня нет здесь даже камеристки.
— Я с радостью приму на себя ее обязанности. И вот первая моя обязанность — возложить на вас Андреевскую ленту. Вы не можете показаться полкам с лентой Екатерининской — ее положено носить супругам царствующих особ. Но сегодня единственная царствующая особа — это вы. Разрешите, государыня, я взяла надлежащую ленту у Никиты Ивановича Панина — он счастлив сослужить вам эту службу.
— И, надеюсь, будет достойным образом вознагражден.
— Ваше императорское величество, моя самая большая награда — видеть на престоле Екатерину Вторую.
— И тем не менее, Никита Иванович, тем не менее. Мне не свойственно забывать старых друзей, а вы один из них, куда более старых, чем наша милая княгиня.
…Императрица Екатерина во главе двенадцати тысяч солдат. Это было удивительное зрелище! Народ высыпал на улицы еще теснее, чем с утра. Никто не сомневался, что видит новую императрицу, и каждый желал ей благоденствия и долгих лет счастливого царствования. Торжественный выезд на Петергофскую дорогу был задержан канцлером. Дядюшка по поручению государя приехал уговорить императрицу отказаться от своего намерения и вернуться на положение безгласной супруги. Впрочем, он сам усомнился в своих доводах, увидев море людей, охваченных радостным волнением. Его слова стали исполнением долга по отношению к бывшему государю, которому он сохранил верность настолько, что, несмотря на предложение императрицы, отказался принести ей присягу. Даже откровенное негодование окружающих не поколебало его решимости. Дядюшка заверил государыню, что не будет действовать против нее и даже не вернется в Ораниенбаум, ограничившись посылкой нарочного, который сообщит императору о его решении. Единственной его просьбой было разрешение достичь своего дома и там, под бдительным оком приставленных солдат, ждать развития событий. Он ласково простился со мной и пожелал мне успеха, получив полное согласие императрицы на свою просьбу. Встреча эта сильно взволновала меня из опасения за дальнейшую судьбу дядюшки, но государыня, заметив мое волнение, заверила, что уважает убежденность старого придворного и не держит на него никакой досады.
Судьбе угодно было вернуть меня к тому месту, где еще так недавно я в одиночестве обдумывала планы переворота. Красный Кабак стал тем местом, где после длительного марша и всех произошедших событий оказалось необходимым сделать хотя бы недолгий привал. В отвратительном домишке, давшем название этой местности, нашлась единственная, хотя и достаточно широкая, кровать, которую императрица милостиво предложила мне с нею разделить. Постелью нам стал наброшенный на кровать широкий плащ капитана Карра. Но беспокойство не покидало меня, и всякий сон бежал от моих глаз. Я заметила в углу комнаты небольшую дверь, которая, к моему ужасу, скрывала прямой выход на улицу. Снова мне пришлось самой распорядиться, чтобы солдаты заняли еще один пост, обезопасив императрицу. Наши разговоры с императрицей, касавшиеся всяческого рода документов, которые предполагалось в самом скором времени предать гласности, перемежались невольными опасениями. Было трудно себе представить, чтобы окруженный своими достаточно многочисленными голштинцами император мог легко признать победу своей супруги. Между тем это было именно так. Мягкость и нерешительность императора невольно тронули меня. Казалось, он ждал случившегося переворота и воспринял его как перст судьбы, ни в чем не сопротивляясь ему и ни о чем не сожалея. Императрица призналась, что уже послала в Кронштадт, куда мог направиться император, адмирала Ивана Лукьяновича Талызина, которому, оказывается, давно поверяла свои планы и безгранично доверяла. Старый моряк оказался достойным монаршего доверия. Он легко убедил командиров Кронштадта присягнуть императрице и предупредил о возможном приезде сюда императора, которого не следовало принимать. Когда галера, на которой находились вместе с несчастным императором моя сестра Елизавета Романовна и тетушка Анна Карловна, подошла к острову и окликнула дежурного офицера, тот ответил, что не знает никакого императора Петра Федоровича и служит одной лишь императрице всероссийской Екатерине Алексеевне. Неожиданное известие это так подействовало на императора, что он не сумел удержать потока слез, горько жалуясь на свою судьбу. Не стремясь искать никакого выхода из положения, он распорядился вернуться в Ораниенбаум, откуда направил к императрице Измайлова с выражением полной покорности своей судьбе и готовности немедленного полного отречения от престола.
Победа оказалась такой легкой, что, не веря себе, императрица отправила Измайлова обратно с письмом, в котором уговаривала супруга не предпринимать никаких насильственных действий против нее, чтобы избежать кровопролития. Со своей стороны, государыня обещала ему клятвенно спокойную и удобную жизнь в том месте, которое он сам назначит, и исполнение всех его желаний, если они не будут переходить разумных границ. Со свойственной ей проницательностью государыня заметила, что мне не могут не доставлять горечи все эти условия, поскольку они касаются моего крестного отца, неизменно мне благоволившего, и что тем выше она ценит мою дружбу и приносимые мною ради ее блага жертвы. Я созналась, что меня в не меньшей степени беспокоит судьба всех членов моей семьи, не столько лично преданной императору, сколько почитающей служение ему своим долгом. Государыня возразила, что я еще не знаю в полной мере ее доброты и мягкосердечия. Она добавила, что вскоре у меня будут все основания в этом убедиться и расстаться с моими тревогами.
За те часы, что государыни в Петергофе не было, дворец преобразился до неузнаваемости. Говорили, что попечением все того же Измайлова, сумевшего загодя распорядиться прислугой. Покои были старательно прибраны, проветрены. В предназначенных для императрицы комнатах курились благовония, стояли во множестве цветы. С люстр были сняты чехлы. В зале накрывался огромный стол. Государя привезли все тот же Измайлов и генерал-адъютант Гудович, не пожелавший расстаться со своим императором. Государь был тих и печален и прошел в дальние комнаты почти никем не замеченным, что, впрочем, не помешало ему с большим аппетитом пообедать и выпить не одну бутылку любимого им бургонского. Для своего жительства он предпочел Ропшу. Среди лиц, которых хотел бы видеть около себя, назвал арапа Нарциса и графиню Елизавету Романовну. Все просьбы его свелись к набору вин, трубок и хорошего табаку. Сразу после одинокого обеда государь выехал в Ропшу в сопровождении Алексея Орлова, князя Федора Барятинского, поручика Преображенского полка Баскакова и освобожденного императрицей из-под ареста Петра Пассека. Последняя кандидатура меня тем более удивила, что, по словам самого же Пассека, он не терпел братьев Орловых, здесь же согласился вместе с одним из них принять на себя обязанности тюремщика. То, что можно было объяснить в отношении грубых и необразованных Орловых, представлялось необъяснимым в отношении умного и тонкого Петра Богдановича.
Я поймала себя на желании написать нечто вроде эпитафии отступавшему в тень истории самодержцу, которого судьба поставила на пьедестал, не соответствовавший его натуре. Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные наклонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя великой империи.
— Что вы делаете, сударь!
— Вскрываю почту, как видите, княгиня.
— Но эти пакеты из Совета, и прикасаться к ним могут только специально назначенные чиновники. Так было всегда — я знаю по дому моего дяди, канцлера.
— Может быть, может быть, княгиня. Но то были другие времена, и я не вижу здесь вашего дяди. Кто-то мне сказал, что он находится под домашним арестом в силу безмерной преданности лишенному всех прав Петру Федоровичу, не так ли?
— Что вы хотите этим сказать, Орлов?
— Только то, что я выполняю распоряжение императрицы и не собираюсь оглядываться на некогда существовавшие правила.
— Вряд ли в этой почте есть срочные сообщения, которые бы давали основание пренебречь установленным порядком. К тому же у вас нет никакой соответствующей должности, как, впрочем, и у меня.
— Пока нет, хотите сказать, княгиня.
— Как вы можете предугадывать решения государыни! К тому же ваша поза свидетельствует о полном непонимании придворного этикета. Вы во дворце, сударь, во дворце ее императорского величества, а не в собственном доме. Раскинуться на канапе — какая неслыханная дерзость!
— Вы не любите меня, княгиня, что делать. Но это не дает вам основания чувствовать себя здесь хозяйкой, не правда ли? Если императрица выразит мне свое неудовольствие, я буду несчастнейшим человеком. Ну а если моя поза — результат заботы государыни? Во время столь важных для ее императорского величества событий я повредил ногу и нуждаюсь в покое. Вам придется с этим мириться.
— А, вы здесь, друзья мои! Рада вас видеть за милой беседой. Надеюсь, более близкое знакомство пойдет вам на пользу.
— Ваше императорское величество, я сейчас от принцессы Голштинской. Она просит вашей аудиенции.
— Не сейчас, княгиня. Аудиенции с окружением бывшего императора могут подождать.
— Но, ваше величество, принцесса в большом волнении, и притом она искренне рада совершившемуся.
— Вы слишком настойчивы в своих рекомендациях, Катерина Романовна. Не помню, чтобы с принцессой вас связывала какая-нибудь дружба.
— Никакой, государыня. Но принцесса немолодой человек, и я обещала…
— А… Вы обещали. Но даже монархи порой отказываются от своих обещаний, исполнение же вашего связано с волей августейшей особы.
— Государыня!
— Не собираетесь же вы возражать, княгиня! Больше ни слова о делах. Сейчас мы сядем за стол и хоть немного подкрепим свои силы.
— Как угодно, ваше величество, но мне еще предстоит уладить кое-какие дела с охраной. Мне будет спокойней, если я сама обойду все кордегардии.
— Я очень тронута вашей опекой, мой маленький офицер. Кстати, откуда у вас этот мундир? Не от портного же?
— О нет, государыня. Я позаимствовала его у поручика Пушкина. По счастью, он пришелся мне впору а в нынешних хлопотах оказался как нельзя более кстати.
В какую-то минуту мне показалось, что предстоящий обед и пребывание в одном покое с полулежащим Орловым совершенно отвлекли внимание государыни от происходящих в действительности событий. Во дворце царил немыслимый беспорядок. Множество солдат беспрепятственно входили и выходили из царских покоев. Некоторые отдыхали на парадной мебели, большинство искало погребов, запасы которых оказались под прямой угрозой. Братья Орловы веселились вместе с ними, никого не останавливая и не предупреждая. Повсюду вино лилось рекою, лишая офицеров чувства ответственности, а солдат чувства субординации. Мне пришлось расстаться со всеми находившимися при мне золотыми, чтобы отвлечь пирующих от царских вин и вознаградить их законно приобретенными бутылками. Одному Богу известно, как удалось мне уговорить буйно настроенных солдат, которые, кажется, потеряли желание кому бы то ни было подчиняться; Дворцовая прислуга попряталась. Лошади во дворе стояли нераспряженными, и кучера даже не задали им корму, ссылаясь на неразбериху и отсутствие провиантмейстера. Боже, если что-то подобное происходит и в Петербурге! Мое сердце сжалось от тревоги за родных, и я рада была бы ускорить наш предстоящий отъезд в Петербург, если бы не опасение вызвать гнев и без того не слишком мною довольной императрицы.
Кое-как справившись с пирующими и расставив повсюду посты охраны, я направилась во дворец, рассчитывая найти ее императорское величество в столовой зале. Каково же было мое удивление, когда я застала ее в той же небольшой комнате, у того же канапе, на котором продолжал полулежать Орлов. Прислуга приставила к мнимому больному стол, накрытый на три куверта. Как оказалось, меня ждал обед в обществе императрицы и… Орлова!
— Вы заставляете себя ждать, княгиня, в то время когда мы с Григорием Григорьевичем умираем с голоду.
— Ваше императорское величество, я сочла своим долгом предотвратить разграбление царских погребов и откупиться от разбушевавшихся солдат имевшимся у меня золотом, чтобы они могли купить себе выпивку где-нибудь на стороне.
— Вы счастливица, дитя мое, у вас есть в карманах золотые, тогда как у императрицы нет решительно ничего.
— Зато у вас есть теперь империя, ваше величество!
— Вы правы, Катерина Романовна, но подчас пара золотых может и погубить ту же империю.
— А погреба можно легко наполнить, княгиня. Мне кажется, вы придаете слишком большое значение пустякам в такой ответственный для всех нас момент. Кроме того, среди солдат находятся мои братья, и они не позволят…
— Уже позволяют, милостивый государь, и слишком много!
— Не думаю, чтобы маскарадный мундир давал вам основание, ваше сиятельство, судить о действиях военных чинов.
— Этот, как вы выразились, маскарадный мундир дал мне возможность быть полезной моей монархине!
— Полноте, полноте, друзья мои, мне не нравится ваша перебранка, и думаю, сумею вас примирить, сказав, что все возможные просчеты — результат не злоумышленных попущений или небрежности, а радости подданных, избавившихся от ига ненавистного им монарха. Давайте подумаем об этом. Я сердечно признательна вам обоим за преданность и неоценимые услуги, но дело еще не сделано — нас ждет Петербург!
Глава 9 Новое царствование
И все же трапеза, которая должна была быть такой радостной, превратилась для меня в истинную пытку. Императрица беспрестанно шутила с Орловым, требовала, чтобы он доливал себе вина, называла его истинным героем и не уставала повторять слова благодарности за содеянное. Ее императорское величество пыталась включить в этот слишком оживленный разговор и меня, сетуя, что такой ценный человек, как Орлов, собирается просить ее об отставке, которую она конечно же ни в коем случае ему не даст. Государыня настаивала, чтобы я приняла деятельное участие в ее просьбах к Орлову отказаться от неуместного, по ее собственному выражению, намерения. Я уклонилась от подобной необходимости, раз только сказав, что государыня слишком снисходительна к своим верноподданным и что господину Орлову виднее, насколько значительны и неоценимы его заслуги. В конце концов государыня обратила внимание на мое состояние и спросила о его причине. Я сослалась на смертельную усталость и то, что уже много ночей провела без сна, не говоря о постоянном беспокойстве за судьбу дочери и близких. Я сказала, насколько мне было бы легче, если бы рядом был князь Михайла, на что императрица немедленно ответила, что тотчас отдаст приказ о его возвращении, благо доехать до Константинополя он вряд ли успел. Я подтвердила, что советовала мужу не спешить с осуществлением его миссии, будучи твердо уверена в скором и благополучном восшествии на престол ее императорского величества. По этой причине князь Михаила много времени потратил в Москве, задержавшись у своей родительницы, а затем выехав с нею в Троицкое. Так что, по моему мнению, он должен быть неподалеку от Киева. Императрица заметила, что тем проще будет нас соединить, а ей приобрести в своем окружении еще одного верного человека, на честность и храбрость которого она сможет полагаться. Эти слова вернули мне доброе расположение духа, а последующие события еще более его приподняли.
Во всех населенных местах, которые мы проезжали по дороге в Петербург, нас приветствовали толпы народа, желавшего хоть краешком глаза увидеть свою обожаемую монархиню, с которой, кажется, и стар и млад связывали надежды на самое светлое будущее. Контраст с пьяными кортежами окруженного голштинцами императора был слишком разителен. Мне оставалось удивляться, как скоро проснулся в государыне дотоле скрываемый дух истинной монархини, расточавшей милостивые улыбки, расположенной к своему народу и исполненной заботы о его благополучии. Каждое движение руки, каждый поворот головы приобрели у государыни истинно царское величие и значительность. Я имела возможность лишний раз убедиться в том, что Екатерина II была рождена для трона и достойно поднималась на предназначенные ей ступени российского престола. Мы дважды делали остановки в пути, поскольку государыня ложилась отдыхать, чтобы предстать перед народом во всем блеске своей величавой красоты, без тени усталости или беспокойства. В столице императрица выбрала в качестве временной резиденции Летний дворец, может быть, потому, что убедилась, как трудно на первых порах поддерживать порядок и безопасность в огромных помещениях. К тому же Летний дворец был связан непосредственно с Петром Великим, и эта преемственность выглядела куда более наглядной. Государыня не стала возражать, когда я в ее же карете помчалась к дочери, решив одновременно навестить беспокоивших меня дядюшку и батюшку. Я понимала, сколь ненадежны в этих условиях все обещания безопасности и неприкосновенности. К тому же кто знает, чьи слова, обращенные против Воронцовых, могли быть услышаны императрицей и вызвать ее недовольство или гнев.
— Силыч! Что дядюшка?
— Слава Богу, слава Богу, княгинюшка. То-то ему радость, что вы приехали.
— Где же он?
— В библиотеке, ваше сиятельство. Из библиотеки и выходить не изволит.
— Газеты читает?
— Нет-с, газет ни вчерась, ни сегодня не было. Граф изволят с книжками сидеть.
— Дядюшка, дорогой!
— Катенька! Здорова ли, друг мой? Очень я за тебя опасался. Не женское это дело — среди полков да солдат.
— Дядюшка, я перед вами. Все устроилось как нельзя лучше. Екатерина Алексеевна провозглашена императрицей, и толпы народу свидетельствуют, что судьба решила правильно.
— Полно, полно, Катенька, при чем здесь толпы? Толпы всегда будут, какой монарх какого ни сменит. Любопытство человеческое толкает не то что на новых государей, на казни публичные глядеть. Цену толпе я ой когда узнал. Обольщаться тут не приходится. Главное, ты как? Что императрица Екатерина Алексеевна?
— Я не во всем разобралась, дядюшка.
— В чем именно, друг мой?
— Императрица очень милостива ко мне.
— И что же?
— Но она так же милостива оказалась и к Никите Ивановичу Панину. И еще — Орловы…
— Орловы? Что ж тебя удивило?
— Государыня не расстается с Григорием. Из-за ушибленной ноги ему было велено лечь в личных покоях, да еще лежать в присутствии ее императорского величества. Обед был накрыт на три персоны около его канапе.
— Но ты была третьей, Катенька?
— Да, но Орлов…
— К этому следует привыкнуть. Настанет время, и его место займет кто-то другой, лишь бы ты свое за собой сохранила. Поверь, друг мой, это совсем не просто.
— Дядюшка, я не рассказывала тебе, как достались мне последние недели, между тем Орлов…
— Делал свое дело. Постарайся быть с ним в мире, если хочешь оставаться около обожаемой тобой императрицы. Государи не склонны испытывать чувства благодарности. И напротив — те, кто оказал им самые большие услуги, всегда, рано или поздно, убираются с их глаз.
— Незаслуженно?
— Полно, Катенька, разве дело в заслугах? Монархи не любят ни иметь, ни тем более вспоминать долги, тем более совести. Люди, которым они обязаны, сразу становятся им в тягость, коль скоро в них уже нет былой нужды. Говорят, должник всегда глаз колет.
— Но государыня решительно ничего мне не должна. Все, что я делала, я делала от чистого сердца, будучи убеждена в ее талантах и так необходимой для России образованности.
— И ты сгоношила множество людей, не правда ли? Все гвардейские офицеры, с которыми ты говорила, стали участниками этих событий. А вот мы с твоим батюшкой одни были причастны к аресту правительницы Анны Леопольдовны, не будешь же считать двух солдат и одного пьяного трубача! Одни, Катенька! И что же, кого назначила покойная Елизавета Петровна, крестная твоя, канцлером, кому передала все государственные дела, с кем нищенский век свой на гроши коротала, на чьи деньги хозяйство свое вести могла? Мне? Так нет же, врагу нашему и собственному Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину, который пера положить не успел, которым завещание в пользу династии Брауншвейгской сочинял. Послушайся его советов правительница, быть бы цесаревне Елизавете Петровне в монастыре, а Воронцовым в жестокой ссылке.
— Но ведь вы же с батюшкой с императрицей чуть не сызмальства росли. И как же верить Бестужеву?
— И дивиться нечему. У Бестужева связи, он по всей Европе человек известный, а братья Воронцовы — что они, кроме Александровой слободы да Покровского села у Лефортова, видели!
— Но предателю верить!
— Так уж сразу и предатель, Катенька! Скажи, чиновный человек, а это великая разница. Чиновный, он хозяина любит, ему хозяйская рука нужна. Сослали правительницу — так тому и быть. Чего ж ей теперь-то служить? Неужто голову на плаху за нее класть? Анне Леопольдовне служил, теперь верой и правдой преемнице ее послужит. Тут и сомневаться нечего. А Воронцовы и так никуда не денутся. Их верность всей жизнью проверена. Они и подождать могут. Ведь вон сколько, сочти, Михайла Воронцов должности канцлерской дожидался. А мог и не дождаться — так тоже бывает. Вот и тебе мой совет: ничему не удивляйся да поближе к императрице держись. Сейчас около нее столько верных слуг да прихлебателей окажется — места тебе как есть не останется. Так что забывать о себе не давай. К батюшке поедешь ли?
— Непременно. Я к вам к первому.
— Вот и спасибо тебе.
— Побоялась, как вы от присяги отказались.
— Да нет, видишь, два солдата как на часах стояли, так и стоят у подъезда.
— Никто не приезжал, вас не спрашивал?
— Лишь бы подольше не спросили, а там, Бог милостив, и обойдется. За тетушку вот только беспокоюсь — не вернулась она доселева из Ораниенбаума.
— Тетушку я уж в Петергофе видала. Она государыне императрице орден да ленту статс-дамы вернуть пожелала, да ее императорское величество не приняла, обратно на тетушку надела и ее расцеловала. Я так и полагала, что тетушка немедля в Петербург поедет.
— Вот и слава Богу, что хоть тут обошлось. Может, и в остальном обойдется. В эдакой-то замети и затеряться неплохо. А ты поезжай, Катенька, поезжай. Не держу тебя. Поскорей только во дворец ворочайся.
— Прощайте, дядюшка, себя берегите да в случае чего за мной человека спошлите немедля.
Солдаты. Множество солдат. Ворота настежь. Парадные двери отвором. В распахнутых окнах и то видны, Кто-то коновязи по сторонам двора придумал. Коней кормят. Что твой Петергоф!
— Как же это ты, Катерина Романовна, государственного преступника почтить своим визитом изволила? Не забоялась?
— Батюшка, да что случилось?
— А то и случилось, что вот уже сутки целые под караулом Роман Воронцов состоит. Мало что двор набит, в доме у каждой двери по двое часовых. Ни тебе пойти, ни двери притворить.
— И кто ж это распорядился?
— Откуда мне знать? Ворвались, разместились, да и весь сказ. Вон офицер ихний здесь всем и командует.
— Господи! Глупость какая! Государыня велела тебе, батюшка, охрану дать на тот случай, коли какие беспорядки в гвардейских полках начнутся. Рядом же они — всяко бывает. Но чтобы в доме, чтобы по комнатам… Господин офицер, я только что от государыни и хочу знать, сколько здесь ваших подкомандных.
— Сотня, княгиня.
— Но к чему так много? Вы вместо удобства и покоя доставили моему родителю одни неприятности. Я приказываю немедленно отпустить большую часть. В солдатах сейчас везде надобность, а здесь хватит и нескольких человек.
— Я лично, и никто иной, отвечаю за своих солдат, и ваш приказ для меня необязателен, княгиня.
— Вы хотите, чтобы я пожаловалась на вас самой императрице? Я не собиралась этого делать, если вопрос решится миром.
— Можете обращаться — я выполняю приказ.
— Да вот кстати ординарец полковника Вадковского. Вы с приказом от вашего командира, месье?
— Да, мадам. Солдаты на карауле у дворца валятся с ног от усталости. Их давно не сменяли, а здесь множество народу.
— И совершенно бесполезного. Для защиты моего отца от всяческих случайностей достаточно нескольких человек. Всех остальных я разрешаю вам взять.
— Речь идет не о вашем отце, княгиня, а о графине Елизавете Романовне. Ее привезли под родительский кров, и государыня позаботилась, чтобы графине не было причинено никакого зла или обиды.
— Вот оно что! Но уверяю вас, здесь графиня в полной безопасности. Или были еще какие-то распоряжения?
— Да, на тот случай, если бы графиня Елизавета Романовна пожелала последовать за государем в Ропшу или вообще пожелала выехать из города.
— Графиня, я уверена, не предпримет подобных попыток!
— Кто знает, княгиня. Графиня отважно последовала за государем в Кронштадт и добивалась, чтобы ее отправили вместе с ним в Ропшу.
— Какое безумие! Но обещаю отговорить ее от подобных выходок. За ней вполне могут приглядеть наши слуги и сам граф Воронцов.
— Благодаря вас, княгиня. С вашего разрешения я забираю с собой тридцать солдат, оставшихся будет предостаточно для каждой оказии.
— Вот видите, батюшка, все и обошлось.
— А если бы не было тебя?
— Но я же здесь, и нет оснований для огорчений.
— Ты не представляешь, какие огорчения мне приносит пребывание под моей крышей твоей сестры. Ее привезли в карете и буквально силой ввели в наш дом, пока я требовал объяснений у дежурного офицера. С той минуты твоя сестра сидит, запершись, на былой твоей половине и не желает объясниться со мной. Впрочем, Елизавета Романовна давно отказалась от необходимости общаться с родным отцом. В дни своего случая она ничего не сделала для отца, не добилась никаких награждений — землями или орденами.
— Батюшка, но где же быть сестре, как не в отчем доме. Двусмысленность ее положения тем более заставляет искать убежища в родных пенатах. За это ее никто не осудит, как и вас.
— Так ты полагаешь, она надолго здесь задержится?
— Скорее всего до устройства своей судьбы.
— О какой судьбе здесь может быть речь!
— Батюшка! Вы недооцениваете доброту и широту натуры новой государыни. Государыня много раз повторяла, что не держит зла на графиню и готова ее поддержать в минуту, когда сестра расстанется с императором.
— Слова!
— Зачем же вы так суровы к императрице, батюшка? Вот увидите, государыня сама устроит судьбу нашей Лизаньки. И с вашего разрешения я хочу к ней пройти и поддержать в самую трудную минуту ее жизни.
— Твое дело!
— Что случилось, княгиня? Вы обещали только навестить свою дочь и сменить мундир на платье. Между тем вас не было столько часов и вы по-прежнему в мундире. Охотно верю, что он понравился вам, но правила придворного этикета не дают вам права оставаться в нем.
— Я была нужна вам, ваше императорское величество? Простите великодушно мое опоздание — я не сумела отказать себе в возможности взглянуть на родных.
— Вы так привязаны к ним, княгиня, что даже взяли на себя смелость распоряжаться солдатами как их командир. Более того — вы позволили себе вести при солдатах разговор на французском, что могло их и вовсе повергнуть в смущение.
— Государыня, я не знаю, кто доложил вам о моем приказе…
— Офицер, с распоряжением которого вы не сочли нужным посчитаться, все доложил Григорию Григорьевичу. Вряд ли можно было надеяться, что он примирится с оскорблением, которое вы нанесли его мундиру.
— Право, не знаю, ваше величество, в чем состояла моя, как вы изволили сказать, дерзость. Я слышала собственными ушами ваш приказ поставить несколько солдат, чтобы защитить дом моего отца от возможных волнений гвардейцев. Волнений не было. Какой же в таком случае смысл был оставлять солдат без дела?
— Вы забываетесь, княгиня! Достаточно того, что приказ о постах в доме вашего батюшки был отдан самим Григорием Григорьевичем…
— Ах, вот в чем дело! Батюшка был прав, сочтя подобную стражу за обыкновенный арест.
— Княгиня! Запомните, я не потерплю беспорядка и в нашем государстве, и в моем дворце. Отдавать и отменять приказы будут только специально на то назначенные люди. И — никто кроме!
— Ваше величество, мне кажется, обстоятельства сегодняшнего дня менее всего похожи на повседневные условия жизни. Они исключительные, и мое желание обезопасить дворец и вашу священную особу за счет хорошо отдохнувших солдат не может служить основанием для упреков в мой адрес.
— Вы продолжаете спорить, княгиня! Каковы бы ни были ваши заслуги во всем происшедшем, они не оправдают вашего объяснения при солдатах на французском языке.
— И это из-за него вы начинаете первый день своего царствования, ваше императорское величество, с выговора той, которая, не задумываясь, готова была рисковать за вас своей безопасностью?
— Вас бесполезно пытаться переспорить! Надеюсь, дома вы, подумав, сами поймете недопустимость своего проступка. А пока переменим тему разговора. Я хочу наградить вас орденом Екатерины, как вы того заслужили. Мелкие раздоры не могут служить основанием для попрания истины. Подойдите ко мне, дитя мое!
— Ваше императорское величество, я должна была бы коленопреклонно принять награду, но я умоляю вас — избавьте меня от нее.
— Вы что, княгиня, отказываетесь принять орден? Но это уже слишком!
— Выслушайте меня, государыня, пожалуйста, выслушайте. Я не хочу, чтобы кто-то заподозрил меня в корыстных соображениях, ради которых я могла бы действовать в пользу вашего императорского величества. Вы сами знаете, насколько подобное подозрение было бы для меня оскорбительно и несправедливо. Орден представляет отличную награду, но усилия, которые я сумела принести на алтарь любви и уважения к вашему величеству, именно потому, что мною двигало самое чистое чувство, не имеют цены. Они не покупаются и не вознаграждаются. Их можно только или заслужить, или потерять. Пусть со стороны это выглядит проявлением необузданной гордости, но я и в самом деле горда каждой малостью, которой могла оказаться полезной великой Екатерине.
— Вы растрогали меня, дитя мое! Но и поставили в затруднительное положение. Наш мир так устроен, что любое проявление дружбы или добрых чувств со стороны монарха должно находить материальный эквивалент. Вы нарушаете установившийся веками порядок. Мне остается только вас поцеловать и попросить о такой же чистой и верной дружбе на будущее.
— Она вряд ли будет теперь вам необходима, государыня.
— В такой мере, как прежде, вы правы, может быть, и нет. Монарх обречен на одиночество — оно дарует ему ту отстраненность, которая позволяет крепко держать в руке весы Фемиды. Но я остаюсь при этом человеком, княгиня, и как человек я буду по-прежнему нуждаться в вашей дружбе и преданности. И кстати, дитя мое, поручик, которому поручено вернуть в Петербург вашего мужа, уже в пути. Вам же остается немедленно собраться и переехать в приготовленные для вас во дворце покои. Вы должны жить под одной крышей с вашей императрицей. Вы видите, как я умею прощать вам даже ваше неуместное упрямство.
— А мне остается, государыня, снова его проявить. Я прошу о снисхождении и возможности дождаться возвращения князь Михайлы. Это он должен распорядиться о размещении в предоставленных нам вашей милостью покоях. Мне не хочется даже думать, что мои вкусы не совпадут с его желаниями и привычками.
— О, вы умеете быть образцовой супругой, дитя мое. Думаю, любому мужчине остается только завидовать вашему супругу. Не скрою, меня удивил ваш отказ от наград. Фельдмаршал Разумовский и князь Волконский не замедлили выразить свои пожелания в отношении денег и поместий. Вы же стали хлопотать о деле генерала Леонтьева, брата вашей свекрови. Кстати сказать, деле и без моего вмешательства совершенно выигрышном.
— Государыня, мне так хотелось доставить радость княгине — ее очень печалил затянувшийся процесс генерала.
— Все это очень трогательно, княгиня-младшая, но вряд ли ваши материальные обстоятельства так хороши, что нет необходимости позаботиться о них. Хотя бы ради ваших малюток. Мне почему-то кажется, что князь Михайла иначе бы посмотрел на вещи.
— Я могу отвечать только за саму себя, ваше величество.
Богу было угодно, чтобы события, которых я так ждала и о которых так мечтала, обернулись для меня столькими неприятностями. Мне оставалось раз за разом вспоминать показавшиеся мне в свое время совершенно неуместными слова о пресловутой дружбе монархов. Все началось с того, что на следующий день после моего объяснения с императрицей по поводу наград было объявлено о награждении участников заговора, непонятным образом разделенных на два разряда. К первому были отнесены решительно ничем себя не проявившие и до последней минуты не знавшие о заговоре князь Волконский и фельдмаршал Разумовский. Обоим императрица положила ежегодный пенсион в пять тысяч рублей и по шестьсот душ крепостных, стоимость которых они имели право получить деньгами в размере двадцати четырех тысяч. Никита Иванович Панин, помимо этих преимуществ, получил также титул графа. Я могла лишь порадоваться за старого знакомца, чье тщеславие было в полной мере удовлетворено, тем более что он не только не принимал участия в заговоре, но всячески отговаривал от него и меня. Мои заслуги были отнесены ко второму разряду, по которому вместе с годовым пенсионом в две тысячи рублей давались те же шестьсот душ крепостных. Такая расплата за все пережитое привела меня в полное отчаяние. Я хотела отказаться от нее вообще, но близкие, и вместе с ними граф Панин, убедили меня, что это приведет к откровенному гневу императрицы как очередное проявление моей дерзости. Я нашла выход в том, чтобы собрать все векселя князь Михайлы и предложить их кабинету к оплате, что и было сделано. Слов нет, это заметно облегчило наше положение, но значительно ухудшило мое душевное состояние. Мне трудно скрыть от себя, что отношения с императрицей не могут походить на дружбу с бедной, всеми обижаемой великой княгиней. Я виню во всем изменившиеся обстоятельства, хотя дядюшка уверяет, что мое прозрение последовало за полной моей слепотой. Характер великой княгини никогда не вызывал у него доверия и симпатии. Наша близость, которой я так дорожила, лишь изредка дает о себе знать. Зато определились первые мои недруги, которые не упускают случая восстановить против меня государыню или, во всяком случае, представить мои слова и действия в невыгодном для меня свете. Мои худшие опасения в отношении Григория Орлова оправдались. Орлов уже граф, к тому же награжденный орденом Александра Невского. Он не может простить мне то ли былой близости к императрице, то ли моего отношения, которого я никогда и не старалась скрывать. Недавно появился еще один претендент на участие в заговоре — Иван Иванович Бецкой, смешной старик, которого государыня в веселую минуту называет гадким генералом. На днях в присутствии нескольких человек он потребовал от императрицы признания своих заслуг в возведении ее величества на престол, ссылаясь на те крупные деньги, которые якобы раздавал гвардейцам, убеждая их выступить на стороне государыни. Мне подобное требование показалось совершенно абсурдным, тогда как граф Орлов отнесся к нему почему-то с достаточной и непохожей на него серьезностью.
В ответ на мою шутку он заметил, что для меня многое остается неизвестным и потому мне не следует спешить с выводами. Со своей стороны, государыня придумала способ избавиться от «гадкого генерала», поручив ему наблюдение за изготовлением бриллиантовой короны, которая должна быть готова ко дню коронации. Но нельзя не признать, что это и форма выражения немалого доверия. Я сама имела не один случай убедиться, что только Бецкому разрешается посещать императрицу после обеда, когда она отдыхает в своем будуаре. «Гадкий генерал» может входить при этом без доклада и оставаться там часами. Если государыня и жалуется при этом на скуку и на бесконечные нотации генерала, абсолютной искренности таких жалоб верить достаточно трудно. Если бы ее величество не захотела видеть Бецкого, имея в виду его не определенное никакой придворной должностью или обязанностями положение, она легко могла бы закрыть перед ним двери. Дядюшка уверяет, что одной признательностью за то, что именно Бецкой привез государыню еще невестой в Россию, подобную снисходительность трудно объяснить. Приходится признать, что там, где мне и даже графу Орлову подчас надо ждать, Бецкой не испытывает ни малейших затруднений, чтобы увидеть императрицу, как только того ему захочется.
Ходят слухи, что это Бецкому предстоит заменить Ивана Ивановича Шувалова на всех его должностях. О его президентстве в Академии художеств все толкуют как о деле решенном. И тем не менее разговор с Бецким не представляет ничего занимательного. Возможно, он разбирается в искусстве, но положительно далек от литературы и тем паче энциклопедистов, хотя на словах и пытается толковать о них, главным образом в угоду государыне. Мои попытки завязать с Бецким беседу всегда кончались неудачей. «Гадкий генерал» отговаривался либо неотложными делами, либо того лучше — внезапной болью головы. Тем большей тайной остается для меня время, проводимое им с императрицей.
— Я просил тебя приехать, Катенька, до того, как ты отправишься во дворец.
— Какие-нибудь новости, дядюшка?
— Да, друг мой, и очень дурные.
— Не пугайте меня, дядюшка!
— Государя больше нет в живых.
— Как? Государь умер? Но от чего? Неделю назад он уехал в Ропшу в добром здравии и даже казался не слишком огорченным переменой в своей судьбе, и вдруг…
— Именно, что вдруг.
— Но вы не ответили, дядюшка, о причине.
— Мне трудно о ней говорить.
— Боже мой, неужели…
— Да, Катенька, насильственная смерть. Государь убит.
— Кем? Ведь его окружали специальные охранники. Государыня сама повелела не спускать с его величества глаз.
— Они и не спустили: государь задушен подушкой будто бы в пылу карточной ссоры.
— Нет, дядюшка, нет! Только не это! Ее величество сама мне говорила, что государю обеспечит спокойную и достойную жизнь. Я сама слышала, как она беспокоилась о его удобствах и согласилась отпустить в Ропшу всех, кого назовет государь. Государь ведь ничего не требовал, ни на что не претендовал. Потеря престола его совершенно сломила, и он подчинился судьбе, как ребенок.
— Говорят, существует письмо Алексея Орлова, который объясняет произошедшее случайностью, допущенной по его вине.
— О, я никогда не поверю в связанные с Орловым случайности! Никогда! В этой бессмысленной и жестокой гибели должен скрываться их прямой расчет.
— Что ж, не сердись, мой друг, но кончина императора приходится ее императорскому величеству как нельзя более кстати. Она решает многие связанные с коронацией вопросы.
— Императрица не может иметь с этим злодейством ничего общего. У нее нет ненависти даже к сестре Елизавете Романовне, а государь? Чем он мог ей мешать, занятый своими полудетскими развлечениями и попойками?
— Ты не принимаешь в расчет других людей, Катенька.
— Каких других?
— Тех же Орловых. Кончина государя открывает перед ними возможность брака императрицы с Григорием.
— Но это же невероятно, и государыня никогда не пойдет на такой безумный шаг! Стать супругой Орлова!
— Многое будет зависеть от привязанности государыни к фавориту. И, конечно, от напора его семьи.
— Нет, нет, дядюшка, государыня не может находиться под влиянием этих мужланов. Вспомните, вы сами рассказывали, как Разумовский вместе со всей родней добивались свадьбы с покойной императрицей Елизаветой Петровной, но ведь даже им это не удалось.
— Здесь дело не в семейных интригах. Идею о браке предлагает сам Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Не успел из вечной ссылки вернуться, уже паутину свою плести начинает.
— Ему-то что за нужда?
— Вот ему-то прямой расчет — сразу поддержку всех Орловых при дворе заполучить. Чай, не шутка!
— Недаром он мне такой лисой показался. Стар-стар, а глаза так и шныряют. Слова любезные говорит, а глаза ледяные — все-то досмотрят, все увидят, всему цену назначат.
— Рад, что в бывшем канцлере, княгинюшка, разобралась, да только разве знакома ты с ним?
— Откуда? Когда его ссылали, я дитя была. Это два дня назад императрица меня ему представила, слова еще какие сказала. Мол, кто бы подумать мог, что будет она обязана царским венцом не кому-нибудь, а молодой дочери графа Романа Воронцова. Бестужев так в комплиментах и рассыпался.
— Да, вот тебе и Алексей Петрович наш распрекрасный. Всю жизнь против великой княгини интриговал, государыне покойной советовал ее с сыном разлучить да из России и выслать, а как государыня приболела, сей час великой княгине депешу послал, чтоб момента не пропустила. За то и поплатился. А сегодня не хуже Бецкого право получил к государыне в любое время дня и ночи без доклада являться.
— Да Бог с ним, с Бестужевым! Государь покойный с ума нейдет. Его крови со ступеней престола не смыть, да и мне своей совести не успокоить. Где там! Сама крестного под обух подвела, сама конец его жизни положила!
— Не казни себя, Катенька. Венценосцев от лихой беды да напасти никто не спасет. Что ж ты, полагала, коли дело до переворота дошло, без крови да насилия обойтись? Такого, княгинюшка, отродясь не бывало. У власти только одни следы и есть — кровавые.
У дворца карет не счесть. Все верноподданнические чувства изъявить желают. Званые, незваные в антикамерах толпятся. Перешептываются. Лица пятнами. Руки вразлет. Словно на воде удержаться хотят. На каждый дверной скрип оборачиваются: не ее ли императорское величество, не от императрицы ли какая весть. Не упустить бы, успеть. Кому не понятно, царствование новое начинается — новые люди в ход пойдут. Про себя грехи пересчитывают: когда былой княгине сгрубил, когда чести не оказал, когда приглашения не заметил или за столом отвернулся, чтобы государя не гневать. Ведь вот как оно все оборачивается. Кабы вперед знать! Может, обойдется? Может, не время обожаемой монархине мелочи-то всякие вспоминать? Одна беда, другие бы не напомнили, за чужой счет своего выигрышного билета не вынули. Оно и выходит, лучше каждому поклониться, о делах да детках осведомиться. Там дальше разберешься, а пока…
У самой лестницы Чулков:
— Княгиня, ваше сиятельство, государыня ждет, немедля к себе пройти велела.
— Куда это?
— В опочивальню-с. Там от назойливых скрываться изволит. Слыхали, поди, горе какое у нас, Катерина Романовна?
В опочивальне занавесы приспущены. И в полдень полумрак. Лицо государыни и вовсе в тени. Один голос слышно:
— Дитя мое, я в отчаянии. Петр Федорович…
— Мне передали скорбную новость, ваше величество.
— Он был плохим государем для России и еще худшим супругом, но он был человеком, и как каждая смерть…
— Да, государыня, эта случилась слишком скоро для вашей славы и моей совести.
— О чем вы говорите, дитя мое!
— Несчастный случай, в котором, несомненно, был замешан Алексей Орлов!
— Я не понимаю вас, княгиня!
— Здесь нечего понимать, ваше императорское величество. Можно стремиться к справедливости и даже добиваться ее силой, но не ценой смерти.
— Кто говорит здесь о цене? Я повторяю, несчастный случай, вызванный вином и избытком молодечества. За него трудно судить.
— Как, ваше императорское величество, вы не имеете в виду, чтобы виновные понесли самое жестокое наказание?
— Наказание, княгиня?
— Естественно!
— Но тогда прочтите вот это письмо, присланное мне Алексеем Орловым. Оно исполнено самого неподдельного отчаяния. Алексей Григорьевич берёт на себя всю вину за то, что не сумел уберечь доверенную ему жизнь бывшего императора. Он ничего не отрицает, и ему решительно не в чем оправдываться. Драка была спровоцирована бывшим императором — вам ли не знать задиристого характера покойного! А то, что его подопечный неожиданно задохнулся…
— Как — задохнулся?
— Не знаю, как именно. Да это и не имеет значения. На Орлова и его товарищей будет наложена самая суровая епитимья. У меня нет основания не верить их раскаянию. И я бы не хотела, чтобы кто бы то ни было подвергал его сомнению. Или обсуждению.
— Ваше императорское величество! Этого нельзя приказать ни истории, ни живым людям!
— Вы снова спорите, княгиня! Неужели вас ни в чем не убедил хотя бы характер орловского письма — сумбурный от переполнявшего его отчаяния, лишенный необходимого по этикету стиля.
— Орловское письмо! Оно говорит только о полной необразованности писавшего его человека. Алексею Орлову просто незнакомы правила правописания, не говоря о французском языке, которого потребовал бы придворный этикет. Это строки грубияна и наглеца, тем не менее рассчитывающего на вашу снисходительность.
— Вы забываетесь, княгиня, и я не уверена, что права в своем долготерпении относительно вас.
— Правда слишком редко бывает приятной. Что поделать! И чтобы не показаться вашему императорскому величеству дерзкой, я не вернусь больше к этой теме. Но я заранее прошу вашего прощения, государыня, за то, что более никогда не подам руки Алексею Орлову и не стану с ним разговаривать.
— Я не советовала бы вам делать ваши личные соображения предметом гласности!
— Я понимаю, ваше императорское величество, что рискую навлечь на себя ваш гнев. Тем не менее моя совесть и мое чувство чести не позволят мне поступить иначе. Хорошо, если Алексей Орлов будет об этом предупрежден и постарается избегать щекотливых ситуаций. Я же, со своей стороны, обещаю никогда и ни при каких обстоятельствах не искать с ним встреч.
— Что-то, сказывают, загрустила ты у нас, Катенька. С чего бы, княгинюшка? Князь Михайлу быстро в Петербург воротили, так быстро, будто совсем рядом со столицей был. Чести какой дождались — во дворец переехали, с императрицей за одним столом едите. Слыхал, вечерами гостей у себя принимаете. За ужин не менее десяти человек сажаете. Все казенное, все оплаченное. Чем не жизнь?
— Полноте, дядюшка, какая там жизнь — золотая клетка.
— А как ты думала? Во дворце радости одни?
— Хоть не радости, так спокойствие.
— А вот с ним навсегда расстанься, и во сне о нем думать перестань. Покою искала, так в Москве бы и жила, в Троицком своем век коротала. Не захотела ведь! Как сюда рвалась! Все тебе твоя великая княгиня виделась. Вот и привыкай к новому царствованию. Да то в уме держи, что друзей здесь отродясь не водилось: каждый за себя, каждый твоей удаче завидовать станет. А уж тем паче после чести такой, что князь Михайла кирасирским полком командовать назначен. Шутка ли, сама императрица в нем полковником!
— Честь великая, это правда. Да ведь как бы иначе ее величество сумела всех офицеров там сменить? Ведь одни голштинцы были, а князь Михайла всех русскими дворянами сменил.
— Вот тебе и новые враги!
— Кто по нынешним временам на голштинцев глядеть станет! Да и траты здесь куда какие большие оказались. Денег у нас, дядюшка, сами знаете, не Бог весть сколько. А ведь князь Михайле на все самому тратиться приходится. Одни лошади для полка чего стоят, а там и приемы для офицеров, раздачи солдатам.
— Так кто ж тебе, княгинюшка, мешает государыне о том намекнуть. Мол, так вот и так, вашего величества полк, командиру одному всех расходов на своих плечах не вынести. Да и ты не по-умному поступила. От земли да крестьян отказалась, доходов своих не приумножила. Значит, государыне тебя и иначе вознаградить можно.
— Полноте, дядюшка, как можно! Ничего мне от государыни не надо. Не из корысти мы с князь Михайлой о ее восшествии на престол хлопотали. Чтоб и тени такой на нас не упало!
— Ни тени, ни благодеяний, выходит. А что другие, кто и вовсе ничего для государыни не сделал, награды да богатства получают, это, по-твоему, справедливо выходит?
— Я не в том справедливости ищу.
— Верно, верно, да вот загвоздка-то какая у тебя с поручиком Пушкиным вышла. Михайлой его, что ли, зовут?
— Михайлой.
— Облагодетельствовали вы с супругом наглеца свыше всякой меры и разума. От неоплаченного заемного письма спасли, у самого господина посла французского ему помилование вымолили. Это с какой такой, прости Господи, радости? Мало одного благодеяния, ты же, княгинюшка, хлопотать начала, чтобы государыня его к великому князю назначила. С эдакой-то репутацией!
— Дядюшка, кто Богу не грешен, царю не виноват, а он человек молодой.
— Разве что молодой, зато прыткий.
— Но граф Панин нашел его подходящим для товарищей великого князя.
— С твоих-то слов Никита Иванович кого подходящим не найдет.
— О чем вы говорите, дядюшка!
— О том, что все говорят. Приручила ты, княгинюшка, старика. На все научился твоими глазами глядеть, чего уж!
— Да ведь и князь Михайла очень поручиком Пушкиным доволен был, всегда его ласкал да привечал.
— Князь Михайла! А о том не подумал, что батюшка у вашего поручика за лихоимство осужден был. Многонько взять-то надо было, чтоб до суда да позору дело дошло.
— Но сын за отца не ответчик.
— Так-то оно так, да только на такой случай и другая пословица есть: яблоко от яблоньки недалеко падает. Чем он только тебе — не князь Михайле, — княгинюшка ты моя, приглянулся.
— Никакого секрета, дядюшка, — острым умом и обхождением отличным. Что разговор завести, что пошутить — на все мастак.
— Вот-вот, ума-то у него и хватило, уж коли по твоей рекомендации к великому князю не попал, тот же час на тебя графу Орлову и нажаловаться, мол, ты супротив него государыню настроила.
— Но государыня все равно его к великому князю не допустила.
— Другое местечко по ходатайству графа Орлова непременно сыщет, а у тебя, княгинюшка, при дворе новый враг объявится.
— Я предпочту приобрести лишнего недоброжелателя, чем изменить вере в человека.
— А уж это как знаешь!
Глава 10 Мой князь Михайла
Кто бы мог предположить, что приготовления к коронационным торжествам затянутся на целых два месяца. Оказалось, что ее императорское величество не пожелала удовольствоваться обычным порядком, но устроить торжества, достойные царства, которого еще не приходилось знать народу. Мельчайшие подробности шествий, фейерверков, аллегорий, украшения улиц государыня апробировала сама, вникая в их мельчайшие подробности. Для участия в них был приглашен сам Александр Петрович Сумароков и актеры из Ярославля, которым предстоит составить первую российскую труппу. Хлопот выдалось так много и таких неожиданных, что мы все вздохнули с облегчением, когда императорский кортеж достиг окрестностей Москвы. Необходимость тщательно подготовиться к торжественному въезду в старую столицу побудила императрицу остановиться на несколько дней в ее предместьях, однако на таком расстоянии, чтобы можно было инкогнито ежедневно бывать в Москве. Ее императорское величество много раз повторяла, что не хочет никаких неожиданностей в том великолепном представлении, которое навсегда должно остаться в памяти народа и непременно в истории. Из нескольких возможностей государыня остановилась в конце концов на подмосковной фельдмаршала Кирилы Григорьевича Разумовского, носящей его имя: Петровское-Разумовское. Село Всехсвятское, которое в свое время предпочитал Петр Великий, с его дворцом грузинских царей показалось недостаточно вместительным для огромной свиты и заметно обветшавшим. Тогда как фельдмаршал превратил былое поместье деда Петра Великого в настоящий голландский городок с несколькими десятками превосходно ухоженных каменных домов, окруженных цветочными клумбами и палисадниками, с множеством соединенных между собой оранжерей и теплиц, с дворцом, от которого затейливая галерея вела в церковь Петра и Павла, с гротами, многочисленными статуями и превосходным конным двором. На вид беспечный и ленивый, фельдмаршал оказался на редкость рачительным хозяином. Достаточно сказать, что многочисленные украсившие парк пруды были выкопаны крестьянами, которых граф Разумовский специально привозил с Украины.
Ее императорское величество с явным удовольствием осматривала хозяйство фельдмаршала и неоднократно высказывала ему свое благоволение, воспользовавшись которым граф не преминул упомянуть о неких материальных трудностях своих, за что получил очередные щедрые подарки от государыни. Граф Панин уверяет, что в этой расчетливости нет решительно ничего зазорного или противоречащего чувству собственного достоинства вельможи, поскольку монархиня все равно будет отмечать свой приход к власти многочисленными жалованиями, и остается только радоваться, если они достанутся достойным людям. Никита Иванович уверяет, что граф Разумовский умеет быть щедрым, особенно по отношению к Академии наук, президентом которой он был назначен покойной императрицей Елизаветой Петровной девятнадцати лет от роду. Подобная профанация смягчалась лишь ироническим складом ума графа, который сам считал свое образование очень сомнительным и уверял, что два года, проведенных за границей в сопровождении Григория Теплова, могли его обучить разве что двум языкам, танцам и манерам. В наших разговорах граф всегда повторял, что относит к своим заслугам разве что умение мирить вечно ссорящихся академиков и обеспечивать материальное благополучие заведения, к которому испытывает безусловное уважение, тогда как истинное удовольствие получает от своего превосходного крепостного оркестра, среди оркестрантов которого немало иностранных виртуозов. Впрочем, ее императорское величество не испытывает никакого интереса к музыке, и лишь торжественные марши, которыми государыня была встречена в Петровско-Разумовском, доставили ей радость. Одна из непременных обязанностей графа Строганова — находиться около государыни во время музыкальных выступлений, чтобы в нужные моменты привлекать внимание императрицы к особенно удачным пассажам виртуозов.
Пока мы с государыней осматривали владения Разумовского, князь Михайла получил от ее императорского величества разрешение съездить в Москву, чтобы повидаться с матушкой. После возвращения, мужа я решила воспользоваться той же милостью, тем более что уже более полугода не видала своего младшего сына, переданного на попечение моей свекрови. Государыня не выразила желания оказать мне подобную милость, а затем пригласила нас с князь Михайлой в особый покой. Меня поразило, что лицо ее приобрело выражение одновременно грустное и благожелательное.
— Дитя мое, думаю, у вас нет необходимости торопиться до времени в город.
— Но мой сын, государыня! В Петербурге я меньше чувствовала остроту разлуки с ним, нежели здесь, всего в часе езды от него. Каждая минута начинает казаться мне вечностью.
— Друг мой, князь Михайла доверил сообщить вам известие, которое разбило его собственное сердце. Мужайтесь, княгиня, вашего сына нет в живых.
— Нет в живых? Как это нет в живых?
— Он умер, княгиня, и погребен.
— Но ведь свекровь писала мне, что он здоров, ничем не хворает, что он весел и… Боже мой, ведь последнее письмо я получила всего неделю назад!
— Все так, дитя мое, смерть была скоропостижной, и ваша свекровь, любя вас, решила не огорчать.
— Не огорчать? Не сказать матери о смерти ее ребенка, ее единственного сына? Князь, как это могло случиться?
— Друг мой, подробности будут для тебя слишком тягостными. Ты узнаешь о них в свое время, сейчас же они не принесут тебе облегчения. Государыня права, тебе незачем ехать в Москву.
— Нет, нет, мне надо немедленно, сейчас же ехать к свекрови. Она одна пережила это горе, и я хочу как можно скорее оказаться рядом с ней. Государыня, умоляю вас, не держите меня. Мне было бы слишком тягостно оставаться в такие минуты среди праздничных людей, и своим видом я только испорчу общий праздник. Позвольте мне съездить в наш дом. Я обещаю взять себя в руки, я, конечно, буду присутствовать, с вашего милостивого разрешения, на всех торжествах, но сейчас… Государыня, умоляю, я должна оказаться в комнате моего мальчика, я должна преклонить колени на его могиле. Ради Бога, государыня! Ради Бога!
— Мне не кажется ваше решение разумным, княгиня, но я понимаю вашу скорбь. Хорошо, поезжайте, но князь Михайла не может оставить своего полка. Вы поедете в Москву одна.
— Михайла Ларионыч, друг мой, боюсь, характер Катеньки принесет ей немало бед. Казалось бы, сколько Катенька интриговала против покойного государя, как отстаивала интересы великой княгини, и вот на тебе — и не в чести и не при месте.
— Что ж, Анна Карловна, с этим не поспоришь.
— И ведь надо же, день ото дня дела хуже идут.
— Всё Орловы.
— Да и сама Катенька не без греха.
— Какой грех после такой-то обиды! На другую доведись, поди, совсем бы в имение уехала, глаз больше при дворе не показала.
— Ты о церкви, друг мой?
— А о чем же еще? Удумать же такое надо было, чтоб в последнем ряду, на помосте, с женами полковничьими. Да она и знать-то их никого не знает. Выходит, спасибо, что на торжество допустили!
— Подожди, подожди, батюшка, ведь когда Катенька про такой приказ церемониймейстера услыхала, ей бы к государыне в ноги и броситься — на обиду свою пожаловаться. Государыня бы бесперечь подруге своей верной почетное место нашла.
— Ой, графиня, не так все просто, как тебе кажется! Что ж, полагаешь, государыня о том не знала? Без ее ведома церемониймейстер Орловых послушался? Полно тебе, Анна Карловна, сказки-то мне, старику, рассказывать! Все государыня знала. На руку ей такой порядок пришелся, чтоб строптивицу укорить.
— Думаешь?
— А как иначе? С Екатерининской-то лентой да в последнем ряду? Сколько ж это всего у нас дам кавалерственных-то — раз-два, и обчелся. А тут смотри как все спромыслено. Ждала Катенька выхода императрицы с утра у ее покоев. Первая за государыней в собор следовала, заместо семьи императорской, выходит.
— И то верно, великий князь болен, а голштинских государыня за собой видеть не пожелала.
— Вот-вот. Да и с болезнью великого князя все не так просто. Коронация дело такое, что мертвый из гроба встать должен, а тут простуда простая. Ни к чему великий князь при таком деле оказался. Что ему, законному наследнику, родному правнуку Петра Великого, народу глаза мозолить.
— А отдельно с Катенькой у дверей уборной, сказывали, не поздоровалась государыня. Общий поклон на все приветствия отдала.
— Видишь, видишь! До самого собора Катенька за нею шла, а там от ворот поворот: государыня к алтарю, а княгиня Дашкова в публику, да в последний ряд. Уж как ее и отец, и граф Никита Иванович ходить отговаривали. Заупрямилась, и все тут. Я, мол, спектакль до конца посмотреть хочу. Любопытно, говорит, мне.
— О Господи, надо же характер какой!
— Да уж какой есть — не переиначивать стать.
— Зато после собора, как государыня на трон сесть изволила, так Катеньку первой статс-дамой назначила. Князь Михайле — камер-юнкера с чином бригадира.
— Чего уж, даже полком командовать при новых чинах оставлен. Только разве того ждать-то было можно?
— Что, Тихон, барин хворает?
— Пожалуйте, батюшка Никита Иванович, пожалуйте, ваше сиятельство. Неможется графу нашему, которую неделю неможется. Да вас они завсегда рады видеть. Вы у нас из всех дорогих гостей гость самый что ни на есть первый.
— А это чья ж карета от крыльца-то сейчас отъехала? Не графа ли Бестужева?
— Его самого, батюшка.
— Бывать у вас стал?
— Никак нет, ваше сиятельство, за сколько времени, поди, первый раз…
— Никита Иванович! Как же в пору!
— К чему ж вы встали, Михайла Ларионыч? Можно ли подыматься-то вам?
— Можно, Никита Иванович, все можно, да еще при волнении таком.
— Случилось что?
— Еще как случилось! Алексей Петрович Бестужев-Рюмин сей момент здесь был. Дело у него, вишь, такое, что только руками разведешь. Да вы пожалуйте, пожалуйте в кабинет, раскиньтесь на покой.
— Заинтриговали вы меня, граф!
— Скажу, не я заинтриговал, меня заинтриговали. Старый лис приехал петицию государыне подписывать.
— Петицию?
— Да еще какую! Чтоб государыня всенепременно с кем ни с кем, а в законный брак вступила, дабы смуты никакой в государстве не возникло.
— Это что ж, дворянам государыню об этом просить? А как же Анна Иоанновна одна правила? Как покойная государыня блаженной памяти Елизавета Петровна без супруга обходилась?
— Полноте, Никита Иванович! Тут Орловым дорожка торится, чтоб Григорию Григорьевичу на престол вступить.
— И Бестужев на эдакое пошел?
— Так ведь выслужиться-то хочется, ой как хочется!
— Под сколько приговоров попадал, два раза едва головы не потерял, и все мало, все неймется!
— Делами заправлять после ссылки хочет.
— Ну а вы что, Михайла Ларионыч?
— Что ж я. Чтение его прервал, сказал: бредней мне этих слушать нужды нет, и чтоб ноги его больше в доме моем не бывало, а сам спину ему показал и вышел. До сей поры отдышаться не могу.
— Выгнать-то Бестужева можно, да ведь неизвестно, как прямота ваша государыне представлена будет. Что, если, граф, не от одних Орловых замысел сей дерзновенный идет? Что, если…
— Хотите сказать, и государыне он не противен?
— Вот-вот! Может, ее императорское величество разведать решила, как дворяне к замыслу такому отнесутся.
— Так ли, эдак ли, выходит, надо мне во дворец собираться.
— Вот именно, Михайла Ларионыч, вот именно! И немедля. От кого бы замысел сей ни исходил, воспрепятствовать ему надо. Коли увидит государыня, что дворяне и поверить в такой план не могут, может, и сама ход мыслей своих изменит России во благо.
— Я поджидал вас, князь. Домой к вам заехать было не с руки. Да слыхал, сестрица ваша любезная долго жить приказала, — соболезнования мои примите.
— Василий Иванович! Господин Суворов! Не скрою, удивлен вашим обращением. По делам как-то общаться не пришлось, а события последних дней…
— Вот о них-то и речь, Михайла Иваныч. Кабы не был я обласкан многими милостями вашего покойного батюшки, не решился бы на этот разговор. А так, памятуя добро, счел своим долгом…
— Слушаю вас, Василий Иванович. Только сначала скажите, что же грозит несчастному Хитрово за одно только, что не пожелал видеть братьев Орловых на престоле российском!
— Тише, князь, Бога ради, тише!
— Нешто не Хитрово братьев Орловых поддержал, когда государыне помогли на престол вступить?
— Полноте, Михайла Иваныч, неужто справедливость искать решились? Успокойтесь, прошу вас. Разговор наш затягиваться не должен, а дело нешуточное. Предал Хитрово брат его двоюродный, господин Ржевский — пересказал Алексею Орлову, что имеет Хитрово намерение всех участников восшествия государыни императрицы на престол собрать и скопом ее императорское величество просить отказаться от брака с Григорием Орловым. Мало того — пригрозил, что, если государыня всеподданейшей их просьбе откажет, сам, один Григория порешит.
— Достойнейший человек!
— Так вот к сведению вашему, князь, Хитрово был тотчас же арестован, и первый его допрос провел не кто-нибудь, а по желанию ее императорского величества сам Алексей Орлов.
— По желанию государыни? Быть не может!
— Может, сударь мой, еще как может. Граф Орлов, прямо скажем, с господином Хитрово неласково обошелся. Господин Хитрово не только что от слов своих не отрекся, но прямо объявил, что готов шпагу вонзить в сердце Григория Орлова. Мол, лучше смерть принять, чем знать, что вся революция свелась к одному возвышению Орловых.
— И вы думаете, мало офицеров разделяет мнение господина Хитрово? Революция ради Орловых!
— Я, сударь мой, ничего не думаю. Мне ее императорское величество повелела формальный допрос арестованного произвести; и то для вас важно, князь, чтобы специально мне вопрос ему задать: знала ли ваша супруга о таковых планах и как к ним относилась. Предписано было в случае неясного ответствования вопрос трижды повторить.
— И что же сказал Хитрово?
— Слава Богу, что не сумел увидеться с княгиней, что трижды в ваш дом приезжал и заставал двери запертыми — княгиня никого не изволила принимать. Прислуга сказывала, что неотлучно находилась у постели вашей сестрицы.
— Выходит, все в порядке — наплел кто-то на княгиню.
— Да вот и не в порядке, потому что Хитрово изволил добавить, что кабы с вашей супругой разговор ему удалось иметь, у него и сомнения нет, что княгиня его полностью поддержала в силу высоких чувств и патриотизма своей души. А дальше, князь, судите как знаете. Честь имею!
— Ваше сиятельство, Михайла Иваныч! Никак, забылся? Князь батюшка, спите ли?
— Ты что, Захар?
— Господин Теплов Григорий Николаевич приехали, видеть вас всенепременно желают.
— Чего ж не сказал, что я болен? Сам знаешь, жар какой — все горло разнесло.
— Сказывал, ваше сиятельство, про все сказывал. Господин Теплов на своем стоит. Мол, немедля разговор с вами иметь должен по поручению ее императорского величества.
— Что ты будешь делать! Зови тогда сюда.
— То-то и оно, Михайла Иваныч, что господин Теплов требуют, чтобы вы к ним на двор вышли.
— Как это «на двор»? Почему?
— О том не сказывали, но очень требовали. Да вы в окошко гляньте — вон у саней прохаживаться изволят.
— Что такое? Ну, давай одеваться — делать нечего. Халат дай, сверху шубу накину, больно испарина пробирает… Что вы, Григорий Николаевич?
— Простите великодушно, князь, что поднял вас с постели, однако оказия слишком серьезная — повременить никак нельзя.
— Отчего же не в доме?
— От любопытных ушей подале, да и супруге вашей слышать не след. Горяча больно княгиня, не в меру горяча.
— А уж это не вам, Григорий Николаевич, судить, и слов подобных о супруге своей никому говорить не позволю.
— Только и ваша горячность, князь, здесь неуместна. Я выполняю волю ее императорского величества и прошу отнестись к миссии моей с должным почтением. И суд о действиях супруги вашей принадлежит не мне, а государыне императрице. Никаких личных дел у меня с вами, князь, нет. Так вот, ее императорское величество повелела вам передать, что не хотела бы забыть известные заслуги княгини и потому просит вас оказать на вашу супругу необходимое воздействие. Государыне стало известно, что княгиня осмелилась даже угрожать её императорскому величеству, а также приближенным к ней лицам — графам Орловым.
— Угрожать? В себе ли вы, господин Теплов?
— Так следует из протоколов следствия, князь.
— Полагаю, что с таким вопросом государыня в случае необходимости могла бы прямо обратиться к княгине, и княгиня не замедлила бы дать государыне честный и прямой ответ. Всеми своими действиями в пользу государыни княгиня Катерина Романовна заслужила подобное доверие. Ссылка же на протоколы является для меня и моей супруги глубочайшим оскорблением.
— Чтобы вы поверили моим словам, князь, я имею содержащее их письмо ее императорского величества. Возьмите его.
— Нет, господин Теплов, после того, как вы известили меня о содержании письма, мне нет нужды его брать. Верните его государыне вместе с моими словами и заверьте государыню, что сообщать о нем своей супруге я не считаю возможным. Кстати, я искренне удивлен, что государыня не вспомнила о том, что княгиня всего три дня назад родила сына. Я полагал, что ваш приезд связан с поздравлениями родильнице. Раз нет, разрешите положить конец нашему разговору. Честь имею.
Визит Теплова не оставил никаких сомнений: императрица достаточно удалилась от нас с князем и была преисполнена подозрительности, которую постоянно поддерживали в ней братья Орловы. Орловы в качестве врагов делали нашу жизнь при дворе тревожной и полной больших или меньших неприятностей. Слухи, сплетни, наговоры заполняли окружение императрицы, и пробиться сквозь них ее истинным и преданным друзьям становилось все более невозможно. Государыня могла убедиться в несправедливости отдельного слуха, что не мешало ей поверить следующему, так как она слишком хорошо знала мою нескрываемую и явно ей неприятную нелюбовь к Орловым, которые продолжали делать свое дело, стремясь к государственной власти и влиянию. Соглядатаи сновали повсюду, и нам с князь Михайлой зачастую приходилось для конфиденциальных разговоров выбирать сад или езду в карете. Напоминание князь Михайлы о рождении у нас сына не привело ни к каким поздравлениям, хотя ранее императрица и говорила о своем желании крестить ребенка, которого я ждала. Мне оставалось просить Никиту Ивановича Панина спросить у государыни о ее воле в отношении новорожденного. В ответ супруге Никиты Ивановича было велено привезти младенца во дворец, где и произошло крещение. Восприемниками маленького Павла у купели стали сама государыня и великий князь. История повторялась: все произошло как и при моем рождении, и я со стесненным сердцем подумала о том, что моих крестных родителей уже нет и что они не смогли меня избавить ни от каких неприятностей, связанных с придворной жизнью. Могла ли судьба сложиться иначе у маленького князя Павла? Тем более что государыня, присутствуя при обряде крещения, ни словом не обмолвилась обо мне и не сочла нужным справиться о моем здоровье. Граф Панин постарался меня успокоить тем, что подобное пренебрежение со стороны императрицы было вызвано скорее всего ее нежеланием раздражать Орловых и что в действительности государыня продолжает испытывать ко мне добрые чувства. Чувства, которые монархиня вынуждена скрывать! Подобное предположение показалось мне не столько абсурдным, сколько обидным: от старой дружбы не осталось и следа. К тому же, хотя ее императорское величество внешне благосклонно приняла рассказ дядюшки о визите Бестужева и о его предложении, а также о всех нежелательных последствиях подобного шага, Григорий Орлов хлопотами императрицы получил титул графа Священной Римской империи. Это был слишком откровенный шаг к намечавшемуся браку.
Я не последовала за уехавшим в Петербург двором, что осталось незамеченным императрицей. И даже решила расстаться с Москвой, предпочтя старой столице имение невдалеке от Москвы. Я оказалась обреченной на полное одиночество, поскольку императрица, не обращая внимания на мою затянувшуюся болезнь, потребовала от мужа отъезда в Дерпт, где квартировал его полк. Лишь через полгода я оказалась в состоянии добраться до Петербурга, где стало ясным, что отношения императрицы с ее фаворитами претерпели немалые изменения. Теперь государыня вынуждена была бороться с их влиянием и проводить свои решения вопреки и втайне от них, что побудило ее вновь вспомнить о нас, а точнее, о князь Михайле.
Речь шла об избрании польского короля, что вело к столкновению интересов Саксонской династии и польской династии Пястов. Польские вельможи разделились в своих симпатиях, но такой же раздел произошел и при русском дворе. Государыня склонялась к династии Пястов, которых собирался поддерживать и Венский двор, но когда она впервые заявила об этом на совете, граф Орлов не только не согласился с мнением императрицы, но и увлек за собой иных членов совета. Военный министр Захар Чернышев, его брат Иван встали на сторону графа. Свое несогласие эти господа поддержали энергичными действиями вплоть до отправки в Польшу войск. Императрица оказалась в одиночестве и бессилии. Она вспомнила о князь Михайле и, будучи уверена, что Дашков никогда не выступит на стороне Орловых, дала ему тайное поручение с исключительными полномочиями. Отъезд князь Михайлы опередил известие о его назначении, так что сторонники Орловых ничего не успели предпринять. Русские войска, остановленные в Смоленске, были подчинены князю Дашкову, которому предстояло поддержать истинных патриотов Польши в их стремлении утвердить конституционные свои права, о чей заботилась императрица. Имея в своем подчинении офицеров много выше его по званию, князь Михайла обязан был отчетом только самой государыне и своему дяде — Панину.
Однако энергичные и бескорыстные действия князь Михайлы (он снова тратил наши деньги на поддержание порядка в войсках, на лучшее их питание и обмундирование, удерживая от каких бы то ни было насилий в отношении местного населения) не способствовали изменению отношения ко мне императрицы. Видя ее неизменную холодность, я предпочла уехать в Гатчину, к моему двоюродному брату князю Куракину, тем более что государыня не предложила мне сопровождать ее в поездке в Ригу, куда направился весь двор. Двое маленьких детей, с которыми я осталась, совершенно оправдали в глазах двора мое решение.
— Граф, я вызвала вас к себе для конфиденциального и несомненно неприятного для вас разговора. Но обстоятельства складываются таким образом, что откладывать разговора я не могу.
— Ваше императорское величество, я готов принять от вас любую новость, и как бы она ни была тяжела, уверен, что она не вызовет в вас сомнения в моей преданности вашему величеству.
— Я рада слышать это, Петр Иванович, но Панины так тесно связаны с княгиней Дашковой, что вы можете оказаться недостаточно объективным в оценке поступков своей родственницы.
— Племянницы, и притом любимой племянницы, ваше величество.
— Вот видите! Между тем дело очень серьезно. Вы уж слышали от Елагина о письме, присланном графом Алексеем Орловым по поводу заговора Ивана Мировича. Вы знаете, что этот бунтовщик вознамерился освободить из заключения императора Иоанна Антоновича и возвести его на престол.
— Да, я осведомлен об этом безумстве, ваше величество. Но подобная попытка тем более нелепа, что высокородный узник не способен не только к управлению государством, но даже к простому человеческому общению. Слабость его ума очевидна.
— Не будем заниматься лекарскими разговорами, генерал, — дело не в них. Важно злонамеренное действие. Мирович, несомненно, имел сообщников, готовился к своему сумасбродному поступку.
— И все равно ничего не смог бы достигнуть.
— Возможно. Тем не менее я поручила произвести самое скрупулезное расследование, за которым последует публичный суд. Так вот все эти обстоятельства коснутся едва ли не в первую очередь вашей племянницы. Это ее, как сообщает Алексей Орлов, связывают с поручиком Мировичем: многие видели, как неоднократно он посещал дом княгини Дашковой, и делал это не скрываясь.
— Государыня!
— Не перебивайте меня, Пётр Иванович!
— Государыня, я все могу объяснить!
— Не заставляйте меня сердиться, генерал. Да, Елагин, которому я дала прочесть письмо Орлова, горячо вступился за княгиню и стал уверять меня в полной её непричастности к делу Мировича. Для меня это всего лишь пустые слова, и если говорить о доверии, я скорее поверю Алексею Григорьевичу Орлову, зная исключительную преданность мне всего их семейства. Однако Елагин сослался на вас, и я хотела бы непосредственно от вас услышать объяснения в пользу вашей племянницы.
— Мне не нужно давать таких объяснений, ваше императорское величество! Все объясняется очень просто. Располагая большим домом, княгиня Дашкова после отъезда своего супруга в полк предложила мне воспользоваться этой квартирой. Скучая одиночеством, она к тому же чувствовала себя в большей безопасности. Княгиня совсем закрылась от света, целиком посвятив себя материнским обязанностям, тогда как мой дом был всегда полон посетителей. Среди этих посетителей меня неоднократно навещал и поручик Мирович по поводу его находившегося в Сенате дела. В том, что Мирович искал моей поддержки, не было ничего удивительного. Он состоял адъютантом полка, которым мне довелось командовать в течение Семилетней войны.
— Расскажите мне о нем.
— Боюсь, мой рассказ окажется слишком коротким, ваше величество. К тому же в военных и мирных обстоятельствах человек бывает другим. В военных действиях поручик Мирович отличался храбростью, не всегда, впрочем, разумной, исполнительностью, но всегда искал способа не столько отличиться, сколько покрасоваться своей отвагой. Я бы сказал, порок молодости, который у одних с годами проходит, у других, к несчастью, остается и обращается в глупость. Мировича я бы отнес к этой последней категории.
— Но этого мало, Петр Иванович!
— Государыня, при всем желании я вряд ли могу что-либо добавить, разве что малую образованность поручика.
— И вы уверены, что княгиня с ним не встречалась? Хотя бы в ваших покоях?
— Безусловно уверен, государыня. Ей не было к тому случая. К тому же племянница не терпит подобного типа людей. Они представляются ей мужланами, не заслуживающими внимания.
— Ах да, ведь она у нас известная фам саванте! Однако ей удалось быстро найти общий язык с офицерами гвардейских полков, среди которых не так уж и много истинно образованных и достойных ее высоких требований людей.
— Ваше императорское величество! Катерину Романовну вела любовь к вам и желание видеть вас на российском престоле. Она из тех людей, которым идея придает необычные силы и способности.
— Идея, генерал? Но ведь идеи могут быть разными, и если одна исчерпала себя, можно с таким же рвением начать утверждать другую. Я готова вам поверить, Петр Иванович, хотя в самом по себе предположении ничего невероятного для Катерины Романовны нет.
— Тетушка, вы слышали, приехал курьер из Варшавы. Мне до сих пор не удалось с ним встретиться и что-либо узнать о князь Михайле. В конце концов, если граф Кейзерлинг и князь Репнин ничего не сообщат о нем в своих депешах, то его собственное письмо непременно должно быть. Если бы вы знали, как меня порадовало, что государыня называет князь Михайлу своим маленьким фельдмаршалом.
— Дитя мое…
— Нет, нет, тетушка, я понимаю, что так быстро одолеть влияние Орловых не удастся, но в будущем…
— Катенька, я просить тебя хотела.
— О чем угодно, тетушка, только разрешите сначала послать человека к курьеру, хотя бы Платошу.
— Катенька, погоди, не зови никого. Не надо, друг мой. Лучше мы с тобой сами в коляске проедемся.
— Чудесно! Мы тогда можем и в департамент заехать. Или вы дурно себя чувствуете, тогда я сама…
— Нет, мы вместе поедем. Видишь, и коляска уже готова. Ты так меня заговорила, что слова вставить не даешь.
— Да вам и впрямь нездоровится, тетушка. Как же я не обратила внимания, как вы сегодня бледны. Может, в коляске вам полегчает.
— Катя, Катенька, ни мне, ни тебе больше не полегчает. Судьба это, Катенька, судьба.
— Вы пугаете меня, тетушка! Случилось что? С князь Михайлой? Нет, нет, только не с ним! Захворал? Простудился опять? Говорила же я, чтоб себя берег, горло бы кутал…
— Тетушка права, Катенька, от судьбы не убережешься.
— Дядюшка, и вы дома, и вы, Никита Иванович! Так скажите же, ради Бога, что случилось? Князь Михайла…
— Да, Катенька, да. Сердце — вещун. Нет больше нашего князь Михайлы. Приказал долго жить, доконала его Польша, доконала!
— Осиротела ты у нас!
— Боже! Боже милостивый, за что? За что?
— Батюшки, чувств лишилась! Воды скорее! Уксусу!
— За врачом послать!
— Только бы ей выдержать…
— А в себя, братец, придет, каково-то ей, бедной, правду будет узнать. Ведь разорил ее князь Михайла, как есть разорил. За долги все имения продавать придется.
— Что говорить, жил не по средствам. Весь полк содержать хотел. Какие ужины да обеды задавал!
— Да ты, Петр Иванович, подумай, неужто государыня в их положение не войдет? Намекнуть бы ее величеству надо.
— А ты, Никита Иванович, что же сам не возьмешься? Ты наследника что ни день видишь, за столом с ним сидишь, государыне о его учебных делах докладываешь. Что ж ты, не будешь с ее императорским величеством говорить?
— И рад бы, Петруша, только, по совести сказать, всё дело испортить могу. Не жалует меня государыня. Терпеть терпит, а не жалует. Враги для нее Панины.
— Еще бы! Об интересах наследника хлопочут. О нем бы забыть вовсе, а Никита Иванович Панин просвещенного монарха из него сделать хочет, о конституции тоже думает.
— Вот и доктор, слава тебе Господи!
— Господин Крузе, на вас вся надежда!
— Что случилось? Отчего княгиня потеряла сознание? И как давно?
— Без малого час, и все наши усилия привести ее в чувство оказались бесполезны.
— А причина?
— Известие о кончине супруга. Князь Михайла Иванович скончался в Польше от жестокой лихорадки.
— Бедная княгиня! И это после таких тяжелых родов. Можно было только надеяться, что вызванный ими паралич левой руки и ноги со временем уступит, хотя и трудно было поручиться за полное выздоровление, но теперь — теперь нервическая горячка мне представляется неминуемой. Дай Бог княгине выдержать еще и это испытание. С кем живет княгиня?
— Одна с детьми, но мы не отпустим ее из своего дома, доктор, и заберем детей сюда. Нам легче будет ухаживать за больной.
— Но я обязан вас предупредить: болезнь может оказаться очень затяжной, а графиня сама недомогает, и очень серьезно.
— Полноте, доктор, моя болезнь имеет медленное течение, и избавиться от нее мне вряд ли когда-нибудь удастся. Чахотка никого не выпускала из своих объятий. Но я сейчас на ногах и хочу сама присмотреть за нашей больной.
— К тому же у княгини есть сестры и батюшка. Они несомненно захотят прийти ей на помощь. Забот здесь будет достаточно. Даже самый поверхностный осмотр позволяет сказать, что княгиню не так легко будет привести в чувство, и ее беспамятство, как и жар, скорее всего продлятся несколько дней.
— В том-то и дело, что рассчитывать на сестер и графа Романа Ларионовича княгиня никак не может. Граф Роман предпочитает жизнь в имении и вряд ли нарушит свои привычки — он привык к холостяцкому быту, а сестры… Графиня Бутурлина обременена собственным семейством, что же касается графини Елизаветы Романовны…
— О, понимаю, понимаю. Тогда я в самом деле пребывание в вашем доме будет для княгини наиболее благоприятным. Однако приготовьтесь к терпению и мелочному выполнению моих предписаний. Их будет множество.
— Ваше сиятельство, простите великодушно, но не разрешите ли вы и мне остаться около Катерины Романовны. Все месяцы отсутствия князь Михайлы я оставалась с княгиней. Княгиня привыкла мне доверять, а я, я не спущу глаз с больной.
— Мне остается лишь поблагодарить вас, госпожа Каменская. Покой для вас, конечно, найдется, я вы снимете большой груз с моего сердца, ибо передоверить столь великую заботу моей супруге мне казалось бы слишком рискованным. Еще раз благодарю вас, и милости просим.
…Оставить княгиню в столь трудный для нее час… Нет, с ней следовало остаться. Я была уверена, никто не заменит моих дружеских попечений, тем более что картина трагедии дашковской семьи становилась день ото дня более мрачной. Затянувшееся на неделю тяжелое беспамятство, обострившийся паралич руки и ноги, которыми она совершенно перестала владеть, наконец, постепенно доходившие известия о материальном благосостоянии князя воистину повергали в отчаяние. Графы Петр Иванович и Никита Иванович Панины пришли в ужас от состояния наследства князя Михайлы Ивановича. На что бы он ни тратил семейные средства, его мысли были далеко от будущего его детей. Князь Михайла не нашел ничего лучшего, как написать перед кончиной письмо графу Петру Ивановичу и просить Панина стать опекуном осиротевшей семьи. Он винил себя в полном расстройстве денежных обстоятельств и надеялся только на то, что граф сумеет расплатиться с многочисленными кредиторами, сохранив для вдовы хотя бы самый ничтожный достаток, который позволил бы воспитать сына и дочь. В силу занятости государственными делами граф Петр Иванович не решился взять на себя подобные обязательства, привлек к опекунству графа Никиту Ивановича, но и вдвоем они предпочли привлечь княгиню, ссылаясь на то, что все время находятся в Петербурге, тогда как она проводит время в Москве и может лучше досмотреть за имениями. Их действия вряд ли свидетельствовали о достаточной опытности в хозяйственных делах — для этого оба графа слишком богаты, они никогда не испытывали нужды. К тому же они решили воспользоваться и в этом деле милостью императрицы, которая, впрочем, не проявила никакого сочувствия к княгине и не озаботилась состоянием своих же крестников.
По специальному ходатайству обоих Паниных императрица подписала указ, разрешающий продать все поместья Дашковых казне. Насколько можно было понять из общих разговоров, вся надежда была на то, что императрица вместе с подписанием указа определит для осиротевшего семейства какой-нибудь пенсион. Этого не случилось. В то же время княгиня не захотела лишать своих детей наследственных имений. Она возмутилась указом и выразила желание сама управлять всеми имениями, сократив любые расходы, с тем чтобы в будущем приобрести возможность удовлетворить кредиторов. Все уговоры Паниных оказались тщетными, и мне показалось, что оба графа вздохнули с облегчением, переложив ответственность за опеку на одну княгиню. Их не взволновало и то обстоятельство, что наиболее настойчивым кредиторам княгиня принуждена была отдать все фамильное серебро и драгоценности. Она удовлетворилась четырьмя кувертами, которые сохранила для детей, и очень торопилась отъездом из Петербурга, тяжело переживая общее безразличие к ее бедственному положению. Но отъезд этот постоянно откладывался то из-за медленно происходившего выздоровления самой княгини, то из-за болезней детей. Нарыв в горле — болезнь, унаследованная от отца, — едва не унесла сына княгини, и только искусная операция, которую произвел хирург Кельхен, вернула его к жизни.
Несмотря на нежелание княгини обременять меня своими заботами, я пустилась в путь в Москву вместе с ней по последнему санному пути. Княгиня радовалась неупущенной возможности добраться до старой столицы. Сила ее духа была столь велика, что когда по приезде нашем в деревню выяснилось, что барский дом совершенно непригоден для жилья, княгиня немедленно распорядилась выбрать из разобранного сруба пригодные для строительства бревна и из них соорудить небольшой дом. Мысли о гостях и приемах она не допускала — для этого те пятьсот рублей, которые оставались на жизнь семьи, были слишком недостаточны, — а Катерина Романовна слишком горда, чтобы кому-то признаться в своих стесненных обстоятельствах. Но даже она не могла предположить, что этот скромный дом станет ее единственным пристанищем на многие месяцы. Пребывание в Москве стало для княгини невозможным, потому что городскую усадьбу Дашковых, где свекровь принимала Катерину Романовну и князь Михайлу, старая Дашкова сочла нужным подарить своей внучке. Сама старая княгиня после смерти единственного сына удалилась в монастырь, отрешившись от всех мирских забот, и в их числе от попечения над внуками. Не вступая в объяснения, Катерина Романовна предпочла оставаться в деревне до тех пор, пока обстоятельства не позволили ей приобрести в Москве собственный, хотя и небольшой, особнячок. Расставаясь со мной, княгиня сказала, что если судьба назначила ей быть сиделкой и гувернанткой собственных детей, то почему она не может стать и хорошей хозяйкой, чтобы вернуть детям то место в обществе, которое должно им принадлежать по их происхождению. Княгиня не выглядела ни подавленной, ни угнетенной и даже пошутила, что деревенская тишина возвращает ей счастье погрузиться в любимые книги, от которых она так долго была оторвана. Единственная ее просьба сводилась к тому, чтобы я прислала ей целый список новых изданий, за который она заплатила деньги вперед. До тех пор, пока со мной мои дети и мои книги, сказала княгиня, я могу чувствовать себя покойной и удовлетворенной. Вам пригодилось бы и немного счастья, добавила я, на что княгиня, покачав головой, заметила, что положенное ей судьбой личное счастье она пережила и ни о каком другом заботиться не будет. Оно было велико, сказала княгиня, но и потребовало очень высокой цены, которой второй раз мне не хватит сил заплатить. Возвращаясь в Москву, я невольно подумала, что княгине исполнилось всего двадцать два года.
— Анна Карловна! Ваше сиятельство! Княгиня Дашкова пожаловать изволила. Прикажете принять?
— Наконец-то! Долгонько ты, Катерина Романовна, до дядюшки добиралась, так что и преставиться Михайла Ларионыч наш успел.
— Тетушка! Я в отчаянии. Кончина дядюшки оказалась такой неожиданной, что в нее совершенно невозможно поверить.
— Тем не менее, как видишь, она случилась, и только она привела тебя в воронцовский дом.
— Вы несправедливы ко мне, тетушка. Моих дочерних чувств к вам и дядюшке никакое время не может ни ослабить, ни изменить. Моя жизнь после кончины князь Михайлы стала слишком сложной.
— Но тебе никто не мешал избавиться от поместий и спокойно жить на вырученные деньги.
— И лишить моих детей наследственных владений? Нет, тетушка, я знаю, как бы это огорчило их отца.
— Отец, скорее, должен был думать о ваших огорчениях, оставив мать с детьми без средств к существованию. Только твоя молодость может объяснить твое невнимание к его делам. Все при дворе знали неспособность Дашкова считать деньги.
— Тетушка, я подняла этот вопрос лишь для того, чтобы оправдаться в своем мнимом невнимании к вам.
— Как же ты устроилась в своем Михалкове? Слыхала, никогда там не было путного дома, но и он будто развалился.
— Я велела себе построить небольшой, которого вполне достаточно для наших потребностей.
— И это ты, Катя, которую мы воспитали во всяческой роскоши и удовольствии! Как же поспешила ты со своим браком! Кабы узнала заранее про все молодечества да амуры князя…
— Тетушка, Бога ради! Я твердо верю, что браки свершаются на небесах. Вы правы, если бы я имела сведения о жизни князь Михайлы, я бы не стала его женой. Но Богу было угодно сохранить меня в неведении, и те годы, что мы прожили в супружестве, стали самыми счастливыми моими годами.
— Не стану спорить, Катенька. Может, и твоя правда. Вон об Александре Сергеевиче, кажись, не то что мы, сама покойница императрица каждую мелочь вызнала. И богат, и образован, и обходителен, и при дворе отлично принят, и в пороках никаких не замечен, ан на-поди, не принес счастья Аннет. Куда уж дальше, коли в дом родительский предпочла вернуться.
— Неужто навсегда? Быть не может!
— Может, Катенька, может. Даже писаться девичьей фамилией стала — Воронцовой себя называет, а Строгановой по несчастию. Ты-то, я знаю, графу благоволишь. Да и то сказать, в чем не разошлись наши с тобой взгляды. Наше семейство покойному императору преданность хранило, ты его супругу выбрала, в заговор замешана была, только что тебе из того вышло?
— Я не искала корысти.
— Знаю, все знаю, да справедливость-то должна быть.
— Вспомните вашу с дядюшкой жизнь, тетушка!
— И ее помню.
— А государыня, покойница, вам кузиной приходилась.
— Только знаешь о чем, Катенька, мы иногда с дядюшкой твоим толковали? Не было счастья Воронцовым при дворе. Всем. О тебе не говорю.
— Разве государыня не сохранила за дядюшкой чин великого канцлера, хоть он попервоначалу от присяги отказался?
— Сохранила, верно. Полтора года Михайла Ларионыч канцлером оставался, да что толку — на словах ведь, не на деле. Потому и сидел сиднем дома, больным сказывался. Каково это ему было аудиенции царской просить, когда, окромя него, вся шелупонь в личные покои и днем и ночью входить могла! А через полтора года не сам отставки попросил — намек получил, потому мы тем же часом в Москву и переехали. Два года здесь провели. Извелся, мой голубчик, как извелся, подумать горько.
— Но ведь поначалу государыня и с вами благородно обошлась.
— Благородно? Забыла, видно, ты, как сама Анна Карловна Воронцова с себя кавалерию сняла да ее императорскому величеству вернула. Мол, раз от покойницы получила, то теперь она мне ни к чему.
— Помню, тетушка. Все тогда толковали, что государыня сама вам эту кавалерию снова надела. Да и в торжествах коронационных вы государыне ленту Андреевскую да мантию оправляли — честь из всех кавалерственных дам самая отличная.
— Что ж за диво? Как-никак не столько Воронцову, сколько графиню Скавронскую уважила, родную племянницу императрицы Екатерины Алексеевны. Опасалась за себя — вот и уважила.
— Неужто вы такой расчет в государыне полагаете?
— А ты что, доброе сердце? Так уж это ты на себя посмотри. Да что ты! У вас с государыней счеты особые. А каково Аннет приходится? Сама знаешь, о разводе хлопотать мы начали. Велико ли дело — помочь, так наотрез отказала. Как, мол, Синод да законы. Главное, чтобы по закону было. Что мужа удавить, что законного императора Иоанна саблей зарубить. По закону!
— Осведомлен ли ты, братец Петр Иванович, что ваша Катерина Романовна в дальний путь собралась? Не сидится ей в Москве, да и только.
— Осведомлен, Никита Иванович. Более того скажу — недавно письмо от нее получил. Просилась наша княгинюшка в заграничный вояж, о паспорте ходатайствовала, да помочь я ей не смог — государыня и слышать не захотела.
— Что ж мне не сказал? И откуда мысль такая — о вояже?
— Засиделась Катерина Романовна в деревеньке-то своей. Каково это при ее образованности с мужиками, бревнами да коровниками дело иметь? Да и детки хворают. Писала, английская болезнь у них. Доктора советуют на курорт какой европейский свозить.
— А государыня? Объяснил ты ей?
— Какое! Сразу отрезала, что ничего знать о княгине Дашковой не желает, что сама себе она виновата — характер, мол, несносный.
— Да-с, плохо.
— Не то плохо, что государыня сказала, того хуже, что княгинюшка наша все равно на своем стоит. Не в Европу, так в Киев отправится.
— С детьми?
— С детьми.
— А жаловалась, что денег у нее нет.
— Так она придумала, чтоб дешевле вышло, на своих лошадях ехать. Дольше, мол, зато не так дорого и по дороге все осмотреть можно.
— Лишь бы государыне не доложили.
— Не сомневайся, доложат.
Из множества советов, на которые не поскупились родные как в Москве, так и в Петербурге, я не смогла воспользоваться ни одним, потому что все они сводились к тому, чтобы я возвращалась ко двору или, в крайнем случае, оставалась в имении. И то и другое решения предполагали попытки восстановления моих отношений с императрицей. В Петербурге мне следовало все сделать, чтобы вернуть былое расположение государыни, тихим же подмосковным житьем доказать необходимость забот о детях, что могло несколько извинить в ее глазах мое затянувшееся отсутствие при дворе. Подобные дипломатические сочинения принадлежали обоим Паниным, но никак не перекликались с моим собственным состоянием. Бороться за место рядом с государыней мне претило, рассчитывать же на внимание с ее стороны, судя по прошедшему времени, уже не приходилось. К тому же власть и влияние Орловых казались безграничными.
Решение съездить в Киев пришло достаточно внезапно, но очень счастливо вместе с письмом Федора Матвеевича Воейкова, киевского губернатора и родственника князь Михайлы. В свое время мне доводилось его встречать в доме дядюшки Михайлы Ларионовича в связи со службой его в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра в Варшаве. Высокая образованность, острый ум и неистощимое веселье делали господина Воейкова незаменимым собеседником, в котором я как нельзя более испытывала необходимость. К тому же Федор Матвеевич предлагал мне не только гостеприимство и опеку, но и собственное товарищество для осмотра достопримечательностей Киева и его окрестностей. А если еще добавить к этому мое неистребимое любопытство в отношении основанных государыней немецких колоний, которые представлялась возможность осмотреть, то ничего удивительного, что решение о путешествии было принято прежде, чем я дочитала любезное письмо. Возраст моих малюток меня не смущал, так как, едучи на своих лошадях, я могла взять с собой нужное количество людей для заботы о себе и о них.
Любезность милого хозяина превзошла все мои ожидания. Преклонный возраст не препятствовал ему быть постоянным моим спутником при осмотре всех достопримечательностей киевских. Мы побывали в великой Софии, провели немало времени в Киево-Печерском монастыре. Федор Матвеевич обращал мое внимание на ценнейшие фрески и мозаики, и, может быть, впервые я по-настоящему заинтересовалась нашими древностями, великой историей, к которой Воейков был причастен. Рожденный в год основания Петербурга, он в числе других дворянских недорослей отправился, по решению Петра Великого, за границу для обучения. Успехи в занятиях рано предоставили ему должность губернатора в Риге, после чего последовала служба в Варшаве и участие в Семилетней войне, когда Федор Матвеевич занимал должность генерал-губернатора Кенигсберга. Назначение губернатором киевским и новороссийским последовало сравнительно недавно, но Воейков уже превосходно разбирался в делах порученного ему края. Он постарался привлечь мое внимание и к положению образования под его руководством. Киев издавна славился своим университетом и Духовной академией, где обучение проводилось совершенно бесплатно, и более того — наиболее способные и старательные студенты могли рассчитывать на всяческую материальную поддержку и поощрение.
Затянувшееся на три месяца пребывание в Новороссии окончательно утвердило меня в желании посетить европейские страны. Как дворянка я имела право на подобное путешествие, но должность статс-дамы обязывала заручиться согласием императрицы. Мои дяди Панины не находили возможным снова и снова беспокоить ее императорское величество моими делами, и я решилась похлопотать о себе сама, отправившись в Петербург. Просить аудиенции я не хотела, сознавая, что к тому же могу столкнуться с отказом, который еще раз унизил бы мою гордость. Придуманная мною хитрость была рассчитана на привычки императрицы, о которых рассказывал Петр Иванович Панин. Во время празднования годовщины восшествия на престол в Петергофе государыня непременно должна была подойти к державшимся обычно в стороне иностранным послам. Я загодя присоединилась к ним, поскольку с большинством была лично и достаточно коротко знакома. Подойдя к послам, государыня не могла совсем обойти меня вниманием. Обращенная ко мне ничего не значащая фраза послужила для меня поводом, чтобы сразу же высказать свою просьбу о разрешении на заграничное путешествие. Государыня не стала скрывать своего неудовольствия, но окружение из послов сделало свое дело. Поскольку я ссылалась в своей просьбе на плохое здоровье детей, ее императорское величество пожалела об этом прискорбном, по ее словам, обстоятельстве и выразила согласие. Не теряя времени, я известила об этом дядю Петра Ивановича Панина и получила долгожданный паспорт. Впрочем, отъезд смог состояться только через полгода, и все же неизбежные хлопоты были скрашены для меня предчувствием независимости на протяжении целых двух лет — просить о большем сроке было одинаково бесполезно и небезопасно, чтобы окончательно не разгневать императрицу. Ограниченность в материальных средствах я рассчитывала преодолеть путешествием под чужим именем, что освобождало меня от обязательных светских визитов и связанных с ними немалых трат. Вместо княгини Дашковой Россию покидала некая госпожа Михалкова, выбравшая себе имя по родовой деревеньке в ближайших окрестностях Москвы. Знакомство с разными городами должно было позволить мне остановиться на том из них, где можно было бы наиболее удобно и недорого прожить и заняться воспитанием детей, чьей единственной воспитательницей в России я продолжала оставаться. А почтовые лошади, на которых я решилась ехать, не должны были избыточно обременить мой карман. Оставалось удивляться, что императрица помнила о моем отъезде и накануне его прислала ко мне в дом помощника секретаря своего кабинета со смехотворной суммой в четыре тысячи рублей, которой якобы могло хватить на заграничные расходы. Удержавшись от горьких слов, я попросила чиновника оплатить из этой суммы лежавшие у меня под рукой счета моего седельника и золотых дел мастера, с тем чтобы оставшиеся деньги он взял за труд себе. Уезжавшая вместе со мной госпожа Каменская испугалась и в этом случае гнева императрицы, который мог бы помешать нашему отъезду. Однако никаких проявлений гнева императрицы не последовало, скорее всего потому, что чиновник предпочел сохранить в тайне доставшуюся ему немалую сумму.
— Вот и славно, Катенька, что не одна поедешь. Хоть и не совсем с Артемием моим Ивановичем вам по пути, а все-таки в Германии с ним окажешься. Нам спокойней, да и тебе, поди, тоже.
— Еще бы! Спасибо, что назначение такое кузену вышло — атташе в Гааге, хорошее начало в его-то годы.
— Тем паче неплохое, что живем мы безвыездно в Москве, при дворе ни связей, ни заступников. Кто там Ивана Ларионовича Воронцова вспомнит! Никогда-то мы с супругой места себе при дворе не искали, и вдруг бы теперь принялись.
— Слава Богу, дядюшка, у вас в Москве свой двор, иному монарху европейскому на зависть. Поди, без малого всю Рождественку откупили?
— Всю не всю, а сорок дворов скупил. А как же? Коли сад на версальский манер разбить, место требуется. Вот и поприглядел, что в округе прикупить можно.
— Отлично как получилось! И боскеты, и фонтаны, и гроты. На одни статуи не налюбуешься. Да как быстро все сделалось.
— Да в России нашей все так: было бы денег побольше да догляд построже, так чудеса делать можно. Вспомнилось мне, Катенька, как отлично крестный-то твой, император покойный, свое правление начинал. Знаю, знаю, какая ты ему противница была, только от правды никуда не уйдешь.
— О чем вы, дядюшка?
— О вольности дворянской — чтоб служить нам, дворянам, только по собственному желанию, в охотку. У меня охоты-то не было, я Москву и предпочел.
— А кроме вольности?
— И кроме вольности есть о чем добром его вспомнить. Не забыла, как Кирилу Разумовского сразу по кончине блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны в Тайный приказ потянули? Думал, бедняга, конец ему пришел. Ан нет! Подержали, порасспросили, да и выпустили.
— Так его государь не за бывшего фаворита расспрашивать стал, а что с Иваном Ивановичем Шуваловым дружил, Академию художеств да университет поднимать ему помогал.
— Вот-вот, как разобрался, что к чему, так и отпустил, никого ведь не душил, саблей не сек.
— Но грозился!
— Э, матушка, слово делу неравно, и толковать нечего.
— Понимаю, что вы имеете в виду, дядюшка, только разве императрица не многомилостива?
— Многомилостива, да к кому? Ты что ж про Дарью Ивановну Салтыкову, про Салтычиху знаменитую, не вспоминаешь? Сколько лет без суда сидит.
— Суд, поди, идет.
— То ли идет, то ли его обходят. Без малого полтораста человек душегубица прикончила. Собственные имения оголила. Как только людей не мучила, а суда все нет как нет.
— Но ведь совершился же суд. И к заключению ее до конца ее дней приговорили, и поместья лишили, и дворянства. Даже женщиной называться и то запретили.
— Поздновато, Катерина Романовна, куда как поздновато. А почему? Потому что не справедливость монархине важна, а расчет.
— Дядюшка, никогда с вами не соглашусь!
— Да ты послушай, а потом не соглашайся. Чего ждала государыня, сама подумай. Семь лет Салтычиха лютовала, семь лет о ней государыне докладывали, только понадобилось, чтобы Иоанна Антоновича, упокой, Господи, душу мученика, не стало, старшей ветви государя Алексея Михайловича конец положен был. Ведь Дарья-то Ивановна из салтыковской семьи, в самом что ни на есть прямом родстве с Иоанном Антоновичем.
— Полноте, дядюшка!
— Чего ж «полноте». Ты хоть то припомни, что родная сестрица Дарьи царевне Прасковье Иоанновне золовкой приходится: обе за родными братьями Дмитриевыми-Мамоновыми замужем. Покуда Иоанн Антонович жив был, лучше выходило родню его московскую не трогать. Не стало страдальца, и Дарье приговор вышел.
— Но вы же сами, дядюшка, вернее, супруга ваша от Анны Иоанновны какие беды претерпела.
— Так что ж, после того и справедливость забыть? Нет, Катерина Романовна, закон тогда цену имеет, когда для всех один. А коли каждый его по своему разумению применять начнет, не выбраться нам из казней да убийств.
— В благородстве ваших чувств, дядюшка, я никогда не сомневалась.
— Вот и спасибо на добром слове. А что за границу собралась, может, и не так уж плохо. Все говорят, — конец орловской империи приходит. Не нужны братцы более императрице. Случая, толкуют, ищет, чтоб избавиться от всего семейства. Разумовские хоть жадными не были, а эти так ко всему руки и тянут. Бог даст, к твоему возвращению не будет братцев. Глядишь, и ты опять в доверие да любовь государыни войдешь. Тебе оно не помешает, чем так одной с детишками, как рыба об лед биться.
— Полноте, дядюшка, это без привычки трудненько приходилось, а теперь-то я уж и справляться начала. Порядок какой-никакой по имениям навела. С долгами князь Михайлы полностью расплатилась.
— Неужто со всеми?
— Со всеми. Чтоб на детях моих не висели.
— Умница ты наша! Да вот спросить тебя забыл: как путешествовать-то собираешься? Денег у тебя хватит ли?
— В долг бы не поехала.
— Все так, да только правду ли говорят, будто дом свой петербургский, княгинюшка, ты к продаже назначила?
— Правду, дядюшка. Пока вояжировать буду, мне доверенный человек это дело охлопочет.
— Да как же без дома-то? Вернешься, где жить станешь? Неужто квартиру снимать? Ты, княгиня Дашкова?
— Я в Москву вернусь. В Москве дом есть. Один отстроила, другой рядом прикупила.
— О дворе не думаешь?
— Не думаю.
— Ну и ладно. Да, впрочем, чего наперед загадывать! Доброго тебе пути, племянница.
Глава 11 Начало странствий
Среди множества впечатлений, которые, без сомнения, ожидали меня в пути, я положила не пропустить ни одного, связанного с нашей российской историей. Сведения, полученные от дядюшки Михайлы Ларионовича, составили целую историческую энциклопедию, которую теперь случай предоставлял мне возможность существенно пополнить, тем более живыми картинами. Госпожа Каменская охотно поддержала меня в моем желании, и долгие часы езды в душном возке мы коротали рассказами и воспоминаниями. Несколько дней, проведенных исключительно для отдыха в Риге, настроили нас на соответствующий лад, и приглашение графини Амалии-Шарлотты Кейзерлинг провести неделю у нее в Кенигсберге пришлось как нельзя кстати. Имя Кейзерлингов постоянно звучало в воронцовских домах, начиная со злосчастного Германа Иоганна, прусского посланника при дворе Петра Великого, столько лет домогавшегося брака с бывшей царской любовницей Анной Монс и сохранявшего, несмотря на все запреты и выражения недовольства государем, верность своему чувству. Согласие на брак Анны государь дал лишь после того, как состоялось его бракосочетание с государыней Екатериной Алексеевной. Но конец долгого ожидания оказался далеко не счастливым. Бракосочетание состоялось, однако через несколько месяцев после него молодая графиня стала вдовой. Госпожа Каменская восхищалась этой историей, тогда как меня куда более интересовали недавно скончавшийся Герман Карл Кейзерлинг и близкий друг Фридриха Великого полковник Дитрих Кейзерлинг, памяти которого просвещенный монарх посвятил несколько превосходных стихотворений, в которых называл его Цезарионом. Для многих Герман Карл Кейзерлинг остался в памяти как человек, способствовавший появлению при дворе вдовствующей герцогини Курляндской Анны Иоанновны Эрнеста Бирона, чем заслужил приглашение на русскую службу сразу же по вступлении на престол этой императрицы. Дядюшка Михайла Ларионович почитал графа как одного из блестящих дипломатов, который по поручению императрицы Елизаветы Петровны успешно способствовал облегчению положения православных славян в границах Римской империи. Мне довелось прочесть несколько его книг, в том числе заинтересовавшую меня особенно историю королевской Берлинской академии наук. Подобная тема была близка автору, поскольку граф очень недолго, но на редкость успешно возглавлял Российскую академию наук. Срок в несколько месяцев — с середины до конца 1733 года, — казалось, не давал возможности президенту показать свои качества. Тем не менее граф Кейзерлинг сумел упорядочить академическую отчетность, всегда славившуюся своей запутанностью, получить от императрицы огромную сумму на покрытие академических долгов, составить очень подробную инструкцию об управлении Академией и взять на службу Василия Тредьяковского, которому поручил принять все меры к очищению русского языка и поэтического и обиходного. Забота графа о языке была так велика, что он специально обратился к составлению российской грамматики, которая была поручена Василию Ададурову. Теперь мне предстояло познакомиться с его сыном Генрихом Кристианом, часто выполнявшим отдельные поручения русского двора и успешно пробовавшим свое перо в сочинениях исторических, в частности касавшихся положения и прав Курляндии. Мои сведения, полученные в свое время от Ададурова, существенно пополнились рассказами вдовы графа Германа Карла, живо помнившей все перипетии академических дел своего супруга. Передо мной предстали как бы две стороны медали, потому что мне довелось достаточно подробно разговаривать и с Василием Евдокимовичем Ададуровым, обучавшим русскому языку государыню в бытность ее великой княгиней. И если сегодня никто бы не мог упрекнуть императрицу в незнании русского языка или неправильных его оборотах, то это было делом педагогического таланта Ададурова, выполнившего поручение графа Кейзерлинга и составившего российскую грамматику. Многие говорили, что в выполнении столь нелегкого труда ему немало помогали его способности математика и соответствующая упорядоченность мышления. Господин Ададуров был адъютантом Академии наук по математике, учеником и помощником знаменитого Бернулли. Государыня сразу же по своем вступлении на престол вернула былого учителя из ссылки, которую он отбывал по воле императрицы Елизаветы Петровны в Оренбурге, и тотчас же назначила куратором Московского университета.
Ученые разговоры и воспоминания отвлекли меня от осмотра достопримечательностей Кенигсберга, с которыми я познакомилась куда более поверхностно, чем первоначально намеревалась. Зато Данциг — следующая длительная остановка на нашем пути — предстал перед нами во всем своем великолепии. Причудливая архитектура со множеством лепнины и позолоты, открытые каменные террасы, выступающие на улицы и предваряющие вход в богатые дома, огромные храмы, и особенно Мариацкий костел, под сводами которого, по уверению местных жителей, могут одновременно молиться до десяти тысяч человек, фантастическое сочетание просторных улиц, скорее похожих на площади, с улочками, где с трудом расходятся двое прохожих, никого не могли оставить равнодушными.
Русский посланник в Данциге господин Ребиндер, ставший нашим любезным хозяином и потрудившийся самолично показать нам город, живо напомнил о событиях, связанных с Петром Великим. В 1716 году на этих улицах праздновалось бракосочетание царевны Екатерины Иоанновны с герцогом Мекленбургским, были выставлены для народа жареные быки, набитые всякой птицей и дичью, били фонтаны из вина, кружились карусели, происходили всяческие игры и состязания. Господин Ребиндер говорил, что среди этих игр государю не понравилась очень любимая в Англии игра — бокс, так что он даже, не досмотрев, с гневом вышел из павильона, где она происходила, оставив организаторов праздника в полном страхе. Дело в том, что бракосочетание царевны стало предлогом для встречи государя с королем Польским курфюрстом Саксонским и для установления контрибуций с Данцига, как города, державшего руку шведов в только что закончившейся Северной войне. Гнев государя мог обойтись повышением контрибуции, чего так боялись старшины города. Но вместе с тем они оказались непреклонны, когда государь предложил вместо контрибуции взять единственную вещь — алтарь с изображением Страшного суда из Мариацкого костела кисти какого-то нидерландского художника. Алтарь этот так понравился государю, что он неоднократно возвращался к своему предложению, но не смог ничего добиться. Старшины города твердо стояли на своем, что «Страшный суд» представляет достояние города и расстаться с ним ни на каких условиях они не могут.
В свою очередь, мне пришлось столкнуться в Данциге с живописью, крайне меня возмутившей. В превосходной гостинице, носящей название «Россия», я увидела несколько полотен, изображающих батальные сцены, где прусские войска одерживают победу над русскими, причем русские солдаты и офицеры умоляют торжествующего противника о снисхождении и сохранении им жизни. Мое возмущение не имело границ. От господина Ребиндера я узнала, что этими картинами ранее возмущался и побывавший здесь граф Алексей Орлов, ничего тем не менее не сделавший, чтобы положить конец подобному позорищу. Не имея лишних денег, чтобы предложить хозяину гостиницы покупку этих полотен, я велела приобрести кисти и краски, и в течение нескольких часов вместе с моими добровольными помощниками из числа моих дорожных спутников мы перекрасили русскую форму солдат в прусскую и наоборот, придав тем самым картинам совершенно противоположный смысл — победы наших доблестных войск над пруссаками. Трудно себе представить последующие действия хозяина, когда он увидел подобную метаморфозу. По счастью, это должно было произойти уже после нашего отъезда. Пока мы оставались в гостинице, вход в комнату с картинами был для прислуги закрыт под предлогом размещения в ней моих личных вещей и сундуков.
— Вот вы и в Берлине, княгиня!
— О да, ваше величество, и к тому же имею счастье говорить с самим Фридрихом Великим.
— Тем не менее вы сделали все, чтобы этого счастья, как вы выражаетесь, не иметь. Я знаю от графа Финкельштейна, что вы придумывали всяческие отговорки, чтобы не оказаться в королевском дворце. Чем это объяснить?
— Ваше величество, я слишком уважаю этикет прусского двора и знаю, что согласно ему никто не может быть представлен лицам императорской фамилии не под своим именем.
— Для вас так важны правила этикета, княгиня? Я представлял себе вас более свободомыслящим человеком.
— Мне трудно судить о собственном свободомыслии, ваше величество. Скорее, я стремлюсь к свободе действий, насколько это не противоречит правилам общежития и не наносит ущерба свободе действий других.
— И тем не менее это стремление вы так легко подчинили смешным канонам придворной жизни.
— Они не представляются мне смешными, ваше величество, поскольку их строгое соблюдение позволяет мне выразить мое уважение и к стране, и к правящему ею государю.
— Полноте, полноте, княгиня! Для вас и я сам, и члены моей семьи рады сделать исключение. Вы заслуживаете его.
— Я бесконечно благодарю вас, ваше величество, за столь лестный отзыв о моей скромной персоне, но он не дает мне права не иметь соответствующего придворного туалета, которого я не брала с собой в дорогу. К тому же его нельзя совместить с трауром, который я ношу по мужу.
— Вы давно овдовели, княгиня?
— Четыре года назад, государь.
— Четыре года? Тогда ваше платье тем более должно быть драгоценно в глазах окружающих. При нынешней свободе нравов ваш пример может быть для многих куда как полезен.
— Еще раз благодарю, ваше величество, за любезность.
— А кстати, княгиня, знаете ли вы, что ваше стремление к свободе мне по-настоящему родственно? По всей вероятности, вы слышали о планах моего побега к родственникам моей матери в Англию, когда я достиг шестнадцати лет. Мне было трудно мириться с деспотизмом отца и тем бесправным положением, в котором он держал меня, кронпринца. Замысел в таком возрасте не мог отличаться ни достаточной серьезностью, ни продуманностью. Меня поддерживали всего лишь два моих товарища, два находившихся на прусской службе дворянина. Брат одного из них, маленький паж, выдал наши планы отцу, и расплата могла бы быть ужасной. Впрочем, она таковой и была. Один из моих товарищей поплатился жизнью, другой был заочно приговорен к казни. Меня ждало заключение, а затем жизнь в Кюстрине, где я работал в качестве мелкого чиновника.
— Ваше величество, шестнадцать лет действительно очень молодой возраст, но мне было всего девятнадцать, когда на престол вступила ныне благополучно царствующая русская императрица.
— А вы сыграли в этом немалую роль, хотите вы сказать? Что ж, женский ум раньше достигает зрелости, тем более чувства, которые одни только и способны управлять ею.
— Я не склонна преувеличивать своей роли в разыгравшихся в Петербурге событиях, ваше величество.
— Предоставьте судить об этом посторонним наблюдателям — их суд будет вернее. Кстати, мое наказание, в конечном счете, пошло мне только на пользу, и сегодня я только радуюсь тому, что оно имело место.
— Вы имеете в виду формирование характера?
— И это тоже, но не только. Мне довелось практически познакомиться с системой государственного устройства и хозяйственного управления страной. В хозяйственных и экономических вопросах для меня не осталось секретов. Наглядные уроки всегда дороже теоретических.
— Особенно в условиях самостоятельности.
— И вы так считаете, княгиня?
— Мне пришлось столкнуться с хозяйственными проблемами, потеряв мужа, на практике собственных имений.
— И вы справились с ними?
— Думаю, что да.
— Великолепно! Чего же теперь вы ждёте от Европы?
— Очень многого. Прежде всего образования своих мыслей и чувств, которое невозможно без общения с выдающимися умами своего времени. Наша государыня ищет переписки с Дидро и Вольтером, я думаю, исходя из вашего примера, ваше величество.
— И она права. Одна переписка с Вольтером питает мою душу много больше, чем чтение десятков новых книг. Он гениальный философ, но и не менее гениальный собеседник, всегда умеющий подсказать своему оппоненту то, в чем тот больше всего нуждается.
— Я мечтаю о встрече с ним!
— Нет ничего проще. Я напишу о вас, и уверен, Вольтер будет в восторге от возможности познакомиться с вами. Но приготовьтесь, княгиня, к тем проявлениям скептицизма, которые свойственны патриарху нашему, как, впрочем, и мне, его верному ученику.
— Что вы определяете как скептицизм, ваше величество? Если ваше величество подразумевает под ним всю перемену прусского уголовного производства, которая теперь здесь осуществлена, отказ от пыток, введение веротерпимости, государственные гарантии свободы исповедания каждой религии, наконец, покровительство Берлинской академии…
— Вы хорошо осведомлены о наших делах, княгиня.
— Это естественно. Деяния единственного в Европе монарха-философа не могут не интересовать общество.
— А мои войны? Они коснулись едва ли не всех европейских стран.
— Ваше величество, войны — неизбежная форма государственной политики, горестная, но тем не менее неизбежная. Человечество еще не нашло способов мирного решения своих споров, которые, кстати сказать, всегда ведутся правительствами, а не народами. Народы остаются во всех случаях страдающей стороной, тогда как монархи обретают их ценой место в истории.
— Вы беспощадны, княгиня.
— А может быть, используя вашу же терминологию, ваше величество, скептична в отношении нашей действительности?
— О, вы ловко парировали мой мяч. Думаю, Вольтер будет от вас просто в восторге.
— Вы очень снисходительны ко мне, ваше величество. Разрешите воспользоваться этой вашей слабостью и задать вам один из очень интересующих меня вопросов.
— Прошу вас, княгиня.
— Я знаю, что шесть лет назад вы издали указ о сельских школах, где говорили о великом зле невежества и необходимости широкого просвещения народа.
— Да, таково мое убеждение.
— Что же воспоследовало за этим благословенным указом? Оказалось ли возможным претворить его в жизнь?
— А, вы не знаете? Что ж, с удовольствием скажу — посещение начальных школ стало обязательным для всех детей селян.
— Это очень дорого обошлось государству.
— Вовсе нет. На них должны тратиться помещики и сами родители. Просто образованность стала своего рода налогом, столь же обязательным для людей, как и подати.
— Положим. Но как же учителя? Ведь потребовалась целая армия учителей.
— Безусловно. Но для этого мы использовали инвалидов. Отныне, чтобы получать свою пенсию, они должны преподавать.
— То есть вы отобрали у них пенсии?
— Можно сказать и так. Но зато мы уничтожили большую категорию людей, обременявших государство, и превратили их в полезных членов общества. Возможно, это жестокая, но полезная для государства мера.
— Но ведь не все же инвалиды обладают необходимыми знаниями, наконец, способностью быть учителями.
— Все так, но время решит и этот вопрос. Главное — общее направление нашей политики.
— Вы верите в божественное происхождение власти, ваше величество?
— Я обязан в него верить, но…
— Я вспоминаю ваши слова из «Рассуждений о политическом будущем европейских стран». Вы написали их достаточно давно.
— В год моего вступления на престол, княгиня, а это произошло почти тридцать лет назад.
— Так вот эти слова. Я воспроизведу их по памяти и потому прошу простить возможные неточности. Вы писали, что большая часть государей воображает, что Бог нарочно и из особого внимания к их величию, благополучию и гордости создал ту массу людей, попечение о которой им вверено, и что подданные предназначаются лишь к тому, чтобы быть орудиями и слугами их нравственной распущенности. Ваши взгляды изменились?
— Ни в коей мере. Сознание собственной исключительности у монарха не имеет отношения к реальной действительности. Свое положение необходимо каждодневно подтверждать, следуя постулату, что государь — первый слуга Государства. Я подчеркиваю — Государства с большой буквы. Это служение абсолютно и не допускает никаких скидок, тем более в отношении собственных удобств и личной жизни.
— Но человек слаб.
— Человек — не монарх. Для монарха подобное объяснение означает признание полной его непригодности для престола. И не надо думать, что люди хотят стать рабами любого монарха, потому что им нравится рабское состояние. Любое подчинение общества — это компромисс ради поддержания в государстве законности, порядка, защиты прав каждого отдельного гражданина.
— Я знаю, как интересовалась вашими опубликованными трудами и мыслями ныне царствующая российская императрица.
— Что не помешало ей расстаться с собственным супругом, который был и моим родственником, и, насколько я знаю, горячим почитателем.
— Ничего удивительного, ваше величество. Петра Третьего увлек великий Фридрих-полководец, знаток военного дела, Екатерину Вторую — монарх-философ. Но все дело в том, что разделять эти две половины одного целого нельзя и не нужно. Неправильное представление о вас не позволяет понять истинное величие вашей личности и вашего царствования.
— Княгиня, я никогда не скрывал, что люблю восторги по поводу моей личности, особенно если они исходят не от подданных, которым я, естественно, не верю, а от лиц, никак от моей власти не зависящих. Чтобы дополнить понравившийся вам портрет монарха-философа, скажу, что идеальное государство, в моем представлении, следует уподобить стройной философской системе, где все части между собой связаны и логически, то есть неотвратимо вытекают одна из другой. Размышлять над, созданием и совершенствованием этой системы и есть обязанность каждого монарха, если даже судьба не наделила монарха необходимыми талантами, то он должен быть обязан ей хотя бы чувством ответственности за свое пребывание у кормила правления своим народом.
Двухмесячное пребывание в Берлине не насытило моей жажды познания этого государства. Обстоятельства складывались так, что я не принимала и не отдавала частных визитов, будучи почти ежедневно приглашаема во дворец. Этому способствовали не только дружеские разговоры с его величеством, но и доброе отношение, которым меня дарила его супруга. Личная жизнь Фридриха Великого была отделена от семейной. В свое время, искупая вину перед родителем за замысел побега из страны, он должен был согласиться на заведомо неприятный для него брак с принцессой Брауншвейг-Бревернской. Согласия между супругами так и не возникло. Королева постоянно оставалась во дворце, тогда как король предпочитал всему свой увеселительный замок Сан Суси, который с такой гордостью мне показывал. Окруженный философами, писателями, артистами, он чувствовал себя вполне счастливым, тогда как королева жила в путах придворного этикета, к тому же явно обремененная сознанием собственной беспомощности в общении с окружающими. Ее заикание и шепелявость делали ее речь почти недоступной для придворных. Один из высоких придворных чинов служил ей постоянным переводчиком, тогда как мне счастливо удалось овладеть ключом этой речи и объясняться с ее королевским величеством безо всяких посредников, что она очень ценила. У королевы не было даже претензий к моему неизменному черному платью, которое дополняла лишь такая же строгая черная шаль. Но если я себе и отказывала в удовольствии жить в Берлине, то еще и потому, что была убеждена в раздражении, которое оно могло вызывать у императрицы, которая связывала Пруссию с памятью своего супруга.
Поездка в Аахен и Спа, эти знаменитые европейские курорты, должна была оправдать мое пребывание в Германии в глазах многочисленных моих русских недоброжелателей. Я плохо верила в полезность этих ванн для моих детей, хотя и не исключала известное благотворное воздействие их на собственное нервическое состояние. Так или иначе, наш путь лежит через Ганновер, который представляется мне островком столь привлекательной для меня Англии на Европейском континенте, рассказы министра Кейта, столь благоволившего ко мне в Петербурге, не прошли бесследно. Курфюршество Ганноверское с 1714 года находится в личной унии с Великобританией и управляется ее наместниками, в настоящее время одним из герцогов. Мекленбургских, который успел передать мне свое желание личного знакомства с княгиней Дашковой. Я не ищу этой возможности, потому что связь со двором лишит меня возможности спокойного осмотра города, столь богатого музеями и древними постройками. К таким раритетам относится собрание древностей, вывезенных во время крестовых походов Генрихом Львом из Палестины в Брауншвейг, и насчитывающая десятки тысяч томов библиотека. В силу своей связи с Ганновером английские короли неизменно заботились о просвещении этого курфюршества. Из того, что я могу вспомнить по рассказам дядюшки Михайлы Ларионовича, английский король Георг I присоединил по Стокгольмскому договору к Ганноверу Бремен и Верден, а Георг II основал в Геттингене университет, куда пригласил все лучшие научные силы Германии. Однако единственное, что я могу себе позволить на этот раз — посещение знаменитой оперы, располагающейся в чудесном и огромном здании. Болезнь кузена Воронцова вынуждает нас с госпожой Каменской отправляться без спутников, хотя здесь это и не очень принято.
— Вам не кажется, княгиня, что следовало бы отказаться от этого посещения оперы? Бог весть с какими неприятностями могут столкнуться в театре одинокие женщины.
— Полноте, мой друг, с нами будет наш лакей, и к тому же мне слишком хочется услышать немецкую школу пения. В Москве и Петербурге нам приходилось слушать только итальянскую, между тем знатоки утверждают, что эти школы очень разнятся, но и не уступают друг другу по своим достоинствам.
— Ваша любознательность, княгиня, граничит со страстью.
— Пусть так, но видите, как все благополучно устроилось. Мы получили билеты в ложу, где находятся одни дамы, и нам нет необходимости общаться с ними как иностранкам.
— Вы уверены, что их общество окажется приличным?
— Если оно прилично для присутствующих на спектакле лиц царствующей фамилии, то какой ущерб двум никому не известным иностранкам они могут нанести? Нет, нет, оставьте ваши опасения, я беру всю ответственность на себя. Никогда не поздно назвать свое настоящее имя и получить необходимую защиту. В конце концов, принц знает о вашем приезде в город.
— О Боже, княгиня, этот молодой человек из ложи герцога выслушивает какие-то указания герцога, который их дает, указывая на нас. Он выходит из ложи! Не сомневаюсь, что направляется к нам.
— Возьмите себя в руки, друг мой, и не удивляйтесь ничему из того, что я стану говорить. Просто молчите.
— Сударыня, простите мне мой вопрос, но я задаю его от имени герцога: не иностранка ли вы?
— Иностранка, если это так интересует его светлость.
— А не будет ли нескромностью спросить ваше имя?
— Конечно, будет, и вы это отлично знаете! Женщина никогда и ни при каких обстоятельствах не обязана называть своего имени, и не думаю, чтобы в таком просвещенном и блистательном курфюршестве, как Ганноверское, этим правилом пренебрегали.
— Нет, безусловно, нет. Но я взял на себя смелость…
— И напрасно это сделали. Наши имена наверняка не знакомы ни вам, ни его сиятельству, так что нет нужды обременять ими ваш слух и память. Засим прощайте, молодой человек!
— Как вы осмелились, княгиня! Я чуть не умерла от страха.
— И напрасно. Как видите, ничего страшного. А теперь давайте разберемся с нашими милыми соседками, которые повергнуты, похоже, в полное изумление. Не уверена, знаком ли им французский язык, попробуем изъясниться на немецком. Мадам, любезность вашего обращения побуждает нас раскрыть перед вами, кто оказался с вами в одной ложе. Я — певица, моя подруга — танцовщица, и обе мы находимся в Ганновере в расчете на получение выгодного ангажемента.
— Они уходят, княгиня!
— Вот видите, как просто получить для своей диспозиции всю ложу. Просто придуманные мною профессии показались им слишком унизительными.
— А если эта нелепая выдумка дойдет до герцога?
— Ничего особенного. Завтра нас уже не будет в Ганновере.
Спа несомненно относится к числу живописнейших местностей Европы. Лесистая долина среди поросших лесом холмов, прекрасные променады, увеселительные заведения, отели привлекают глаз, но так же быстро надоедают. Отсутствие достопримечательностей, памятников старины, архитектурных сооружений невольно рождает скуку и заставляет обращать внимание на публику, которая приезжает сюда скорее для веселого и приятного времяпрепровождения, чем в поисках исцеления от недугов, к тому же большею частию мнимых. Я узнала, что это место любимо Иваном Ивановичем Шуваловым, который часто и подолгу здесь живет и даже имеет постоянный дом, в котором хранится значительная библиотека. Среди множества новых знакомых особенно приятно общество госпожи Сюзанны Неккер, супруги министра-резидента Франции Жака Неккера. Госпожа Неккер имеет блистательный салон в Париже, где, как мне рассказывали, собираются такие выдающиеся умы, как Бюффон, Мармонтель, Дидро, Лагарп, Д’Аламбер и многие из тех, чьи труды я читала в Энциклопедии. Госпожа Неккер представляет образец того, что можно достичь при правильном и систематическом воспитании. Она не скрывает, что родилась в семье бедного кальвинистского пастора в одном из швейцарских кантонов, под руководством отца много занималась и восемнадцати лет едва не стала супругой Гиббона, если бы их браку не воспротивились его родители. Вместо замужества ей пришлось уехать в Париж в качестве гувернантки, но и здесь ее таланты и высокие душевные качества не остались незамеченными. Шесть лет назад она вышла замуж за богатейшего банкира господина Неккера, который еще несомненно будет блистать на французском государственном небосводе. Средства мужа позволили ей открыть свой знаменитый салон, в котором соперничества с ней не выдерживает ни одна из дам парижского высшего света, и это несмотря на известную угловатость ее манер и излишнюю горячность в выражении своих мыслей, всегда, впрочем, оригинальных и высокогуманных. В условиях легкомысленных нравов Парижа госпожи Неккер не коснулась ни одна сплетня — так безукоризненно и строго ее поведение, по-прежнему подчиненное принципам, которые ей внушил отец. Зная о моем намерении посетить Париж, госпожа Неккер взяла с меня слово, что я посещу ее дом и салон и дам ей приятную возможность познакомить меня с Парижем. Оказывается, госпожа Неккер пробует себя и в литературе. Из-под ее пера вышел ряд небольших сочинений, посвященных вопросам нравственности, скорее поучительных, нежели способных занять ум и воображение, и тем не менее принесших ей успех и известность.
Но подлинным счастьем для меня стало знакомство с двумя англичанками, которых отныне судьба навсегда ввела в мою жизнь. Госпожа Гамильтон была дочерью епископа Туамского, госпожа Морган — дочерью господина Тисдэля, королевского генерала-прокурора в Ирландии. Наша дружба открыла для меня двери в английскую литературу. Хотя с помощью немецкого и французского языков я сравнительно быстро научилась читать в подлиннике Шекспира, мои новые приятельницы помогли мне начать изъясняться на их родном языке, ежедневно давая необходимые уроки и исправляя мое произношение. Под их влиянием я уложила план всех своих дальнейших странствий. Из Спа я решила хотя бы на несколько недель отправиться в Англию с семейством Тисдэль, а затем провести зиму с госпожой Гамильтон в Эксе в Провансе, посетив предварительно Париж, главным образом ради знакомства с Дидро.
— Как долго вы собираетесь пробыть в Париже, княгиня?
— Вряд ли больше двух недель, господин Дидро.
— Вы связаны неотложными делами? Из писем моих петербургских друзей я сделал вывод, что вы путешествуете главным образом с образовательными целями.
— И да и нет. Оправданием моему путешествию служит прежде всего здоровье детей, а Париж вряд ли можно назвать лучшим местом для поправления их здоровья.
— Не смею спорить с чувствами матери — они святы, но в таком случае тем более, разрешите мне распорядиться вашим парижским временем. Я постараюсь быть идеальным гидом и вместе с тем не потерять ни минуты для бесед с вами.
— В отношении бесед мои желания полностью совпадают с вашими, но что касается знакомства с Парижем, то я уже составила себе план и не хотела бы его менять.
— Можно полюбопытствовать какой?
— Каждое утро я сажусь в коляску в восемь часов и до трех путешествую по городу, с тем чтобы осмотреть как можно больше церквей и монастырей, где хранятся памятники искусства, и побывать в мастерских знаменитых художников. Я никогда не была особенно восторженной поклонницей живописи или, вернее, не имела возможности всерьез с ней познакомиться. Теперь у меня есть возможность устранить этот пробел.
— Вы составляете коллекцию, княгиня?
— О нет, для этого у меня нет ни средств, ни амбиций. Моя семья в России никогда не принадлежала к числу меценатов. И здесь я оставляю за собой роль восхищенного зрителя.
— Но мы с вами остановились на трех часах дня.
— Что ж, в начале четвертого я сажусь за обед, а вечером отправляюсь в театр.
— Великолепное расписание, и я даже нахожу в нем место для себя, не нарушая ваших планов.
— Я готова опередить вас, Дидро. В три часа я буду заезжать за вами и забирать вас к себе обедать. После обеда мы можем спокойно беседовать.
— Если у вас не окажется иных визитеров.
— Нет, Дидро, я слишком своевольна, чтобы подчиняться фантазиям и настроениям своих знакомых. Если мне неудобно, я просто откажу в приеме. К тому же наши беседы могут затянуться и на вечер, если не будет интересного спектакля.
— Могу поручиться, княгиня, что стоящих вашего внимания постановок на две недели не наберется.
— Только не забудьте про мою любовь к опере.
— Вы поставили меня в сложнейшее положение, княгиня. Теперь я буду считать вопросом чести, чтобы вы предпочли беседу со мной даже опере, не говоря о комедии и драме. Я просто перестану себя уважать, если предпочтение театру все же вами будет оказано.
— Полноте, Дидро, волноваться должна я, удастся ли мне оказаться интересной собеседницей для великого энциклопедиста. С моих тринадцати лет ваш гениальный труд не покидал моего рабочего стола, и если чего-то мне не хватает в нынешней поездке, то это его волюмов, которые я привыкла каждый день по крайней мере перелистывать. И чтобы не проиграть в ваших глазах, я предлагаю вам задавать мне интересующие вас вопросы. Я готова отвечать на любые.
— В таком случае не будьте в претензии ко мне за мое досадное, может быть, для вас любопытство. Как я заметил, вы путешествуете с достаточно многочисленной прислугой, вместо того чтобы нанимать ее по приезде в тот или иной город. Вы владеете несколькими языками, поэтому вам нет нужды возить с собой именно русских.
— Но моя прислуга обходится мне дешевле, чем наемные слуги. Я должна ее перевозить и кормить, но не платить жалованья.
— Не платить жалованья? Так что же, это и есть ваши рабы, княгиня?
— Мы называем их иным именем.
— Термин не имеет значения. Главное — эти люди лишены всяких прав и во всем зависят от вашей воли и прихотей.
— В России это называется крепостным состоянием, и оно далеко не так трагично, как вам это представляется. Их владельцы крайне редко оказываются людьми жестокими и бессердечными. К тому же их сдерживает в их действиях Церковь и само дворянское общество.
— А законы? Законы, которые защищают этих несчастных?
— Такие законы существовали, как и целый порядок судопроизводства, по которому крестьянин мог подать жалобу на несправедливость своего помещика и получить удовлетворение.
— Почему вы говорите об этом в прошедшем времени?
— Потому что император Петр Великий счел целесообразным отказаться от подобного порядка. Зато царствование императрицы Екатерины создало новые формы защиты справедливости. Теперь губернатор в согласии с местным предводителем дворянства и депутатами всей губернии может изъять крестьян из-под деспотического управления определенного помещика и передать управление его имениями и крестьянами особой опеке, состоящей из выбранных самими дворянами лиц.
— А если жестокосердный, как вы изволили выразиться, помещик окажется лицом влиятельным, принадлежащим ко двору и имеющим расположение монархини? Кто в таком случае из обыкновенных дворян решится на подобные действия, которые неизбежно повлекут за собой гнев и месть сильного мира сего? И вообще, много ли вам известно случаев подобной опеки?
— Я не интересовалась специально этим вопросом и сужу о нем главным образом по поместьям своим и своих родных. Они достаточно обширны и многолюдны, чтобы можно было делать общие выводы.
— Не сомневаюсь, княгиня, что ваша семья состоит из людей высокообразованных и просвещенных, но ведь таких среди дворян конечно же не большинство. Вы не согласны?
— Послушайте, Дидро, я предпочитаю опираться на чистую логику. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы. Поэтому помещикам просто выгодно не слишком притеснять своих крепостных и, напротив, всячески защищать их от ограбления и притеснения мелкими чиновниками. Практически дворяне, которых вы воспринимаете какими-то монстрами, служат посредниками между крестьянами и казной, защищая своих подопечных от избыточных притязаний губернаторов и правительственных чиновников.
— Бог мой, княгиня, вы не только защищаете рабство, но даже готовы видеть в нем некую благодать!
— Почему бы и нет? Вот вы постоянно говорите о пользе просвещения для народа, именно для народа, а не для властей предержащих.
— В определенном смысле просвещение последних подразумевается само собой.
— Положим. Но логическая цепочка выстраивается здесь следующим образом. Просвещение ведет к свободе.
— Это неизбежно и необходимо.
— Но свобода без просвещения может породить только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, только тогда они станут достойны свободы и только тогда сумеют пользоваться ею без ущерба для своих сограждан, не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления.
— Итак, да здравствует просвещение рабов, если таковое будет им дозволено их владельцами, прекрасно сознающими, насколько оно опасно для их безграничной власти.
— Подождите, подождите, Дидро. Боюсь, что я не сумею ясно выразить свою мысль, но я много думала над этим, и мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окружённой со всех сторон глубокой пропастью. Лишенный зрения, он не знал опасности своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит к несчастному глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот — наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не ест и не поет больше; его пугает окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и отчаяния. Вам кажется несправедливым этот образ?
Я так безоговорочно поддалась обаянию этого удивительного человека, что моментами испытываю даже чувство страха перед собственной легковерностью. Дидро старается руководить всеми моими отношениями с парижанами, и делает это в очень категоричной форме. Из-за него я не смогла увидеться с госпожой Неккер, несмотря на все обещания, данные в Спа. Дидро настоял на том, чтобы я не принимала ее так же, как и госпожу Жоффрен, под предлогом, что несколько свиданий с ними; ограниченных краткостью моего пребывания в Париже, не дадут мне возможности показать себя с достаточно выгодной стороны и лишь породят ненужные толки. Однако другие эпизоды раскрыли мне истинные побуждения Дидро. Он боялся, что расспросы в парижских салонах могут спровоцировать меня на высказывания, которые не понравятся нашей императрице и осложнят мою жизнь в России. Именно поэтому Дидро категорически воспрепятствовал моей встрече со старым моим знакомцем господином Рюльером, состоявшим французским атташе при посольстве в последние два года жизни государыни Елизаветы Петровны. В то время Рюльер постоянно бывал в доме дядюшки; и его живое остроумие и редкая наблюдательность доставляли нам немало приятных минут. Не принять его, как на том настоял Дидро, мне было тем труднее, что Рюльер относился к числу близких знакомцев госпожи Каменской, завсегдатаем ее петербургского дома. Дидро сослался на то, что Рюльер выпустил мемуары о революции, как он ее назвал, 1762 года, крайне отрицательно воспринятые государыней. Недовольство императрицы было столь велико, что через посредство Ивана Ивановича Бецкого и русского посланника в Париже делались попытки приобрести мемуары за очень высокую цену. Длительные и неумелые переговоры с автором привели только к тому, что Рюльер поспешил снять несколько копий со своего сочинения, разместив их у парижского архиепископа, госпожи де Граммон и в министерстве иностранных дел. Последнее обстоятельство сделало содержание мемуаров достаточно известным во Франции, и единственное, чего удалось добиться вмешавшемуся в дело Дидро, это обещания Рюльера не публиковать их при жизни императрицы. Дидро был очень горд подобным результатом, хотя признавал, что не мог воспрепятствовать иным способам распространения рукописи. Достаточно сказать, что Рюльер читал свои записки во многих салонах, и прежде всего у госпожи Жоффрен. Не вдаваясь в подробности, Дидро ограничился в пересказе содержания злосчастного сочинения утверждением о любовной связи императрицы со Станиславом Понятовским еще в бытность ее великой княгиней. Поразительно, что этот анекдот не вызвал негодования со стороны госпожи Жоффрен, находящейся в самых дружеских отношениях с польским аристократом. Своей предусмотрительностью Дидро, несомненно, облегчил мое положение в смысле возвращения в Россию, о котором уже пора думать.
— Но это же безумие, княгиня!
— О чем вы, Дидро?
— Вы были в Версале!
— Была, и что же?
— И вы еще спрашиваете! Сколько раз я предостерегал вас от шагов, которые могут дурно отозваться на ваших петербургских делах, почему же здесь вы не сочли нужным меня послушать?
— Я ценю вашу предусмотрительность, мой друг, но вы не находите, что где-то она становится чрезмерной?
— Чрезмерной! Вы не отдаете себе отчета, как пристально русский двор следит за всеми вашими действиями! Каждый шаг ваш, каждое неосторожное высказывание становится тотчас же известно при дворе и может раздражать императрицу. Мне не хотелось раньше затрагивать этой темы, но ведь ваши отношения с ее императорским величеством нельзя назвать слишком благополучными. Зачем же их обострять!
— Обострять? Дидро, вы, кажется, подозреваете меня в политиканстве. Вам пора бы удостовериться, что на него я вообще не способна. Я не скрываю своих взглядов и открыто следую своим принципам. Если они не устраивают императрицу, которую я глубоко почитаю и ценю как великую монархиню, я предпочитаю покинуть ее страну, а не искать оправданий и примирений по расчету. Неужели вы до сих пор этого не поняли?
— Княгиня! Я не касаюсь ваших заслуживающих всяческого восхищения принципов, но вспомните, что я говорил вам о французском дворе. Герцог Шуазель ведет политику, направленную против интересов России, а Версаль находится в полном его подчинении. Герцог резко отзывается о русской императрице, и король не думает его останавливать.
— Кстати, герцог многократно приглашал меня к себе, обещая устроить по этому поводу пышный праздник.
— Час от часу не легче! И вы только сейчас мне об этом говорите!
— Помилуйте, Дидро, я не для того подчинила весь уклад своей парижской жизни возможностям разговоров с вами, чтобы тратить драгоценное время на придворные пересуды. Все перечисленные обстоятельства мне попросту неинтересны.
— А между тем герцог будет ткать паутину союзов, обращенных против русской императрицы. Как друг, смею надеяться, великой Екатерины, я не могу равнодушно наблюдать за этим. Послушайте, княгиня, я хочу хотя бы в самых общих чертах напомнить вам, — что такое Версальский двор и Шуазель, карьера которого при дворе насчитывает немногим более десяти лет.
— Я слышала, герцог умен, и письмо его мне показалось редким по ловкости формулировок и остроумию.
— Он такой и есть — остроумный, ловкий, по-своему очень смелый, хотя каждой его смелости предшествует точный, почти математический расчет. Судите сами. Он отличился в войне за австрийское наследство, получил чин генерала и немедленно нашел блестящую партию в виде дочери банкира Кроза, чье огромное состояние позволило ему немедленно оставить армию и перейти на дипломатию. Несколько лет в качестве посланника в Риме и Вене принесли ему герцогский титул, а симпатии мадам де Помпадур — место министра иностранных дел и титул пэра.
— Это не поражает моего воображения.
— Знаю. Россия имеет тому немало примеров.
— Вот именно, Дидро, и некоторые из них делают для меня возвращение на родину крайне неприятным.
— Я не кончил, княгиня. Гораздо важнее, что в политике герцог стал проводить совершенно самостоятельный курс.
— В союзе с Австрией и Испанией и против Англии и Пруссии.
— Вот видите, княгиня, вы превосходно осведомлены. Но ведь если, скажем, в Индии герцог Шуазель поддержал местных раджей против Англии, то в отношении Турции и Польши он помогал им противостоять России.
— Мне не кажется это мудрым.
— Но при чем же здесь абстрактные рассуждения! Императрица российская не может не видеть в нем заклятого врага, тогда как вы вступаете с ним в какие-то отношения.
— Напротив — я ответила герцогу, что госпожа Михалкова не вправе претендовать на все те почести, которые его сиятельство предлагает, потому что слишком уважает его самого и существующие во Франции порядки.
— И именно поэтому направляется инкогнито в Версаль?
— Но другого пути не было, а я не могла уехать из Франции, не повидав французского двора. Это было бы непростительным упущением с моей стороны. Я просто удовлетворила свою любознательность.
— И, может быть, хотя бы задним числом, вы расскажете вашему покорному слуге, как вам это удалось?
— С превеликим удовольствием. Это и впрямь потребовало известной изворотливости и ловкости.
— Воображаю!
— Начать с того, что наш поверенный в делах уверил меня, что за всеми иностранцами, а тем более за мной, установлена слежка, благодаря которой мне не удастся попасть в Версаль.
— А что я вам все время говорил!
— Да, да, господин Хотинский подтвердил вашу правоту, мой друг, но я его попросила всего лишь предоставить мне его лошадей уже за пределами Парижа.
— Почему за Парижем?
— Очень просто. Местного лакея-француза я заняла множеством поручений, благодаря которым он не мог меня сопровождать в прогулке с детьми, и ограничилась русским лакеем. Мы выехали из Парижа, где между заставами Парижа и Версаля меня ждала упряжка господина Хотинского. Сам господин Хотинский сел в мою карету, его лошадей припрягли к моим, и в таком виде мы въехали в Версаль. На нас никто не обратил внимания, так что мы спокойно и с большим удовольствием погуляли по парку, а ко времени обеда воспользовались привилегией простого французского народа присутствовать в зале, где король со своим семейством садится за стол. Не стесненная правилами этикета, я могла свободно рассмотреть все королевское семейство — королеву, дофина, принцесс Аделаиду и Викторию.
— Вы неповторимы! И каково же ваше впечатление от королевского семейства? Вы знаете, популярность короля в народе…
— Можете не продолжать. Я слышала, как и о чем переговаривались мои соседи по зрительским местам.
— Но вы не отвечаете на мой вопрос.
— Вы можете себе представить, Дидро, принцесса Аделаида пила бульон из чашки!
Если бы не мои дорогие английские подруги, я бы уехала из Парижа в Швейцарию. Французская провинция меня нисколько не интересовала, а пребывание среди французов начало утомлять. Может быть, во многом из-за их совершенно неумеренного поклонения королю и всему, что с ним связано. Само прозвище Людовика XV в народе — Любимый, или даже Очень Любимый, вызывает у меня внутренний протест, особенно если представить себе действительный облик этого монарха. Бесконечные фаворитки с их жадностью и расточительностью, недостойные венценосца любовные интрижки, безразличие к государственным делам, столь полно выразившееся в его любимой поговорке: «После нас хоть потоп», легкомыслие и желание передоверять все государственные дела любимцам сомнительного кондуита — все это заставляло задумываться над недостатками монархии как государственного института. Даже идея сооружения в России памятника Петру Великому, так захватившая императрицу, решилась с помощью маркизы де Помпадур. Дидро, мой свободолюбец Дидро, рекомендовал императрице любимца маркизы скульптора Этьена Мориса Фальконе, работавшего на фарфоровой мануфактуре и никогда не занимавшегося монументальными памятниками. Правда, Дидро ссылается на великие мысли этого известного в салонах скульптора, но ведь в искусстве мысли должны быть воплощены в соответствующей форме, а найдет ли ее мастер Севрской мануфактуры, очень большой вопрос.
Дидро казался мне тем большим революционером, что его критические замечания в адрес французского двора делались именно в обстановке Франции, где каждый чувствует свой гражданский долг в том, чтобы слепо обожать короля. Этот культ изменил и все мои планы. Париж ждет приезда принцессы Пьемонтской, нареченной графа Д’Артуа, и особенно пышные приветственные торжества намечены в Лионе. Леди Райдер пожелала непременно присутствовать на этих празднествах, тем более что на этом настаивала ее престарелая тетка, большая любительница всяческого рода придворных празднеств. В результате мы в Лионе, а восторги французов по поводу членов королевской семьи, кажется, достигли апогея. Лион выставил для обозрения и удовольствия принцессы лучшие изделия своих знаменитых фабрик и мануфактур. В театре предстояли торжественные спектакли в ее честь, на которые нам была предоставлена особая ложа. Однако невоспитанность и завзятое желание видеть особу царствующего дома, проявленные местными дамами, лишили нас этой возможности. Когда нам удалось проникнуть в театр, который охранялся от напора желающих попасть в него специальными стражниками, в предназначенной для нас ложе сидели местные дамы, которые не пожелали уступить, нам наших мест и вообще вступить в переговоры. После нескольких бесплодных попыток госпожа Каменская и леди Райдер решились остаться смотреть представление стоя, тогда как мы с леди Гамильтон постановили вернуться домой. Это оказалось еще более опасным, чем вход в театр. Жандармы и стражники орудовали среди толпы прикладами, избивая несчастных, попадавшихся им на пути, направо и налево. Нас с леди Гамильтон едва не постигла та же участь, которой удалось избежать, только раскрыв наше инкогнито и назвав себя княгиней Дашковой.
— Вы в мастерской художника, мадам! Как это прекрасно.
— Полноте, господин Гюбер-Робер, это я могу почесть за честь посетить ателье столь известного живописца. Я никогда не упускала возможности побывать в мастерских живописцев и скульпторов в Париже, но к вам меня привел, не скрою, также интерес к вам как к поэту и музыканту.
— Вы очень любезны, княгиня.
— Гораздо меньше, чем вы того заслуживаете, маэстро. Вы разрешите взглянуть на ваши полотна?
— О да, вы доставите мне этим величайшее удовольствие.
— Я не была в Италии, но на ваших картинах эта страна предстает в таком удивительном очаровании, как я сама никогда бы не сумела ее увидеть.
— Вы правы. Хотя воображение художника никогда не достигнет совершенства натуры, оно может больше сказать человеку — возбудить в нем близкие ощущения, мысли.
— Прежде всего настроения, мэтр.
— И настроения, само собой разумеется.
— Эти закаты в сочетании с руинами древних построек невольно рождают ощущение вечности и безбрежности. Человек как бы погружается в них, отрешаясь от мелочей своего тщеславия, своей повседневной жизни, не правда ли?
— Я счастлив, что вы так это воспринимаете, княгиня.
— Расскажите же мне хоть немного о себе. Художник-философ, как вы, должен прожить интересную жизнь.
— Она не так уж интересна, княгиня. Может быть, только в том, что мои родители хотели видеть во мне будущего священника, тогда как меня влекла живопись. И если бы не вмешательство знакомого скульптора, которому мои близкие благоволили, я бы ныне носил священническую рясу.
— Вы сумели настоять на своем?
— Скорее скульптор, который уверил родителей в том, что именно в искусстве я достигну многого. В результате я оказался в Риме и прожил в нем двенадцать лет.
— Вечный город ввел вас в мир искусства.
— И снова — скорее его развалины. Я искал остатки глубокой древности, находил их и зарисовывал, составив себе огромный запас всяческого рода мотивов, из которых можно было создавать картины.
— Я знаю, вы учились у знаменитого Панини, но, маэстро, ваши полотна трогают меня гораздо больше. В них больше философической отрешенности, жизни духа, нежели в очень красивых и только красивых полотнах Панини.
— Мадам, как я счастлив, только что вернувшись на родину, быть представленным вам. Ваше понимание искусства приносит художнику вдохновение. Впрочем, я слышал о вас так много от моего друга Вольтера, что был внутренне подготовлен к тому, чтобы ничему не удивляться в разговоре с вами. Вы еще не были у Вольтера?
— Пока нет, но сгораю от нетерпения увидеть патриарха. Мой кузен, граф Артемий Воронцов, узнал, что Вольтер нездоров, только что потерял много крови, крайне ослабел и тем не менее не пожелал откладывать нашей встречи. Я непременно расскажу ему о посещении вашей мастерской.
— Чем чрезвычайно его раздразните, мадам. Наша дружба крепка, но недостаточно спокойна. Я имею несчастье постоянно обыгрывать мэтра в шахматы, чего он не в состоянии мне прощать, а умение моей собаки выгрызать из куска сухого сыра портретный бюст Вольтера, доводит его порой до исступления.
— Ваша собака обладает способностями скульптора?
— Ни в коей мере. Ларчик открывается очень просто. Я умело даю ей отгрызать необходимые куски, и мы с ней так наловчились это делать, что в результате получается бюст, похожий на работу Пигайля.
— Это забавно. Но как в остальном вы чувствуете себя в той же Швейцарии после Рима или даже Парижа? Горы, заросшие мрачными лесами, снеговые вершины. Солнце, так редко поднимающее над озером завесу тумана. Как вы миритесь с подобными видами?
— О, мадам, они обладают удивительным очарованием, с которым я буду рад вас познакомить. Я предлагаю взять яхту и на ней совершить путешествие по озеру. У меня даже сейчас возникла мысль отметить ваше присутствие здесь, княгиня, русским флагом. Мы поднимем его на мачте, чтобы все знали, что по водам Женевского озера путешествует русская княгиня. Это может получиться восхитительно!
— А мы с госпожой Каменской дополним вам замысел. Вы никогда не слушали русских песен, маэстро? Нет? Так вот над водами этого удивительного озера и под русским флагом мы вам их споем.
— Мадам, вы подарите мне лучшие минуты моей жизни!
— Вам не кажется, кузен, что вы оказались слишком настойчивым, добиваясь визита у фернейского патриарха? Вы сами говорите, что он очень ослаблен потерей крови, и, по всей вероятности, несколько дней в постели ему просто необходимы.
— Поверьте, кузина, не моя вина, что Вольтер не только запретил говорить мне о своем недомогании, но категорически пожелал вас немедленно видеть. Ваша слава значительно опередила вас, и теперь Вольтер хочет сравнить ее с оригиналом. Так что будьте на высоте положения живой легенды.
— Если бы вы знали, как меня стесняет подобная увертюра.
— К тому же Вольтер так слаб вообще, что трудно сказать, не наступит ли у него ухудшение. Впрочем, наш разговор не имеет смысла: мы уже перед его домом и двери перед нами уже открыты.
— Дорогая княгиня, наконец-то я могу вас увидеть, милое дитя мое! Знаете ли вы, что старческое любопытство нисколько не уступает детскому?
— Вы льстите мне, господин Вольтер. Нет, разрешите, я буду обращаться к вам так, как обращается весь народ: царь-Вольтер.
— Я знаю о подобном ничем не заслуженном прозвище.
— Незаслуженном? Как вы можете так говорить! Достаточно вступить в границы Фернея, чтобы почувствовать свободный дух вольтеровского королевства. Поверить не могу, что когда-то здесь было крохотное местечко, превратившееся в процветающий и полный достатка город. Это же великолепно!
— Я сам люблю Ферней, и после бесконечных моих скитаний это первое и единственное место, где дух мой обрел покой и свободу. Но я не могу не напомнить вам, что выбор его был вынужденным. Из Германии, мне пришлось бежать, Франция меня не пожелала принять. Оставалось поселиться в Швейцарии, у порога своей родины. Сначала я выбрал уголок у ворот Женевы — компань де Сен Жан, и лишь потом замок Ферней, буквально на границе Франции. Как бы я ни любил здешние места, они время от времени напоминают мне о горькой участи изгнанника.
— Вы гражданин мира и не можете нигде на земле стать изгнанником.
— Но я и просто человек, а для парижанина мечта о Париже всегда будет сохраняться.
— Мне трудно себе представить саму возможность вашей размолвки с Фридрихом Вторым.
— Вы знакомы с ним?
— Я была его гостьей и с искренней признательностью вспоминаю часы, проведенные в обществе его величества.
— Это меня не удивляет. Вам посчастливилось, что ваше свидание не было долгим.
— Я думаю, эта истина верна в отношении большинства людей.
— Вы правы. Но обычно от общения с людьми возникает скука. При дворе Фридриха все иначе. Король деспотичен в отношении всех, кто его окружает. Ему нужен был не мой ум и не мои рассуждения, но подтверждение собственных умствований, одетых в пышные ризы моих слов. Атмосфера заданных разговоров и заданных выводов не каждого может устроить. Через три года хозяин и гость поняли общую ошибку — им оставалось только расстаться.
— Я слышала, что в этом расставании король не проявил достаточно благожелательности и доброй воли.
— Какое! Я был задержан во Франкфурте посланными за мною вдогонку агентами короля под предлогом того, что у меня остались черновики достаточно фривольных поэтических опытов его величества.
— Но это ужасно!
— Да, по прошествии стольких лет я все еще не могу вполне успокоиться после того оскорбления. Меня арестовали и продержали более месяца под арестом. Теперь вы сами видите, княгиня, как велика разница между прусским королем и просвещенной монархиней, которая счастливо правит вашей страной. Переписка с ней доставляет мне самое высокое духовное наслаждение. Это женщина, для которой не существует бытовых измерений. Екатерина живет в мире высоких идей и не менее высоких свершений, не правда ли?
— Да, это великая государыня.
— Воображаю, как тяжело вы переживаете необходимость разлуки с нею. Ведь это ваши материнские обязанности вынудили вас оставить Россию. Как же здоровье ваших детей теперь?
— Благодарю вас, значительно лучше.
— Чудесно! Я первое время не мог поверить, что такое чудесное свершение моих самых заветных стремлений может существовать в действительности. Вы должны мне подробно рассказать о жизни и мыслях императрицы. Моя переписка с ее императорским величеством заключает в себе многое, но живые впечатления такого человека, как вы, никогда не потеряют своей цены. Ведь главная обязанность мыслящего человека — борьба со злом и несправедливостью, в чем бы они ни проявлялись, а распространение добра — в руках каждого человека, как бы скромен ни был круг его деятельности.
— Но это требует просвещения, господин Вольтер! Человек непросвещенный не способен отличить добра от зла и подлинной справедливости от справедливости мнимой.
— Что вы имеете в виду?
— Не каждый крестьянин, например, способен их понять, и это возлагает особые обязательства на отвечающих за них помещиков.
— Крепостное право? Вы отстаиваете крепостное право? Я уже слышал подобные доводы от вашей императрицы и никогда не соглашусь с подобной точкой зрения. Знаете ли вы, что у нас в Фернее я добился освобождения от крепостной зависимости местных монастырских крестьян, и смотрите, каким благоденствием для здешней местности обернулась эта реформа. Свободный человек сам будет стремиться к просвещению. Сознание собственной значимости побудит его находить способы реализации своей энергии, своего творчества. И как же вы, княгиня, чувствуете себя в роли рабовладельца?
— Я не люблю этого выражения, господин Вольтер.
— А другого нет и не может быть.
— Во всяком случае, я стараюсь по мере возможности снижать оброк и защищать моих крестьян от притязаний всяческого рода чиновников в сборщиков налогов.
— По мере возможности? Что определяет эту возможность?
— Потребности моих детей и мои.
— А если они возрастут, дефицит придется покрывать вашим крестьянам?
— У меня нет иных источников дохода. Но я стараюсь, чтобы бремя было посильным. Кто же будет снимать шкуру с овцы, если хочет пользоваться ее шерстью? В конце концов, так думают многие помещики.
— Но человечество должно иметь неукоснительно соблюдаемые законы, которые были бы одинаковы для помещиков и для рабов. Подумайте сами, дитя мое, разве это не единственная гарантия процветания государства на основе справедливости?
— Вы думаете, что если свершится революция, то принесенные ею перемены пойдут на благо государству и народу?
— Боюсь, что нет.
— Вот видите!
Должна признаться, обратный путь не показался мне легким и, во всяком случае, желанным. Мысли о дворе, об отношениях с родными и императрицей все больше овладевают мною. Отдельные доносившиеся до нас подробности не предвещали ничего хорошего. Батюшка ссорился с сестрами и не собирался оказывать мне никакой материальной поддержки, которой бы я, впрочем, от него и не приняла. Генерал Панин обманул мои надежды. Его очередная фаворитка убедила его продать мой петербургский дом одному из своих подопечных за полцены, так что мне предстояло расплачиваться с долгами за поездку. Крыши над головой и обстановки у меня не было. Их следовало перевезти из Москвы в Петербург, если бы я собралась жить в столице. Моя свекровь, не покидавшая после кончины князь Михайлы монастыря, не выражала желания принимать участия в моих сложностях. Наконец, мне следовало начинать думать и о будущем моей дочери, чей недуг не позволял рассчитывать на сколько-нибудь приятную партию. При всем своем уме и воспитании она оставалась горбуньей, которой было слишком трудно найти хорошего жениха. Любезность маркграфини Баденской, буквально заставившей нас переночевать в ее замке в Карлсруэ, показавшей свое великолепное владение, парк, музыкантов, посещение картинной галереи в Дюссельдорфе, где мне удалось определить произведение великого Рафаэля, оставшегося не опознанным специалистами, наконец, встреча с вдовой негоцианта господина Вейнахта, которую я помнила со времен детства, были отравлены этими мыслями. Тем более неприятной оказалась встреча с младшим из братьев Орловых, Владимиром. Занятия в немецких университетах не принесли ему ничего, кроме высочайшего и ничем не оправданного самомнения и нелепого педантизма, с которыми он изрекал рассуждения Руссо, готовый выдавать их за собственные. Не говоря об опасности обращения к столь соблазнительному для непросвещенных умов философу, Орлов-младший заявлял себя его проповедником. Его должность директора Академии наук показалась мне совершенно нелепой и невольно навела на мысль о том, что все в истории повторяется. При покойной императрице Елизавете Петровне Академия наук досталась как бы в утешение младшему брату фаворита, при нынешнем царствовании во главе этого столь необходимого России учреждения снова оказался такой же младший брат. Впрочем, от отдельных лиц мне довелось услышать вполне благожелательные отзывы о деятельности этого самовлюблённого человека. Мне сказали, что он много заботится о пенсионерах Академии наук за границей, добывая для них немалые средства. Та же свобода в средствах позволяет ему организовывать разные научные экспедиции и принимать меры к распространению в переводах сочинений классических писателей. Больше всего меня заинтересовала предпринимаемая в Академий наук попытка составления словаря русского языка и желание Орлова-младшего вести протоколы на русском языке. Ввиду того что латынь ему незнакома, эти протоколы при нем велись на немецком языке. Казалось бы, разумные начинания вызывают сомнения из-за исполнителей.
Приезд в Ригу окончательно расстроил мои мысли и здоровье. Брат Александр Романович, единственный член нашей семьи, с которым меня связывали близкие отношения, сообщал, что чума вынудила его бежать из Москвы в имение нашей матери Андреевское в ста сорока верстах от Москвы и что среди моей дворни страшная эпидемия унесла сорок пять человек. Путь в дом, где я надеялась найти приют, был отрезан, как не было возможности заимствовать из Москвы необходимую мебель и обстановку. Следовало переждать значительный период времени, чтобы не пасть жертвой чумы. Единственным выходом для меня и моих детей становилось гостеприимство сестры Елизаветы Романовны, получившей разрешение переехать из Москвы в Петербург. Императрица ограничилась тем, что запретила сестре присутствовать на коронации, в остальном же просто перестала ее замечать, никак не проявляя к ней враждебности или досады.
Глава 12 Ссора
— Батюшка!
— Здравствуй, здравствуй, Катенька! Наконец-то Бог сподобил тебя с внуками увидеть. Здорова ли?
— Здорова, батюшка.
— Что ж задержалась так? По письмам твоим мы тебя раньше ждали.
— Так бы оно и было, кабы не горячка моя в Риге. Никак не ждала я новостей, о которых братец Александр Романович из Москвы отписал.
— А чего было тебе писать? Дела не поправишь. Приехала бы в Петербург, тут все и узнала. Мало ли моровых поветрий-то в Москве бывало. Не впервой.
— Но слуги, утварь…
— Бог дал, Бог и взял, как с дитем бывает. О себе, о себе, дружок, скажи. Слыхал, преотлично тебя царственные особы в Европах принимали, честь большую оказывали.
— Верно, батюшка, всех и не перечтешь.
— Вот и славно, только тебе-то другое нужно: с императрицей бы сойтись покороче. Что было, то было, а теперь новые времена.
— В чем же новые?
— Как в чем — конец империи Орловской наступил. Нового фаворита ждем со дня на день. Уж он, Бог даст, камня на камне от их могущества былого не оставит.
— Сразу и фаворит, батюшка!
— А чем же это тебе не угодно, княгинюшка? Были Орловы…
— Григорий Григорьевич, хочешь сказать.
— Григорий Григорьевич — это одно. От него у нас Алексей Бобринский-граф завелся. А потом и Алексей Григорьевич…
— Как — Алексей Григорьевич? Брат? Никогда не поверю!
— Это уж как тебе угодно, а только дочка у нас родилась, Темкиной назвали. Все как Богом положено.
— А теперь что?
— Теперь Потемкина Григория Александровича ждем.
— Он-то при чем?
— Разве не помнишь, что помогал государыне на престол вступить? Пожалован был землями, небольшими правда, крестьянами да деньгами.
— Не он ли еще вознаграждения домогался?
— Не он один, но и он тоже. С Орловым повздорил, так ему Алексей Григорьевич в драке глаз вышиб. Неужто не помнишь?
— Помню, батюшка.
— Так вот Григорий Александрович никак на малой награде успокоиться не хотел. К государыне с прошением вышел в армию действующую его отправить, мол, хочу вашему императорскому величеству оружием послужить. А там — уж как ему удалось, не знаю — милостивое разрешение получил на высочайшее имя о военных действиях писать. Сказывают, занимательно писал, государыня не только что читала, записочками коротенькими отвечать стала. В одной посоветовала герою нашему беречься. Ему только того и надо — армию бросил, в Петербург помчался. Разговор идет, орловские комнаты во дворце ему готовят. От такой перемены, видишь, и тебе корысть: государыня на первое обзаведение десять тысяч рублей презентовала. Ведь уезжала ты, ничего тебе не досталось?
— Государыня даже апшида отдельного не дала.
— Видишь! А теперь прямо с милости начала. Может, и не великой. Поди, княгиня Дашкова много больше по делам своим заслужила. Да ведь лиха беда — начало. Дальше все от тебя зависит, как к государыне подойти сумеешь.
— Батюшка, я ради денег!..
— Знаю, всю дурь твою знаю. Только тогда ты еще за мужем была, надежды какие-никакие имела, а теперь дети подросли, о них тебе думать надо. Я тебе, княгинюшка, не помощник. Вон на самого начет на десять с лишним тысяч сделали. Не знаю, как выпутываться стану. Так-то! А что Орловых больше не будет, так и слава Богу. Сколько они смуты в одно наше семейство принесли, подумать страшно.
— О чем вы, батюшка?
— Да что теперь старое поминать! Толковали они мне, будто ты почитала себя дочерью генерала Панина, будто потому его и привечала, что полагала свою мать покойную согрешившей противу супружеской верности.
— Боже мой, почему же вы раньше мне о том не сказали? Как такое мне в голову прийти могло? О матушке покойнице!
— И моя в том вина, что их бредни слушал. Да больно ловко все, что ни случись, правду их вроде бы подтверждала. А уж как ты вместо отца Панину и дом свой продавать поручила!
— Так ведь вы же, батюшка, и видеть меня не хотели! Уезжала я, проститься не то что со мной, со внуками не пожелали. Как камень мне на душу лег — все время об этом думала.
— Что тут скажешь — обошлось, и слава тебе Господи!
— Что еще там нового, Никита Иваныч?
— Княгиня Дашкова явится представляться, ваше императорское величество.
— Помнится, она достаточно давно приехала?
— Да не вчерась, только болела долго.
— Помню, помню, вечно у нее немощи да недуги были. Едва встанет и опять в постелю.
— Говорили, лихорадка, ваше величество. У графини Воронцовой ее видели, бледная — краше в гроб кладут.
— Гнилое дерево, Никита Иваныч, два века скрипит. Так, кажется, говорят?
— Истинно так, ваше величество. Только и дети у нее слабые, дочка особенно.
— Моя крестница. Помню. Выросла, поди.
— Того гляди, заневестится, а ни красоты, ни приданого толкового нет.
— Помочь ей придется. Дидро вон писал, очень осторожно себя вела. С Рюльером княгиня и видеться не стала. К госпоже Жоффреи ни ногой. Пишет, что сам диву давался, как Дашкова о престиже императрицы российской думала, каждый шаг рассчитала.
— Так как прикажете, ваше величество, ей представляться?
— Сразу и представляться! Со всеми пусть стоит — общего поклона ей хватит. А о деньгах, Никита Иванович, ты попомни.
— Сколько прикажете, ваше величество?
— Тысяч шестьдесят положи. Поди, совсем растратилась. Да и здешний дом генерал-дядюшка ей за ни почем спустил, метреску свою обихаживал.
— Когда послать прикажете?
— Завтра же и пошли. Осторожна-то она, может, и осторожна, а прыткости былой не потеряла. С кем только знакомства не свела, у кого не побывала. Со стороны — что твоя царственная особа вояж совершила, да еще с целой свитой. Где с английскими дамами — очень они ей по вкусу пришлись, а так везде с госпожой Каменской. Денег не пожалела за компаньонку такую доплачивать. Даже у Вольтера непременно с ней бывала.
— Даме в одиночестве неудобно.
— Думаешь, потому? Нет, Никита Иванович, княгиня о себе высоко мнит. Ей бы с императрицей за столом сам-друг сидеть, да еще чтоб императрица с ней одной беседу вела. А что изменилась Дашкова, нипочем не поверю. Так что ты, Никита Иванович, никаких преимуществ Дашковой не давай. Ее на дистанции держать надобно, чтоб место свое понимала.
— Как пожелаете, ваше величество.
— Да, а граф Воронцов начет свой выплатить изволил или тянуть продолжает?
— Еще с деньгами не собрался, однако обещает.
— Должен обещать, чтобы неприятностей не иметь. Сколько там за ним числится?
— Двадцать три тысячи, ваше величество.
— Немало, немало. Может, Катерина Романовна папашу-то и выкупит. Она всегда образцовой дочкой быть хотела. Вот к тому случай и представится. Сама не додумается, подсказать надо. Больно Роман Большой Карман совесть потерял. Гребет откуда может без зазрения совести. А еще говорят, яблоко от яблоньки недалеко падает! Уж чего-чего, а корыстолюбия за дочкой никогда не водилось. Последний рубль ребром ставить любила. Вот и тут пусть поставит.
Уехать. Скорее уехать. Все равно куда — лишь бы из России. Обращение императрицы все более невыносимо. Она прислала большую сумму денег, чтобы поддержать мои материальные обстоятельства, но на этом всякие отношения были прекращены. Все былые мои заслуги перед ее императорским величеством были оценены в семьдесят тысяч рублей, из которых треть пришлось передать батюшке на покрытие его начёта, грозившего серьезными и позорными последствиями. Остальные я решила оставить на приданое дочери, чтобы освободить от всяких обязательств отцовские имения для сына. Первым моим душевным движением было каким-то образом поблагодарить ее императорское величество, и если предложенная сумма была оливковой ветвью, выразить свою полную готовность к восстановлению наших былых отношений. Известие о победе нашего флота над турецким при Чесме и заключение Кучук-Кайнарджийского, столь почетного для России мира дали повод направить государыне поздравительное письмо, к которому я приложила прелестную картинку живописицы Анжелики Кауфман, изображающую девушку-гречанку. Сам сюжет заключал в себе намек на обстоятельства наших отношений и на мое освобождение от ига неприязни теперь уже бывших Орловых. Однако ответа не последовало, хотя от приближенных к государыне лиц я и узнала, что кисть художницы привела ее в искреннее восхищение. По-видимому, мне оставалось благодарить за щедрый жест императрицы моих французских друзей. Непомерные похвалы Дидро и Вольтера сделали свое дело, как и прошедшие со дня восшествия ее величества, на престол десять лет. Мне было дано достаточно явственно понять, что княгиня Дашкова должна не переступать своего положения статс-дамы, не пользующейся ни доверием, ни простым расположением монархини. Разочарованные придворные не нашли ничего лучшего, как начать меня сторониться. Болезнь сына, вызванная неудобствами того жалкого домишки, который только я и успела себе отстроить у Красного Кабака, оказалась очень серьезной. Только талант и самоотверженность доктора Роджерсона позволили сохранить ему жизнь, но не предотвратить мою болезнь, которой я расплатилась за неделю тревоги у постели сына. Мое отсутствие при дворе было замечено с неудовольствием. Государыня не сочла даже нужным справиться о здоровье своего крестника. Тем большее неудовольствие вызвала болезнь моей свекрови, закончившаяся ее смертью. Хлопоты у одра умирающей, а затем хлопоты в связи с похоронами не позволили мне сопровождать императрицу в ее поездке в Москву. Мои объяснения не были приняты. Я просто оказалась в числе людей, которые не попадают в поле зрения государыни ни при каких обстоятельствах. Ждать? Чего? Знакомство с новым фаворитом — князем Потемкиным — произвело на меня безотрадное впечатление. Князь не относится к людям просвещенным, не блещет образованностью. Его веселость остается веселостью казарм, а остроумие может действовать только на солдат. Тем не менее его грубость принимается за мужество, прямолинейность высказываний — за откровенность, которой в действительности он вовсе не грешит, бестактность — за оригинальность. За время обеда у моего дядюшки, генерала Еропкина, Потемкин успел похвастаться всеми своими военными подвигами и сообщить, что не ценит ученых, поскольку они не умеют ни сражаться, ни отстаивать интересов императрицы, но лишь вносить никому не нужную сумятицу в окружение императрицы. И это наше будущее? Все говорят, что государыня уже подлаживается под «потемкинский стиль» и восторгается им на каждом шагу, а цена, которую она готова заплатить за то, чтобы все Орловы исчезли с ее горизонта, представляется просто невероятной. Дядюшка Панин имел при себе отписку с него, которую я с первого же чтения запомнила почти что наизусть. И это конец первого периода великого царствования!
— Ваше величество, княгиня Дашкова имеет просить у вас апшид. Когда изволите и изволите ли ее принять?
— Принять? Ни в коем случае.
— Княгиня непременно обратится к вашему величеству с этой просьбой.
— Что за неспокойный дух у этой женщины! Кажется, побывала в европейских краях, кажется, хорошо была встречена — и снова!
— Княгиня утверждает, что хотела бы дать сыну Павлу, вашему крестнику, воспитание, достойное вашего царствования.
— Слова! Одни слова! Все ее честолюбие и желание быть не такой, как все. Так ли много нужно будущему офицеру!
— Ее семейные обстоятельства…
— Полноте, Никита Иванович! У княгини всегда были необыкновенные обстоятельства. Люди рождаются, женятся, умирают, но никогда никто не устраивает вокруг этих обычных жизненных обстоятельств столько шуму, как она. Обстоятельства! Даже старуху свекровь она хоронила несколько недель, возила покойницу, сказывал мне Василий Иванович, по всем монастырям.
— Ваше величество, у меня нет ни малейших оснований выступать в защиту княгини, но граф Александр Романович Воронцов усиленно просил снизойти к ее просьбе.
— У такого достойного человека и такая баламутная сестра! Из-за похорон свекрови, у которой остались родные дочери, которые вполне могли позаботиться о матери и ее последней воле, княгиня не соизволила выполнить своих обязанностей статс-дамы. Просто для нее это удобный повод снова погрузиться в глубокий траур, хотя, кажется, никакой подлинной привязанности она к старухе не испытывала, да и с чего бы.
— Вы имеете в виду московский дом, ваше величество? Это верно, что старая княгиня истолковала последнюю волю своего супруга в свою пользу и передала дом внучке.
— Сам видишь, Никита Иванович.
— Но обстоятельства похорон мне известны от графа Воронцова. Старая княгиня завещала похоронить ее в Новоспасском монастыре вместе с супругом своим и его семейством, а властями церковными это было запрещено.
— Что же из этого? Так нужно после этой ужасной эпидемии. Для всей Москвы приказ хоронить покойников в особо отведенных местах за городом.
— Катерина Романовна рассчитывала на исключение.
— И напрасно. Я не сочла нужным отвечать на ее прошение. Почему же она не подчинилась общим правилам?
— Просто она предпочла найти какой-то удаленный от Москвы монастырь, где когда-то хоронились Дашковы и увезти покойницу туда.
— Василий Иванович утверждает, что с ней не поехал никто из семейства Дашковых.
— Кажется, так, ваше величество.
— А в конце концов, пусть едет за границу, но никаких отдельных прощаний.
— Ты собираешься просватать Анастасию? Бог с тобой, сестра! Племянница и слишком молода, чтобы торопиться, да и нездорова. К чему же такой спех?
— Видишь ли, Елизавета Романовна, я собралась ехать за границу для окончания образования Павла.
— И племянница будет тебе мешать.
— Нет, нет, как ты можешь так говорить! Но…
— Какое же «но»? Ты бросишь ее здесь в чужой семье.
— Семья мужа всегда поначалу бывает чужой. Дело Анастасии к ней примениться.
— Ты думаешь о собственном примере? Но ведь у нас не было матери.
— Я буду с тобой откровенна, есть обстоятельство, которое меня беспокоит более всего. Мы можем не найти другого жениха — Анастасия кривобока.
— Полно, хорошее приданое покрывает все грехи и огрехи. Ты же сама толковала, что помощь императрицы тебе дала возможность составить Настеньке неплохое приданое. Да и после тебя ей есть на что рассчитывать. Неужто при таких обстоятельствах и жениха не найти?
— Замужество всегда дело счастливого случая. Правда, я не слишком знаю Александра Евдокимовича, но все говорят, что нрава он кроткого, мягкого, женой командовать не станет.
— Так это ты на Щербинине остановилась?
— На нем.
— Вот оно что! Да, партия неплохая. А как его родители?
— Насколько я знаю, радуются такой возможности для сына. Но они предпочитают Москве жизнь в своем имении. Мне говорили, оно великолепно.
— И они не возражают… Тебе это не кажется странным? В конце концов, Настенька не такая уж завидная партия.
— Но род Воронцовых и Дашковых…
— Э, полно, сестра! Щербинины Дашковым никак не уступят, а о Воронцовых в смысле древности нечего и говорить. У этих старых дворян спеси хоть отбавляй.
— Почему тебя это так волнует, Елизавета Романовна? Молодые люди познакомились, понравились друг другу, родители не возражают — чего же еще нужно?
— Счастья, матушка-сестрица, счастья, только и всего.
— Ты сама знаешь, предугадать нам ничего не дано, браки совершаются в небесах, и если уж судьба…
— …Тебе освободиться от лишней обузы, почему бы того и не сделать.
— Ты опять за свое! Настя станет женой Щербинина, и весь сказ. А чтобы доказать тебе, что насчет обузы ты не права, скажу тебе другую новость: молодые поедут со мной за границу, если императрица мне этот вояж вообще разрешит.
— Разрешит, разрешит, в этом не сомневайся. Как же это ее императорское величество перед корреспондентами своими европейскими насильницей да тиранкой выглядеть будет. Да ни за что на свете!
— Вот тут, пожалуй, ты и права. А Аннет помочь не захотела. Так, бедняжка, и померла графиней Строгановой. Ведь ничего не стоило крестницу покойной императрицы освободить от уз брачных, коли такими ненавистными стали.
— И тем своего любимца графа Александра Сергеевича жениного состояния лишить.
— Ты напрасно подозреваешь Строганова в меркантилизме. Граф выше денежных расчетов, да и слишком богат для них.
— Богатство к богатству идет — дело известное. Государыня императрица такого правила не нарушит.
— Мне передали, княгиня, о вашем желании снова оставить Россию. На этот раз по какой причине?
— Ваше величество, если бы вы были так милостивы…
— Я повторяю, Катерина Романовна, свой вопрос: что же вас все-таки гонит от двора и России? Кажется, дети ваши пользуются отменным здоровьем. Дочь вы поторопились сосватать. Так в чем же дело?
— Государыня, я имею в виду только образование сына.
— Он не может его получить в России? К какой службе вы собираетесь его готовить, княгиня?
— Конечно, военной, государыня.
— Так чего же молодому человеку для нее не хватает?
— Государыня, вы всегда говорили, что слишком образованным человек не может быть.
— Но есть разница между ученым человеком и капралом-профессором, каким вы, вероятно, решили сделать своего сына. Вам стоило хотя бы пожалеть его юность. Знаю, он не видит ничего, кроме книг и занятий.
— Я имела в виду прежде всего предоставить вам, ваше величество, отличного офицера.
— Это трогательно. Так какой же план вы придумали?
— Если бы мне посчастливилось получить многомилостивое разрешение вашего императорского величества, я бы направилась с князем Павлом в Эдинбургский университет. Созвездие профессорских имен заставляет предположить там идеальное место для образования современного молодого человека.
— Кого вы имеете в виду?
— Прежде всего самого ректора — господина Вильяма Робертсона.
— Историка, не правда ли? И если память мне не изменяет, королевского историографа Шотландии.
— Государыня, ваши познания, как всегда, ошеломляют.
— Они не так обширны в отношении этого пресвитерианского пастора. Я всего лишь перелистывала его «Историю Шотландии в период от королевы Марии до короля Якова VI». Робертсон на редкость ревностный защитник существующего государственного строя, но не менее ревностно отстаивает свободу совести и слова. Вопрос в том, насколько подобные устремления совместимы. Если это даже и удается автору, то, безусловно, никогда не удастся обыкновенным читателям.
— Осмелюсь обратить внимание вашего величества на то, насколько ясно и беспристрастно Робертсон излагает факты.
— Об этом трудно судить в отношении другой страны.
— Так утверждают его соотечественники.
— Но в таком случае как объяснить его предубеждение против несчастной Марии Стюарт, княгиня? Впрочем, все это частности. А кого вы имеете в виду, кроме Робертсона?
— Прежде всего Джемса Фергюссона.
— Портретиста?
— Ваше императорское величество, живопись, насколько мне известно, лишь один из способов побочного заработка этого прославленного математика и астронома. Его специальные труды не обеспечивают ему достаточных средств к существованию. Даже изобретенная им машина для вычисления солнечных затмений лишь очень недолго занимала соотечественников.
— Может быть, его приглашение в нашу Академию наук имело бы смысл?
— Мне трудно судить, государыня, но как преподаватель математики он, несомненно, может принести пользу моему сыну.
— Вас интересует специально математика?
— И да, и нет, ваше величество. Меня нисколько не меньше интересует Гуг Блэр. Он уже несколько лет ведет в Эдинбургском университете кафедру риторики и изящной словесности.
— Мне незнакомы его труды.
— Ничего удивительного, государыня. До настоящего времени Блэр печатает главным образом статьи. Он издатель журнала «Эдинбургское ревю» и деятельно помогал в издании песен Оссиана, не сомневаясь в их подлинности. Но настоящая цель моих стремлений — Адам Смит.
— Великий английский эконом. Так, во всяком случае, о нем отзывается кто-то из моих парижских корреспондентов. Знаю, что он сопровождал молодого герцога Бёккле во Францию, где познакомился со многими учеными и литераторами, произведя на них положительное впечатление. Что ж, вы отлично подготовились к поездке, княгиня, и у меня нет морального права помешать вам ее совершить. Остается только напомнить вам, что вы вновь и вновь пренебрегаете вашими придворными обязанностями. Подумайте об этом — между лекциями о солнечных затмениях.
Глава 13 Гражданка мира
Недовольство государыни — на этот раз оно меня оставило совершенно равнодушной. Я поймала себя на мысли, что если бы даже не польза сына, я все равно стремилась бы к отъезду. Чем скорее, тем лучше. Обстановка двора невыносима. Общее ожидание смены фаворитов, появления новых, расчеты, сплетни, слухи — и никаких разговоров об искусстве, литературе, политике, которыми когда-то так увлекалась великая княгиня. Между великой княгиней и императрицей лежит такая же пропасть, как между былой симпатией к княгине Дашковой и нынешней неприязнью к ней же. Стоит ли обманывать себя!
Впрочем, мне показалось, что в недовольстве императрицы была и тень удовлетворения возможностью избавиться от меня. Отъезд мой оказался поспешным и потому не слишком продуманным. Поездка по Псковской дороге преследовала цель навестить моих новых родственников — стариков Щербининых — в их большом и удобном поместье. Но скука быстро взяла верх над всеми требованиями этикета, и я поспешила, как только к тому представился благовидный предлог, отправиться дальше, где меня ожидала страшная опасность. В краю, лишенном всяких докторов, мой сын заболел корью, которая передалась ухаживающей за ним Анастасии. Только через пять с лишним недель в Варшаве жизнь обрела для меня краски, но ненадолго. Не успели мы устроиться в Спа, как родители Щербинина стали настойчиво требовать возвращения сына. Разлука с ним, о которой мы, казалось, во всех подробностях договорились, неожиданно показалась им невыносимой. Александр Евдокимович слишком охотно подчинился капризу стариков, согласившись даже на разлуку с Анастасией, которая решилась остаться со мной. Ее впечатления от Щербининых мало чем отличались от моих собственных. Привыкшая к более просвещенному обществу, она заранее ужасалась перспективе долгого пребывания с ними. Тогда же, из Спа, я обратилась с письмом к ректору Эдинбургского университета, сообщая ему о своем намерении поместить в его университет князя Павла и назначая срок его курса в два с половиной года вместо четырех с половиной, на чем настаивал господин Робертсон. Мой план занятий сына был продуман во всех подробностях, о которых я и ставила в известность ректора.
Языки:
Латинский. Начальные трудности все побеждены.
Английский. Князь очень хорошо понимает прозу и отчасти стихи.
Немецкий. Понимает совершенно все.
Французский. Знает, как собственный язык.
Словесность:
Он знает лучше классические произведения, его вкус больше образован, чем это бывает обыкновенно в его возрасте. Он имеет излишнюю наклонность к критицизму — что, может, составляет естественный недостаток его.
Математика:
Весьма важная отрасль учения. Он довольно успел в разрешении сложных задач, но я хочу, чтоб он дальше шел в алгебре.
Гражданская и военная архитектура:
Я хочу, чтобы он подробно изучил их.
История и государственные учреждения:
Он знает всеобщую историю, и в особенности историю Германии, Англии и Франции. Но ему следует еще подробнее пройти историю; он может заниматься ею дома с учителем.
Теперь вот что я желаю, чтобы он изучил:
1. Логику и философию мышления. 2. Опытную физику. 3. Несколько химии. 4. Философию и натуральную историю. 5. Естественное право, народное право, публичное и частное право в приложении к законодательству европейских народов. 6. Этику. 7. Политику.
Пяти семестров, при строгом соблюдении намеченного плана, должно было хватить, тем более юноше со свежей памятью и явной способностью логического мышления. И я была искренне рада, когда господин Робертсон согласился со мной. Оставалось добраться до Эдинбурга.
— В этом замке вы не можете не увлечься историей, княгиня. Голирудгоуз, если хотите, памятник королевы Марии.
— Несчастной королевы, господин Робертсон.
— Несчастной? Вы судите о ней как женщина — не как историк.
— А существует разница?
— Несомненно. Суд историка должен основываться на голых фактах и их последствиях. Суд женщины — на впечатлениях и аналогиях с собственными переживаниями. Это шаткая почва для подлинного изучения.
— А может быть, все выглядит иначе, господин Робертсон? В своем лишенном эмоционального начала подходе ученый проходит мимо чисто человеческих черт, обстоятельств и слабостей. В результате он проходит мимо живого человека и его выводы теряют объективность.
— Но в жизни того же человека существует главная цель, поднимающая его над обстоятельствами и побуждениями минутной слабости или преходящими увлечениями. История не может судить человека по этим последним, и уже во всяком случае, если они господствуют, человек опускается до уровня злосчастной Марии Стюарт, рядом с покоями которой находятся ваши комнаты, княгиня.
— Это обстоятельство и заставляет меня часто обращаться мыслью к этой королеве, ее второму замужеству. Остановить свой выбор на лорде Дарнлее, таком трусливом и ничтожном!
— Разве так не поступают даже очень умные женщины? Разве им не бывает достаточной красота, молодость, светский лоск? Вам не знакомы подобные примеры?
— Конечно, знакомы, и во множестве. Мне кажется, вина королевы только в том, что она выдала свое разочарование.
— И оскорбленный лорд Дарнлей приказал убить ее секретаря и любимца итальянца Риччи у дверей, мимо которых вы каждый день проходите. Тогда-то королева и бежала отсюда в Дунбар. Впрочем, это никак не послужило королеве уроком. Она не стала искать примирения с супругом и обратила свое внимание на графа Ботвелла.
— Это было недостойно королевы!
— Только ли это! Ботвелл с друзьями удавил Дарнлея, взорвал его дом, стал убийцей в глазах всего народа, что не помешало Марии назначить его великим адмиралом, развести с молодой женой и обвенчаться с графом по обоим обрядам — католическому и протестантскому.
— Сэр, я готова согласиться с вами. Монархиня, забывшая об интересах государства, отдавшаяся на волю страстей, не имеет права на уважение.
— Но вся беда монархов, княгиня, в том, что собственные страсти они не отделяют от интересов государства, и Мария, предавшая того же Ботвелла, считала, что поступает так ради интересов своей родины, а не потому, что обрела в нем жестокого и бесчувственного тирана, помыкавшего ею. К тому же она была очень красива.
— Но какое же это может иметь значение!
Возвращение в Петербург… Господи, как неумолимо оно приближается. С получением сыном ученой степени магистра искусств у нас нет оснований задерживаться в Европе. К тому же возраст князя Павла предполагает зачисление его на службу. Письма родных полны советов не откладывать рокового для меня часа. К сожалению, государыня не забыла о моем отсутствии и время от времени осведомляется об успехах князя Павла, о котором отзывается не иначе как о своем крестнике. Родные убеждены, что это хороший знак, который обеспечит сыну успешное продвижение по службе, но они не обманывают меня в отношении открытой неприязни ко мне императрицы. Брат Александр уверен, что внешний мир поддерживается главным образом тем добрым приемом, который оказывается мне всеми выдающимися умами Европы и всеми монархами, любезно настаивающими на моем представлении им и их семьям. В Петербурге считают все мои визиты и комментируют каждый мой шаг. Но во что уж совсем трудно поверить, будто оказавшиеся в немилости Орловы стали почтительно отзываться обо мне. Сестра Елизавета подробно описала разлад между императрицей и Григорием Орловым, который, несмотря на все оказанные ему милости и благодеяния, без памяти влюбился в собственную кузину. Тринадцатилетняя простенькая девочка со слабым здоровьем одержала победу над императрицей. Так, во всяком случае, шептали при дворе, и нет сомнения, что шепот этот доходил до ушей государыни, раня вновь и вновь ее самолюбие. Мне передали слова государыни об Орлове, что Григорий Григорьевич был гений, силен, храбр, решителен, но мягок как баран, и притом с сердцем курицы. Но мне трудно было забыть условия прощания с семьей любимцев, которые предлагала со своей стороны императрица, желая мирного завершения отношений.
«Полтораста тысяч, которые я ему жаловала ежегодно, я ему впредь оных в ежегодной пенсии производить велю из Кабинета. На заведение дома я ему жалую однажды ныне сто тысяч рублей. Все дворцы около Москвы или инде, где они есть, я ему дозволяю в оных жить, пока своего дома иметь не будет. Людей моих и экипажи, как он их ныне имеет, при нем останутся, пока своих не заведет; когда же он их отпустить за благо рассудит, тогда обещаю их наградить по мере ему сделанных от них услуг. Я к тем четырем тысячам душ, кои еще граф Алексей Григорьевич Орлов за Чесменскую баталию не взял, присовокупляю еще шесть тысяч душ, чтоб он оных выбрал или из моих московских, или же из тех, кои у меня на Волге, или в которых уездах сам заблагорассудит, всего десять тысяч душ. Сервиз серебряной французский выписной, которой в Кабинете хранится, ему же графу Гри. Гри. жалую совокупно с тем, которой куплен для ежедневного употребления у Датского посланника. Все те вещи, которые хранятся в каморе цалмейстерской и у камердинеров под наименованием его графских и коих сам граф Гри. Гри. Орлов о многих не знает, ему же велю отпустить…» Теперь все эти богатства составили состояние счастливых молодых.
Государыня со свойственным ей благородством отказалась от предложенной придворными льстецами возможности расторгнуть брак Орловых через Синод ввиду их близкого родства. Напротив — чтобы прекратить недостойные перешептывания, она наградила молодую графиню собственным портретом, купила у нее наследственную подмосковную Коньково. Графу оставалось самому понять, что, несмотря на все эти знаки внимания, его присутствие при дворе нежелательно. Ему было разрешено выехать за границу, тем более что того требовало и быстро ухудшавшееся здоровье обожаемой им супруги. Если, с одной стороны, подобная перемена обстоятельств при дворе могла облегчить продвижение по службе сына, то с другой — место около императрицы успели занять иные любимцы, также не дарившие меня своими симпатиями. Достаточно сказать о Григории Александровиче Потемкине, который на протяжении многих месяцев не счел нужным отвечать на мое письмо по поводу дальнейшей судьбы моего сына. Все худшие опасения и воспоминания нахлынули на меня, когда случайно я встретилась с четой Орловых в доме знаменитого врача Гобиеса в Брюсселе. Собственно, встречи не было. Мы увидели друг друга через щель приоткрытой врачом двери. Орловы, по всей вероятности, не хотели афишировать своего визита к медику, я же неожиданно для Гобиеса зашла без предупреждения, чтобы выразить ему свое уважение. Настоящая встреча состоялась в тот же день у меня дома, куда граф решил без приглашения явиться.
— Я пришел к вам другом, а не врагом, княгиня.
— Это дело вашей совести, граф.
— Вы можете не поверить мне, но мной руководит желание облегчить предстоящее вам возвращение в Россию. Оно не будет таким легким, как вам может казаться.
— Я не льщу себя никакими надеждами, кроме желания исполнить свой долг перед государыней и представить ей своего сына, завершающего намеченное мною образование.
— Тем лучше. Насколько мне известно, он записан при рождении в кирасирский полк?
— Да, таково было желание его отца, поддержанное государыней, которая милостиво повелела производить его в чинах, пока не подойдет срок его действительной службы.
— И вы уверены, что это производство производилось?
— У меня нет оснований сомневаться в том, что распоряжения императрицы исполняются.
— Слова, княгиня, пустые слова! Думаю, что в России вас будет ждать горькое разочарование.
— Пока оно не наступило, у меня нет оснований о нем думать.
— Это неосмотрительно с вашей стороны. Но вот что я хочу вам предложить, княгиня. Я продолжаю числиться командиром конногвардейского полка и могу взять вашего сына к себе, что позволит сразу повысить его на два чина. Как бы ни обстояло дело с его производством, вы будете достойно вознаграждены в своих хлопотах и беспокойствах.
— Благодарю вас, граф, но я уже обратилась с запросом к президенту Военной коллегии князю Потемкину и до получения ответа не стану предпринимать никаких иных шагов.
— Вы рассчитываете на ответ? Ваше дело. Но имейте в виду, мое предложение остается в силе. Кстати, я не видел молодого человека красивее вашего сына. Думаю, моя поддержка такого красавца принесет одинаковую пользу и ему, и мне. Как видите, княгиня, судьба сводит нас во второй раз. Я не счел возможным не нанести вам визита перед нашим отъездом с женой в Париж и Швейцарию. Говорят, швейцарский климат творит чудеса.
— Я желаю, чтобы вы в этом убедились на примере вашей супруги.
— Благодарю, княгиня, но у меня не идет из ума ваш сын. Вы не должны упустить ничего из тех преимуществ, которые может принести появление такого сокровища при дворе. Не смущайтесь, князь. Я уверен, что вы легко затмите фаворита. А так как в мои обязанности с некоторых пор входит утешать тех, которые получают отставку, благо случается это достаточно часто, я с удовольствием сделаю это в отношении того, кто принужден будет уступить вам свое место. Думаю, это чудеса, которые раскроет перед вами русский двор, затмят все ваши впечатления от чудес европейских.
— Друг мой, не откажи принести мне увраж о Рембрандте, который остался в маленькой гостиной, и не торопись с ним, князь. Я всегда боюсь, что ты так стремительно сбегаешь по мраморной лестнице.
— Вы хотите меня познакомить с этим изданием, княгиня?
— О нет. Я просто хочу удалить сына, чтобы сделать вам, граф, замечание. Я считаю тему вашего разговора одинаково неуместной в присутствии семнадцатилетнего мальчика и неприличной в отношении ее императорского величества. Я не знаю, кого вы имеете в виду под словом «фавориты» — мне не довелось встречаться с подобными лицами при дворе.
— Даже если их комнаты находятся во дворце рядом с личными покоями императрицы?
— Что из этого? Как вам известно, мы с князь Михайлой жили в подобных комнатах. Если государыня отдает распоряжение так разместить своих генерал-адъютантов, значит, того требует удобство при исполнении обязанностей, которые им поручены. Вы хотите набросить тень даже на пребывание рядом с ее императорским величеством Мавры Саввишны Перекусихиной?
— Не понимаю вашей игры, княгиня. Наивность в вашем возрасте не производит благоприятного впечатления и может только смешить даже императрицу.
— Но так и только так воспитан мой сын, и я не допущу смущать его мысли подобными двусмысленностями, для которых, я в этом уверена, действительность не дает решительно никаких оснований.
— Вы неисправимы, княгиня. С вами так же трудно и бесцельно говорить, как и восемнадцать лет назад. Только поверьте, ваша игра не идет на пользу ни вам самой, ни императрице. А впрочем, прощайте.
Тучи сгущались. Перспектива превращения князя Павла в фаворита стареющей женщины, при всех высочайших душевных качествах императрицы, наполняла меня ужасом. Но немногим лучше была перспектива враждебного отношения к князю Павлу со стороны фаворита, который усмотрел бы в нем возможного соперника. Оставалось по возможности продлить то образовательное путешествие, которое я еще могла предпринять для сына, не вызывая гнева императрицы. Уповать можно было только на счастливое стечение обстоятельств и изменение вкусов государыни.
В Париже меня ждали не только встречи со старыми друзьями. Избежать приглашения Версальского двора не представилось возможным. Молодую королеву отличало не слишком доскональное знание этикета, поэтому все мои ссылки на невозможность его нарушения мною, как статс-дамой российской императрицы, не были приняты во внимание. Мария-Антуанетта пожелала, чтобы я приехала в Версаль в покои ее подруги и воспитательницы детей госпожи де Полиньяк, чтобы мы обе, как она изволила выразиться, чувствовали бы себя свободно. Выданная замуж за дофина, она, судя по разговорам, сначала не испытывала никаких чувств к своему супругу и лишь постепенно стала привыкать к своим обязанностям супруги, но не королевы. «Австриячка», как ее называли, слишком деятельно принимает участие в политике и умеет подчинить своим соображениям короля. Мое любопытство было, естественно, задето, хотя, должна признаться, мое собственное поведение при встрече с ее королевским величеством не стало примером придворного такта. Когда королева поинтересовалась моими детьми, сославшись на ставшее известным ей их искусство танцевать, я имела неосторожность заметить, что танцы все же лучше бессмысленной траты времени за карточными столами. И это притом что королева была азартным игроком, не имея возможности обратиться к танцам, потому что по существующему порядку при французском дворе дамам можно танцевать лишь до двадцати пяти лет. Уже на следующий день мой промах стал известным всему Парижу, и мне оставалось только благодарить Бога, что он не оказал, кажется, никакого влияния на неизменную любезность и сердечность ее королевского величества.
Хотя мы часто виделись с Дидро, ежедневные завтраки я предпочла на этот раз проводить с аббатом Рейналем, у которого всегда к этому времени собиралось интересное общество. Мне были знакомы ранние труды этого превосходного историка и философа. Я читала и его историю Нидерландских Штатов, направленную против принцев Оранских, и историю Английского парламента, и «Политические мемуары Европы». Но настоящим событием стало появление «Истории политической и философской, утверждения и торговли европейцев в двух Индиях». Изданное без имени автора, это произведение было усиленно рекомендовано мне Дидро, уверявшим, что интерес к Рейналю мало чем уступает среди просвещенной публики интересу к сочинениям Вольтера. Дидро, несомненно, импонировал атеизм автора, но в еще большей степени поднимаемые им вопросы о деспотизме и свободе. Общение с аббатом было тем интересней, что он никогда не скрывал резкости своих мыслей и не искал для них литературных форм, скрывающих ясность идеи.
С моей стороны было не слишком последовательным, ведя разговоры о естественных правах человека, одновременно тратить время на позирование скульптору Гудону. Но мне трудно было отказать дочери, настаивавшей на выполнении моего портрета этим талантливым мастером. После длительного обучения в Италии Гудон недавно был возведен в звание академика. Его первым произведением по возвращении из пенсионерской поездки во Францию был бюст Дидро, обративший на него внимание государыни, портрет которой почти сразу был ему заказан. Дидро говорил, что в Салоне 1777 года почти половина представленных скульптур принадлежала резцу Гудона. Мы же оказались свидетелями его нового триумфа — превосходной статуи Дианы. Восторги по поводу таланта ваятеля были так велики, что мне бесполезным представлялось пытаться оспаривать трактовку моего облика. Гудон превратил меня в великолепную французскую герцогиню вместо той простушки, которой я в действительности оставалась. Я скорее видела себя героиней оперы Киампи «Капризы любви, или Нинетта при дворе», которую с таким успехом исполняли воспитанницы устроенного государыней для воспитания девочек Смольного института. Когда я посетовала на это обстоятельство Дидро, он не согласился со мной, сказав, что прежде всего я являюсь олицетворением блистательного двора Великой Екатерины.
Я по-прежнему увлекалась искусством, стараясь бывать в мастерских художников и приглашая их по возможности к себе, как господина Фальконе и его верную ученицу мадемуазель Колло. Разочарование, принесенное скульптору Петербургом, где он не смог остаться даже на открытие своего монумента Петру Великому, вполне разделяла и мадемуазель Колло, хотя именно ее императрица постоянно загружала заказами и уговаривала остаться. По возвращении из России мэтр перестал заниматься своим искусством, погрузившись в составление и издание записок. Так что работает в его ателье одна Колло, которая, как оказалось, вышла замуж за сына скульптора, но почти сразу и навсегда с ним рассталась. Все ее интересы сосредоточены вокруг учителя, которого, как мне кажется, ей и приходится на свои заработки содержать. К сожалению, мадемуазель Колло подтвердила все тот же упорный слух о будущем фаворитизме моего сына, дошедший до них из Петербурга и усиленно муссируемый во Франции.
Простое перечисление местностей, которые мне довелось проехать и осмотреть, заняло бы целую тетрадку. Добрые знакомые не давали мне пропустить ни одной достопримечательности, а материальное положение давало возможность начать кое-что приобретать для своей коллекции. Более всего меня интересовали минералы, окаменелости, гербарии и архитектура. Я повсюду выискивала увражи, посвященные отдельным великим зодчим и их творениям. За Парижем последовали Верден, Мец, Нанси, Безансон, Берн и Женева, где мой старый друг Гюбер Робер преподнес мне портрет Вольтера собственной работы. На этот раз мне даже удалось увидеть необычные деревеньки Локль и Шо-де-Фон, куда можно было добраться только на местных маленьких экипажах. Через Савойю и Мон-Сенис мы добрались до Турина, где были представлены королевской семье и мой сын получил разрешение сардинского короля осматривать все сооруженные им укрепления, что должно было пригодиться князю Павлу в его последующей военной службе, на которую я продолжала твердо надеяться. Мы побывали на озерах Маджиоре и Лугано, на Борромейских островах и через Парму и Модену приехали во Флоренцию, чтобы посвятить целую неделю осмотру ее художественных сокровищ.
В Пизе я посвятила еще больше времени лечению на местном морском курорте, хотя сезон был неблагоприятен из-за опасности заболеть малярией. Для меня естественный страх перед болезнью был преодолен возможностью пользоваться книгами из герцогской и публичной библиотеки и особенно из различных монастырей. В великолепном дворце графа Мочениго мы получили удобные покои, позволившие целиком посвятить себя в жаркое время чтению. Памятники архитектуры обращали нас к отдаленным временам, как выстроенный в одиннадцатом веке и украшенный добычей, отнятой пизанцами у сарацин, собор. Специально для меня были устроены игры иль джокко дель понто, или игры на мосту, в которых простолюдины, вооруженные плоскими дубинами с двумя рукоятками, одетые в длинные плащи, каски и шлемы с цветами своих приходов, сражаются друг с другом. Кажется, эти варварские развлечения должны быть вскоре запрещены, потому что ведут к многочисленным смертям и увечьям.
В Лукке мне посчастливилось всерьез заняться административным устройством города с выборным советом, состав которого должен полностью ежегодно меняться. Ни одному дворянину не разрешается два года подряд оставаться в совете. Совершенно так же выбираются из числа дворян и все должностные лица и магистраты, срок полномочий которых не превышает трех лет. Все выборы обставляются с большой торжественностью. Билетики с именами кандидатов опускаются в специальные ящики, причем под большим секретом, чтобы никто не мог увидеть написанных на них имен. Поскольку в Луккской республике нет каторги, преступников высылают в Геную, где их охотно принимают. Беспошлинный вывоз и ввоз товаров обеспечивает республике подлинное процветание, одним из проявлений которого стал образцовый карантинный госпиталь, основанный герцогом Леопольдом, братом императора Иосифа. Я с детьми, приняв необходимые меры предосторожности, осмотрела этот содержащийся в образцовом порядке госпиталь и велела снять его план, с тем чтобы направить императрице. Это оказалось тем легче сделать, что Николай Александрович Львов как раз возвращался в Петербург и любезно взялся передать государыне планы госпиталя и письмо, в котором я взяла на себя смелость пожаловаться на военного министра князя Потемкина, не ответившего на мою просьбу о дальнейшей судьбе сына. Я напомнила, что зачисление Моего сына в полк при рождении было сделано по милостивому соизволению его крестной матери, и у меня есть все основания полагать, что он так и остался при первом чине, который получил четырех лет.
В Риме мне посчастливилось удостоиться беседы с Папой Римским. В Неаполе я осмотрела бесценные сокровища раскопок из Помпеи, Геркуланума и других мест. На приемах у короля я решилась высказать свое мнение о том, как было бы разумно утроить число рабочих, работающих в Помпее, чтобы не просто полностью очистить ее от пепла, но и восстановить полную картину былой жизни, вплоть до объявлений на домах, что, несомненно, привлекло бы толпы путешественников, готовых платить любую плату за вход в подобную сокровищницу. С удовольствием приняв мои восторги, король изволил передать мне в подарок великолепное издание всех найденных предметов в нескольких томах. Мне довелось даже подняться на вершину Везувия и в конце концов получить письмо от императрицы с назначением, сына, камер-юнкером в чине бригадира. Я поспешила с ответом, в котором умоляла государыню не давать сыну придворного звания, а дать возможность продвижения по военной службе, к которой он должным образом подготовлен и всегда чувствовал призвание. Срок нашего возвращения я определила в один год, хотя, конечно, могла бы значительно быстрее достигнуть Петербурга.
Мы снова направились в Рим, куда должен был приехать великий князь Павел Петрович с супругой. За Римом последовали Лоретто, Болонья, Феррара, Венеция, где я накупила множество старинных эстампов и две картины Каналетто, Падуя, Виченца, Верона и Вена. Несмотря на болезнь глаз, император Иосиф пожелал познакомиться со мной, а его премьер-министр князь Кауниц, несмотря на все свое высокомерие и тщеславие, пригласил нас обедать.
— Вы довольны своим путешествием, княгиня? Удивляюсь, как императрица согласилась на ваше столь долгое отсутствие.
— Может быть, потому, ваше сиятельство, что я посвятила это время подготовке одного из ее офицеров, который, если Бог услышит молитвы матери, займет достойное место в русской армии.
— Во всяком случае, вы следуете в воспитании своей оригинальной методе. Я слышал, вы побывали в большинстве европейских государств?
— Насколько это было возможно.
— А вот меня, напротив, интересует ваша страна, тем более что она так молода.
— Что вы подразумеваете под молодостью страны, ваше сиятельство?
— То, что Россия была создана Петром Первым.
— Я не могу с вами согласиться, князь. Россия существовала как могущественное государство задолго до Петра. Хочу напомнить, что до рождения этого императора были покорены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, разгромлена угрожавшая всей Европе Золотая Орда.
— Все так, но не будете же вы отрицать, княгиня, что именно Петр сблизил Россию с Европой, которая только со времени его правления узнала по-настоящему вашу страну.
— Великая империя, князь, имеющая столь неиссякаемые источники богатства и могущества, как Россия, не нуждается в сближении с кем бы то ни было. Столь грозная масса, как Россия, правильно управляемая, притягивает к себе кого хочет. Если Россия оставалась неизвестной до того времени, о котором вы говорите, ваша светлость, это доказывает — простите меня, князь, — только невежество или легкомыслие европейских стран, игнорировавших столь могущественное государство.
— Положим, и все же я удивляюсь вашему отношению к столь прославленному и мудрому государю. Насколько мне известно, ваша императрица сооружает ему памятники, а вы, ее близкий друг, придерживаетесь прямо противоположных взглядов.
— В доказательство того, что у меня нет предубеждения против Петра Первого, князь, я искренно выскажу вам свое мнение о нем. Он был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был совершенно невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его разумом. Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными все терпеть; его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно введенные им, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный, самобытный характер наших предков. Если бы он не менял так часто законов, изданных даже им самим, он не ослабил бы власть и уважение к законам. Он подорвал основы Уложения своего отца и заменил их деспотическими законами; некоторые из них он сам же отменил. Он почти всецело уничтожил свободу и привилегии дворян и крепостных; у последних он отнял право жалобы в суд на притеснения помещиков. Он ввел военное управление, самое деспотическое из всех, и, желая заслужить славу создателя, торопил постройку Петербурга весьма деспотическими средствами: тысячи рабочих погибли в этом болоте, и он разорил дворян, заставляя их поставлять крестьян на эти работы и строить себе каменные дома в Петербурге; это было ужасно тяжело. Он построил Адмиралтейство, хотя вода в Неве так мелка, что на этих верфях строят только корпуса судов, которые затем с величайшим трудом и расходами заключают в камели и перетаскивают в Кронштадт, — этого он мог и не делать, зная, что даже большие или сильно нагруженные суда не могут дойти до Петербурга. При Екатерине Второй город увеличился в четыре раза и украсился великолепными строениями, и все это совершилось без насилия, поборов и не вызывая неудовольствия.
— Мне остается признать, что вы много размышляли над этим вопросом, княгиня, и, несомненно, владеете данными, которых я попросту не знаю. Но все же согласитесь, что монарх, самолично работающий на верфи, представляет великолепное зрелище.
— Я убеждена, что вы говорите это шутя, так как сами знаете, что время монарха слишком драгоценно, чтобы тратить его на работы простого мастерового. Петр Первый мог привлечь к себе не только плотников и строителей, но и адмиралов. Он пренебрегал своими прямыми и важнейшими обязанностями, работая в Саардаме, чтобы стать плотником и испортить русский язык, примешивая к нему голландские окончания и термины, которыми переполнены его указы и все относящееся до морского дела. Ему незачем было посылать дворян изучать ремесла садовника, кузнеца и так далее, каждый дворянин с удовольствием уступил бы двух-трех своих крепостных, чтобы научить их этому делу.
— Вы не будете возражать, княгиня, если я передам содержание нашей беседы моему императору?
— Полноте, князь, какая в этом нужда? Я не могу считать себя специалистом ни в одной из тех областей, которой сейчас пришлось походя коснуться, и уж во всяком случае не решусь соревноваться в познаниях с таким просвещенным монархом. Я могу только извиниться перед вами за горячность моих выражений, но, поверьте, князь, они были вызваны тем, что я одинаково горячо люблю мою родину и истину.
— Это делает вам честь, княгиня, и заставляет меня признать, что вы и впрямь, как о вас говорят, удивительная женщина.
…Прага. Саксония. Дрезден с его удивительнейшей картинной галереей. Берлин, где князю Павлу разрешено было присутствовать на смотре сорокадвухтысячного войска, во время которого король впервые согласился поговорить с женщиной. Кенигсберг. Мемель. И Рига, где губернатор уговорил меня задержаться на два дня. Как в Варшаве жила благодарная память о князь Михайле, так здесь о моем отце, который всегда защищал права ливонцев в Сенате, стараясь сохранить за ними ряд исконных привилегий, которых еще не успело приобрести русское дворянство. Но дальше был Петербург.
Глава 14 Святилище знания
— Привез ответ княгини, Павел Сергеевич? Будет она в воскресенье в Царском Селе?
— Привез, дядюшка, но в воскресенье быть княгине в Царском никак невозможно.
— Это ещё почему?
— Захворала. Сначала сын с горячкой свалился. А пока княгиня его отхаживала, сама расхворалась. Просила доктора Роджерсона удостоверить его болезнь перед императрицей.
— Да при чем здесь Роджерсон! Столько лет не была в Петербурге и опять за старое — опять за болезни. Не сомневаюсь, что государыня будет очень раздосадована.
— Уверяю вас, дядюшка, никаких здесь уловок нет. Сам все видел.
— Тоже мне свидетель нашелся. А хоть бы и правда, у Дашковой ты знаешь сколько недоброжелателей. Сразу все к характеру ее приплетут, так государыне представят, что она уже больше княгиню и видеть не захочет. Надо же, досада какая!
— Рад вас видеть, княгиня, в добром здравии. Только заранее предупредить должен: особой ласки от государыни не ждите. Раздосадована она вашим долгим отсутствием.
— Но и о добром здравии, Григорий Александрович, еще говорить рано. Роджерсон никак мне этой поездки разрешать не хотел. Сказал, слаба больно — не выдюжу.
— А надо, Катерина Романовна. Вон сейчас ее императорское величество в церковь пойдет, так вы с придворными встаньте. Первой ни в коем случае к государыне не подходите. Ну, в добрый час, княгиня, в добрый час!
— Ваше императорское величество! Государыня!
— А, это вы, княгиня! Рада вашему возвращению, рада. Надеюсь, пребывание в России вам больше пойдет на пользу, чем заграничные вояжи. Вижу, как плохо вы выглядите. Что ж ваши хваленые курорты?
— Я не думала о своем здоровье, государыня.
— Знаю, знаю, о сыне. Так представьте же мне моих крестников.
— Моя дочь Анастасия Михайловна Щербинина, ваше императорское величество.
— Рада. Слышала, с мужем нелады?
— Ничего особенного, государыня. Всего лишь привязанность к родителям, восторжествовавшая над любовью супружеской. Бригадир Щербинин не решился оставить своих родителей, моя дочь не захотела расставаться со мной.
— А это ваш сын, о котором мне столько толковали. Его мне представит дежурный камергер, да, впрочем, нам, как старым друзьям, необязательны эти мелочи этикета. Вы хотите служить, князь? Не стесняйтесь высказывать свои желания — как-никак вы говорите со своей крестной матерью.
— Князь Павел мечтает об армии, ваше императорское величество, и надеюсь, его знания…
— Вы же знаете, княгиня, я неплохой физиогномист. Мне не нужны ваши рекомендации. Не сомневаюсь в познаниях князя. Надеюсь, мы скоро узнаем друг друга поближе, а пока имейте в виду, что будете обедать со мной.
— Ваше императорское величество, но, как прапорщик, князь не имеет права сидеть за одним столом с императрицей!
— Но, как сын моего друга, он всегда будет пользоваться привилегиями. Это относится и к вам, милая Анастасия Михайловна.
— Как вы милостивы, государыня!
— Не надо, не благодарите меня, Катерина Романовна. Вижу, чувствуете вы себя еще плохо. Не стесняйтесь — для вас приготовлены во дворце комнаты, в которых вы можете отдохнуть со всем своим семейством. И еще — указ о судьбе вашего сына вы получите завтра. До вечера, княгиня.
Благосклонность императрицы повергала меня в изумление. Указ назначал князя Павла штабс-капитаном гвардии Семеновского полка, что давало ему ранг подполковника. Переполненная благодарностью, я отправилась благодарить ее императорское величество и сразу же встретилась с вопросом, почему в такое непогожее, осеннее время все еще живу за городом. Но кроме скромного домишка в четырех верстах от столицы, на все еще не осушенном болоте, другого жилища в Петербурге у меня не было. Государыня пожурила меня за невнимание к собственному здоровью, припомнила издавна мучивший меня ревматизм и приказала найти в столице любой, какой мне понравится, дом, с тем что он будет приобретен для меня Кабинетом. Сама государыня останавливала свой выбор на дворце герцогини Курляндской, но не хотела ничего делать вопреки моему желанию. Огромная сумма в шестьдесят восемь тысяч рублей, которая требовалась для этого дома, показалась мне чрезмерной, особенно имея в виду те толки и пересуды, которые бы такой подарок непременно вызвал. Я предпочла дом госпожи Нелединской на Мойке с более скромной меблировкой, которая должна была быть продана вместе с домом, стоившим вдвое дешевле. Однако госпожа Нелединская, вопреки договоренности, вывезла всю мебель, что вынудило меня отказаться от приобретения ее владений, ограничившись сравнительно недорогой его арендой. Григорий Александрович Потемкин незамедлительно узнал о моем решении и предложил мне немедленно его изменить, чтобы императрица не подумала, что я не собираюсь надолго задерживаться в Петербурге. Я вынуждена была признать обоснованность подобных предположений и поторопилась отыскать недорогой дом барона Фредерикса на Английской набережной. Государыня удивилась моему выбору, который я объяснила желанием жить на той самой набережной, где родилась и с которой у меня связаны ностальгические воспоминания. Не удовлетворившись оплатой этого моего нового жилища, императрица пожелала на свои средства достроить мой все еще незаконченный дом в Москве на Большой Никитской улице и подарить мне большое поместье. По поводу поместья мне пришлось вступить в достаточно длительную переписку с Григорием Александровичем. Я предпочла бы получить землю в России, тогда как императрица предпочитала Белоруссию, под предлогом более плодородных земель. В результате мне досталось бывшее владение гетмана Огинского, огромное в своих первоначальных размерах, но в результате раздела Польши сокращенное вдвое. Через его земли была проложена граница, отчего все леса гетмана, множество местечек и деревень остались в Польше — их отделила своим течением река Друца. К тому же из значившихся по дарственным ведомостям двух тысяч пятисот душ недоставало ста шестидесяти семи, на десятерых крестьян приходилась одна корова и на пятерых одна лошадь. Дороги были запущены. Водного сообщения не существовало. Крестьяне погибали от голода и нищеты. Приведя в идеальный порядок свои русские владения, я хорошо представляла, скольких усилий потребует эта новая собственность, выглядевшая со стороны необычайно щедрым подарком. Мне предстояло тратиться на свои новые владения и не получать от них никаких средств, что было особенно тяжело, имея в виду траты, с которыми было связано вступление князя Павла на службу. Тем не менее это было проявлением расположения императрицы, к которому прибавилось приглашение присутствовать на концертах во внутренних апартаментах дворца, куда даже статс-дамы могли приходить только по особым приглашениям. Государыня распространила свою милость и на моих детей, так что мы являлись втроем. Однако человеку несвойственно удовлетворяться тем, что ему дарует судьба. Я готова была отказаться от иных своих привилегий, лишь бы получить звание фрейлины для моей племянницы, дочери моей сестры Елизаветы Романовны. Чувствуя себя все же виноватой в роковом повороте ее судьбы двадцать лет назад, я хотела хоть чем-то возместить понесенные ею потери и никогда не забывала, с какой сердечностью и участием она всегда отзывалась на мои трудности. При моем втором возвращении из-за границы она была единственным близким мне человеком в Петербурге и поспешила вместе с дочерью первой меня навестить, по-прежнему предлагая гостеприимный кров своего дома. Не решаясь непосредственно адресоваться к императрице, я умоляла князя Потемкина поторопиться с решением этого вопроса.
— Я хотела бы поговорить с вами, княгиня.
— Я вся внимание, ваше величество.
— Нет, не здесь и не в такой толпе.
— Когда и где прикажете, ваше величество.
— Подождите, я дам вам знак, и тогда вы подойдете ко мне. Постарайтесь быть внимательной. Наш разговор должен состояться сегодня.
— Слушаюсь, государыня.
— Ну вот, наконец-то нас никто не услышит. Не удивляйтесь, княгиня, моему предложению. Оно продумано во всех мелочах и принималось далеко не второпях. Я предлагаю вам стать директором Академии наук. Никто лучше вас не справится с этими обязанностями.
— Но, ваше величество…
— Понимаю ваше удивление.
— Я женщина…
— Тем лучше. Мы лишний раз докажем Европе, что в просвещенной монархии женщины располагают самыми широкими возможностями и необходимыми знаниями.
— Но как раз у меня нет никаких систематических знаний.
— Вы достаточно много читали, наблюдали, встречались с лучшими умами Европы. У вас есть склонность к составлению разумных планов и — что самое главное — способность их воплощать в жизнь. Вы совершили подлинное чудо педагогики, сами определив программу образования князя Павла. Он блестяще образован, не переставая при этом быть светским человеком.
— Государыня, как вы можете равнять сердце матери с необходимыми для такой высокой должности талантами администратора!
— Как раз наоборот. Этими талантами вы наделены в полной мере, как и способностью убеждать людей. Мне сообщили о содержании вашего спора с князем Кауницем, и хотя я решительно не согласна с вашим взглядом на роль моего великого предка Петра Первого, не могу не отдать должного тому, что вы своими доводами заставили задуматься, а в чем-то, возможно, и принять вашу точку зрения, такого изощренного политика и дипломата.
— Нет, государыня, решительно нет. Я не могу воспринять ваших слов иначе, как шутку.
— Я усматриваю в этом совсем другое, княгиня, — ваше нежелание служить моему престолу. Вы разлюбили свою государыню.
— Как вы можете такое говорить, ваше величество! Сделайте меня начальницей ваших прачек, и вы увидите, с каким рвением я вам буду служить.
— Теперь вы изволите смеяться над своей государыней, княгиня, предлагая занять столь недостойное место.
— Ваше величество думаете, что меня знаете, но вы меня не знаете. Я нахожу, что какую бы вы должность мне ни дали, она станет почетной с той минуты, как я ее займу. И как только я стану во главе ваших прачек, это место превратится в одну из высших придворных должностей, и мне все будут завидовать. Я не умею стирать и мыть белье, но если бы я сделала тут ошибки вследствие своего незнания, они не повлекли бы за собой серьезных последствий, между тем как директор Академии наук может совершать только крупные ошибки и тем навлечь нарекания на государя, избравшего его.
— Дорогая княгиня, я прошу вас припомнить всех тех, кто занимал эту должность. Неужели вы ставите себя ниже их?
— Тем хуже для тех, кто навлекает на себя презрение, принимая совершенно непосильные обязанности.
— Хорошо, княгиня. Пока довольно об этом. Что же касается вашего отказа, то я не принимаю его. Именно он меня ещё более убеждает в правильности моего выбора. Возьмите себя в руки, вы слишком возбуждены и непременно попадете на языки наших дам, которые не преминут сделать из нашего затянувшегося разговора Бог весть какие выводы. Просто вам надо подумать.
— Доложите обо мне князю Потемкину.
— Но Григорий Александрович уже лег в постелю, ваше сиятельство. Времени-то без малого полночь.
— Это не имеет значения. Немедленно доложите ему о моем приезде и скажите, что я готова разговаривать с ним даже в его спальне. Поторопитесь же!
— Князь просил вас проводить в ихнюю спальню. Они очень утомлены и приносят извинение, что не в силах встать.
— Я же сказала, что согласна и на это!
— Княгиня, вы действительно повергли меня в недоумение. Какая причина могла побудить вас искать этого разговора?
— Самая серьезная, князь, иначе я бы не оказалась у вас в неположенное время.
— Я слушаю, княгиня.
— Сегодня государыня имела со мной разговор и предложила мне должность директора Академии наук.
— И что же? Я давно осведомлен об этом намерении государыни и со своей стороны всячески его поддерживал.
— Вы сошли с ума, князь! Как можно! Я женщина. Мое образование ограничено пределами моей любознательности и случая. Ни в одной области знаний я не могу считаться специалистом. Каким же образом я могу взять на себя ответственность за руководство учреждением, объединяющим лучшие умы государства? Вы подумали об этом, давая советы государыне? Вот письмо, в котором я категорически отказываюсь от предлагаемой мне чести. Категорически! И не пытайтесь меня переубеждать! Но что вы делаете, князь? Вы осмелились порвать мое письмо? Но это уже слишком!
— Не сердитесь на меня, княгиня! Я делаю это в ваших же интересах. Вы не отдаете себе отчета, какой гнев государыни может вызвать подобное послание. Вы не хотите занимать предложенную должность? Ваше дело! Но сделайте это в разумных формах. Перед вами чернильница, перо, бумага. Сядьте и напишите все то же, что вы написали, но в более спокойной форме. Не прогневайте императрицу. И кстати, знайте, что обдумывая ваше назначение, государыня имела в виду, между прочим, способ удержать вас в Петербурге, рядом с собой.
— Удержать меня? Но зачем? Чем я могу быть полезна императрице после стольких лет…
— Ничего не добавляйте! Лишнего не следует вообще произносить вслух, не то что в присутствии постороннего человека. Не знаю, что вас удивляет в желании государыни. Ей просто надоели окружающие ее дураки. Их развелось слишком много, и ее величеству хотелось бы положить этому предел.
— Нет, я не буду здесь ничего писать. Но если вы так настаиваете, я сделаю это дома и перешлю с лакеем во дворец.
— Только подольше подумайте, княгиня. И совет друга: найдите самые мягкие выражения для своих мыслей, если они так и не изменятся. Думаю, императрица предлагала вам сравнить свои возможности и знания с возможностями ваших предшественников по этой должности. Вспомните, по крайней мере, нынешнего директора — господина Домашнева. Надеюсь, это охладит ваш пыл и непримиримость.
…Ночь без сна не изменила моих мыслей. В семь утра я направила лакея с короткой запиской во дворец, подтвердив свой отказ от высокой и несообразной с моими возможностями должности. Домашнев — я знала о нем не так уж много, кроме разговоров о его постоянных конфликтах с профессорами, в результате которых императрице пришлось создать специальную комиссию по управлению Академией. Помнится, Андрей Разумовский говорил, что Домашнев учился в Московском университете, был выпущен в Измайловский полк, состоял при генеральном штабе и совсем неплохо показал себя в турецкой войне, командуя албанским легионом. Своим назначением на директорскую должность он был обязан своему покровителю Владимиру Григорьевичу Орлову, оставившему Академию наук. О нем отзывались совсем неплохо как о поэте, печатавшемся в журналах Хераскова. Я помнила хорошую оду, которой Домашнев приветствовал восшествие на престол государыни. Ему же принадлежало «Краткое описание российских стихотворцев». Но верно и то, что Домашнев совершенно запутался в академическом хозяйстве, и если сам и не был виновен в злоупотреблениях по финансовой части, не пресек дороги казнокрадам, обиравшим Академию. К великому своему изумлению, я заметила, что уже начала думать о возможных мерах по наведению порядка в Академии. Почти немедленно полученный мною ответ императрицы не содержал ничего, кроме лестных замечаний в мой адрес. Зато к вечеру я получила от графа Безбородко копию уже отправленного в Сенат указа о моем назначении. В своем письме Безбородко ставил меня в известность, что императрица разрешила мне докладывать о всех делах Академии, минуя все административные ступени, и готова помогать мне во всех моих начинаниях. Дальнейшее сопротивление было неуместным, оставалось как можно скорее приниматься за дело.
Мое первое решение нарушало повеление императрицы, но я была слишком не подготовлена к новой должности, чтобы не попросить Академическое собрание продлить свое действие по управлению Академией еще на два дня. За это время я надеялась хотя бы в самых общих чертах ознакомиться со структурой Академии, всех входящих в нее учреждений, о типографии, кабинетах, библиотеке и прочем и просила администрацию незамедлительно прислать мне отчеты каждого раздела с непременным списком всех руководителей. Подробный рапорт должен был быть мне представлен на следующий день. Я отмела все последовавшие возражения о недостаточности времени под тем предлогом, что каждый руководитель, если он действительно знает свое дело, в состоянии отчитаться о нем в любое время дня и ночи безо всякой специальной подготовки. Я очень рассчитывала здесь на момент неожиданности, который не дал бы непорядочным людям суметь замести следы своих козней. Пока мне приходилось исходить из одних разговоров, которые во множестве велись при дворе по поводу Академии, — о бесконечных денежных недочетах, недобросовестном использовании ассигнованных императрицей сумм и таком откровенном своекорыстии чиновников, которое совершенно отвращало профессоров от Академии и побуждало их вообще переставать посещать ее собрания. К тому же это была единственная область, в которой я могла чувствовать себя достаточно уверенно, проверяя финансовую основу столь важного для России учреждения. Понимая, что подобная направленность моих действий неизбежно вызовет недовольство и жалобы императрице, на следующий день с утра я направилась в уборную государыни, чтобы своим докладом предупредить возможные нарекания. Я не ошиблась. Первый человек, попавшийся мне на глаза у дверей уборной императрицы, был господин Домашнев, с самым независимым видом обратившийся ко мне и предложивший свою помощь по введению меня в курс обязанностей академического директора. Мое изумление его не смутило. Он продолжал настаивать на полезности для меня его опыта и соображений, так что мне в конце концов пришлось со всей резкостью сказать, что наши взгляды на Академию существенно разнятся. Я меньше всего думаю о собственной выгоде и положении в обществе, но только о процветании Академии, которое, по моему мнению, должно основываться на беспристрастии и уважении к ее членам. Своей целью я собираюсь поставить удовлетворение их потребностей и их признательность сочту единственным мерилом пользы своих усилий. Что же касается административных сложностей, для их разрешения я предпочту прибегнуть к советам и указаниям самой императрицы, которые уже были мне ее императорским величеством обещаны. Во время своей достаточно гневной тирады я заметила приоткрывшуюся дверь уборной. Государыня, увидев наше объяснение, сочла нужным закрыть дверь и пригласить меня через дежурного камердинера.
— Я очень рада вас видеть, княгиня, хотя, откровенно говоря, не сомневалась, что ваше добросовестное отношение к вашим обязанностям непременно приведет нового директора к своей государыне прямо с утра. Но вижу, этот дурак Домашнев успел вас вывести из себя. О чем шла речь?
— Все просто, ваше величество. Господин Домашнев счел нужным преподать мне урок, как следует руководить Академией. Я не сомневаюсь, что могу оказаться еще более невежественной, чем он сам, но я уверена в одном — что никогда не позволю запятнать своего имени подозрениями в своекорыстии. Мне остается еще и еще раз поблагодарить ваше величество за лестное мнение о моих способностях и выразить свое искреннее соболезнование по поводу сделанного вами выбора.
— Полноте, княгиня! Сколько можно повторять одно и то же. Это легко может наскучить. К тому же я не собираюсь раскаиваться в своем решении. Наоборот — по мере развития событий я все более и более убеждаюсь в его правильности. Итак, вы, несомненно, приехали уже с какими-то планами?
— Ваше величество, я хочу начать с финансового положения Академии.
— Вы полагаете, что моих ассигнований все еще недостаточно?
— Как раз наоборот. Судя по существующим слухам, — хотя пока это всего лишь слухи! — затраты могут производиться значительно более экономно. Мне кажется очень важным, чтобы господа профессора сразу же убедились, что их материальные потребности в работе могут удовлетворяться со значительно большей полнотой.
— Скорее всего, в этом есть немалая доля моей вины. Вы знаете, что еще при покойной императрице Елизавете Петровне у правительства родилось желание, чтобы ученые труды приносили непосредственную пользу всем частям государственного управления.
— Мне довелось об этом слышать от Ивана Ивановича Шувалова. Он говорил, что подобное желание было подсказано появившимся среди ученых стремлением разрабатывать источники русской истории. Помнится, господин Шувалов приводил слова Петра Великого о том, что в глазах Европы Россия должна перестать выглядеть страной, где пренебрегают наукой, но наоборот — работают для науки. Господни Шувалов много говорил о составлении атласа Российской империи и собирании сведений о всех церковных постройках с необходимыми историческими объяснениями.
— И вы хотите убедить меня, княгиня, что вы далеки от проблем Академии! Мне же казалось, что любая теоретическая разработка должна использоваться на практике. Вот из-за этого я решила создать при Академии особую комиссию под президентством графа Владимира Григорьевича Орлова. Ему же было поручено привести в порядок хозяйственную часть Академии, находившуюся в хаотическом состоянии.
— Я встречалась с графом в Германии. Он был очень горд организацией нескольких экспедиций для изучения быта в жизни народов России.
— В этом действительно была его немалая заслуга, как и в отправке в прошлом году трех экспедиций для астрономических наблюдений. Но, боюсь, по хозяйственной части дела не только не улучшились, но пришли в полнейший упадок. Вы правы, что хотите начать именно с этого конца. Академия должна иметь отличное хозяйство.
— А ученые — условия для своей деятельности. Ведь это они постоянно жаловались на администрацию.
— К сожалению, у меня не хватало времени вникать в их раздоры.
— Ваше величество, я хочу вернуть ученым должное уважение к их талантам и поэтому прошу вашего разрешения, чтобы в первом собрании меня представил патриарх нашей Академии профессор Эйлер.
— Эйлер-отец? Но он же совершенно слеп.
— Слепота не убавляет ни его выдающихся талантов, ни удивительной трудоспособности. А то, каким образом великий математик лишился зрения, может служить образцом преданности науке.
— Это были какие-то особенные обстоятельства?
— О да, ваше величество. И даже рискуя наскучить вам, я не могу о них не рассказать. Это знает вся Европа. И сам великий Фергюссон просил меня передать выражение величайшего своего почтения Эйлеру-старшему. А ведь вы, ваше величество, имеете на своей службе целых три поколения этого замечательного семейства.
— Правда? Я стеснена временем, но пока куафер заканчивает прическу, я буду рада выслушать ваш рассказ. Мне и в самом деле нужно больше знать о моей Академии.
— Господин профессор приехал в Россию в день смерти государыни Екатерины Первой, последовав за своими друзьями и соучениками, сыновьями прославленного математика Якова Бернулли. Он занял место профессора физики, стал академиком и в конце концов пал жертвой собственной добросовестности. По просьбе Академии он в три дня выполнил сложнейшую работу, которая требовала нескольких месяцев занятий. Все кончилось жесточайшей нервной горячкой и потерей правого глаза.
— Бог мой! Была ли нужда в таком усердии?
— Это характер профессора, ваше величество. Он не умел поступить иначе, и притом ему еще не было тридцати лет.
— Но потом он уехал в Берлин. Значит, обида была слишком глубока.
— О нет, ваше величество, это был вынужденный отъезд. Господин Эйлер не хотел покидать России. Речь шла о лучших условиях для исследований. В Россию же он продолжал присылать свои труды для публикации в академических мемуарах, пока не получил приглашение вашего величества вернуться в Петербург, что он и сделал с величайшим удовольствием в тысяча семьсот шестьдесят шестом году.
— Мы тогда еще подарили ему дом в Петербурге.
— Да, превосходный дом. Но господину профессору не повезло. Почти сразу по приезде он тяжело заболел и лишился второго глаза из-за быстро развившейся катаракты.
— Потом, кажется, его дом сгорел.
— Да, в семьсот семьдесят третьем году, но даже это несчастье не помешало научным занятиям профессора. Он продолжал их с неизменным успехом, согласился на операцию глаза, перенес ее, но из-за неизменного своего научного рвения слишком рано принялся за чтение и теперь уже потерял зрение навсегда. Это ли не пример бескорыстного и беззаветного служения науке!
— Вы вызвали у меня слезы, княгиня. Неужели Эйлер по-прежнему продолжает работать? Но как?
— Он диктует свои труды своим помощникам, профессорам Крафту и Лекселю, и собственному внуку, вернее — мужу своей внучки. Кстати, все его помощники представляют из себя знаменитых ученых. Разве мало сказать, что господин Лексель, который занимается теорией комет, удостоился чести дать свое имя комете семьсот семидесятого года?
— Так что же вы задумали, княгиня?
— Я хочу, с разрешения вашего величества, чтобы господин Эйлер представил меня ученому собранию Академии, а сама хочу отметить это событие небольшой вступительной речью.
— Считайте, что вы уже имеете мое согласие, княгиня.
— Доложите господину профессору Эйлеру — директор императорской Академии наук княгиня Дашкова.
— Ваше сиятельство, вы в нашем доме! Но это же невероятно! Такая честь, которой мой дед не мог себе представить за всю его жизнь в России!
— А вы, молодой человек, тот талантливый молодой ученый, который помогает профессору, не правда ли? И ваше имя Николай Иванович Фусс.
— Ваше сиятельство, вы знаете о моем существовании?
— Что же в этом удивительного? Ваш дед может подтвердить: я и много лет назад интересовалась успехами русской науки и трудами русских ученых. Вы вошли в их славную семью.
— Благодаря дедушке — он вызвал меня из Швейцарии как помощника и секретаря.
— И, сколько мне известно, не ошибся. Вы сразу же отметили свой приезд интересным трудом. Я не припомню точного его названия, но совершенно уверена, что речь в нем шла о точном подборе очков соответственно теории Эйлера-старшего. С вашим сочинением я столкнулась в Германии — оно давно переведено на немецкий язык. Вы заслуженно стали адъюнктом и получили премию от Парижской академии наук за труд о планетах. Простите мое невежество, но точнее определить его тему я не сумею. Но вы знаете, Николай Иванович, что мне особенно дорого в ваших изысканиях — желание создавать математические учебники. Поверьте, под моим руководством Академия наук поддержит ваши интересы в этой области.
— Я не нахожу слов признательности, ваше сиятельство! Но вот и кабинет дедушки. Как видите, двери его открыты — слуга успел предупредить дедушку о вашем приезде.
— О нет, нет, не вставайте, господин профессор. Я сама усядусь около вас, чтобы сказать, как искренне рада я нашей встрече. Я не спрашиваю вас о здоровье. Вы работаете, ваши помощники сбиваются с ног — и, значит, вы довольны.
— И да, и нет, княгиня. Никакой помощник не может заменить собственного зрения. Просто я мирюсь с обстоятельствами. К тому же мне нет нужды выходить из дому.
— Мне говорили, вы перестали бывать в Академии.
— Давно. Это бессмысленная трата времени. Когда мои коллеги обращаются к ее императорскому величеству с протестами против установившихся порядков, я просто ставлю свою подпись.
— Профессор, обещаю вам — беспорядкам будет положен конец. Я прошу ваших советов и рекомендаций, чтобы навести тот порядок, который способствовал бы вашей работе. И поверьте, это не пустые слова, тем более императрицей мне предоставлены в этом отношении исключительные полномочия.
— Ваше сиятельство, хочу воспользоваться случаем и представить вам моих сыновей, чтобы вы не обошли их вашим милостивым вниманием.
— Я буду очень рада вашей рекомендации.
— Мой старший сын, ваше сиятельство, Иоанн Альбрехт. Он родился в Петербурге, но потом последовал за мной в Берлин, стал членом Берлинской академии наук и наблюдателем Берлинской астрономической лаборатории. С тысяча семьсот шестьдесят шестого года он стал профессором физики и секретарем Академии наук. Его труды по гидростатике и электричеству отмечены Геттингенским обществом и нашей Академией. Но он немало сделал в области небесной механики, астрономии и чистой механики.
— Я думаю, Академия имеет в его лице идеального секретаря, который при мне, безусловно, останется на своем посту.
— Со вторым моим сыном, ваше сиятельство, вы встречались как с лейб-медиком, хотя и не пользовались его услугами. Впрочем, Карл наряду с медициной занимается и изучением влияния сопротивления междупланетной среды на движение планет. Его труд в этой области принес ему премию Парижской академии.
— Насколько я знаю, господин Карл Эйлер давно и справедливо стал членом нашей Академии?
— Благодарю вас, ваше сиятельство, за лестный отзыв. Вы правы, Карл давно носит это почетное звание. И, наконец, ваше сиятельство, мой младший сын Христофор. Он родился в бытность мою в Берлине, начинал службу поручиком прусской армии, артиллеристом, и теперь продолжает службу в русской армии. Тем не менее он занимается и собственно астрономией. Ему принадлежат труды о прохождении Венеры по диску Солнца в тысяча семьсот шестьдесят девятом году и об определении географического места по астрономическим наблюдениям.
— Ваш сын связан с Академией?
— Нет, ваше сиятельство, он единственный — нет.
— Мы все равно найдем применение его знаниям и таланту. А теперь, господин профессор, я прошу вас об одолжении — ввести меня завтра в академическое собрание. Ваше появление в нем будет свидетельством начала новой эпохи в истории Академии, эпохи чистой науки. Вы не откажете мне, господин Эйлер?
— Почту за честь, ваше сиятельство!
— И еще, господин профессор. В своей вступительной речи я скажу о необходимости наведения порядка в Академии и прекращении того растранжиривания академического имущества, которое поставило её на грань полного разорения. Я сама не позаимствуюсь ни копейкой, но не позволю этого делать и всем моим подчиненным. Академическое хозяйство я собираюсь блюсти как свое собственное. И вместо того чтобы противозаконно увеличивать свои доходы, я предлагаю каждому служащему Академии повышение жалования, если он того честной своей работой заслужит.
Глава 15 Госпожа директор
Я озаботилась сама, чтобы послать в канцелярию Академии копию указа и вместе с ним первые свои предписания. На следующий день с утра все профессора и служащие явились ко мне домой, и мне пришлось сказать им, что на будущее двери мои в любое время будут открыты для каждого, кто будет иметь до меня дело. К сожалению, мне показалось, что многих больше интересовала моя благожелательность и возможность отличиться в моих глазах, нежели интересы дела, о которых разговора не было. В одиночестве я принялась рассматривать присланные мне бумаги по поводу порядков академических и среди прочего — прав и обязанностей директора, которые мне предстояло вычленить, чтобы не входить в конфликт с президентом. Полнота предоставленной мне власти была в достаточной мере урезана как этим институтом, хотя Андрей Кириллович Разумовский, состоявший в этой высокой должности с восемнадцати лет, не намеревался обременять себя академическими заботами, так и правами князя Вяземского, распоряжавшегося финансами. Беспокоить же императрицу по каждому поводу — а поводов, очевидно, существовало множество — нельзя было рассчитывать.
Императрица заметила в разговоре со мной, что хотела бы вернуться к тем принципам, которые были положены в основу Академии ее великим предшественником, но с течением времени претерпели, как она замечала, немалые изменения. Я начала с той самой записки Фока, на которой государь наложил первую резолюцию о создании Академии. Записка эта называлась «О нетрудном обучении и воспитании российских младых людей, чтоб оных в малое время в такое совершенство поставить, дабы ваше величество все гражданские в воинские чины в коллегиях, губерниях, судах, канцеляриях и магистратах и прочая своими природными подданными наполнить, також и собственной своей земли из детей искусных купеческих людей художников, ремесленников, шкиперов и матросов получить могли…». Петр Великий из этого доношения, имевшего в виду организацию простого образовательного заведения, сделал вывод о потребности государства именно в Академии, которая ему попервоначалу виделась достаточно ограниченной в своих возможностях. Резолюция государя приказывала: «Сделать академию, а ныне приискать из русских кто учен и к тому склонность имеет, также начать переводить книги юриспруденции и прочия, кто сие учинит сего году начало». Однако проект, в создании которого принимал участие сам государь, оговаривал то, что Российская академия не может быть простым повторением какой бы то ни было академии европейской, но основываться на возможностях и потребностях отечественных. Разве потеряли свой смысл заключенные в проекте слова: «Понеже ныне в России здание к возращению художеств и наук учинено быть имеет, того ради невозможно, чтоб здесь следовать в протчих государствах принятому образу; но надлежит смотреть на состояние здешнего государства, как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и такое здание учинить, чрез которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и чрез обучение и расположение оных польза в народе впредь была…»
В силу этой мысли Российская академия совместила научные учреждения с университетом и гимназией, цели научные с целями образовательными, при которых охватывались все гуманитарные и естественные науки. Понятие художеств претерпело изменение. Со временем под ним стали подразумеваться собственно искусства живописные, рисовальные, скульптурные и архитектурные, тогда как Петр Великий пояснял все иначе: «Художества же следующие: математическое, хотя до сферических триангелоф, анатомическое, хирургическое, потаническое, архитектур митарис, цивилис, гидроика и тому подобныя». Искусства же признавались в Академии необходимыми, поскольку могли сделать научные познания наглядными и участвовать в их издании. Типография и Кунсткамера стали частями, от Академии неотъемлемыми. В проекте, составленном в большей своей части лейб-медиком Лаврентием Блюментростом, так и указывалось, что «издания, которые в науках чиниться будут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют срисованы и градорованы быть в целях посильного размножения их в народе».
Я положила в первую очередь ознакомиться с положением дел в академической типографии и нашла его плачевным. Издание академических комментариев, куда входили труды наших славных ученых, сократились до двух небольших книг в год вместо сравнительно недавних четырех. Типографщики объяснили подобное сокращение отсутствием шрифтов, как, впрочем, и всего остального необходимого оборудования вплоть до печатного стана. В то же время склад был переполнен академическими изданиями, не находившими покупателей и приносившими прямой убыток и без того тощей академической казне. Предстояло извлечь из них хоть какую-то пользу, скорее всего продать по возможно более дешевой цене, с тем чтобы на полученные деньги обновить типографию. Но следовало также позаботиться о новых изданиях, которые могли бы привлечь читателей.
— Насколько я понимаю, княгиня, вы избегаете малого Двора.
— Как можно, ваше высочество!
— По-видимому, можно. Вы отлично знаете, сколько раз великая княгиня повторяла вам наше приглашение приезжать в Гатчину, но вы не пожелали откликнуться от него.
— Ваше императорское высочество, вам известны мои новые и совершенно несвойственные женщине обязанности по Академии наук. Желая справиться с ними хоть сколько-нибудь достойным образом, я трачу на них все свое время.
— Превосходная отговорка! Тем более что все эти пресловутые обязанности не мешают вам постоянно толкаться у дверей уборной императрицы. Я слышал, вы дежурите у них каждое утро, независимо от того, желает вас видеть ее императорское высочество или нет, и только фаворит способен вас выпроводить оттуда.
— Но это входит в мои обязанности. Решений по Академии такое множество, и почти каждое требует согласия императрицы.
— Я думаю, княгиня, вам не пошло впрок наставление моего покойного отца, которого вы так бессовестно предали. Мне передавали, что он предупреждал вас, как скоро вы окажетесь ненужной его супруге и будете отринуты за ненадобностью. Вы решили, что, несмотря ни на что, государь ошибся, и вы еще займете исключительное место возле великой Екатерины. Годы заграничной ссылки, как вижу, ничему вас не научили.
— Ваше императорское высочество! Мне тяжело слышать ваши слова о государыне, которой вы обязаны сыновней почтительностью, а я — верноподданническим уважением. Надеюсь, время смягчит ваше сердце. Но подумайте и о другом, ваше высочество. Пребывание в Гатчине могло бы повести к ненужным расспросам, для которых я не хочу давать повода. Поверьте, в моем лице вы всегда будете иметь самую верную подданную, и я постараюсь сделать все, чтобы не становиться между вами и двором императрицы.
— Ах, вот и причина — недовольство Екатерины. Вот теперь мы приплыли к настоящим берегам. Ваша услужливость к императрице не имеет границ. Я полагал вас куда более гордым и независимым человеком. А впрочем, какая разница. В годы моего царствования вы на опыте поймете все свои ошибки. Павел Первый сумеет расплатиться за все обиды Петра Третьего и свои собственные. Вряд ли вам действительно стоит утруждать себя поездками в Гатчину. Ведь вы, кажется, живете по милости императрицы в Стрельнинском дворце? Оттуда путь к Царскому Селу куда короче.
…В проекте академическом нельзя было не обратить внимания на особое истолкование положения и характера ученых, которые в последнее время вообще во внимание перестали приниматься. «Ученые люди, которые о произведении наук стараются, обычайно мало думают на собственное свое содержание: того ради потребно есть, чтоб академии кураторы непременные определены были, которые бы оную смотрели, о благосостоятельстве их и надобном приуготовлении старались…» Петр Великий прямо оговаривал, что ученые никакими богатствами не располагают, живут только на жалованье, почему их при самом начале Академии даже бесплатно довольствовать и кормить велел: «Дабы ходя в трактиры и другие мелкие домы, с непотребными обращаючись, не обучились их непотребных обычаев и в других забавах времени не теряли бездельно; понеже суть образцы такие из многих иностранных, которые в отечестве добронравны бывши, с роскошниками и пьяницами в бездельничестве пропали и государственного убытку больше, нежели прибыли учинили». Помнится, дядюшка Михайла Ларионович часто на слова Михайлы Васильевича Ломоносова ссылался, что ученым не только талант и трудолюбие надобны, но и желание заниматься наукой ради самой науки — для приумножения познания, нежели для своего прокормления. В Академии нашей таких ученых немало, тем более следует поспешить отыскать средства для их поддержания. Но следует и самого Михайлу Васильевича всенепременно в Академию вернуть, представить все дело так, чтобы императрица сама о данной ему отставке пожалела и обратно бы господина Ломоносова пригласила. Тут помощи от графа Разумовского ожидать не приходится. Он покровительствовал всем ворам академическим, лишь бы самому занятий лишних и беспокойства не иметь. Спорить, может, граф и не станет, тем более что осведомлен о разрешении императрицы мне по своему усмотрению действовать, только и от поддержки уклониться сумеет. Чего-чего, а дипломатии придворной ему не стать занимать: из какой угодно воды сухим выйдет.
— Наконец-то вы выбрались ко мне к обеду, Катерина Романовна! Вы стали совсем забывать свою императрицу.
— Государыня, единственное, что может меня удерживать от желания каждодневно видеть вас, — боязнь вам наскучить.
— Полноте, княгиня! Вы знаете, я человек непосредственный, и если бы действительно не хотела видеть вас, то попросту не касалась бы этого вопроса. К тому же вы знаете, что ваш куверт всегда накрыт за моим маленьким столом, и тем не менее он достаточно часто остается пустым.
— Ваше величество, я позволяю себе приезжать, когда могу вас порадовать какими-нибудь приятными новостями или посоветоваться о новых прожектах.
— Так что же у вас на этот раз?
— Государыня, мне удалось разгрузить книжные склады.
— Каким образом? Вы выбросили книги?
— Нет, на такое варварство я решительно не способна.
— Так что же?
— Я на треть снизила цену на них, и книги были почти тотчас раскуплены.
— Браво, княгиня! Я и не знала, что в вас скрыт еще и отличный купец.
— Государыня, этот купец имеет в виду, обновив академическую типографию, предложить ее для печатания новых литературных журналов.
— У вас есть на примете интересные произведения?
— Нет, авторы, которым давно пора порадовать своим пером заждавшихся читателей.
— Вот как. И кого же вы имеете в виду?
— Вас, ваше величество.
— Меня?
— Да, государыня, вас. Вы обязаны радовать своим литературным талантом наше общество, приучать его к отличному вкусу и тому направлению, которое вы как писательница представляете. Мне довелось говорить об этом и с господином Дидро, и с господином Вольтером. Они считают даже ваши письма литературными шедеврами, что же говорить о произведении, специально задуманном и написанном.
— А вы знаете, Катерина Романовна, вы меня заинтересовали. Что ж, давайте подумаем.
— Тогда разрешите, государыня, признаться вам в моем самом большом желании.
— Конечно, княгиня, говорите.
— В Италии я удивлялась тому, как легко достать там превосходные копии с любой скульптуры.
— Но ведь итальянцы известны своим мастерством.
— К сожалению, я не могла им заказать ту копию, которая мне единственная нужна.
— Почему же?
— Это копия вашего портрета, ваше величество.
— Полноте, княгиня, зачем же вам копия? Я сейчас распоряжусь принести мой оригинальный бюст работы нашего Федота Шубина. Не знаю, как вы относитесь к этому ваятелю, но мне этот портрет положительно нравится.
— Я не видела его, но уверена, что он прекрасен.
— Государыня, почему лакей взял этот бюст? Что вы решили с ним сделать?
— Ланской, вы так возбуждены!
— Лакей сказал, что вы решили его подарить.
— Это правда. Он подарен княгине Дашковой.
— Никогда!
— Ланской, вы забываетесь!
— Я забываюсь? Я? Но этот бюст принадлежит мне, и я не собираюсь им поступаться, тем более ради княгини.
— Вы ошибаетесь, я вам его не дарила.
— Нет, дарили!
— Но почему вы так на нем настаиваете? Вы получите другой.
— Я хочу этот, и только этот!
— Не огорчайте меня, мой друг, но словом своим я не собираюсь поступаться. Княгиня, вот мой подарок вам. Лакеи отнесут его в вашу карету.
— Я не знаю, какими словами выразить мне свою благодарность, ваше величество. Я навсегда запомню этот день.
— Если бы вы и попытались его забыть, я постараюсь вам его напомнить, княгиня. Вы еще пожалеете о нем.
— Не буду вас задерживать, княгиня. Боюсь, у господина Ланского истерический припадок, и нам придется обратиться к помощи врача и успокоительных средств. Прощайте.
— Ваше сиятельство, Катерина Романовна, господин генерал-прокурор снова вернул ваше представление о повышении ученых, и с какой досадливой пометой.
— Не знаю, Осип Петрович, порой мне начинает казаться, что князь Вяземский хочет добиться моего ухода. Он не оставляет без вмешательства ни одного моего решения.
— Полноте, ваше сиятельство, вы не привыкли к служебным козням, а они неизбежны. К тому же князь не может вам простить, что вы берете на службу тех, кого он лишает должностей. Он оказывается в смешном положении, а этого никто не прощает.
— Полноте, Козодавлев, неужели из-за одного того, что человек не приглянулся неумному и злобному Вяземскому, я должна отказываться от нужных мне услуг. Да и должна же существовать в жизни справедливость.
— О нет, ваше сиятельство, только не справедливость! Удача, случай, стечение обстоятельств, но справедливость? Никогда!
— Вы судите по личному опыту. Тогда я должна была бы к вам присоединиться, но несмотря на все, что мне довелось пережить, я считаю своим долгом утверждать справедливость. Хотя бы в отношении других.
— Слов нет, хорошо сознавать такой долг. Но когда ваши усилия оказываются бесплодными, нельзя же убивать себя огорчением. Если хотите, это тоже несправедливо.
— Кстати, откуда генерал-прокурору пришло в голову принять на свой счет сочинения, опубликованные в нашем журнале? Это род мегаломании.
— Позволю себе с вами не согласиться, княгиня. В нашем «Собеседнике любителей российского слова» вы опубликовали сочинения Гаврилы Романовича Державина. Вяземский виноват в том, что Державин лишился места вице-губернатора и теперь вправе ждать намеков в свой адрес со стороны поэта. Он уверен, что поэтическая кара его не минует.
— Но ведь в журнале печатается сама государыня.
— А журнал составляете вы.
— Мне просто неловко обращаться к императрице всё с новыми и новыми жалобами на Вяземского. Я думала, что после того, как государыня сделала ему выговор за вмешательство в мои дела, князь поутихнет.
— А если он считает, что защищает таким образом от вас императрицу?
— Как можно!
— Но именно такую мысль ему внушает Ланской. Мне не хотелось вам об этом говорить, но уж раз к слову пришлось, может, и хорошо, что вы узнаете правду.
— Немного, правда, запоздавшую. Что ж, примем и ее к сведению. Если бы я могла сказать, как ненавижу эту придворную дипломатию!
— Такова жизнь, а ее приходится принимать как она есть.
— Что ж, давайте вспомним нашего генерал-прокурора в следующем номере «Собеседника». По крайней мере, его вражда ко мне получит полное оправдание. Займитесь этим, Осип Петрович.
…Может быть, я не права, придавая такое значение типографии, а вместе с ней и гравировальному делу. Но ведь складывалась ее история. Санкт-петербургская типография в конце правления Петра Великого была передана в Синод, а со смертью Екатерины I и вовсе закрыта. По указу Верховного тайного совета издательское дело сосредоточилось в двух местах. Указы печатались в Сенате, все книги — в нашей Академии наук. Конечно, количество академических изданий год от года увеличивалось, но чего только не печатала, кроме них, типография. Труды литературные, переводы, гравированные виды празднеств, церемоний, фейерверков, портреты. Нужны были граверы, и число их росло. Академия в Гравировальном департаменте сама готовила для себя мастеров. Конечно, сейчас уже существует Академия трех знатнейших художеств. Но только поэтому отказываться от собственной школы? Мне это кажется неразумным и невыгодным. Свои выученики лучше знают потребности Академии, к тому же учатся на производстве. Да вот хотя бы задуманная энциклопедия для юношества.
— Государыня, я хотела поделиться с вами новым замыслом издательским, который не всем моим помощникам понятен.
— И вы хотите найти во мне союзницу?
— Скорее судью: ваше решение определит судьбу издания.
— И что же это за издание?
— Пять лет, ваше величество, в Вене еженедельно выходили выпуски с гравюрами и текстами на четырех языках энциклопедии для юношества. Их текст чрезвычайно интересен и общедоступен. Он может служить учебником для всех интересующихся науками.
— Вы имеете в виду повторить это издание у нас?
— Не совсем, ваше величество. Эти статьи, а их всего около пятисот, посвящены естественным наукам, сельскому хозяйству, истории, этнографии, искусству, технике, ремеслам, должны быть собраны в десять томов, дополнены и отредактированы академиком Протасовым. Многие гравюры следует также сделать заново, и только некоторые можно просто повторить.
— Энциклопедия для юношества. Но это же великолепно, княгиня. Вы нашли во мне свою союзницу. И как долго продлится эта работа?
— Несколько лет, ваше величество. Но она уже начата, а после вашего согласия я займу ею многих переводчиков и граверов. Первый том выйдет в этом же году.
— Вы позаимствуете граверов из Академии художеств?
— Ни в коем случае. Гравировальная палата Академии имеет достаточно мастеров, которые не уступают по мастерству академическим.
— О, вы уже стали патриоткой, княгиня! Сколько же их у вас?
— Над «Зрелищем наук и художеств», как мы назвали новое издание, будут трудиться больше десяти.
— Вы, кажется, назвали Протасова?
— Да, ваше величество, того самого, который исполнял обязанности секретаря при упраздненной Комиссии.
— И вы сочли это обстоятельство хорошей рекомендацией?
— Простите, ваше величество, но академик Протасов великолепный анатом, и он гордость нашей науки. Я осмелюсь привести его биографию. Алексей Протасьевич из солдатских детей. Он начал свое образование в школе Семеновского полка, окончил академический университет первым студентом и был отправлен для окончания образования в Лейден. Его докторская диссертация в Страсбургском университете удостоилась самой высокой оценки, почему он и получил у нас место экстраординарного профессора.
— Помнится, тут сыграл свою роль Ломоносов.
— Совершенно справедливо, ваше величество. Ломоносов, как всегда, не мог не поддержать молодой талант.
— С обычным скандалом.
— Мне очень обидно, что естественная горячность его стремящейся ко благу отечества натуры вызывает вашу досаду, ваше величество. Но вы и меня упрекали в излишней горячности.
— И продолжаю это делать. Она во многом мешает вам, княгиня.
— Может быть, ваше величество. Но вмешательство Ломоносова не имело отношения к характеру самого Протасова. Алексей Протасьевич, помимо занятий по своей медицинской специальности, взял на себя также управление академической типографией, заведуя одновременно гравировальной и живописной палатами и переводчиками Академии.
— Слишком много, тем более для врача.
— Но, ваше величество, это говорит только о поразительной трудоспособности академика, при которой он никогда не упускает возможности делать вещи, необходимые в быту. Ведь это он перевел «Домашний лечебник» Пекена и сочинил «Способ, как сельским обывателям пользовать себя в оспе».
— Катерина Романовна, с вашим приходом в Академию она наполнилась одними гениями!
— Но в этом нет никакого преувеличения, ваше величество. Если ранее никто вам об этом не докладывал, то это вина нерадивых администраторов, а не прилежных ученых. Вы вправе гордиться своей Академией, государыня, уверяю вас.
— Алексей Протасьевич, довольны ли вы делами наших художнических учеников?
— У вас есть замечания, ваше сиятельство?
— Есть, и хочу, чтобы вы присоединились к ним. Насколько могла я заметить, мастера обучению их особого значения не придают и стараний к тому не прилагают. Полагаю, что ваших замечаний в этой области недостаточно, и потому прошу вас принять мой ордер, под которым каждый мастер обязан собственноручно расписаться в своих обязанностях и ответственности. Выполнение же их, не обессудьте, буду спрашивать, Алексей Протасьевич, и с вас, и с советника Козодавлева.
«Всем художественных департаментов начальникам подтверждается, что при всяком художестве иметь довольное число учеников и стараться оных обучать так, чтоб в случае нужды могли заступать места мастеров. В противном случае, если таковых не явится, то взыщется на самих оных начальниках.
Директор княгиня Дашкова».— Вот видите, ваше сиятельство, пока вы разбирались с делами, пометы под вашим ордером уже собраны. Пожалуйте.
«1. 6 молодых парней, кои были приданы Географическому департаменту, определены обучаться в Ландкартную граверную. Департамент не преминет их к тому побудить, дабы они со временем удовлетворяли своему назначению. Г. Шмидт.
2. Сей ордер читал мастер Яков Рябинин.
3. Сей ордер читал мастер Василей Колмовской.
4. Сей ордер читал архитектор Михаил Павлов.
5. Сей ордер читал фактор Матвей Григорьев.
6. Сей ордер читал и буду всемерно стараться доставить удовлетворение Академии. И. Порта.
7. Я читал сей ордер и не премину приложить свое усердие сколько возможно научить людей искусству литья шрифтов. Шрифтолитейный мастер Мюлендорф.
8. Сей ордер читал механик Иван Кулибин.
9. Я читал сей ордер Академии и буду по мере моих возможностей учить оных данных мне юношей, преподавая им рисование. Рисовальный мастер И.-Г. фон Майр».
— Тем лучше. Но наперед хочу предупредить, что если успехов учеников не стану замечать, то тогда востребовать стану их работы ежемесячно. Нерадивые не могут рассчитывать на поблажки с моей стороны, зато и радивые будут иметь прямое с моей стороны вспомоществование увеличением жалованья и иными способами. Кстати, я хочу познакомиться со всеми сведениями об оплате штатных граверов. Приготовьте мне их к завтрашнему дню.
— Вы так и не просите у меня дополнительных ассигнований, Екатерина Романовна?
— В них нет нужды, ваше величество. О книгах, скопившихся на складах, я уже имела честь вам докладывать. Станки — о них позаботился наш механик Кулибин.
— Как это? Помог вам выбрать, что выписывать из Англии? Но он же не был там.
— Все гораздо проще, ваше величество. Он воспользовался имевшимися рисунками и на их основании сделал свою оригинальную конструкцию. И как раз вовремя, иначе бы остановилось печатание материалов академика Палласа.
— Вы довольны его трудами?
— Ваш выбор был великолепен, ваше величество. К прирожденным талантам этого натуралиста прибавились редкие по полноте знания. Он сейчас приводит в порядок и составляет наши естественно-исторические коллекции, но раньше приобрел необходимый опыт на изучении ботанических и зоологических коллекций Англии. Вы же приказали ему, ваше величество, предпринять путешествие на Кавказ и в Закаспийский край. На собранных им коллекциях и делается сейчас Кунсткамера. Свою же задачу я вижу в том, чтобы издать все его труды должным образом.
— Вы умеете увлекаться, княгиня, но, пожалуй, я отвлеку вас несколько от ваших обязанностей новым предложением.
— Уверена, оно будет замечательным.
— Вы перехваливаете меня, Екатерина Романовна, что не пойдет на пользу ни мне, ни вам. Так что сначала послушайте. В прошлый раз мы с вами коснулись вопроса создания Российской академии. Нашему чудесному языку нужны твердые правила, словари, нужна наука о языке.
— Вы склоняетесь к осуществлению этого замысла, государыня? Но это же превосходно!
— Я думала об этом замысле достаточно давно. Как вы знаете, Академия наук начинала работу над словарем, но, вероятно, по моей же вине дело и по сей день не доведено до конца. Вы правы, особая Российская академия скорее пригодна для подобной цели. Как вы мыслите себе состав и обязанности подобного учреждения?
— Здесь нет ни малейшей надобности в моих соображениях, ваше величество. И в этой области я полный профан, разве что давно и заинтересованно наблюдающий за трудом специалистов. В Европе есть несколько подобных учреждений. Можно воспользоваться их уставами и программами. Остается только выбрать.
— Дело за вами, княгиня.
— За мной, ваше величество?
— Конечно. Кому, как не вам, этим заняться?
— Но, ваше величество, с этой работой спокойно справится ваш секретарь. Ему легко представить вам план Французской, Берлинской и других академий с примечаниями, что следовало бы изменить или сократить относительно потребностей России.
— Вот видите, у вас уже есть план действий. Вам одинаково знакомы и цель, и средства ее достижения. Если вы всем этим займетесь, княгиня, я буду спокойна за быстрое решение вопроса. Мне и так стыдно за его бесконечные оттяжки.
— Государыня, мне остается еще раз напомнить вашему величеству, что у меня нет ни привычки, ни навыка работать с подобными материалами. Вы переоцениваете мои возможности.
— Екатерина Романовна, вы слишком любите заставлять себя просить. Ваша скромность подчас начинает напоминать тщеславие. Постарайтесь справиться с этим недостатком и помните, я жду вас с проектом.
…Мне следовало бы чувствовать себя вполне счастливой. После стольких лет розни и неудовольствий государыня встречается со мной почти каждый день и охотно выслушивает мои соображения по академическим делам. Правда, приспешники ее величества давно стали делать намеки, что я неумеренно пользуюсь высоким вниманием и рискую вызвать скуку императрицы. Однако мне представляется это скорее голосом зависти, чем сочувствия. Во всяком случае, Вяземский не упускает случая оспорить мои распоряжения и поставить под сомнение каждую трату, в отношении которых я и так ввела самый строгий надзор. Но истина и подлинное благополучие государства никогда не волновали князя, всегда старавшегося прежде всего заслужить благоволение власть имущих. Легче было бы поверить князю Потемкину, но князь полностью поглощен делом присоединения к России Крыма, так что стало возможным объявить высочайшим манифестом присоединение Крыма и Кубанской области к нашей империи. Последний хан Шагин-Гирей отправлен в Воронеж. Крым переименован в Таврическую губернию. И главное — прекратились набеги крымцев на южные степи. В последнем разговоре государыня сказала, что по предположениям Великая и Малая Россия и часть Польши лишились за время с XV столетия до нынешнего 1783 года от трех до четырех миллионов населения, превращенного в большей своей части в рабов. Еще от дядюшки Михайлы Ларионовича я знала, что мамелюки в Константинополе предпочитали русских кормилиц и нянек и что вплоть до наших дней Венеция и Франция употребляли купленных на рынках Леванта русских как галерных рабов. Наконец-то наступил конец этому позорному небрежению наших государей к своему народу. Государыня справедливо почитала своим долгом отстоять права тех, кто по рождению или несчастному стечению обстоятельств оказывался жертвой набегов. И она почти сразу после издания манифеста стала думать о посещении вновь присоединенных земель, руководство которыми было передано князю Потемкину. Злые языки готовы усматривать в этом новый источник обогащения князя, но когда подобный разговор возник при императрице, она резко оборвала его, указав злопыхателю на редкие заслуги Григория Александровича и свое безграничное доверие к нему.
Предоставленная сама себе в совершенно новом и небезопасном по своим последствиям деле директорства, я постаралась сделать единственное, что было в моих силах, — поторопиться с первым наброском проекта Академии, стараясь доставить удовольствие государыне. Вспомнив разговоры с Дидро, я отдала предпочтение примеру Французской академии. Главным предметом мне представилось очищение и обогащение русского языка, утверждение общего употребления слов, свойственное русскому языку витийство и стихотворство. Средствами для достижения подобной цели я выбрала сочинение российской грамматики, российского словаря, риторики и правил стихосложения. Сдержанный отзыв о моих возможностях Н. И. Новикова в его «Опыте исторического словаря о российских писателях» тем не менее, оставлял за мной право судить о российской словесности и возможностях языка. Как написал этот книгоиздатель, «Дашкова, княгиня, Екатерина Романовна — двора ее императорского величества статс-дама и ордена святыя Екатерина кавалера, писала стихи; из них некоторые весьма изрядные напечатаны в ежемесячном сочинении «Невинное упражнение» 1763 года в Москве. В прочем она почитается за одну из ученых российских дам и любительницу свободных наук».
— Государыня, я в полном смятении!
— Почему же, княгиня?
— Я не представляла вашему величеству окончательного проекта Академии российской, но всего лишь предварительные заметки. В ответ же вам угодно было прислать мне ваше одобрение. Заметки превратились в окончательный текст устава, и к тому же вы подписали указ о моем назначении президентом. У меня достаточно доказательств несоразмерности подобной ответственности с моими возможностями, но ваше императорское величество даже не пожелали выслушать меня.
— Исключительно для того, чтобы не плодить ненужных разговоров. Вы знаете, что указ уже переслан в Сенат и, следовательно, тема разговора исчерпана. Лучше расскажите, какие следующие действия вы намерены предпринять. Конечно, это вопрос денег, но я не намерена скряжничать.
— О нет, ваше величество, в ассигнованиях потребности не будет. Я выискала необходимые средства в бюджете Академии наук. Дело только за покупкой дома, где могла бы разместиться Академия со всем необходимым штатом.
— За домом дело не станет. Но скажите, княгиня, откуда у вас могли появиться деньги на новую институцию?
— Ничего чудесного здесь нет, ваше величество. Это те самые пять тысяч рублей, которые вы изволили ежегодно выдавать из своей шкатулки на переводы классических произведений на русский язык.
— Но я вовсе не хочу, чтобы эти переводы прекращались!
— Они и будут производиться, государыня. Ими займутся ученики Академии наук под руководством русских профессоров. Тем самым будут достигнуты две цели: ученики получат разумные и полезные учебные задания, а деньги вашего величества истратятся с пользой. До сих пор, как мне удалось уразуметь из ведомостей, они рассматривались директорами как предназначенные для собственного кармана: отчета в них никто никогда не отдавал.
— А вы говорили, что я сделала неудачный выбор директора, Катерина Романовна.
— Но эти мои действия не имеют никакого отношения собственно к науке. Это скорее хозяйственные распоряжения.
— Способствующие благу российской науки, не правда ли?
— Может быть, государыня. Но тем не менее завести речь о деньгах мне все же придется.
— Но это же естественно.
— И да, и нет. Дело в том, что в Парижской академии существуют жетоны, которые получают члены Академии за участие в ее заседаниях. Мне кажется такая практика очень разумной. И еще потребуется несколько медалей для наград. Я еще не составляла сметы на академический штат, и пока мне трудно сказать, удастся выделить средства на награды или нет.
— Но не ломайте же себе головы над подобными мелочами. Это уже слишком!
— Государыня, тем не менее, думаю, вам небесполезно знать, что намеченный штат должен состоять из двух секретарей, двух переводчиков, казначея и четырех сторожей — для топки и уборки здания. На них потребуется три тысячи триста рублей. Остальные тысячу семьсот я предназначаю на покупку дров, бумаги и книг.
— И вы хотите на такие гроши основать библиотеку?
— Нет-нет, государыня, это будут только ежегодные прибавления. В качестве основной библиотеки я предназначаю мою собственную. Она достаточно обширна и тщательно подобрана.
— В таком случае давайте сразу же решим все вопросы. Если я стану выдавать ежегодно тысячу двести пятьдесят рублей на жетоны и медали, этого будет достаточно?
— Вполне, ваше величество.
— Что ж, будем считать, что наше новое платье застегнуто на последнюю пуговицу. Не так ли, княгиня?
— Вот и Романа Ларионыча не стало. Какой год, какой страшный год, мой друг!
— На все Господня воля, Иван Ларионыч. Всевышнему виднее, чей век продлить, чей укоротить, да и пожил братец твой немало. На семьдесят шестом году убраться — не всякому такой век дан. На шестнадцать лет братца Михайлу Ларионыча пережил, а старше-то всего на семь годков.
— Да если так сказать, сколько уж родни-то нашей воронцовской ушло. Сестрица Марья Ларионовна двадцати восьми годков от нас ушла, в шестьдесят пятом году, поди.
— Племянница Аннет и того не прожила. Что ж ей, голубушке, всего-то двадцать шесть годков набежало. Графиня Анна Карловна как по дочке убивалась.
— Тут ты меня, Иван Ларионыч, никогда не убедишь. Жалеть каждого человека надобно, а то, что с мужем путем жить не стала, того тоже со счетов не сбросишь. Чем ей плох-то был Александр Сергеевич? Собой не так чтоб хорош, так с лица не воду пьют. Ростом, вишь, не вышел. Так на то пословица есть: мал золотник, да дорог. И богат свыше меры, и при дворе принят, и должности одна за другой почетные. Ведь больше всего покойница племянненка балы любила. Только бы и красоваться при дворе, ан нет, разводу потребовала. Да где такое видано!
— Да ты, друг мой, себя не тревожь. Знаешь, я с тобой, Марья Артемьевна, в таком деле согласный. Нехорошо вышло, совсем нехорошо, да дело прошлое — чего уж поминать. Зато княгинюшка наша Катерина Романовна который год как князь Михайлу похоронила, а о другом браке и думать не хочет. Может, и легче бы ей было с новым супругом. Дела-то после муженька ей какие плохие достались.
— Так ведь распуталась Катя с ними. Копеечки долгу не оставила, а честь да верность свою соблюла. Сама мне последний раз сказала, что обеим нам траур по гроб носить, мне по отцу, ей по супругу.
— Не знал я, что разговор у вас с ней серьезный был.
— А был, был. Очень Катя батюшкиными прожектами интересовалась, как он монархию, ограниченную правами шляхетства, видел. Я и рассказала, что батюшка мыслил Сенат, как при Петре Великом, восстановить и нижнее правительство составить, а для крестьянства, духовного и городского сословия каждому свои привилегии большие. О просвещении Катя расспрашивала.
— Помнится, батюшка твой больше всего за грамотность общую ратовал.
— С того и начинал — чтоб все грамоту знали, а шляхетство и духовенство высокой образованностью отличались. За то Артемию Волынскому и приговор был — живым на кол посадить, а до того язык вырезать, чтоб никому впредь неповадно было на власть монаршью посягать, будто шляхетство о государстве своем не радетели!
— Полно, полно, Марья Артемьевна, как можно душу так терзать? Уж сколько лет прошло.
— Сколько, говоришь? Да сорок три. Двадцать седьмого июня сорокового года голову Волынскому отрубили — милость такую, замест первого приговора, оказали. Сорок три, а для меня что вчерашний день. У Кати, гляжу, тоже сердце болит.
— Да по отце что-то не больно она убивалась.
— Не казни ее, Иван Ларионыч, не казни. Дочерью она всегда примерной была. Это уж твой братец мудровал — то казнил дочку невесть за что, то миловал. Раскидал детей по сторонам, кого куда, и думать про них забыл. Об одном кармане своем думал.
— Грех невелик.
— Известно, не грех. А дочке бы помочь при его-то доходах мог, да не стал. Катя все сама сделала. Дом московский как славно достроила. Пригородное поместьице свое под Петербургом обставила — что дом каменный, что сад регулярный. Вот до Троицкого ее мы с тобой не добрались, а сказывал мне племянник твой Александр Романович, диво дивное какой порядок в хозяйстве да красота в усадьбе.
— Вон как теперь Академией занимается. Лектриса-то ее, фамилии не упомню, сказывала, дни напролёт за бумагами сидит. Одному Богу известно, откуда хватка взялась. Что ни день императрице о делах докладывает.
— Ох, недолгая это песня.
— Почему же, Иван Ларионыч?
— А потому, для императрицы забавы одни нужны. Поиграет в Академию, да и бросит, а княгинюшку нашу, как муху осеннюю, прогонит. Сама увидишь.
— Да ведь врага-то ее главного, вишь, не стало. Днями и граф Григорий Григорьевич Орлов прибрался.
— Да что ей в нем! Бывший фаворит — невелика опасность. На мой разум, граф в последние годы дружиться с Катенькой хотел — Артемий, как вместе с ней по Европе ездили, сказывал. Да Катенька предел тому сразу положила.
— Вот и умница!
— По совести-то умница, а по делам придворным — как знать. Хоть и нет Орловых более при дворе, а ниточки от них все равно далеко тянутся. Коли служить княгинюшка наша собралась, то и отмахиваться от них не приходится. Зря она думает, будто Потемкин Григорий Александрович поддержкой ей будет, ой зря. Этот свою выгоду всегда соблюдет.
— Никак, службой племянника нашего внучатого занимается? С собой в компанию взял?
— Взять-то взял, да с чего это ему князь Павел Дашков запонадобился, о том не подумала, друг мой?
— Кому ж образованный да ловкий адъютант помешает.
— А к чему князю Потемкину образование-то Павлушино? Ловкость везде хороша, да я в нее не больно верю. Строго его Катенька воспитала, не для двора. В первом же капкане, помяни мое слово, окажется.
— Не говори такого, Иван Ларионыч, не говори и думать не моги. Не дай Господь, в недобрый час скажется, да и исполнится! Сам знаешь, как оно бывает.
— Знаю, знаю, друг мой. А только у Потемкина свои планы. Думаешь, случайно разговоры ходят, будто быть Павлуше в случае.
— О Господи, грех какой!
— Грех не грех, а все императрицына служба. Забыла разве, что князь Потемкин любимцев ко двору поставляет? Один государыне глаза намозолит, другой уж на пороге стоит. Глаз у князя наметанный, промашки нипочем не даст.
…Академия наук решительно не приучена к тому, чтобы тотчас же откликаться на все ученые открытия и наблюдения. О каждом из них начинается дискуссия, затягивающаяся на месяцы, а то и годы. Причина подобных дискуссий, по моему разумению, кроется не столько в стремлении установить истину, сколько в завистном желании воспрепятствовать чужим успехам. Все пространные объяснения смысла ученых споров не смогли меня убедить в их смысле. Разве немедленная публикация не открывает двери в мир науки, где им могут воспользоваться многие, а не узкий круг наших академиков? Чтобы не показаться голословной, я решилась показать пример на последних явлениях астрономических. 19 февраля 1785 года в Москве в первой половине дня при солнечной погоде и двадцатиградусном морозе в небе появились некие круги и желтоватые шары, остававшиеся до начала сумерек. Главнокомандующий Москвы граф Брюс немедленно прислал государыне сделанные с натуры зарисовки, я же немедля поручила сделать и издать гравюры с изображением помянутых явлений. Тем более что другое странное явление имело место на следующий день в Ярославле, где такие же круги выступили на небе вокруг Луны. Рисунки и описание были переданы мне 10 марта, а спустя неделю Портретная типография академическая отпечатала восемьсот экземпляров, из которых шестьсот шестьдесят три были отданы в Географический департамент для раскрашивания, а остальные поступили в книжную лавку и тут же были раскуплены. Интерес петербургской публики оказался так велик, что пришлось допечатать еще пятьсот штук, что принесло Академии наук заметную прибыль. Но еще большей прибылью стало то, что из других городов стали поступать сообщения о подобных явлениях околосолнечных, давая господам академикам пищу для размышлений и научных выводов. Одно плохо, что добиться необходимой скорости удалось лишь благодаря неусыпному моему наблюдению, зато изданные листы доставили государыне истинное удовольствие.
— Вы поторопились заняться словарем, княгиня?
— Такова была ваша воля, ваше величество.
— Да, но вы не могли не знать, что эту работу я начала сама с помощью профессора Палласа, и я полагаю, наш труд вполне оригинален и заслуживает того, чтобы к нему присоединилась Академия.
— Ваше величество, но господин Паллас — естествоиспытатель.
— Что же из этого? Вы сами с большой похвалой отзывались о его деятельности.
— Но в его области, ваше величество. Мне кажется, уважающий себя ученый не может браться за все существующие виды знаний и добиваться в них успехов.
— Вы забыли о временах Возрождения, княгиня.
— Но эти времена были достаточно давно, и наши на них нисколько не похожи. Тогда наука находилась у своей колыбели, теперь же…
— Одаренные люди встречаются во все времена, и господин Паллас относится к их числу. Вы, по крайней мере, поинтересовались, княгиня, принципами нашей работы?
— Я не могу сказать, чтобы имела о ней достаточно полное представление.
— Вот именно, княгиня, вы сами признаетесь в заведомой легковесности своих суждений. Жаль, очень жаль. Между тем господин Паллас помогает мне в составлении сводного словаря более чем девяноста языков, и среди них тех, которые встречаются только в нашей империи.
— Ваше величество, я не представляю себе объема подобного труда.
— Ничего удивительного, но мы решили ограничиться определенным кругом основных понятий. Их должно быть в общей сложности не более двадцати.
— Каких именно, ваше величество?
— Скажем, небо, солнце, земля, вода, огонь, отец, мать.
— Но двадцати слов недостаточно для того, чтобы люди могли выражать свои мысли, тем более обмениваться ими. Что дадут им эти понятия? Представление о языке?
— О строе их мыслей. Дальше этот круг понятий можно начать расширять, и тогда помощь Российской академии станет полезной и необходимой. Меня удивляет ваш скептицизм, княгиня! Все, кто знакомился с образцами нашего труда, были от него в восторге.
— Ваше величество, эти восторги во многом вызывается глубиной и полнотой ваших научных познаний и интересов, но ведь существует еще и наука.
— Наука, которая претит всем! Не я одна не согласна с принципом вашего издания. Оно будет просто неудобным.
— Ваше величество, это первый и совершенно необходимый шаг. Мы делаем первый словарь, и потому в нем необходимо отыскивать и объяснять корни и происхождение слов. Отсюда и приходится обращаться к этимологическому — словопроизводному принципу.
— Вы занимаетесь сочинением, которое станет интересным для одних академиков, тогда как словарь должен служить просвещению всего общества, а в таком случае он должен следовать алфавитной последовательности.
— Вы совершенно правы, ваше величество. Но такой словарь мы сможем составить и издать через несколько лет.
— Двойные траты и бесконечные ожидания!
— Ваше величество, наука о языке не терпит спешки.
— Вы словно ищете, как занять Академию вперед на много лет, тогда как общество ничего не получит от ее существования.
— Государыня, я интересовалась расходами Палласа. Они превосходят все мыслимые и немыслимые размеры. Я не решаюсь спросить у вас лишней тысячи рублей на содержание штата, тогда как господин Паллас тратит двадцать тысяч рублей на составление своего труда, и это не считая бесконечных курьеров во все медвежьи углы.
— Паллас все лишь исполнял мою волю, которую вы, княгиня, если не ошибаюсь, решаетесь критиковать?
— Ваше величество, мне никогда бы не пришла в голову мысль подвергать сомнению или критике ваши начинания. Но на мой взгляд, Паллас умело пользуется предлогами, чтобы делать свою естествоиспытательскую работу.
— А если даже это и так, не вижу в том никакого преступления. Боюсь, княгиня, что вы в действительности слишком далеки от лингвистики, хотя и продолжаете оставаться уверенной в собственной непогрешимости. Кстати, я слышала, что вы сами принимаете участие в составлении вашего словаря. Это правда?
— Да, ваше величество, я рискнула взять на себя сбор слов на три наименее пользуемые буквы алфавита и теперь представляю на суд академиков все, что мне удается найти. Каждую субботу у нас происходит собрание, на котором обсуждается вклад каждого из участников словаря. Я не осмеливаюсь предложить вашему величеству посетить одно из них, но при вашей любви к русскому языку и выдающемся литературном даровании, не сомневаюсь, ваше величество заинтересовались бы общими трудами.
— О нет, княгиня, увольте! Так далеко мои увлечения простираться не могут. Вы забываете, что на императрице лежат в первую очередь государственные дела. К тому же литературные дискуссии набили мне достаточную оскомину. В конце концов, мои «Были и небылицы» в вашем «Собеседнике любителей российского слова» касаются только смешных сторон современного общества, ваши же авторы даже в них находят повод задеть монархиню и чуть ли не вышучивать ее. И это при том, что я прочитываю почти все статьи и рукописи. Они будто вступают со мной в личную переписку. А дерзкие и предосудительные вопросы господина Фонвизина любого монарха побудили бы обратиться к административным мерам. Я давно стала замечать, что либерализм правителя не идет в России на пользу подданным. Удивляюсь, что ваши авторы пока еще проявляют известную снисходительность к вам как к редактору. Но поверьте, это благополучие продлится очень недолго, и вы на себе испытаете то, от чего не можете предохранить свою монархиню.
— Слыхала, друг мой, княгинюшка наша в Москву собралась.
— Письмо пришло, Иван Ларионыч?
— Нарочный приехал. Да не одна Катенька едет. Подругу свою английскую, мадам Гамильтон, везет.
— А та в Петербурге оказалась?
— Катенька сказывала, давно ее сюда звала. Многим ей обязана. Госпожа Гамильтон и по Европе с ней ездила, и в Англии ко двору представиться помогала. Теперь Катенька для нее чести какой добилась: государыня путешественницу в Царском Селе приняла. Никогда туда иностранцев не возят, а тут ради Катеньки, чтоб ее уважить, ее императорское величество согласилась. Отпуск княгинюшке на три месяца дан, чтоб госпоже Гамильтон Россию нашу показать. Одним только племянница огорчилась.
— Огорчилась? Чем же?
— Слухами, что о брате Романе пошли.
— О покойнике-то?
— Что из того, что о покойнике. Толковать начали, будто оттого братец скончался, что императрицы подарок на рождение свое получил — кошелек преогромный.
— С золотыми? Не дитя, чай, такие подарки получать.
— С какими золотыми! Как есть пустой. С намеком, выходит, что больно много Роман денег по службе прикарманивает. Мол, оттого и в отставку подал, а там от огорчения и скончался.
— Стыд какой! Да как же так болтать можно!
— Болтать не болтать, кстати, и о покойнике Михайле Ларионыче вспоминать стали.
— О нем-то, голубчике, чего? Чем он завинился?
— Будто по должности своей канцлерской со всех послов дань собирал, и немалую.
— Быть того не могло!
— Не будем, друг мой, старого ворошить. Это я так — к слову сказалось.
— Слов нет, Кате обидно. На Академию что ту, что другую все время свои деньги докладывает, а выходит — не в честь, не в славу: все под подозрением. И в Англии, сказывали, денег на университет, где Павлуша учился, не жалела — благодетельствовала.
— Да, вошла в род воронцовский Англия, ничего не скажешь. Сколько там княгинюшка провела, друзей оттуда скольких вывезла. Теперь наш Семен Романович с супругой туда уехал, пишет, век бы оттуда не возвращаться, так понравилось. Была бы, скажем, Франция или австрийский двор, а то на тебе, Англия!
— Государыня! Вы разрешили открывать приватные типографии по всей России.
— И вам это не нравится, Катерина Романовна? Ушам своим не верю.
— Нет, нет, ваше величество, вы совершенно правы, частные типографии должны существовать, но сейчас они мешают в Петербурге типографии академической. Мы должны получать заказы со стороны. В том наша выгода и возможность распространять высокий вкус. Теперь же граверы ищут приватных заработков и, отвлекаясь от работы казенной, добиваются их за счет небрежной работы.
— У вас есть предложения?
— У меня есть ордер, с которым я хотела бы ознакомить ваше величество. Надеюсь, что он поможет нам навести порядок.
— Вы проповедуете дисциплину, княгиня. А впрочем, давайте посмотрим ваш ордер.
«Ее сиятельство примечает, что выходят здесь в публику нередко визитные билеты, портреты, разные эстампы и даже книги с эстампами, кои ни при сей Академии, ни в Академии художеств печатаны не были, и потому заключает, что надобно быть скрытным типографиям, где таковые билеты, эстампы и прочее печатаются. А как содержание таковых типографий скрытных и под ведомством никаких правительством учрежденных начальств не состоящих запрещено, так как и всякое содержание фабрик без дозволения и ведения правительства, то ее сиятельство, предохраняя честь Академии от всякого нарекания, приказать изволила мастеру Фигурной и Портретной типографии Колмовскому и всем вообще находящимся в той типографии мастеровым, чтоб в таковых запрещенных тайных типографиях не работали да и сами бы у себя на дому таковых типографских станов, поелику оными можно печатать и неблагопристойные дела, не заводили и не держали под опасением, что как скоро кто сделается нарушителем и преступником сего приказания, то не только отрешен будет от Академии немедленно, но отослан куда следует для проведения над ним суда по законам».
— Сурово, но справедливо. Я хотела бы, чтобы во всех департаментах начальники так строго следили за подчиненными.
— Вы одобряете, государыня?
— Безусловно. Кстати, я хотела бы знать, что вы собираетесь делать со своим «Собеседником». Меня очень огорчила напечатанная в нем статья некого Общества незнающих, или как она там называется.
— «Общества незнающих ежедневная записка», ваше величество.
— Удивляюсь, как вы могли допустить подобный пасквиль. Даже полному профану понятно, что он обращен против заседаний Российской академии. Воля ваша, княгиня, но я более в «Собеседнике» сотрудничать не собираюсь.
— Государыня, тем самым его судьба предрешена, — мы просто закроем журнал. Без ваших сочинений в нем не останется никакого смысла.
— Это ваше решение, княгиня. Я никак не настаиваю на нем.
— Но я имею на него право как издатель, ваше величество.
— Слыхал, Артемий, что племянница моя Настасья Михайловна снова за прежнее принялась. Так ли оно?
— К сожалению, батюшка. Кузина Катерина Романовна вне себя от горя, в постелю слегла.
— Да что Настасья учудила?
— С супругом своим Щербининым сошлась.
— Ну и что?
— А то, что все драгоценности и деньги, что кузина ей передала, с собой прихватила. Щербинин свое родовое всё промотал, потому и с женой сходиться надумал, чтобы её приданым попользоваться.
— Ума своего у Настасьи нет?
— Немного, батюшка, как видно.
— А все Катерина Романовна! Замужнюю бабу за собой как девчонку таскать положила. Мужа в Россию отправила, а жену то балами баловала, то танцам всяким учила. К чему расставанье-то это? Вон Настасья и привыкла о хозяйстве не думать, денег не считать. На все матушка есть. Обо всем позаботится, обует, оденет, в люди вывезет. Того гляди, четвертый десяток разменяет, а ни дома своего, ни детей. Да где там! Болеть-то Катерина Романовна наша горазда, а чтоб вместо болезней да припадков всяких строгость к детям применить, нету ее — делами академическими занимается.
— Да ведь и впрямь огорчений у кузины немало.
— Каких же еще, позволь тебя спросить?
— Хоть бы с Павлом. Роман у него с замужней дамой — весь Петербург знает, а разговоры что, того гляди, в фавориты выйдет, никак не утихнут. Кузине это нож острый.
— Понять нетрудно — при ее-то гордыне!
— Рассказывала сама мне, как граф Самойлов Александр Николаевич, когда Павел был в Петербурге в отпуску, к ним в дом приехал. Сына не застал, решил мать навестить да при оказии приказ какой-то передать. Катерина Романовна на дыбы. Мол, то, что говорить собираетесь, одного князя Дашкова касается, а меня, мол, увольте. Знаю, мол, про ваши планы, мешать им, как императрицу слишком люблю, не стану, только если все по-вашему выйдет, у нового фаворита о единственной милости просить буду — тотчас и до конца дней моих за границу уехать.
— Не рано ли рассчитывать начала?
— Известно, рано. Да, может, и расчет у кузины. Дойдут слова ее до Потемкина или до самой императрицы, глядишь, они от Павла Михайловича и отступятся.
— Да почем знать, где его счастье. Дружит же Катерина Романовна с сестрицей, а про случай ее не поминает, и стыда в том для себя никакого не видит. Дочку ее в фрейлины вывела.
— Еще какой случай тут с ней, батюшка, приключился. Ездила Катерина Романовна в свите государыни в Финляндию, король шведский великую ей честь оказал — сам к ней с визитом приезжал, перстень со своим портретом подарил, а на перстне том два преогромных чистейшей воды бриллианта. Так кузина бриллианты вынуть велела и племяннице подарила, чтоб серьги новомодные сделала и в тех серьгах во дворце как фрейлина появилась.
— Видишь, видишь, а с сыном такой шум устраивает. Со стороны поглядеть — не иначе, ревность материнская.
— Может, и так, батюшка. Хороша, хороша кузина с императрицей, а не все промеж них ладно, как посмотрю.
— Дай только Бог, чтоб подольше нелады те на явь не выходили. Прибытку от того никому не будет.
— Как это складно все у вас выходит, княгиня. Почитать ведомости, только императрица да вы вдвоем вояж в Финляндию совершали!
— Не понимаю вашего намека, господин Ланской.
— Что ж тут понимать, в отчетах о вояже, кроме императрицы, одно ваше имя и мелькает, тогда как, коли память мне не изменяет, были там и граф Иван Чернышев, и обер-егермейстер Нарышкин, и статс-секретарь Безбородко, и граф Строганов, и Чертков, об управляющем Кабинетом господине Стрекалове да дежурных камергерах уж и не говорю.
— Ваши претензии вы должны обратить, господин Ланской, к князю Барятинскому. Он, как обер-гофмейстер, обязан был представлять все отчеты, и непременно за своей подписью. Все, где стояла его подпись, печаталось Академией немедленно и без поправок. Я же тем более к протоколам этим отношения не имела.
— Это при вашем таланте во все вмешиваться и всему задавать тон?
— Надеюсь, я вмешиваюсь только в то, что составляет мои служебные обязанности. У вас нет никаких прямых обязанностей, господин Ланской, и поэтому вы так воспринимаете мою деятельность.
— Мои занятия меньше всего касаются вас, княгиня. И если откровенно говорить, просто смешно говорить о служебных обязанностях женщины, берущейся руководить академиками. Что вы понимаете в их трудах!
— Этот вопрос я решала и буду решать только с самой императрицей, настоявшей на моем назначении.
— Вот именно! Вы любите решать все вопросы один на один с императрицей, внушая государыне ваши тщеславные и нелепые замыслы, вроде отчетов, где только ваша персона оказывается достойной всеобщего внимания. Вам нужно, чтобы весь свет знал о вашей близости к государыне!
— Знаете что, милостивый государь, как ни велика честь обедать с государыней — и я ее ценю по достоинству, — но она меня не удивляет, так как я пользовалась ею со своих младенческих лет. Как крестница покойной императрицы Елизаветы Петровны, я сиживала у нее на коленях во время обедов, а когда подросла, мой стул стоял возле ее кресла. Государыня навещала наш дом каждую неделю, и потому вряд ли бы я стала печатать в газетах о преимуществе, которым пользуюсь от рождения и по рождению.
— Каково бы ни было ваше преимущество по рождению, княгиня, вы не упускаете случая подчеркнуть вашу нынешнюю близость к монархине скорее всего потому, что слишком много особ обладает тем же преимуществом, а может быть, и большим.
— Вы забываетесь, граф!
— В чем же? И уж если вы применили наконец мой титул, то должен вам напомнить, насколько он старше того, которым располагал ваш отец. Ланские в шестнадцатом веке выехали из Польши, уже имея этот титул, что же касается Воронцовых, то, если мне не изменяет память, ему едва исполнилось сорок лет.
— В нашем разговоре нам незачем касаться заслуг наших предков — пусть каждый пользуется заслуженным уважением и славой, если их в действительности приобрел, а не был простым носителем ничем не оправданного титула.
— Что вы хотите этим сказать?
— Только то, что человек, движимый только честностью и поставивший для себя целью служить государству, может на сегодняшний день пользоваться меньшим влиянием и славой при дворе, чем иные водяные пузыри, которые возникают у всех на глазах и так же легко лопаются. Переливающаяся в их поверхности радуга не что иное, как отражение чужого величия и блеска. Но вот и императрица. Думаю, вам пора остановиться в ваших нелепых претензиях, граф, и не ставить себя в глупое положение перед ее императорским величеством.
— О, об этом вы не беспокойтесь, княгиня! И не путайте вашего положения с моим — они несравнимы.
— И слава Богу!
Глава 16 Дела Российской Академии словесности
— Ваше величество, княгиня Катерина Романовна Дашкова настоятельно просит вашей аудиенции.
— Что там на этот раз? А впрочем, проси.
— Государыня, я понимаю, сколько несвоевременен мой визит…
— Вы не могли дождаться вечернего приема, княгиня?
— Я еще раз приношу свои глубочайшие извинения, ваше величество, но пересланная вами мне с лейб-курьером посылка повергла меня в совершенное изумление, и я сочла необходимым немедленно выяснить возникшее недоразумение.
— Какое именно? То, что на одном из вражеских шведских кораблей были обнаружены адресованные вам письмо и ящик? Как видите, я настолько доверяю вам, что не разрешила их вскрыть и распорядилась отправить адресату в нетронутом виде. Хотя, не скрою, испытала известное недоумение от подобной почты.
— Именно это и побудило меня беспокоить ваше величество. Я хочу, чтобы мое имя и репутация неизменно оставались вне подозрений. Мне достаточно и тех злопыхателей, с которыми я сталкиваюсь ежечасно.
— Короче, княгиня! Пожалуйста, короче!
— Я захватила с собой посылку, государыня. Вот письмо от Франклина из Америки и письмо герцога Зудерманландского, который, обнаружив посылку на одном из шведских кораблей, счел нужным переслать ее в Петербург адмиралу Грейгу. В свою очередь адмирал передал посылку в совет, который и представил ее вашему императорскому величеству.
— Что нужно от вас Франклину? Мне кажется, все его заслуги, если их можно назвать заслугами, в борьбе с рабовладением. Не эти ли идеи стали близкими и вам, княгиня?
— О нет, государыня!
— Тогда что же? Насколько я понимаю, именно деятельность господина Франклина способствовала отъединению заокеанских колоний от британской короны.
— Ваше величество, Бенжамин Франклин сначала делал все возможное, чтобы избежать подобного разъединения. Он предупреждал о подобной возможности британское правительство, и остается сожалеть, что никто не прислушался к его словам.
— На каких условиях?
— На условиях представительства колоний в британском парламенте. Это представительство должно было быть достаточно весомым, а для его осуществления требовалось отменить постановления, стесняющие торговлю и промышленность американских владений.
— Для меня новость, что вы так подробно интересовались деятельностью господина Франклина.
— Но, государыня, я состою членом Филадельфийского философского общества, и хотя бы по одному тому должна быть осведомлена об американских делах. Разрешите вам очень коротко напомнить о жизни и деятельности Франклина. Это не займет много времени, но опыт подобных людей заслуживает того, чтобы о них знали просвещенные монархи.
— Вы так высоко его цените?
— О да. Ваше величество, разве не достаточно сказать, что это семнадцатый ребенок в небогатой семье, которая могла дать ему возможность лишь один год проучиться в школе? Всего остального Франклин добился сам. Он начал работу в типографии своего старшего брата, продолжил ее в других типографиях Америки и Англии. Он устроил в Филадельфии литературно-научный клуб, где собирались люди, заинтересованные вопросами самообразования. Подобные клубы, или, как их стали называть, юнты, распространились по всей стране, а вместе с ними и библиотеки для чтения, выдававшие книги на дом. Франклин справедливо оценил их значение. Он считал, что именно эти библиотеки распространили между купцами и земледельцами столько просвещения, сколько в других странах распространяет среди ограниченного круга людей хорошее воспитание, и именно полученные народом знания помогли американцам успешно отстаивать свои права и привилегии. Просвещенный народ способен более действенно бороться за свое человеческое достоинство. Государыня, ведь государство нуждается в патриотах не с завязанными глазами и заткнутыми ушами, а в патриотах умных и талантливых.
— Однако, княгиня, вы стали настоящей поклонницей нашего фернейского патриарха. Идеи Вольтера — ваши идеи.
— Ваше величество, разве не вы привлекли мое внимание к этому гениальному человеку и вашему самому искреннему почитателю?
— Чего человек не делает в молодости.
— А политические памфлеты Франклина, государыня! Они великолепны. Хотя бы последний — «Как из великой империи сделать маленькое государство — совет, представленный новому министру при вступлении в должность».
— И в чем же смысл подобных советов?
— Его текст был в посылке, и потому я осмелилась захватить его с собой. Взгляните, ваше величество: «Никогда не отменяйте меры, которая оскорбляет колонистов…»
— Но это снова американские дела.
— Нет, нет, ваше величество, все дальнейшие советы могут быть распространены решительно на все правительства: «Чтобы иметь верные сведения о колониях, слушайте одних губернаторов и тех чиновников, которые враждебно относятся к колониям. Поощряйте и награждайте корыстолюбивые показания, утаивайте ложные обвинения, чтоб нельзя было их опровергнуть, и поступайте так, как будто бы вся эта ложь была бы правдой. Не слушайте никогда друзей народа; думайте всегда, что народные жалобы — выдумки горстки демагогов и что вам стоит только словить их и перевешать, тогда всё будет спокойно. Поймайте некоторых из них и повесьте. Кровь мучеников делает чудеса, и вы добьетесь того, чего хотите».
— Кстати, это Франклин играл такую большую роль в составлении американской декларации независимости.
— Объявлявшей колонии Соединенными Штатами. Да, ваше величество.
— И он принимал участие в военных операциях?
— Нет, до этого не дошло. В тысяча семьсот семьдесят шестом году господин Франклин уехал во Францию, где пользовался огромной популярностью в литературных салонах.
— И где вы с ним познакомились.
— Но меня даже в большей степени интересовали его научные опыты, ваше величество. Открытия господина Франклина в области электричества произвели настоящий переворот в научном мире.
— Княгиня, не говорите мне, что вы хотели бы видеть этого господина в нашей Академии наук. Такого не будет. Никогда. И чтобы положить конец вашим не совсем уместным восторгам, я хотела бы вам напомнить, что именно после приезда господина Франклина во Францию там не только установилась мода на простенькие костюмы, которые он изволил одевать, но и появились добровольцы, уезжавшие воевать за независимость этих самых его Соединенных Штатов.
— Ваше величество, но разрешите же мне оправдаться. Я никогда не думала о приглашении в Россию господина Франклина. Не касаясь его возраста и положения в стране, я просто не разделяла полностью его убеждений. Между нами существовали только глубоко уважительные отношения. Но главное — я хотела бы получить ваши указания по поводу письма герцога Зудерманландского. Должна ли и как именно я на него отвечать?
— Не должны, княгиня. Я прошу вас положить конец подобной переписке.
— Ваше величество, это первое письмо, которое я получила от герцога за двенадцать лет. Мне кажется невоспитанным оставить его без внимания и ответа. К тому же я докладывала вам, что брат шведского короля в действительности скрывает вражду против своего высокого родственника и, мне кажется, мог бы оказаться в этом смысле полезным России.
— Мне неприятно вам напоминать, княгиня, о действительном круге ваших занятий. Внешние сношения России в них не входят. И не будут входить. Поэтому предоставьте вашей монархине самой решать, что полезно России, а что нет. Я не задерживаю вас, княгиня. Наш разговор и так слишком затянулся. Но вечером я хотела бы, чтобы вы непременно были на спектакле в Эрмитаже и не манкировали своими обязанностями статс-дамы. Кажется, вам хотел передать какие-то касающиеся вашего сына новости Ребиндер. Прощайте.
— Василий Михайлович! Барон Ребиндер! Как удачно, что вы здесь. Государыня сказала, у вас какие-то новости о князе Павле.
— Но, вероятно, по поводу этих новостей вы и были у государыни, княгиня.
— Полноте, барон, мои новости не имели к сыну никакого отношения.
— Не имели? Но та поспешность, с которой вы искали встречи с ее императорским величеством…
— Она была вызвана посылкой государыни, которая требовала немедленного моего ответа. Но не о ней речь. Так что же с князем Павлом? Вы получили какие-нибудь известия из Киева?
— Да, княгиня. Ваш сын по выходе его полка из Киева женился.
— Женился? Но этого не может быть! Полноте, барон, это какая-то досадная ошибка, не более.
— Сожалею, княгиня, но об ошибке не может быть и речи. Князь Павел обвенчался, и товарищи по полку были на венчании.
— И вам известно имя невесты?
— О да, некая Алферова.
— Алферова? Но кто это? Ради Бога, барон, кто эта особа? Что вы знаете о ней? Она очень хороша собой?
— Сожалею, княгиня, но мне нечем удовлетворить ваше натуральное материнское тщеславие. Невеста, а ныне княгиня Дашкова, нехороша собой, небогата, необразованна. Что же касается ее семьи, то мне сообщили только, что ее отец — смотритель тюрьмы, замешанный в не слишком чистых аферах.
— Ради Бога, стакан воды!
— Но на вас лица нет, княгиня! Быть не может, чтобы я оказался первым вестником произошедших в вашем семействе перемен. Если бы я мог такое подозревать, я избежал бы разговора с вами, княгиня. Простите меня за невольное огорчение, которое я вам причинил.
— Нет, нет, все в порядке, барон. Вашей вины в том нет, а то, что дети способны пренебрегать мнением и дружбой родителей, ни для кого не составляет секрета. Но довольно об этом. Развлеките же меня разговором, прощу вас. Мне надо собраться с силами и исполнить приказание государыни присутствовать на спектакле в Эрмитаже.
— Княгиня, ее величество поймет, если вы…
— Нет, нет, приказ императрицы должен быть выполнен. Давайте переменим тему разговора, Василий Михайлович, очень прошу вас.
— И потом, во всем есть свои положительные стороны, княгиня. Вы так боялись, что ваш сын окажется в числе случайных людей — теперь это ему не грозит, не правда ли? Князь Потемкин выполнил вашу волю: невеста — его родственница, хотя и не из числа особенно удачных.
— Ваше сиятельство! Вы приехали в конференцию! Но у вас усталый вид, и вам, по всей вероятности, не следовало трудить себя. Никаких особенно важных вопросов у нас нет.
— Не думаю, чтобы мой вид должен служить поводом для разговоров. Вы отлично знаете, что никакое нездоровье не способно меня отвлечь от дел. Что же касается того, что вы не видите никаких важных, я вынуждена буду вас поправить. Меня не удовлетворяет положение дел с художническими учениками. В искусстве мастерство должно зиждиться на воспитании и образовании. Непросвещенный художник не способен приносить истинной пользы, а наши палаты готовят неучей. Я намерена сама очертить тот круг знаний, которые они должны получать.
— Но ведь на это есть Академия трех знатнейших художеств, ваше сиятельство.
— Значит, слово «наука» в прибавлении к нашей Академии избавляет нас от необходимости образовывать людей?
— Ваше сиятельство, наше дело исполнять вашу волю. Вы считаете нужным назначить к художническим ученикам дополнительных учителей?
— Да, их сведения должны касаться священной истории, истории отечественной и всеобщей, математики, словесности и государственного устройства. Впрочем, начинать надо с книг, по которым они будут заниматься и которые должны всегда иметь под рукой. Начнём со священной истории. Пусть это будет только что изданная «Священная история, для малолетних детей на российском языке сочинённая» отца Вениамина Румовского. Написана ясно по мысли и по чувству. Затем Феддерсена «Нравоучительные повествования из библейских деяний, для детей изданные». Изложены кратко, и язык отличный.
— Это та, что в семьсот восемьдесят пятом году выпущена, ваше сиятельство?
— Вот именно. Ветхий и Новый Завет толкований требуют, а здесь все разъяснено, чтобы сомнений никаких не оставалось. Последнее издание самое лучшее. А теперь давайте обратимся к истории. Отметьте — «Обстоятельное описание происхождения и состояния маньджурского народа и войска».
— Но там семнадцать томов, ваше сиятельство.
— Вот именно, все семнадцать. За последним томом особо проследите, в нем примечания на все маньджурские и китайские слова. Книга эта позволит воспитанникам обстоятельно узнать историю восточную, а она для Российского государства всегда важна будет. У меня эти тома всегда под рукой. А вот из древних отдадим предпочтение Клавдию Клавдиану.
— Он тоже у нас издан.
— Конечно. По моему мнению, хоть и принадлежал он к языческой литературе, поэтом был превосходным. В делах государственных участвовал, и потому в поэмах его множество указаний на современные события. «Гигантомахию» и «Похищение Прозерпины» каждому знать надлежит. Тем более перевод наш совсем не плох. Знатоки его всячески выхваляют. А из наших не забудьте Федора Яковлевича Козельского во втором издании оба тома. Знаю, поэты наши не все к нему благосклонны, однако нахожу возможным положиться в этом на собственный вкус, да и государыне его хвалебные оды отличными показались.
— Но эти издания можно позаимствовать из академической библиотеки, ваше сиятельство. Стоит ли тратиться отдельно на художнических учеников?
— До библиотеки не каждый дойдет, да и отбор станет по собственному усмотрению делать. По плану же моему, с каждого можно знать, что спросить. Так вот прибавьте еще «Русские пословицы» Ипполита Федоровича Богдановича.
— И поэму его прикажете?
— Нет, для воспитанников наших «Душеньки» не надо. С годами сами прочтут. А пословицы народные, в двустишия переложенные, легко запоминаться станут.
— Сим талантом, ваше превосходительство, Россия вам обязана — сколько вы труда на него положили.
— Полагаю, что талант всегда о себе и сам заявить может, но если есть в этом капля моего труда, тем лучше. Сам Матвей Матвеевич Херасков мне его рекомендовал из всех студентов Московского университета, потому я ему и дала журнал «Невинное упражнение» редактировать, а там Петру Ивановичу Панину как переводчика представила. Отлично Ипполит Федорович со всеми делами справлялся. Позже к дядюшке Никите Ивановичу Панину перешел. Ему российская наша литература переводами Вольтера обязана, рассуждений аббата Сен-Пьера «О вечном мире», трудов Гельвеция «Об уме». Но мы отклонились от главной темы. Запишите «Велисария» Мармонтеля, «Собеседника любителей российского слова», все шестнадцать частей, и всенепременно ее императорского величества «Наказ… данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения» семьсот семидесятого года издания, что на четырех параллельных языках. Отличную практику для переводов молодые люди будут иметь — никаких словарей не потребуется. Да еще Де Каллиера «Каким образом договариваться с государями, или О пользе договоров», обе части.
— Ваше превосходительство, но это уже целая библиотека!
— Что же вас пугает? Знаний никогда не бывает много. Чуть не забыла: «Немецкую грамматику» Гельтергофа и из математики — Румовского Степана Яковлича «Сокращения математики». Перед господином Румовским Академия наша в неоплатном долгу, столь разносторонен его талант. Астроном российский первый. Скольких мест российских географическое положение определил, когда в Селенгинск и на Колу ездил за астрономическими наблюдениями. В «Собеседнике российского слова» сколько статей ученых напечатал, Тацита летописи перевел, теперь над словарем работает. А уж начал математических никто лучше изложить не сумеет. Вот пусть ваши воспитанники с него и начинают. Мой сын с его трудов начинал свое образование, а впрочем, какое это имеет значение. Теперь уже никакого…
— Никак, недужится тебе, Иван Ларионыч, друг мой?
— Да нет, матушка Марья Артемьевна, не недуг это, но огорчение немалое. Не хочет Господь Бог помиловать нашу Катеньку, не хочет.
— О чем ты, друг мой?
— Иван Силыч только что у меня был — из Петербурга приехал, так новостями поделился.
— Ну, Иван Силыч известный вестовщик. От него хорошего не жди, только и веры особой ему давать не надобно.
— Тут уж, матушка, верь не верь, а все плохо выходит. Говорил я, коли племянник внучатый князь Павел глупость такую совершил — женился Бог весть на ком да Бог весть почему, в ноги матери кидаться следовало, времени, ни Боже мой, не тянуть. Ведь обида, она со временем только крепнет — ни слезами не размочишь, ни словами не разведешь.
— Твоя правда, а что князь Павел?
— А то, что два месяца матушке письма слал как ни в чем не бывало.
— Это после свадьбы-то потаенной?
— То-то и оно. Катенька про все дозналась, о каждой мелочи распрознала — и про молодую княгиню, и про батюшку ее, воришку непутевого, и про то, что супруга против родительницы настраивает, и про то, что князь Павел у всех да каждого против родимой матушки защиты искал, чтоб перед ней заступились, умилостивили.
— Стыд какой, Господи! Как же сор из избы выносить, семейные дела на людях обсуждать! Вот тебе, друг мой, и воспитание английское, вот и университеты европейские.
— Да уж, ничего не скажешь, все у Катеньки прахом пошло. А всего более ей, голубушке, обидно, что сын уважения не оказал, доверия.
— Да уж если по совести говорить, никогда бы Катенька согласия на такой брак не дала.
— А ты бы, матушка, как поступила? Неужто смирилась? За такое своевольство и проклясть можно.
— Что ты, что ты, Иван Ларионыч! И вслух такого не говори! Скажи лучше, что же вышло у князя?
— То и вышло, что спустя два месяца после свадьбы, у Катеньки благословения посвататься попросил.
— Это супруг-то венчанный?
— Так и есть, супруг. Тут уж Катенька не стерпела, все князю Павлу написала — и что про свадьбу его давным-давно известно, и что надивиться не может таким непочтением сыновним, и что никакого благословения ему давать не должна. Коли сам себе невесту выбрал, сам пусть в ответе и будет.
— Каково-то ей, бедной, пришлось, подумать страшно. Да ведь, поди, и во дворце все шушукаются, в спину смеются! Гордая ведь она, Катенька-то, за гордость ее сколько найдётся охотников отомстить да унизить. Государыня-то, никак, благоволить к ней в последнее время начала?
— Э, матушка, при дворе с утра вёдро, к полуночи дождь. Там загадывать не приходится. Цельный день начеку быть надобно. Недоглядишь, недосмотришь, как раз благоволению конец придет. А Катенька не больно-то повадлива, угождать не хочет. Иван Силыч так и сказал, мол, сама себе княгиня виновата, что не всегда любезности монаршьей удостаивается, а пуще всего с фаворитами не ладит. Такое им подчас скажет, что диву даются, как государыня терпит.
— А князь Павел к родительнице-то приехал?
— О том и речь, что не приехал. К своему письму письмо фельдмаршала Румянцева приложил. Начальник за него ходатайствует, что дело, мол, не в высоком рождении, что главное — люди бы хорошие были.
— Учить, стало быть, Катерину Романовну решил.
— Выходит, что так. Денщиков сын — графиню Воронцову.
— Коли людям верить, может, и не денщиков.
— Про Петра Алексеевича подумала, матушка? Так то на воде вилами писано. У постели со свечой никто не стоял. Хошь — верь, не хошь — не верь. А у Воронцовых сумнений никаких. Родовые. Исконные. И вот теперь поруха такая. На мой разум, князь Павел и далее от родительницы скрываться будет, благо служба у него в Киеве — всегда сослаться можно. Понадеется на время — мол, все само обойдется, забудется.
— Ой ли!
— За вами должок, Екатерина Романовна!
— Долг? За мной? Ваше величество, я в отчаянии, неужели я могла пренебречь одним из своих обязательств? Это невозможно.
— И тем не менее, княгиня, должок существует, и немалый. Вы обещали написать для нашего театра комедию.
— Ваше величество, но вы не можете говорить этого всерьез. Я не чувствую в себе никаких способностей пиесописателя, и мне просто неловко делать попытки в этом отношении.
— А как же я, княгиня? Вы что, считаете, что ваша императрица рождена драматургом? Тем не менее в эрмитажном театре играют мои пьесы, и зрителям они даже нравятся.
— Вы всегда неоправданно скромны в оценке собственных талантов, государыня. Никто не сомневается в ваших литературных дарованиях. Пьесы — лишнее тому доказательство, а я…
— А вы должны сделать усилие, Екатерина Романовна. Если мне не удается вас уговорить, мне придется просто приказать. Ваши доводы меня не убеждают. Разве вы предполагали в себе дар администратора или тем более лингвиста? Кстати, как подвигаются дела со словарем? Давно хотела у вас спросить.
— Надеюсь, ваше величество, вам не придется испытывать стыд за своих подданных ученых и за свою империю. Словарь будет одинаково отражать их ученые усилия и возможности, которыми располагает ваша держава.
— Вы так высоко оцениваете значение словаря?
— Как же иначе, государыня! Ведь словарь — зеркало, в котором отражается и количество подчиненных вашей державе народов, и их состояние.
— Вы правы теоретически, княгиня.
— Простите мне мою горячность, государыня, но все это далеко не теория. Только на словаре каждый человек может убедиться, сколь велика и разнообразна его Россия, каково состояние в ней нравственности, политики, государственности. До выхода словаря вашим подданным попросту негде справиться об этом, тем более наглядно себе представить всю эту повергающую в изумление и восторг картину.
— Вы зря перестали заниматься стихотворством, Екатерина Романовна. Оно вам так же близко, как и в дни вашей юности. Но скажите, на каких материалах вы можете создавать нарисованную вами картину? Для этого нужно множество специальных экспедиций, а насколько мне известно, Академия наук их не предпринимает.
— Государыня, в опыте, который вы производили со словарем, вам помогал Паллас, но ведь он никакой не лингвист.
— Так что же, вы пользуетесь материалами географических экспедиций?
— Конечно, ваше величество. Это Крашенинников с его описанием земли Камчатки, Гмелин с его путешествиями по России, Паллас с описанием растений Российского государства, даже Левшин с его «Совершенным егерем». У каждого серьезного специалиста можно почерпнуть бездну материала. Он же способен объяснить, растолковать в подробностях смысл каждого слова.
— Например.
— Хотя бы слово «заклепывать». В словаре оно объясняется — сплющивать просунутый, пробитый сквозь что-нибудь конец металлического прута или гвоздя, делая как бы другую с противной стороны шляпку. Кажется, все очень просто, ваше величество, но в действительности любая формулировка должна получаться и точной и краткой одновременно, чтобы смысл становился очевидным для каждого и человек знал, к какому выражению ему следует или не следует в данном случае прибегать. Или другой пример — слово «каймить». В словаре говорится, что оно означает, подшив верх подкладки, прошивать кайму, несколько отступя от края, дабы подкладка лежала плотнее у платья.
— Вы станете специалистом во всех родах наук и ремёсел, княгиня. Это интересно, но, признаюсь, утомительно.
— Я не испытываю ни усталости, ни скуки, ваше величество. А чего стоят множественные значения каждого слова. Если я не слишком утомила вас, разрешите привести один лишь пример.
— Что с вами поделаешь, Екатерина Романовна! Вы своим жаром способны зажечь любого. Рассказывайте, рассказывайте!
— Казалось бы, очевидное по смыслу слово «косяк», ваше величество. Я перечислю лишь некоторые из его специальных значений, в которых учитывается заключенный в нем признак косины. У строителей так называется брус, столб деревянный у окна или дверей, у коих верх и низ наискось стесаны, а также кирпич, наискось срубленный. В судоходном деле — это доска или сходня, сверху вниз положенная. Но в «косяке» заключен еще и смысл части какого-то целого. В колесном деле так называют часть составного колесного обода, в торговом — кусок какой-либо шелковой ткани, в коневодстве — известное число лошадей, у мясников — часть мяса.
— А вы знаете, Екатерина Романовна, я беру свои слова об утомительности обратно. Это и в самом деле интересно.
— Вы звали меня, ваше сиятельство?
— Да, мисс Бетс, у меня к вам разговор.
— Боже мой, вы так взволнованны! Не принести ли вам ваших капель? Простите мне мою назойливость, но после последнего визита Елизаветы Романовны, мне кажется, вы почувствовали себя дурно. Я боялась вас спросить.
— В этом нет нужды. Я сама расскажу вам о том, что произошло. Мне нужна ваша добрая помощь, мисс Бетс.
— Но вы же знаете, ваше сиятельство, что можете во всем полагаться на мою преданность и любовь.
— Только это меня и поддерживает в моем намерении. Благодарю вас, мой старый друг. На этот раз дело в моей дочери.
— Мисс Анастасии? Она нездорова?
— Она нездорова. Доктор Роджерсон находит ее состояние критическим и настаивает на немедленной ее отправке на воды в Ахен.
— Доктору Роджерсону нельзя не верить, но, может быть, он несколько преувеличивает?
— Он не преувеличивает, мисс Бетс. Вчера вечером я без предупреждения заехал к ней. Ее вид ужасен. У нее землистое лицо, и она едва держится на ногах.
— Боже мой! Но что же с ней?
— Доктор видит и ухудшение ее желудочных спазм, и дурное состояние нервов. Я бы не узнала обо всем этом, если бы не сестра.
— Но это так естественно, что Елизавета Романовна заботится о племяннице.
— Сестра рассказала мне не об этом. Она приехала меня предупредить, что Анастасии запрещен выезд из Петербурга.
— Мисс Анастасии? Но это же невероятно!
— К сожалению, это так, мисс Бетс. На госпожу Щербинину наложено подобное запрещение по неоплаченному долговому обязательству.
— Опять! Но вы же расплатились со всеми ее долгами!
— В который раз, но не в последний. Теперь кредитор Анастасии какая-то портниха, у которой она шила свои платья по немыслимым ценам. Как я могу от вас скрывать, мисс Бетс, что дочь моя настоящая мотовка и что именно она совершенно расстроила состояние своего слабоумного супруга.
— И что же теперь будет, ваше сиятельство? Неужели вам придется снова тратиться?
— Кто же это сделает, кроме меня? Я предложила Анастасии немедленно поселиться на даче вместе со мной — её же надо отделить от возможности новых трат! К тому же я смогу последить за ее здоровьем, а между тем постараюсь выпросить у государыни разрешение на поездку Анастасии в Ахен, поручившись за ее долги.
— Но, ваше сиятельство, вы до сих пор не расплатились с долгами по своей заграничной поездке!
— Это правда, но у меня нет другого выхода. Придется повременить с их выплатой и согласиться на новые проценты. Но главное — я не могу отпустить Анастасию в Ахен без доверенного лица. Она снова начнет проматывать деньги и делать глупости. Мисс Бетс, я прошу вас, я очень прошу вас поехать с дочерью. Хотя бы ради нашей дружбы!
— Вы так рассеянны последнее время, Екатерина Романовна, что, мне кажется, вчера почти не видели спектакля, хотя он был презабавный и все смеялись. У вас какие-то огорчения?
— Нет, нет, ваше величество, ничего такого, о чем стойло бы говорить, тем более обременять ваше внимание.
— Вы давно не виделись с сыном.
— Служба удерживает его в Киеве.
— Но это же пустяки! Я распоряжусь, чтобы его прислали сюда в отпуск.
— Ваше величество, умоляю вас, не делайте этого. Князь Павел не должен иметь никаких преимуществ перед товарищами, иначе это порождает неудовольствия. К тому же в его приезде нет нужды.
— Я не понимаю вас, княгиня.
— Нет нужды, пока он сам не проявит такого желания.
— Понимаю — ваша гордость. Екатерина Романовна, мне ли не знать сыновнюю неблагодарность и пренебрежение. Поверьте моему опыту, на них незачем тратить душевные силы. Постарайтесь отвлечься. Ведь у вас столько интересных дел. Кстати, вы должны закончить свой рассказ о словаре. Помнится, мы остановились на тех экспедициях, которые доставили вам необходимые материалы, не правда ли?
— Вы очень добры, государыня. Я благодарю вас за разрешение изменить тему. Я упоминала академика Палласа. Его физическая экспедиция в районы Нижнего Поволжья, Прикаспия, Среднего и Южного Урала, Алтая, Байкала, Забайкалья длилась в общей сложности шесть лет. Академик превосходно использовал время. Но, ваше величество, Паллас пользовался немецким языком. Многие страницы его труда были написаны российскими академиками. Василий Федорович Зуев воспитывался в нашей академической гимназии и нашем академическом университете, совершенствовался в Лейдене и Страсбурге по естественной истории, а также физике и химии. Еще студентом участвовал он в экспедициях господина Палласа, который посылал его для научных работ и наблюдений в Обдорск, Березов для исследования Оби до Ледовитого океана, на Индерские горы. Позже Академия поручила ему исследование края, ранее не затрагивавшегося экспедициями, — между Бугом и Днепром, устья Днепра и его лимана с окрестностями. Я имела честь представить вам его «Путешественные записки от Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах».
— Помню, помню. Там было несколько любопытных страниц о духоборцах.
— И о цыганах и цыганском языке, ваше величество. Его составленное для народных училищ «Начертание естественной истории», по отзыву самого господина Палласа, превзошло все иностранные руководства по этому предмету. Что же касается его переводов, то академическое собрание не знает лучшего стилиста. Не могу не напомнить вашему величеству, что господин Зуев перевел и «Естественную историю» Бюффона.
— Позвольте, княгиня, а это не тот ли Зуев, которого вы рекомендовали для образования учителей народных училищ?
— Ваше величество, это тот самый Зуев, и к тому же вы сочли возможным похвалить ежемесячное издание, которое он редактировал, — «Растущий виноград».
— Из сочинений будущих учителей, не так ли?
— Я всегда удивляюсь вашей замечательной памяти, ваше величество!
— Но здесь мне понравились и некоторые литературные достоинства сочинений. Они были подобраны со вкусом.
— Вот видите, ваше величество! Рядом с Зуевым трудился Никита Петрович Соколов, тоже выученик академической гимназии, наш ординарный академик по химии. Он начинал с участия в экспедициях академика Палласа, но и сам изучал Калужское наместничество. В «Академических актах» были напечатаны его работы о смертности в Калуге и о приисках земляного угля в наместничестве. Кстати, он помогал Зуеву в переводе Бюффона.
— Помнится, вы называли в свое время Федора Туманского, княгиня.
— О да, ваше величество. Федор Васильевич издал понравившийся вашему величеству «Детский месяцеслов с краткою историею, географиею и хронологиею, всеобщею и российскою, и примечаниями из астрономии» и «Чтение для прекрасного пола».
— Сожалею, что господин Туманский отказался от полного описания жизни и деяний Петра Великого. Первая его часть показалась мне любопытной.
— Он уступил место Голикову, ваше величество, но не проиграла ли на этом историческая наука, трудно сказать. Господина Туманского удалось хотя бы убедить начать издавать материалы к жизнеописанию великого государя, а это уже немало.
— Туманский участвовал в переводе Палласа? Мне нравится ваша забота о чистоте и совершенстве языка, княгиня.
— Но вы спросили об источниках слов для словаря, ваше величество. Не занимая более вашего внимания, перечислю просто имена ученых, дабы лишний раз напомнить вашему величеству, сколь обширны земли, пользующиеся благом просвещенного правления великой Екатерины. Вам знакомы, государыня, «Дневные, записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства». Ведь это великое множество городов, сел и деревень на пространстве между Белым и Каспийским морями, между Уралом и Волгою по всему ее течению, от Сибири до Белоруссии и от Астрахани до Архангельска. Сообщенные Лепехиным сведения касаются, кажется, всего, чем богата Россия и что происходит в ней. Промышленность, промыслы, растительность, животные, минеральные богатства. И немало здесь Лепехину споспешествовали в его трудах Мальгин и Озерецковский.
— Что же, питомцы превзошли воспитателя.
— Позвольте не совсем согласиться с вашим величеством.
— Это ваше любимое занятие, Екатерина Романовна.
— Вы несправедливы ко мне, государыня, я хочу вступиться за честь ваших же ученых. Иван Иванович Лепехин отмечен редким талантом в медицине. Еще Михайла Васильевич Ломоносов прочил его на кафедру ботаники в Академии. Однако круг интересов господина Лепехина одною ботаникою не ограничился.
— Но он же стал директором Ботанического сада.
— И не переставал заниматься лекарственными свойствами отечественных произрастаний. Его размышления о нужде испытывать их лекарственную силу — труд оригинальный и отечеству особенно нужный. Что же касается господ Мальгина и особенно Николая Яковлевича Озерецковского, то их талант тем примечательнее, что первоначальное свое развитие получил не в академических стенах, а в российских семинариях. Тимофей Семенович Мальгин до поступления в академический университет обучался в Псковской семинарии, семь лет путешествовал с Лепехиным, — а образовался как превосходный историк.
— Вы правы, княгиня, его «Зерцало российских государей» — труд в своем роде единственный.
— Ваше величество, в его заглавии сказано все: «Зерцало великих государей по Рождестве Христовом с 862 года по 1791 год, изображающее их родословие, союзы, потомство, царствование, кончину, место погребения и вкратце деяния с достопамятными происшествиями». Но ведь до этого господин Мальгин перевел «Историю о переменах Неаполитанского королевства» с французского языка и «Лествицу умственного восхождения к Богу по степеням созданных вещей» Беллармина с латинского. Это все наши подлинные энциклопедисты, государыня.
— Что до Озерецковского, он всегда был вашим любимцем, княгиня, и пользовался особым вашим покровительством.
— Ваше величество, я всего лишь разделяю ваше отношение к этому достойнейшему ученому. Проделать путь из семинарии Троице-Сергиевой лавры до Лейденского и Страсбургского университетов совсем не просто. Не случайно вы остановили на нем свой выбор в качестве воспитателя графа Бобринского. Лучшей кандидатуры было попросту не найти.
— Хотя я совершенно не уверена, что обширнейшие познания воспитателя пойдут на пользу воспитаннику. Вы знаете, как капризен и несносен бывает граф. Я стараюсь не думать о тех огорчениях, которые он доставляет учителю. Вот мы снова и вернулись к теме детей. Что поделаешь!
Глава 17 Дети
— Мисс Бетс? Вы? И одна? Что сталось с моей дочерью? Говорите же, ради Бога, говорите!
— Ваше сиятельство, умоляю вас простить меня! Я не выполнила вашего поручения. Не была в состоянии его выполнить и потому поспешила обратно в Россию, чтобы быть снова около вас.
— Но вы не отвечаете на вопрос о моей дочери!
— О, это такая сложная тема.
— Она, по крайней мере, здорова?
— Жива и здорова, но…
— Что же в таком случае?
— Ваше сиятельство, мисс Анастасия провела курс лечения в Ахене, но не пожелала возвращаться в Россию.
— Как — не пожелала? Что же ей делать в Германии?
— Я никогда не умела читать мысли мисс Анастасии. Она из Ахена пожелала поехать в Вену, куда я ее сопровождала, а затем в Варшаву, где я поняла всю бессмысленность своего присутствия. Мисс Анастасия тяготилась моим обществом и не выражала желания возвращаться на родину.
— Вы не смогли ее удержать от новых безумных трат? Не так ли, мисс Бетс?
— Это не представлялось возможным, ваше сиятельство. Мисс Анастасия каждый день требовала от меня денег, пока я не была вынуждена отдать ей всю сумму.
— Четырнадцать тысяч! Боже мой!
— От них уже мало что осталось, ваше сиятельство. Мисс Анастасия ни в чем не отказывает себе, и единственная надежда, что скорое безденежье вынудит ее вернуться.
— А мне останется расплачиваться с новой кучей долгов.
— Вы гневаетесь, ваше сиятельство.
— Почему же, мисс Бетс. Раз ваши доводы и здравый смысл оказались бессильными, какой смысл был в вашем дальнейшем пребывании около этой сумасбродки. Вернемся же, мой друг, к нашей привычной жизни и будем покорно ждать окончания очередной эскапады княжны. Родные давно говорили, что она унаследовала далеко не лучшие качества собственного отца.
— Вы никогда не жаловались на них, ваше сиятельство.
— Я любила мужа, мисс Бетс. Я его очень любила.
— Вам перестал докучать ваш ревматизм, княгиня?
— Благодарю вас за внимание, ваше величество. Вряд ли мое здоровье стоит того, чтобы становиться предметом обсуждения, но раз уж зашла о нем речь, зимой я всегда испытываю облегчение.
— Это следствие усилий доктора Роджерсона?
— В моем случае, ваше величество, доктор Роджерсон бессилен. Ревматизм отступает только при сухой погоде.
— А на вашей даче, где вы так любите уединяться, княгиня, по-прежнему сыро. Может быть, вы используете сырость как защиту от неугодных вам посетителей?
— Ваше величество, даже рискуя казаться мизантропкой, я предпочитаю сохранять время для занятий. Академия отнимает множество времени, которое неудобная для других дача помогает сберегать.
— Вы тяготитесь даже приездами к моему столу?
— Как вы могли подумать такое, ваше величество! Возможность видеть вас, говорить с вами — единственная моя радость. Два дня в неделю я могу ее испытывать — мне остается самой себе завидовать.
— Вы немного опоздали, Екатерина Романовна. Генерал Брюс чрезвычайно интересно рассказывал о геройстве солдат наших, штурмом бравших крепость и лицом к лицу противостоявших смерти. Такое массовое мужество — это поистине поразительно.
— Именно массовое мужество, ваше величество — в этом, мне думается, весь секрет. Меня оно не удивляет. Мне кажется вообще, что самый большой трус может вызвать в себе минутную храбрость. Он бросается в атаку, потому что сам знает, что долго она не продолжится.
— Что же тогда, по-вашему, княгиня, представляет храбрость, раз вы отказываете в ней даже штурмующим неприятельскую крепость воинам?
— Вы почувствовали себя задетым, Яков Александрович? Напрасно. Я не имела в виду усомниться в доблести наших войск. Речь идет о другом. Я считаю героическим мужеством не храбрость в сражении, а способность жертвовать собой и долго страдать, зная, какие мучения ожидают нас впереди. Если будут постоянно тереть тупым деревянным оружием одно и то же место на руке и вы будете терпеть это мучение, не уклоняясь от него, я сочту вас мужественнее, чем если бы вы два часа сряду шли прямо на врага.
— Вы говорите действительно о высшей степени человеческого мужества, Екатерина Романовна, но оно имеет общечеловеческий, а не солдатский смысл, не так ли?
— Вы правы, ваше величество. Но если мерить человеческие возможности, я всегда буду отстаивать самую высокую меру.
— Однако же, княгиня, встречать смерть лицом к лицу всегда страшнее. Это заложено в натуре человеческой — мы обязаны ценить жизнь, и мы всеми силами стараемся удержать ее. Испытание же на часы и годы всегда оставляет надежду на продление жизни, и, значит, это совсем другое испытание. Я говорю вам это как военный, побывавший в сражениях. Только глядя смерти в лицо, человек проявляет подлинное мужество.
— Но в таком случае, генерал, вам придется признавать мужество и за самоубийцами.
— Я не думал над подобными поступками, ваше величество, но полагаю, что для самоубийства необходима решимость и, если угодно, отвага.
— Полноте, Яков Александрович! Вы возвращаетесь к старому спору, что проявляется в самоубийстве — мужество или слабость.
— Слабость? Вы шутите, княгиня.
— Нисколько. Я не говорю о том, что, убивая себя, человек грешит против нашего Создателя и против общества. Но сам по себе его поступок малодушен. Это действие отчаяния и трусости перед жизнью, которая предлагает нам бесчисленные испытания. Малодушие — любым способом уйти от них, подлинное мужество — их терпеть и им сопротивляться. Изо дня в день, из года в год. Самоубийца не уважает себя, я пришла к этому выводу.
— Вы думали на эту тему, Екатерина Романовна?
— Да, ваше величество, и не раз. И я ничего не предприниму ни для ускорения, ни для удаления своей естественной кончины. Это не та область, в которой я могу принять на себя окончательное решение. Я нахожу, что дам более яркое доказательство твердости своего характера, если сумею страдать, не прибегая к лекарству, которым не вправе пользоваться.
— Княгиня, мне вовсе не нравятся ваши размышления, одно то, что вы отдаете им время.
— Ваше величество, жизнь предлагает нам такое множество проблем, это всего лишь одна из них.
— Мне никогда не приходило в голову, что она коснется вас, тем более с такой серьезностью.
— Я не поднимала первой этой темы, государыня. К тому же в этом вопросе я сохраняю верность философу, которым так увлекалась в юности.
— Кого вы имеете в виду?
— Жан-Жака Руссо. Его софизм о жизни и смерти мне по-прежнему кажется великолепным.
— Откуда вы его позаимствовали, княгиня?
— Из «Новой Элоизы». Я могу ошибиться в точности слов, но смысл их таков. Не следует бояться смерти, потому что пока мы живем, ее нет, а когда она наступает, нас уже не существует.
— Мне всегда этот автор казался очень опасным. Его стиль увлекает, и молодые горячие головы невольно воспламеняются. Вы встречались с ним, княгиня? Какое впечатление он на вас произвел?
— Когда я была в Париже, ваше величество, одновременно с ним, я не хотела его видеть. Уже одно то, что он жил в Париже инкогнито, доказывало, что скромность его была притворна и что он снедаем был честолюбием и желанием наполнить своим именем весь мир. И я не собираюсь его защищать. Произведения Руссо действительно увлекают молодые неопытные головы, которые легко могут принять его софизмы за силлогизмы.
— Мисс Бетс, дорогой друг мой, порадуйтесь вместе со мной! Государыня наконец-то разрешила князю Павлу отпуск на три месяца, чтобы поехать в Варшаву за сестрой.
— И князь будет здесь? Какая радость!
— Нет, князь не выразил этого желания, а я не собиралась настаивать. Он приедет к матери тогда, когда станет испытывать в этом потребность. Применять силу было бы бессмысленно.
— Но он должен привезти мисс Анастасию сюда? Вы свидитесь, ваше сиятельство, с обоими.
— Я положила иначе. Пусть князь Павел поедет в Варшаву, разберется со всеми долгами и обязательствами сестры и отвезет ее к себе в Киев. Вдвоем они лучше решат, как поступать им в отношении родной матери.
— Ваше сиятельство, это жестоко! Скорее всего, они оба глубоко сознают свою вину и просто не решаются припасть к вашим ногам с мольбой о прощении. Вам ничего не стоит просто намекнуть им о вашей снисходительности, и все разрешится наилучшим способом. Посмотрите, ваше сиятельство, как измучили вы себя мыслями о них обоих. За последние годы вас стало не узнать. Подумайте о себе тоже, ваше сиятельство!
— Друг мой! Мои дети могут опасаться моего гнева при неожиданной встрече, как вы говорите, хотя никогда и ни в чем я никакого неумеренного гнева не проявляла. Но за все последние годы я не получила ни от того, ни от другого ни одного письма. Чем бы угрожало им написать любые строки, даже без извинений и раскаяния? Вы подумали об этом? А что касается моего здоровья, поверьте, я перестала дорожить жизнью, и что должно произойти, пусть произойдет. Я не стану цепляться за свое существование. Смотрите, как тихо и достойно уходят из жизни все мои близкие. Вот не стало и дядюшки Ивана Ларионовича. Если мы даже и не были особенно близки, знаю, как он болел за мои невзгоды. Уверена, тетушка Марья Артемьевна немногим переживет супруга: слишком были они дружны.
— Я не могу себе представить их чудного московского дома без сэра Джона. Он так любил строить и так охотно рассказывал о своих планах. Настоящий Версаль, не правда ли, ваше сиятельство? Настоящий версальский парк на московской реке!
— На Неглинной. Я сама всегда удивлялась изобретательности дяди. Мне кажется, он сначала возвел огромную церковь в Киево-Спасском, потом Успенскую огромную церковь в Свитино, но настоящее чудо — это его Вороново по Калужской дороге. Дворец ему построил там Николай Александрович Львов, а церковь и голландский домик — Карл Иванович Бланк, настоящий его придворный архитектор. Карл Иванович и живет при московском дворце покойного дяди, а вот сам московский дворец возводил вместо старых палат Матвей Казаков. Кажется, все свои главные сведения по архитектуре я почерпнула у дядюшки.
— А какой чудесный у него художник! Он так напоминает нашего Рейнальдса!
— Вы о Федоре Рокотове? Да, он написал портреты всей дядюшкиной семьи. Почтеннейший человек и превосходно образованный.
— Даже не похож на художника.
— Ничего удивительного. Я не открою никакой тайны, если скажу, что он побочный сын фельдмаршала Репнина. Потому и в обществе принят, и капиталом от отца располагает.
— Какая жалость, что вы никогда не соглашались, ваше сиятельство, дать списать с себя портрет.
— Может, Рокотову бы и дала, да мы с ним разминулись. Он оставил Петербург и переехал в Москву как раз тогда, когда я вернулась сюда. В Москве же у меня никогда не бывало часу. А ведь он и дядюшку Петра Ивановича Панина, царствие ему небесное, тоже писал. Дядюшка тоже в одночасье, вместе с Иваном Ларионовичем, убрался.
— Достойнейший человек был.
— А жизнь какую прожил, летопись целую написать можно. С четырнадцати лет был определен в Измайловский полк капралом и тогда же начальству неугоден стал. Не то что одну правду говорил, но никого не щадил. Только тем от гнева императрицы Елизаветы Петровны и спасался, что в Шведской кампании чудеса храбрости оказывал, в Семилетнюю войну где только не отличался. В турецкую войну Бендеры взял, да сразу же и был уволен в отставку — язык помешал.
— Вы говорили, ваше сиятельство, что государыня императрица графом частенько недовольна бывала.
— Да, во гневе государыня назвала его первым вралем и себе персональным оскорбителем, хотя дядюшка ничем ее императорское величество не оскорблял и помыслить такого себе не мог. Даже присмотр надежных людей над ним учрежден был. Только при дворе правого легко превратить в виноватого, а дядюшка оправдываться бы ни за что не стал. Понадобился, чтобы с Пугачевым справиться, — другой никто не смог, — быстро самозванцу конец положил, край успокоил. За то получил от государыни меч с алмазами, алмазные знаки ордена Андрея Первозванного.
— Но, говорят, крови тогда пролито было немало.
— Правду сказать, много. Да и как иначе. Императрица сама на жестоких мерах настаивала. Дядюшка Петр Иванович на себя такую ношу и принял. Так и говаривал, чтоб ее императорское величество от греха освободить. А так в жизни куда как добр да справедлив был. Пытками возмущался, жестокости помещиков не терпел, к раскольникам-староверам снисходителен был. Ну а бунт — дело другое.
— Последнее время редко вы с сэром Паниным виделись, ваше сиятельство.
— Годы кого только не разводят. Недалек путь от Петербурга до Москвы, а лишний раз в дорогу не пустишься. Как в ином государстве живешь. Раз за разом только узнавала, когда дядюшка детей своих хоронил. Счастья ему с ними не было. От первой своей супруги ни много ни мало — семнадцать человек имел. Всех похоронил. От второй, Марьи Родионовны, пятерых — только двое его пережили. Каково это отцовскому сердцу!
— Хоть двое остались, и то легче.
— Верите, мой друг, я первенца своего Михаила лишилась, до сих пор вспоминаю. Может, был бы иным, чем князь Павел, может, иначе бы мать любил, другом бы на старости лет стал. Кто знает…
— И что же, доволен ты своим протеже, братец? Принесли мне его брошюру, у нас в академической типографии напечатанную. Не знаю, чем тебя этот Радищев Александр прельстил, какими талантами, только брошюра, на мои глаза, расходов на печать не стоит. «Житие Федора Васильевича Ушакова» — надо же такое придумать. О студентишке обыкновенном — и житие! Ничем не прославился, талантов никаких не выказал. Всего-то, что с товарищами против наставников бунтовал. Кабы не твои уговоры, никогда бы такого в типографии нашей не допустила!
— Не сердись, сестрица, сам не знаю, как такую глупость молодой человек сочинил. Смею тебя уверить, юноша и впрямь одаренный, да тут, видно, бес попутал, молодость в голову ударила.
— И язык у него прескверный, читать тошно. Да и мысли опасные. Все ли прочел, Александр Романович?
— На все терпения, сестрица, не хватило.
— Тогда послушай: «Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и подобно правителям народов возомнил, что он не для нас с вами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его… Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют». Каково? От мелкого чиновника до монархов выводы делать, такое, Александр Романович, до добра не доведет, помяни мое слово.
— Вы сегодня вовсе не ложились спать, ваше сиятельство.
— Что поделать, друг мой. Заснуть я бы все равно не смогла, так что предпочла провести ночь за письменным столом.
— Но вы убиваете себя, ваше сиятельство!
— Убиваю? Полноте, мисс Бетс. Каждый человек проживет ровно столько, сколько ему положено судьбой. Наше человеческое достоинство заключается только в том, чтобы не испытывать страха перед естественным концом. Да и не конец страшен, но те горести, которые предстоит до него пережить.
— Вы опять вспоминали покойную Елизавету Романовну, не правда ли?
— И ее, и тетушку Марью Артемьевну. К сожалению, мое пророчество сбылось. Она не сумела остаться вдовой.
— Но ведь вслед за супругом графиня почти сразу потеряла и младшего сына.
— Да, графу Лариону Ивановичу едва исполнилось тридцать лет. Тетушка была очень привязана к кузену. А вот теперь я лишаюсь и любимого брата.
— Как лишаетесь, ваше сиятельство?
— Мне не хотелось вас огорчать, мисс Бетс, но граф Александр попал в очень неприятную историю.
— Но граф здоров? Ничто не угрожает его здоровью?
— Дело не в недугах. Вы помните того молодого таможенного чиновника, с которым он часто к нам приезжал?
— Я не запомнила его имени, но хорошо представляю его облик. Очень милый и воспитанный молодой человек.
— Вот именно, Александр Радищев. Он издал глупую и дерзкую брошюру, и хотя брат его за нее пожурил, он повторил свой литературный опыт еще более неудачным и дерзким образом.
— Но ведь литературная неудача — это всего лишь дело автора, ваше сиятельство. Она могла огорчить графа Александра, не более того.
— Если бы речь шла только о таланте. Но молодой человек придумал сочинить пасквиль на путешествие государыни в Крым.
— Пасквиль на ее императорское величество? Но это же безумие! И зачем?
— Из бунтовских намерений. Князь Потемкин слукавил, представляя государыне вновь присоединенные земли. Все было совсем не так благополучно, как он представлял. Государыня увидела вспаханные земли, которые на самом деле не были засеяны, деревни, которые были написаны живописцами, парки из воткнутых в землю срубленных деревьев, скот, который пришлось сгонять, как и поселян, издалека и который, не выдержав далекого и трудного пути, наполовину перемер. Радищев решил представить не новые земли, а дорогу между Петербургом и Москвой с одними лишь ужасами помещичьего правления.
— Но вы сами говорили, ваше сиятельство, о таких ужасах у ваших соседей. Не случайно ваши крестьяне благословляют судьбу, что оказались под вашим управлением и в ваших руках.
— Никто не спорит, что ничего подобного нельзя встретить в жизни, но ведь не только это.
— Однако, может быть, императрица, узнав истину, положит конец варварским правилам и обычаям. Разве такое невозможно?
— Мисс Бетс, в вас говорит иностранка! Вам трудно понять, что пока, во всяком случае, ярмо рабства благодетельно для нашего народа. Его следует облегчать, но не уничтожать вовсе. Подобное освобождение может произойти лишь по мере утверждения просвещения, а эта дорога далека и полна препятствий. Господин Радищев же намеревается ее сократить насилием и реками крови. Я переведу вам его слова: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи, для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. — Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие».
— Это напоминает мне нашего Шекспира, ваше сиятельство.
— Но Шекспир сочинял два века назад, и его страсти пагубны для нашего времени. К тому же то, что хорошо на театре, может быть ужасно в жизни. Во всяком случае, государыня была возмущена, Чему в немалой степени способствовал и князь Потемкин. Это он намекнул на то, что автор в ее адрес сказал, будто царь прослыл в народе обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом. И вот Радищев в крепости.
— Боже, как это ужасно!
— Его ждет в лучшем случае ссылка в Сибирь, а граф Александр Романович принужден просить о годичном отпуске со службы и разрешении уехать в Москву, чтобы не стать жертвой козней братьев Зубовых. Фаворит давно не любит графа. Мы с вами остаемся одни, мисс Бетс, и я сама подумываю о том, чтобы освободиться от служебных обязанностей и уехать в Троицкое.
— Кто там, мисс Бетс?
— Граф Самойлов, ваше сиятельство.
— Генерал-прокурор Сената. Что же ему понадобилось у меня, да еще в белый день? Велите доложить о нем, мой друг. Я не могу не принять его.
— Добрый день, княгиня.
— Что вас привело ко мне, граф? Во всяком случае, судя по вашему виду, не то, что может сделать день добрым.
— Вы правы, ваше сиятельство. Я вынужден стать вестником неприятных новостей.
— Каких же, граф?
— Ее императорское величество разгневана и поручила мне передать вам, как директору Академии наук, свое крайнее неудовольствие.
— Даже так. Но вы не говорите, что стало причиной этого неудовольствия.
— Неужели вы не догадываетесь, княгиня? Конечно, трагедия господина Княжнина.
— Трагедия Княжнина? Но ведь это же просто нелепо.
— Почему же нелепо, ваше сиятельство? Граф Зубов ознакомился с ее содержанием…
— Первый раз слышу, чтобы граф Платон Зубов решился на такой подвиг, как чтение трагедии.
— Я передаю только то, что обязан передать, ваше сиятельство. Возможно, вы и правы, и мнение графу было подсказано кем-то иным. Но это не меняет существа дела. Считается, что трагедия прочитана, и государыня распорядилась немедленно изъять все напечатанные ее экземпляры и предать их сожжению.
— Но это же невозможно.
— Почему?
— По той причине, что «Вадим» напечатан в последнем номере «Российского Феатра». Что же прикажете, уничтожить весь тираж «Феатра» и тем нанести немалый урон академической казне или выдрать соответствующие листы из каждого тома, что не может не осмешить правительственного распоряжения в глазах читающей публики?
— Не мне решать этот вопрос, княгиня. Но решение государыни твердо: трагедия должна быть уничтожена.
— Ваше дело, граф. Я не приложу к этому сожжению своих рук. Тем более что в Эрмитажном театре постоянно ставятся куда более опасные для государей трагедии. В чем же опасность русской трагедии?
— Княгиня, вам все равно придется давать объяснения, каким образом дошло до печатания этого сочинения.
— Я могу дать эти объяснения вам для передачи Платону Зубову или императрице, по вашему усмотрению. Начать с того, что вдова Княжнина попросила меня напечатать последнюю написанную ее супругом трагедию в пользу оставшихся без средств к существованию их детей. Я поручила ознакомиться с пьесой господину Козодавлеву, не только советнику академической канцелярии, но и писателю. Господин Козодавлев не нашел в сочинении ничего крамольного и сообщил мне, что развязка заключается в торжестве русского государя и изъявлении покорности Новгородом и мятежниками.
— Вы сами не читали трагедии, ваше сиятельство?
— Конечно, нет.
— Следовательно, ее появление можно приписать простому служебному небрежению.
— Вы забываетесь, граф! И забываете, что я занимаю должность директора Академии, а не цензора или советника.
— Не гневайтесь, княгиня, я ищу способов вашего оправдания.
— Но я не считаю себя ни в чем виноватой и не собираюсь оправдываться!
— Тем не менее это неизбежно. Императрица сказала, что под вашим руководством появляется за короткий срок уже второе обращенное против престола сочинение.
— Что же посчитали первым?
— Брошюру бунтовщика Радищева.
— Дурацкое и бессмысленное сочинение!
— Но его автор в крепости, и императрица склонна лишить вас своего доверия.
— Я подчинюсь любому решению ее императорского величества, а пока прощайте, граф. Я не задерживаю вас долее.
— Ради Бога, будьте осторожны, ваше сиятельство!
— Вы видели: приехала Дашкова!
— Как ни в чем не бывало!
— Она так и сказала, что собирается, как обычно, провести вечер с императрицей.
— Невероятно!
— Но вы же знаете ее бесцеремонность. Воображаю, какой у нее будет вид после первых же слов государыни.
— Да уж Зубовы постарались все расписать императрице в наилучшем виде. Такая возможность избавиться от ненавистной им персоны! Неужели же они ее упустят!
— А вы читали саму трагедию?
— То-то и оно, что стихи там и впрямь возмутительные.
— Неужели?
— Судите сам. Я листок один захватил с собой. На всякий случай. Может, представится государыне показать:
Какой герой в венце с пути не совратился? Величья своего отравой упоен — Кто не был из царей в порфире развращен? Самодержавие повсюду бед содетель. Вредит и самую чистейшу добродетель И, невозбранные пути открыв страстям, Дает свободу быть тиранами царям.— Боже мой! Никогда не поверю, чтобы Дашкова сего не читала. Не зря же она столько лет с Вольтером дружила.
— Да, впрочем, вот и она сама. Глядите, глядите, направляется к императрице…
— Как ваше самочувствие, государыня?
— Преотлично, княгиня.
— Но вы кажетесь взволнованной, ваше величество.
— Тогда как взволнованной следовало быть вам, не правда ли? Что сделала я вам, княгиня, что вы стали постоянно распространять произведения, опасные для престола и императрицы?
— Вы не можете так думать, ваше величество.
— Вам знакома эта книга?
— Да, это последний том «Российского Феатра».
— И вы знаете, что он будет сожжен палачом?
— Мне это безразлично, ваше величество, так как мне не придется краснеть по этому случаю. Я не верю своим ушам, что моя обожаемая просвещенная монархиня способна на подобный поступок. И умоляю ваше величество об одном: прочтите сами трагедию и убедитесь, что ее развязка способна удовлетворить любого сторонника монархического правления. Вам пересказали, смею предположить, пьесу те, кто не умеет читать литературных произведений. Я не автор пьесы и не заинтересована нисколько в ее распространении, поэтому, поверьте, мой суд о ней достаточно беспристрастен, а руководить мною может только величайшее уважение и любовь к вашему величеству.
— Довольно, княгиня. Меня ждет карточный стол. Думаю, и вас также. Мы просто не понимаем друг друга.
— Как вас приняла императрица, ваше сиятельство? Я весь вечер не находила себе места и молилась, чтобы вы не приезжали как можно дольше — знак того, что все обошлось.
— Благодарю вас, мисс Бетс. Граф Самойлов сразу же меня предупредил, что гнев императрицы на меня прошел и мне нечего опасаться его дурных последствий. Мне оставалось ему ответить, что я ничего и не опасалась, не сделав никаких дурных поступков, несправедливость же сама по себе не может меня волновать — слишком часто мне приходилось ее испытывать.
— И все же это должно было принести вам облегчение, не правда ли, ваше сиятельство?
— Простое восстановление справедливости, не более того. Императрица действительно сразу по своем выходе обошлась со мной очень милостиво и пригласила следовать за ней во внутренние комнаты.
— Какое счастье, что дурные люди не смогли настроить императрицу против вас!
— На этот раз, мисс Бетс. Я хорошо сознаю, что только на этот раз. Наедине с императрицей я попросила ее величество забыть события последних двух дней. Государыня хотела все же объясниться, но я не дала ей дойти до слова, сказав, что между нами пробежала черная кошка, которую не следует звать назад. Ее величество стала смеяться и осталась в прекрасном расположении духа на весь вечер.
— Счастливый день, ваше сиятельство!
— Вы правы. Но именно счастливый день снова навел меня на мысль об отставке. Жить в вечном напряжении, без уверенности в завтрашнем дне, не знать, кто и что может о тебе сказать государыне и настроить ее против тебя — нет, я не способна более этого переносить. Надо раз и навсегда покончить со службой.
— Но вы так ею дорожите!
— Все так, но Зубовы не дадут мне спокойно работать. Оба брата ревнуют меня к государыне и сделают все, чтобы постоянно восстанавливать ее против меня. Наши дружеские отношения им не нужны. Впрочем, хоть мне и горько в этом признаваться, государыня заметно изменилась.
— Годы, ваше сиятельство.
— Но они касаются и меня. Возможно, поэтому нам становится труднее понимать друг друга.
— Ведь у вас столько планов, ваше сиятельство, в вы так легко могли бы их осуществить.
— Могла бы… Порой мне начинает казаться, что ее величество теряет интерес к новым затеям, предпочитает покой и размеренность былой склонности к опытам. Помню, как государыня говаривала после успеха своих литературных сочинений, что не придает им никакого значения и что интересуется во всех областях одними опытами. Но это в прошлом. Вы поехали бы со мной в деревню, мисс Бетс?
— Я никогда не оставлю вас, ваше сиятельство, если вы сами не захотите со мной расстаться.
— Вот и чудесно. Вы единственный человек, который необходим мне в моем деревенском уединении. Петербургский дом я думаю продать. Он не понадобится мне больше.
— Но почему же? Такой прекрасный дом!
— Жить здесь и участвовать волей или неволей в придворных играх мне не по летам. Оказаться под одной крышей с детьми невозможно, да и они этого никогда не пожелают. Мое единственное обязательство — долги дочери. Продажа дома позволит с ними окончательно расплатиться. В деревне я смогу надеяться на покой и счастье. В той мере, в какой его дает душевная независимость и отсутствие необходимости подчиняться суетности двора. К тому же мне так хочется хоть ненадолго встретиться с братом. Граф Александр одинок, и нам было бы хорошо вдвоем.
— Вы хотите поселиться в его имении?
— Нет, нет, в лучшем случае провести там несколько месяцев. Вы же знаете, как я привязана к Троицкому. Там мне хотелось бы дожить свой век и быть похороненной. Только там.
— Вы разрываете мое сердце своими словами, ваше сиятельство! Вы еще так молоды — разве пятьдесят лет можно назвать возрастом! — и вы непременно еще будете покойны и счастливы.
— Моя милая мисс Бетс, лучше подумать, как устроить имения дочери и обезопасить их от нее самой и господина Щербинина, который вновь и вновь дает о себе знать. Если не положить конец их проделкам, дело дойдет до продажи моих деревень. А это было бы для меня настоящим ударом. Меня считают скаредной, но никто не догадывается, каких усилий стоит мне содержание моих детей, которых жизнь так ничему и не смогла научить.
— Но, может быть, мисс Анастасия последует за вами?
— Вам хочется меня утешить. Еще раз спасибо. Одно решено: как только дело дочери завершится в Сенате, я подам заявление об отставке от обеих академий. И не надо плакать, мисс Бетс. Всему в жизни приходит срок. Просто его не следует пропускать. Дальше окажется тяжелее.
— Вы напрасно обратились к императрице с письменным прошением, княгиня. Вам следовало при личной аудиенции разъяснить государыне мотивы, по которым вы хотите получить отставку сразу по двум академиям. Императрица не только вами недовольна, но решительно отказала в вашей просьбе.
— Граф, мы столько лет знаем друг друга, и неужто граф Безбородко не мог понять, как тягостен был бы для меня подобный разговор. Любой упрек императрицы вызвал бы у меня поток слез, которых императрица не любит. В письме все можно было изложить проще и точнее.
— Тем не менее государыне непонятна причина, побудившая вас так неожиданно просить об отставке.
— Я написала ее. Это поправление здоровья и устройство моих дел.
— Но ведь дело вашей дочери было только что решено в Сенате в ее пользу. Она получила имение, и государыня утвердила это решение.
— Все не так просто, граф. Мне тяжело касаться моих семейных неурядиц, скажу только, надо мной продолжают тяготеть долги, которые я не собираюсь оставлять в наследство моим детям.
— Вам смешно говорить о наследстве и завещании, княгиня. Вспомните, насколько старше вас государыня. Ваша ссылка на возраст может быть воспринята как намек.
— Упаси Бог! Я всегда выглядела и чувствовала себя старше своих лет, а государыня много моложе. Наши возрасты нельзя сравнивать.
— И тем не менее. Значит, вы положительно утверждаете, княгиня, что никакой иной причины отставки у вас нет?
— Уверяю вас, граф.
— Тем лучше. Государыня приказала мне удостовериться в этом и в таком случае милостиво разрешить вам отпуск по обеим должностям с сохранением оклада на два года. Этого времени вам должно с лихвой хватить.
— Но, граф, Академия наук, тем более Российская академия не могут столько времени оставаться без директора. Множество дел академических требуют повседневного разрешения.
— Что из этого? Императрица разрешила вам найти нужного заместителя. И вряд ли вам стоит пускаться в подобные споры. Ее величество и так проявила к вам редкое сочувствие. Им следует дорожить. Заканчивайте свои дела, готовьтесь к отъезду и можете рассчитывать на прощальную аудиенцию. Императрица готова пожелать вам счастливого пути.
— Ты что-то скрываешь от меня, сестра.
— Откуда такое предположение, Александр Романович?
— Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы не заметить, как ты растерянна и угнетена. Но почему? Императрица милостиво отнеслась к твоей просьбе об отпуске, ты смогла освободиться от дел, побывать в Круглом и Троицком, начать устраиваться в Москве. Дела в поместьях идут отлично. Так в чем же дело?
— Может быть, мне бы не следовало говорить тебе о своих домыслах?
— Домыслах? В отношении чего?
— Императрицы.
— Но вы же расстались с ней в дружеской комитиве, и больше тебе нет необходимости думать о переменах ветра при дворе.
— Я не все рассказала тебе о нашем прощании.
— Но я знаю от знакомых, что последний вечер в Таврическом дворце ее императорское величество оказывала тебе редкие знаки внимания и даже фаворит постарался быть любезным, а это с ним не так уж часто случается.
— Скорее все дело именно в нем. Наверно, мне не следует скрывать от тебя, братец, дальнейших обстоятельств. Тем более последствия их трудно предугадать.
— Но тогда я с нетерпением жду объяснений.
— Что ж, после всех сказанных императрицей любезных слов ее величество удалилась в свои покои. Мне захотелось хотя бы на минуту остаться с государыней наедине и поцеловать на прощание ее руку. Платон Зубов кружился среди приглашенных, и я попросила его передать ее величеству мою просьбу. Он просил меня подождать, пока осведомится у императрицы о разрешении. Время шло, граф не появлялся, и я повторила свою просьбу проходившему камердинеру ее величества. Прошло еще не менее четверти часа, пока последовал переданный им ответ. Мне разрешалось войти, но уже выражение лица камердинера заставило меня насторожиться.
— По всей вероятности, тебе не следовало настаивать на этом последнем свидании. Твое обожание могло императрице показаться назойливым.
— Я не могла противостоять своему желанию. К тому же ты увидишь, что в этом свидании была прямая необходимость. Впрочем, необходимость выяснилась много позже, а в тот момент я увидела разгневанную государыню, у которой не нашлось для меня ни одного доброго слова. Она с досадой протянула мне руку и пожелала только доброго пути.
— Вот видишь!
— Подожди, подожди, друг мой. На первых порах я все приписала какому-то новому неприятному известию, которое ее величество успела получить. Но на следующий день Новосильцов отверг подобное предположение. Он уверил меня, что никаких неприятных известий в прошедший вечер не поступало и со всеми остальными государыня продолжала оставаться ровной и веселой. Мне выпало мало времени теряться в догадках. Письмо от статс-секретаря Трощинского все объяснило. К нему была приложена просьба какого-то портного, которому задолжали немалую сумму Анастасия и ее супруг.
— Опять! Этому не будет конца. И, следовательно, императрица…
— Решила, что таким способом я перелагаю на нее мои обязательства по выплате долгов дочери. Негодование государыни было совершенно оправданно.
— Но письмо не могло появиться ни с того ни с сего. Какой портной решился бы беспокоить своими затруднениями самою императрицу! Это чей-то направленный против тебя ход.
— Не чей-то, братец, а именно фаворита. Они с братом организовали это письмо, и он успел положить его перед императрицей, когда, задержав меня, пошел якобы устраивать мне личную аудиенцию.
— И твоя настойчивость была воспринята как желание добиться от государыни оплаты долга.
— Но я ведь никогда так не поступала, братец! Откуда же у императрицы могло возникнуть подобное предположение?
— Сестра! Императрица немолода я стареет на глазах, ты не могла этого не замечать. Молодые фавориты не молодят старых женщин. Напротив — это как гальванизация трупа.
— Ради Бога, братец!
— Но это же чистая правда, в которой ты не хочешь отдать себе отчета. Одно верно: чем старше императрица и моложе ее любимцы, тем больше монархиня прислушивается к их голосу.
— Чем же я могу быть опасна Зубову?
— Давней близостью с императрицей. Это угрожает его безграничному влиянию, тем более ходят слухи, что свое место во дворце он может уступить брату.
— Валерьяну? Быть того не может! Государыня…
— Екатерина Романовна, двор не научил тебя решительно ничему. Значит, ты должна отойти от него как можно дальше. Как же ты поступила с этим злосчастным счетом?
— Я вернула его Трощинскому, указав, что это счет на мужские костюмы для самого Щербинина и за ливреи для его лакеев. Состояние Щербинина превосходит мое собственное, и потому я не вижу необходимости платить его долги. Это дело опекунов Щербинина, которым и следует адресовать счет.
— Вряд ли твое объяснение дойдет до императрицы, разве только то, что ты отказалась от оплаты. Пожалуй, разумнее было бы счет оплатить.
— Но это было бы несправедливо, а тратиться на несправедливость не в моих правилах, к каким бы последствиям мои действия ни вели.
— Тебя просто назовут скаредной.
— Так случалось не раз. Но по крайней мере я буду права перед самой собой, а это для меня важнее всего.
Глава 18 Царская немилость
— Матушка, вас желает видеть серпуховской городничий.
— Господин Григоров? В такой поздний час? Что могло его побудить пуститься в путь в наше Троицкое? Все равно проси, Анастасия, проси этого почтенного человека. Мы не должны заставлять его ждать.
— Ваше сиятельство, княгиня…
— Что с вами, друг мой, что случилось?
— Разве вы не знаете, какое досталось на долю России несчастье? Солнце наше померкло.
— Императрица!
— Да, больше нет с нами нашей государыни. Скончалась. В одночасье.
— Матушка, обопритесь на мою руку. Я поддержу вас.
— Нет, нет, не бойся за меня, дочь моя. Я переживу этот удар, за которым, не сомневаюсь, последуют многие другие. Не сомневаюсь, что Россия погрузится в бездну несчастий так же глубоко, как высоко поднялось солнце ее славы при Екатерине Великой. Я не буду одинока в своих несчастиях. Их разделят великое множество моих сограждан. Такова участь России. Почему только каждый новый век приносит нашему Отечеству столь роковые перемены!
— Вы связываете это с новым столетием, княгиня?
— Так получается, друг мой. На переломе XIV в XV столетий не стало великого воителя Дмитрия Донского, на переломе XVI столетия — не менее великого устроителя земли Русской Иоанна III, на переломе XVII — правление Бориса Годунова ввергло вашу родину в пучину братоубийственных войн, на переломе XVIII… Кто сможет противостоять ходу истории!
— Боже мой, ваше сиятельство, выходит, что вы так спешили в Москву, чтобы получить сообщение об освобождении ото всех должностей. Но столь горестное известие могло вас найти и в Троицком.
— Горестное известие, говорите вы, мисс Бетс? Вовсе нет, я искренне рада возможности освободиться ото всех своих служебных обязанностей.
— Но вы столько сил вложили в обе академии.
— Просто я не умею работать, не отдаваясь делу. Моя любовь может быть только деятельной, а меня и так лишили возможности настоящей деятельности. Даже покойная императрица в последние годы перестала особенно интересоваться академическими успехами.
— Ваше сиятельство, без вас академии придут в полный упадок. Разве вы сможете когда-нибудь примириться с угасанием вашего любимого детища!
— Это мое личное дело, мисс Бетс, которое никого не может интересовать. Что же касается науки, ее ход может замедлиться, но он никогда не прекратится, пока существует рождающий ее народ. Именно в науке воплощается сила жизни, заложенная в человеке.
— И все равно, это так несправедливо!
— Поверьте, мой дорогой друг, сообщение графа Самойлова о моем отстранении, напротив, может облегчить, если не спасти, мне жизнь. Но я уверена, что император не остановится на этой мере в отношении меня. Все впереди, и доказательством тому пришедшее сегодня письмо с непонятной подписью.
— Чьей же, ваше сиятельство?
— В том-то и дело, что мне неизвестен человек по фамилии Донауров, никаких же указаний о чине и полном имени в письме нет. Я даже не знаю, кого я должна любезно поблагодарить за сообщение воли императора об увольнении меня ото всякой службы.
— Но разве была необходимость подтверждать то, что вам уже сообщил граф Самойлов?
— Только в том единственном случае, если таинственный Донауров ближе стоит к императору и пользуется его доверием в большей степени, чем генерал-прокурор Сената. Думаю, нам предстоит вскоре услышать это имя, и не при лучших обстоятельствах, как и указ об отставке генерал-прокурора. Император, не сомневаюсь, не оставит вокруг себя ни одного из былых помощников императрицы. Его ненависть к матери не знает границ.
— Но что дурного сделала для него покойная государыня? В конце концов, положение наследника всегда достаточно двусмысленно и неудобно. Нынешний император имел свой двор и пользовался всеми преимуществами своего положения.
— Это связано с памятью его отца, которого он боготворит. Я всегда знала, что нелепая смерть моего крестного отца будет иметь свои трагические последствия. То, что наследник столько лет молчал, говорит лишь о том, как велика скопившаяся в его душе ненависть к тем, кого он связывает с этим достойным всяческого сожаления событием.
— Но вы не имели никакого отношения к этому убийству, ваше сиятельство!
— Конечно, не имела и была им глубоко возмущена. Но я для императора повинна в другом — в восшествии на престол его матери, занявшей место отца, а этого достаточно для мести. Вот видите, насколько я права — несмотря на ранний час, у нас еще один высокий посетитель. Положите мне подушку под голову, мисс Бетс, у меня темно в глазах от головной боли, и разрешите посетителю войти.
— Ваше сиятельство, господин генерал-губернатор Измайлов.
— Проси… Вы поторопились с визитом, господин генерал-губернатор. Еще нет десяти часов, и я только что с дороги.
— Поверьте, княгиня, никто не жаждет стать вестником неприятный вестей, но я в данном случае выполняю волю императора, который не желает вас видеть ни в одной из столиц. По его приказу вы должны немедленно оставить Москву и вернуться в свою деревню. До последующего распоряжения его императорского величества. Кроме того, его императорское величество приказал вам передать, чтобы вы помнили тысяча семьсот шестьдесят второй год.
— Я никогда его и не забывала, и не собираюсь забывать. Этот год не пробуждает во мне ни угрызений совести, ни сожалений. Я поступала так, как считала полезным для своего Отечества, и не вижу, чтобы ошиблась в своих чувствах.
— Я бы не рекомендовал вам подобных выражений, княгиня.
— Не вам, господин генерал-губернатор, руководить моими действиями и мыслями. Я никогда их не скрывала, не собираюсь скрывать и впредь. Что же касается немедленного отъезда в деревню, то он, к великому моему сожалению, невозможен.
— Вы отказываетесь подчиниться императорской воле?
— Отчего же. Я безусловно ей подчинюсь, и притом с большой радостью, но не прежде, чем поставлю себе в Москве пиявки, что совершенно необходимо для моего здоровья. Можете доложить об этом по начальству или, если вам не терпится выслужиться, вывезти меня из Москвы силою. Засим прощайте!
— Сестра! Но это же чистое безумие! Так разговаривать с генерал-губернатором, к тому же преданным императору!
— Друг мой, Александр Романович, поверь, неприязнь ко мне императора так безгранична, что никакие дипломатические обороты не смогут ее смягчить или ослабить. Было время, когда наследник делал попытки привлечь меня к своему двору, но я категорически отказалась. Он не мог забыть и этой моей позиции. Ради уважения к самой себе я предпочту быть до конца честной.
— Единственная моя надежда, сестра, что после коронации император смягчится в отношении тех, кого считал друзьями покойной императрицы, и займется делами, не тратя на них времени и энергии.
— Ты ошибаешься, Александр Романович. Когда деспот начинает бить свою жертву, он повторяет свои удары до полного ее уничтожения. Меня ждет еще долгий ряд гонений, и я готова принять их с покорностью. Дай Бог только, чтобы он в своей злобе забыл про тебя и про моих близких. Что ни угодно Господу послать мне, я никогда не скажу и не сделаю ничего, что могло бы унизить меня в моих собственных глазах.
— Как было бы замечательно уехать тебе за границу!
— Я сама мечтаю об этом, но сомневаюсь, чтобы просьба подобного рода была удовлетворена императором. Скорее, она обратит на меня его еще более озлобленное внимание. А пока мне остается поторопиться добраться до Троицкого. Может быть, для того, чтобы навсегда проститься с ним.
Господи! Сколько снегу намело. Метет день и ночь. То метелью вьюжит, то как дождь струится. Сада не видно. Дорожки разметать перестали. От кустов одни верхушки. На деревьях сугробы. Птица сядет, сугроб и оборвется. Словно ком упадет. И тихо. За двойными рамами половицы трещат. Всех покоев не натопишь. Только у себя, у дочери, у мисс Бетс. Из анфилады — одна библиотека. В ней на столе и кушанье подается. Гостей нет. Да и откуда им взяться. В каждом доме тревога. Кто ни заедет, одни аресты да ссылки. Лучше на снег смотреть. К реке пелена вниз спадает, на другой берег пуховиком подымается. По ночам звезды редко увидишь. Непогодь. Стужа. Что было, чего не было, не вспомнишь. Прошлое как наваждение. Все ждешь чего-то. Чего?..
— Дорогой гость, дело к полуночи. Пора вам отдохнуть. Что заехали навестили — спасибо. Все равно с утра вам в путь, в полк. Засиживаться не приходится.
— Я слишком многим вам обязан, княгиня, чтобы не навестить вас в вашем безлюдье. Конечно, одного вечера мало, но я и так просрочил отпуск из-за болезни батюшки. Приходится спешить.
— Не важно, что недолго, важно, что потрудились доехать. Еще раз спасибо, мой друг, и спокойной ночи.
Никак, колокольчик за окном. Послышалось, наверно. В третьем часу утра какой колокольчик. Поди, ветер веткой оледенелой в окно стукнул. Нет, голоса. Шаги. Не ко мне. Так к кому же? Случилось что?
— Еремей! Еремей, ты, что ли?
— Я, матушка княгиня, кому другому быть? Гость наш свидеться с тобой хочет.
— Сейчас? В ночи? Передай, что для разговоров утро будет, а сейчас пусть отдыхает.
— Нет, матушка, не гневись, только ему теперь же видеть ваше сиятельство надобно.
— Да что случилось, Еремей? Толком скажи.
— Да не велел мне господин подполковник ничего говорить, сказал — напутаю, так что сам он…
— Приезжал, что ли, кто?
— Приезжал, матушка княгиня. Да ты у него лучше спроси, господин подполковник за дверью стоит.
— Что ж тогда делать — проси.
— Екатерина Романовна…
— Да не томите меня, друг мой. Не бойтесь, я все выдержу.
— Нарочный, княгиня, от московского генерал-губернатора Измайлова был. С письмом. Сказал, чтоб без промедления…
— Давайте же его, давайте письмо. Так. Вот оно что — следует мне немедленно оставить Троицкое и ехать в ссылку в одно из новгородских имений сына.
— В которое, княгиня?
— Не сказано.
— А вы такого не знаете?
— Откуда мне, мой друг, знать? Поместья сына родовые, бывать в них я не бывала. Да и велика ли разница?
— Велика, княгиня. Я хочу знать, куда буду вас сопровождать. Не оставлю же я вас одну в такой дороге.
— Друг мой! Что за мысль? Вы и так опаздываете в полк, а взять на себя еще такую вину — ни за что вам не позволю.
— Я не спрашиваю вашего позволения, княгиня. Я просто поеду с вами до места, и если вы не дадите мне места в своем возке, мне придется простоять всю дорогу на запятках.
— Спасибо, мой друг, спасибо. А сейчас разрешите мне распорядиться. Еремей, разбуди и приведи сюда барышню.
— Что случилось, матушка? Вы так бледны. Люди по всему дому ходят. Дурные новости?
— Дурные, мой друг. Император распорядился мне немедленно ехать в ссылку в Новгородскую губернию. Куда именно, в указе не говорится.
— И вы поедете, матушка?
— Ты спрашиваешь глупости — конечно, поеду.
— Но тогда и я с вами.
— И я, ваше сиятельство!
— Кто разбудил вас, мисс Бетс? Я не приказывала этого делать. Ваши слова мне очень приятны, но подумайте сами, зачем вам пускаться в подобное путешествие. Я не знаю, что нас ждет в новгородской деревне. Там наверняка нет дома и самых необходимых удобств. Я сомневаюсь, чтобы для нас нашлись даже хорошие продукты, а дорога в такую зиму слишком тяжела.
— О, нет, нет, ваше сиятельство! Я не оставлю вас и княжну Анастасию. Не отвергайте моей просьбы — разрешите поехать вместе с вами. Поверьте, я сумею быть вам полезной.
— Дорогой мой друг! Хорошо, мне самой было бы тяжело остаться без вашего общества. Настя, садись и пиши письмо господину Измайлову. Пиши, что я готова немедленно выполнить волю императора, что мне решительно все равно, где провести последние дни и сойти в могилу, но я принуждена отсрочить свой отъезд, потому что не сумею найти дорогу в деревню, даже названия которой я не знаю. Мне предстоит его еще узнать, а главное, постараться найти в Москве кого-нибудь из новгородских мужиков, который согласился бы стать моим проводником. Насколько мне известно, нам придется довольствоваться для жизни обыкновенной крестьянской избой, и, значит, необходимо собрать нужные вещи.
— Вы ни о чем не собираетесь его просить, матушка?
— Ни в коем случае. Достаточно одной моей подписи. И придется собираться.
— Но, может быть, послать за Павлом, чтобы он нас сопроводил? Без провожатого такой путь небезопасен.
— Подвергать опасности брата? Как ты могла об этом подумать, Настя!
— Какой же опасности, матушка?
— Императорского гнева. Неужели ты думаешь, император простит своему офицеру общение со ссыльной!
— Но он же не может не понять…
— Он все может. Ты же не хуже меня знаешь, что происходит кругом. Император не знает пощады ни для правых, ни для виноватых.
— Но, матушка, не казнил же он Алексея Орлова, как бы ни была велика его вина! Не казнил же, а просто заставил нести императорские регалии при перезахоронении императорских останков.
— Все это слишком сложно, Настя. Император хотел публично обвинить графа и сослать его с клеймом убийцы в Москву. При характере графа это хуже любой казни. Разве ты не слышала, что в Москве все его избегают и он вынужден выезжать на прогулку только вечерами? Это после его широкой-то жизни! Но вина графа очевидна, а твой брат может просто оказаться жертвой императорского гнева. Я не стану даже писать ему письма о наших переменах. Так или иначе, он узнает о них и сам найдет способ связаться с нами. К тому же ему следует беспокоиться о своей супруге.
— Матушка, вы все еще продолжаете гневаться. Между тем невестка…
— Я ничего не желаю слышать о ней.
— Но она любит Павла и могла бы стать вашей покорной дочерью, поверьте.
— Зачем ты завела этот неуместный разговор? Провожать нас вызвался подполковник Лаптев.
— Но ведь ему придется отвечать за свою смелость.
— Я этого боюсь больше всего, но подполковник неумолим, а я слишком хорошо знаю его гордый и независимый нрав. Недаром же мы хоть и дальние, но все же родственники. Он мне сказал, что при новом царствовании нет основания ни гордиться своим чином, ни опасаться за него. Слишком непорядочные люди стали возвышаться у трона и слишком достойные лишаться всех наград.
— Может быть, его присутствие оградит нас от невежливости и презрения чиновников. Ведь оно наверняка будет сопровождать наше положение осужденных и ссыльных.
— Пока еще только ссыльных, и остается молить Бога, чтобы это наше положение не изменилось. Хотя в дороге нас могут перехватить и направить в Сибирь. Кто знает!
Я не переставала удивляться княгине. Мы боялись, что известие о ссылке сломит ее, а бесконечная зимняя дорога без удобств убьет. Мисс Анастасия не переставая плакала в ожидании конца. Перед отъездом из Троицкого княгиня велела отвести себя в церковь, чтобы отстоять напутственный молебен. Двое дворовых с трудом могли ее довести от дома, так она была слаба и так задыхалась на каждом шагу. От прощания, на которое собралась вся дворня и все крестьяне, княгиня наотрез отказалась, ссылаясь на слабость и отсутствие сил. Она не плакала, и глаза ее были сухи. В кибитке она даже не бросила прощального взгляда на дом и на село, сразу прикрыв глаза. Она не дремала, потому что голос, которым она время от времени отдавала распоряжения, был совершенно спокоен и не выдавал ни подавленности, ни душевного волнения. Когда я выразила княгине свое восхищение ее мужеством, она сказала, что давно ожидала такого оборота дел и рада прекращению затянувшегося ожидания. Час за часом неудобной езды в душном возке к ней, казалось, возвращались силы. На лице исчезли гримасы боли, и в какую-то минуту княгиня изволила даже заговорить о еде, осведомившись, достаточно ли замороженных щей взято в дорогу и удались ли они. На первой же станции княгиня с аппетитом съела несколько ложек и пожурила меня за отсутствие аппетита. Мисс Анастасия незаметно крестилась, благодаря Создателя за происходившие с ее матушкой перемены к лучшему. Даже возникший разговор о том, что маршрут нашей поездки может быть изменен и приведет нас в какой-нибудь отдаленный монастырь, не ухудшил настроения княгини.
Княгиня первая заметила неизвестного человека, старавшегося завязать разговор с нашими людьми, и сказала, что это должен быть архаровский шпион, чему она нисколько не удивлена. Подполковнику Лаптеву оставалось только подтвердить ее предположение. Подполковник вступил с незнакомцем в беседу и приказал ему держаться возможно дальше от княгини, на что шпион ответил откровенными угрозами, но в дальнейшем не надоедал нам своим присутствием. Княгиня спасла нас всех и тогда, когда, не доезжая Твери, мы попали в метель и заблудились. Почти семнадцать часов наши лошади кружились в снеговом водовороте без признаков дороги или хотя бы одного огонька. Казалось, неожиданно мы оказались в снеговой пустыне без конца и края. Ямщики бросили вожжи. Прислуга плакала и молилась. Подполковник совершенно растерялся. Княгиня сказала, что смерть от мороза была бы для нее лучшим концом, но она не вправе не позаботиться о всех нас, пожертвовавших своими жизнями и удобствами ради нее, и потому приказывает остановиться. Метель к утру все равно должна хоть сколько-то утихнуть, и тогда можно будет отправить людей искать потерянную дорогу или хотя бы ближайшую деревню. Ямщики так и поступили, но, на наше счастье, Господь сжалился, над нами. Не прошло и часу, как удалось разглядеть вдали слабый огонек, на который и поспешили самые крепкие слуги. Это оказалась крошечная деревенька вдали ото всякой дороги, мы же отъехали от своей последней станции всего на шесть верст. Княгиня сказала, что это испытание было послано нам, чтобы укрепить наш дух, но и призвать нас к большей осмотрительности, потому что теперь нам предстоит самим во всем заботиться о себе, не надеясь ни на чью помощь.
Однако не менее удивительным было отношение окружающих к княгине. Не было случая, что местный чиновники не постарались ей услужить, приветствовать ее отличной едой и хорошим ночлегом. Когда княгиня выговорила тверскому губернатору господину Поликарпову, что его забота о ссыльной может доставить ему неприятности по службе, господин Поликарпов возразил, что официального указа о ссылке нет, а те частные письма, которыми княгиня обменялась с императором и его непосредственным окружением, не могут приниматься им в расчет и помешать ему исполнить свой долг гостеприимства в отношении человека, которого он привык глубоко уважать. Мы воспользовались и присланным нам превосходным ужином, и удобным ночлегом, но княгиня отказалась задержаться в городе, по-прежнему опасаясь за гостеприимного губернатора, тем более что Тверь была наводнена солдатами, направлявшимися в Москву на коронационные торжества. В дороге княгиня рассказала, что род Поликарповых очень древний и с тех пор, как его родоначальник в конце XV века переехал из Литвы в Тверь, постоянно связан с Тверью. Вместе со своей дружиной в сто с небольшим человек первый из Поликарповых получил на тверских землях большие поместья, которые сохраняет за собой и поныне. Такой же приятной оказалась встреча с городничим в городе Красный Холм господином Крузе, снабдившим нас той провизией, которую не представлялось возможным достать в деревнях. То глубочайшее почтение, которое проявлял к княгине господин Крузе, вероятно, объяснялось еще и тем, что сам он был племянником главного доктора гвардейских войск и членом Академии наук, которой руководила княгиня. Благодаря своей исключительной памяти княгиня тут же вспомнила, что доктор Карл Федорович Крузе получил степень доктора медицины в Лейдене, а в «Комментариях» Академии наук поместил интересное исследование о применении в медицине ртути. Но даже кузен страшного Аракчеева, о котором ходит столько слухов, оказавшийся городничим города Весьегонска, явился к княгине с выражением почтения и вопросом о насущных ее потребностях, которые он брался удовлетворить. Тем не менее княгиня не пожелала воспользоваться его мнимой любезностью из-за крайне взволновавшего ее происшествия. В Весьегонске нас догнал офицер Шрейдеман, посланный князем Павлом, чтобы узнать о состоянии матери. Княгиня больше всего боялась, что заботы сына могут вызвать гнев императора и привести князя Павла к отставке или даже ссылке в Сибирь. Она упросила господина Шрейдемана немедленно уехать из Весьегонска и постараться ни в коем случае не попадаться на глаза местному начальству. Лихорадочное возбуждение княгини было так велико, что мы, ограничившись самым легким завтраком, поспешили в конечный пункт нашей поездки — сельцо Коротово, в тридцати верстах от уездного города Весьегонска. Кажется, только опасения за судьбу сына могли вывести княгиню из душевного равновесия и подорвать ее силы. На то, что нам предстояло жить в обыкновенных крестьянских избах, княгиня не обратила ни малейшего внимания. И если бы я не захватила с собой плотного тяжелого занавеса, которым можно было разделить избу, ей пришлось бы жить и спать в одном помещении с тремя горничными девушками.
— Матушка, неужели вы подчинитесь этим ужасным обстоятельствам и мы так и останемся в Коротове?
— На что же ты рассчитывала, дочь моя, когда ехала сюда? На прогулку для развлечения? Мы здесь не провели и месяца, а ты уже задаешься подобным вопросом.
— Но, матушка, вы ни в чем не виноваты, вы ничего не делали против императора и, значит, не должны нести столь сурового наказания. Мы же с мисс Бетс видим, как обострился ваш ревматизм. У вас опухли суставы, и вы едва можете ходить. Неужели за вас некому попросить у императора?
— Попросить за меня? Почему же, наверное, такие люди есть, если их поискать.
— Чего же искать, у нас такое множество родных.
— На родных можно рассчитывать лишь в самую последнюю очередь, да и то…
— Вы кого-нибудь имеете в виду?
— Я не призналась тебе, друг мой, в том, что послала письмо кузену Репнину.
— Но это же замечательно! Он влиятельный человек и, я слышала, должен появиться в здешних краях, чтобы прекратить крестьянские бунты, не правда ли?
— Он уже рядом с Коротовым.
— Так в чем же дело? Когда он будет у нас?
— Его не будет у нас.
— Но почему? Он не знает, что вы находитесь здесь? Можно послать нарочного его найти.
— Нарочный уже его нашел с моим письмом. Я писала, что прошу его напомнить императору, что никогда ничего не предпринимала против его величества, что в отношении его отца я не преследовала никаких своекорыстных целей. Мною руководили только мысли о благе государства, и ему ли не знать, что участие в перевороте семьсот шестьдесят второго года не обогатило меня ни копейкой. То же, что я держалась в стороне от Малого двора, должно было избавить меня от расспросов со стороны императрицы и ее окружения. Я не умею лгать и выдумывать, а правда нехотя могла повредить положению великого князя. Если император, не принимая моих объяснений, не захочет видеть меня при дворе, я готова безвыездно оставаться в своих благоустроенных имениях, где не мне, а окружающим меня людям можно будет, по крайней мере, рассчитывать на какие-то относительные удобства, и главное — медицинскую помощь.
— Князь, конечно, обещал вам помощь.
— Нет.
— Он побоялся прямого общения с вами? Но он же военный и вряд ли менее храбр, чем подполковник Лаптев.
— Я предвидела его опасения и написала, что свой ответ он может передать многим академикам, которые найдут способ незаметно передать его мне.
— Почему академикам?
— Тебе этого не понять, но если есть люди, которым я могу полностью доверять, это наши ученые, с которыми мне довелось столько лет работать.
— Пусть так, но что же князь?
— Он просил священника из соседнего села приехать ко мне и передать его ответ, в котором советовал во всем положиться на произволение Божие и на милость супруги императора Марии Федоровны, если я сумею переслать ей свое прошение.
— Он не взялся помочь даже в этом? Это невероятно!
— Почему же, друг мой? Храбрость на полях сражений не имеет ничего общего с храбростью на дворцовых паркетах, если только последняя вообще существует. Впрочем, в нынешние годы обстоятельства могут оправдать князя. Разве ты не видишь, сколько кибиток со ссыльными чуть не каждый день проезжают мимо наших окон.
— О да, матушка. Одного из этих несчастных вы приглашали к себе.
— И ты знаешь, кто это был?
— Конечно, нет! Мисс Бетс ничего не могла мне толком сказать. Но вид его был самый жалкий.
— Это дальний наш родственник господин Разварин, и он еще недавно не заикался и не дергался при каждом слове.
— Боже, что же с ним случилось?
— Только то, что несколько молодых унтер-офицеров осмелились в своем тесном кругу обсуждать императора. О них немедленно донесли, в все они оказались под следствием.
— За одни разговоры?
— Да, за одни разговоры. Его допрашивали, подвергли пыткам и вывернули все суставы.
— Матушка, Бога ради, не продолжайте!
— Почему же? Ты захотела знать правду, и ты ее узнаешь. Затем нашего родственника исключили со службы и приказали отправиться на жительство в Вологодскую губернию. Он считает, что ему повезло, — остальные его товарищи попали в Сибирь.
— Как хорошо, что вы пораньше приехали, Екатерина Ивановна. У меня к вам разговор.
— Я вся внимание, государыня.
— Вы знаете, что я получила письмо от этой несчастной княгини Дашковой?
— В самом деле, ваше императорское величество? Нет, я ничего об этом не знала. И что же?
— Княгиня обратилась ко мне с просьбой передать императору ее прошение.
— О помиловании, конечно?
— Но вы же знаете княгиню. Она ни в чем не признает себя виноватой, но не оправдывается и не пытается никем заслониться.
— Да, это известно, насколько княгиня горда.
— Но ей в самом деле не в чем оправдываться. В конце концов, почему она одна должна нести наказание за события сорокалетней давности, она, женщина, не бравшая в руки оружия и никак не угрожавшая жизни Петра Третьего?
— Император думает иначе, государыня.
— Я знаю, но княгиня и не думает избежать наложенного императором наказания. Она достаточно стара, больна и просто просит разрешить отбывать ей свое заключение не в Весьегонске, а в ее имении в Тарусском уезде. К тому же в забытой Богом деревушке она лишена всякой медицинской помощи, в которой остро нуждается.
— Не думаю, ваше величество, чтобы император придал значение этим обстоятельствам. Он очень разгневан на княгиню, и в этом его умело поддерживает Архаров.
— Я это испытала на себе, когда попробовала утром передать императору письмо. Император просто перестал владеть собой и даже повысил голос, обвиняя меня в том, что я хочу ему того же конца, который постиг его отца. Он просто не взял в руки прошения. Мне пришлось уйти ни с чем.
— Тем не менее это прошение не дает вам покоя, государыня. Разве вы так хорошо относились к Дашковой?
— Я никак не относилась к ней, но Андрей Львович…
— Как же я сразу не догадалась о руке барона Николаи! Одного не понимаю, он сменил княгиню на посту директора Академии наук и потому не должен был бы испытывать к ней особой симпатии.
— Вот тут вы и ошибаетесь, госпожа Нелидова. Барон как никто другой оценил труды княгини и находит результаты ее правления отличными. Во всяком случае, он утверждает, что Дашкова ни в чем не позаботилась о собственных интересах, привела Академию после Домашнева в хорошее финансовое состояние и добилась мира между академиками, чего достичь, по его словам, почти невозможно. Со своей стороны Андрей Львович просил меня поспособствовать облегчению положения княгини. Но я вижу, что самой мне не справиться с этой задачей.
— Не сердитесь, государыня. Я назвала Николаи только в шутку и сама не раз слышала высокие отзывы о трудах княгини.
— Так как же нам поступить? Неужели нет надежды?
— Надежда всегда есть, государыня. Странно только, что сам барон не пожелал вмешаться в судьбу Дашковой. Ведь он почти сорок лет неотступно находится при государе.
— Это верно. Он стал преподавателем великого князя, если память мне не изменяет, в семьсот шестидесятом году, еще при жизни императрицы Елизаветы Петровны, со временем стал моим секретарем и с семьсот девяносто восьмого года членом кабинета его императорского величества и президентом Академии. Но барон не отказывается от помощи Дашковой. Он просит только каким-то образом передать прошение государю и заставить его прочесть эту бумагу. Тогда и он поддержит просьбу.
— Только-то и всего!
— Но, может быть, вы в разговоре с государем…
— Простите, ваше величество, но я тоже не намерена становиться причиной гнева императора. Пожалуй, мы попробуем поступить иначе. Пусть в нашем с вами присутствии прошение передаст государю великий князь Михаил Павлович.
— Вы думаете…
— Государыня, император любит всех своих детей, но вы же сами не станете отрицать, что к Михаилу Павловичу он испытывает особенную нежность.
— Это потому, что Михаил последний.
— И еще потому, что он родился после коронации государя.
— Да, в шутку государь говорит, что только Михаил является настоящим императорским высочеством.
— Так вот пусть именно великий князь и передаст отцу прошение. Полагаю, государь не сможет ему отказать.
— Хотелось бы надеяться.
Какое счастье! Нам разрешено ехать в Троицкое. И притом немедленно, потому скорое половодье превратит всю округу в непроходимые топи и болота. Так, во всяком случае, утверждают местные крестьяне. К тому же у нас нет колесных повозок и достать их в здешних краях просто невозможно. У меня до сих пор сжимается сердце, когда вспомню появившегося у крыльца избы лейб-курьера с пакетом, от которого все мы ждали самого худшего. Когда княгиня появилась на крыльце, чтобы принять его, я бросилась к ее ногам с просьбой не отчаиваться и с уверением, что и в Сибири можно жить. Каково же было наше удивление, когда из письма выяснилось, что император лично разрешает княгине вернуться в Троицкое, с тем, однако, чтобы находиться там невыездно. С разрешения княгини я переписала слова императора: «Княгиня Екатерина Романовна. Согласно вашему желанию, вам разрешается вернуться в ваше имение в Калужской губернии. Впрочем пребываю благосклонный к вам Павел». Княгиня тут же начала отдавать распоряжения готовиться к отъезду. Времени до половодья оставалось совсем немного, и тут моя нервная горячка задержала всех. Княгиня не пожелала оставить меня в Коротове одну с прислугой и за отсутствием докторов сама просиживала ночи напролет у моей постели, врачуя меня одной ей известными способами. На все мои просьбы уезжать как можно скорее, поскольку неизвестно, как может измениться настроение императора, княгиня отвечала твердым отказом, заявляя, что не привыкла никого оставлять в беде, тем более своих ближайших друзей, к числу которых она, к великой моей чести, отнесла и меня.
В то время как княгиня вернула меня к жизни, сама она, как только мы тронулись в обратный путь, стала чувствовать себя заметно хуже. Она стала менее разговорчивой, перестала шутить, что нередко делала в Коротове, чтобы поддержать наш дух, и словно ушла в себя. Она призналась, что отправила письмо своим друзьям-ученым в Академию Наук, интересуясь, как идут там дела, и несколько писем своим знакомым и некоему негоцианту в Англию. Из последнего я сделала вывод, что в душе княгиня надеялась на выезд за границу и мечтала оказаться на моей родине, которая так ее очаровала. Но на словах она не признавалась в своих мечтах, почти не упоминала о сыне и огорчилась все еще не устроенными долговыми обязательствами мисс Анастасии, которая стала капризничать я поговаривать о возможности снова поселиться в Петербурге. Мне кажется, того сердечного контакта, который был так необходим княгине, у матери и дочери не получалось и они даже начинали несколько тяготиться друг другом. Между тем княгиня часто обращалась мыслями к своей библиотеке в Троицком и говорила о необходимости ее пополнения, хотя это и требовало значительных трат. К тому же стало известно, что московский дом княгини и подмосковная потребуют немалых сумм на восстановление, так как сразу же после ссылки княгини в них были расквартированы по сто солдат и унтер-офицеров, которые сильно попортили мебель, отделку комнат и истопили весь запас дров, хотя княгиня доставила из имения три тысячи бревен. Состояние подмосковной было таково, что граф Александр Романович советовал княгине просто расстаться с этим уголком, чтобы не рвать себе сердца понесенными ущербами. Княгиня и сама сомневалась, что император разрешит ей когда-нибудь жить в Москве, ссылаясь на его злопамятность. В таком случае расставание с подмосковной станет естественным, не говоря о том, что позволит оплатить по-прежнему поступающие от князя Павла долги. Княгиня тяжело переживает, что князь совершенно равнодушен к хозяйству и склонен к тратам, которых не позволяет ему его доход. Она даже призналась мне, что ее удерживает при жизни прежде всего необходимость позаботиться о материальном благосостоянии князя Павла, супруга которого также во многом способствует расстройству его хозяйства.
— Андрей Львович, вы не раскроете мне секрета пристрастия государя к молодому князю Дашкову? Государь приглашает князя Павла Михайловича ежедневно к обеденному столу и бывает расстроен, если служебные обстоятельства мешают Дашкову занять свое постоянное место. Откуда родилась эта привязанность? Вам, как старому воспитателю государя, это проще предположить, чем мне.
— Мне кажется, государыня, здесь сошлось несколько обстоятельств, из которых едва ли не первое, что князь Дашков уклонился от возможности стать флигель-адъютантом и, чтобы положить конец подобной перспективе, даже решил поспешно жениться.
— Соответствует ли это действительности, барон?
— Если даже и не совсем, дело было представлено государю именно таким образом, и государь оценил принципиальность молодого человека. Кроме того, он никак не поддерживает отношений со старой княгиней, против которой государь действительно очень настроен.
— Не поддерживает отношений с матерью? Может ли такое быть? Но это же ужасно!
— Они не виделись много лет, с тех пор, как князь вступил в брак без материнского благословения и обманул доверие старой княгини.
— В конце концов, княгиня могла бы не встречаться с невесткой. В этом нет ничего удивительного, но родной сын!
— Вот и теперь, когда княгиня оказалась в ссылке, князь не приехал ее проводить и ограничился присылкой своего офицера, чтобы узнать об обстоятельствах ее жизни.
— А теперь даже не думает хлопотать о том, чтобы вернуть матери свободу!
— Нет, государыня, я должен восстановить справедливость. Князь Дашков действительно не решается обратиться с подобной просьбой к императору, но он неоднократно просил это сделать великого князя Александра Павловича.
— И что же?
— Великий князь отвечает достаточно туманными обещаниями.
— Боюсь, что мои слова не смогут повлиять на сына. Он чрезмерно осторожен и не столько боится, сколько не хочет вызывать отцовского гнева. Впрочем, князь Дашков обращался и ко мне в присутствии Екатерины Ивановны Нелидовой. Мы тоже не могли ему обещать что-либо определенное.
— И тем не менее, государыня, мне есть чем вас порадовать. Князь Алексей Куракин уже ранее сообщил Дашкову, что государь хочет его наградить пятью тысячами душ крепостных. Дашков попросил этот щедрый дар императора заменить на свободу для своей матери, и император согласился. Куракин сообщил об этом Дашкову под секретом, так как император хотел сам сделать сюрприз своему любимцу. Но сегодня перед вахтпарадом Дашкову было официально заявлено о милости императора. Он хотел броситься перед императором на колени, но его величество обнял Дашкова, и тогда князь, совершенно потеряв от радости рассудок, сжал государя в своих объятиях и поднял его высоко в воздух. Оба плакали.
— Я знала, я всегда знала, что у моего царственного супруга благородное и мягкое сердце. К нему только надо уметь подбирать ключи.
Как же зыбко в этой стране человеческое благополучие! Княгиня еще не успела воспользоваться благами предоставленной ей, хотя и далеко не полной, свободы — ей запрещался въезд в обе столицы во время жизни там царской семьи, — как до нее дошло известие об отставке князя Павла. Пустяковая фраза, сказанная по поводу пустякового дела и ничтожного человека, повергла императора в такой гнев, что, лишив князя Павла всех придворных преимуществ и должностей, он предписал ему немедленно отправиться в свое тамбовское поместье. Княгиня огорчилась, но нисколько не удивилась, найдя, что такой исход фавора князя Павла следует считать вполне удачным. Увидеться с сыном ей снова не удалось, хотя по всему было видно, как тяжело дается княгине эта разлука. Чем больше княгиня думает о человеке, тем реже поминает его имя и поддерживает разговор о нем. Ее очень поддерживают частые встречи с братом, графом Александром Воронцовым, с которым она беседует за закрытыми дверями. Число шпионов и соглядатаев повсюду растет, и нельзя чувствовать себя спокойным даже в собственном доме. После одного из таких разговоров княгиня заметила мне, что до конца правления нынешнего государя остались считанные недели. Княгиня уже раньше говорила, что 1801 год станет для государя последним. Теперь же она назвала и число — середину марта. В ее слова можно было не поверить, но уже неоднократно слова княгини оказывались вещими. Она даже написала князю Павлу, чтобы к середине марта он был готов к возвращению в Петербург, не объясняя причины своих слов.
Государя не стало 12 марта 1801 года. Пророчество княгини сбылось. Но слухи об обстоятельствах кончины повергли ее в отчаяние. Княгиня сказала, что сын разделил судьбу отца, но куда более страшно, потому что с отцом расправились чужие руки наемных убийц, тогда как император Павел погиб, когда рядом с его спальней находились его родные сыновья. Все стараются не говорить о страшных новостях, и все не могут удержаться, чтобы к ним не возвращаться. Княгиня утверждала, что пресечение дней императора стало счастливым избавлением для всей России, которая не могла более выдерживать частных и общественных бедствий, связанных с его правлением, и что следовало прервать нескончаемый рост налогов и гонений. Она повторяла, как счастлива тем, что ей не пришлось бывать при его дворе, так как ей не дано скрывать своих чувств, а к покойному императору она испытывала только отвращение, презрение и негодование. Для нее было невыносимо его прусское капральство и одновременно способность придавать некое сверхъестественное значение своему царскому сану. Она приводила бесчисленные примеры его трусливости, болезненной подозрительности и гневливости, имевшей самые жестокие и бесчеловечные последствия. Но при всем том княгиня не думала о возвращении ко двору и, кажется, сторонилась самой мысли приближения к новому императору, которого знала с пеленок и о котором отзывалась как о любимом внуке покойной императрицы. Вопрос разрешился приездом племянника княгини Дмитрия Павловича Татищева, специально посланного новым императором, чтобы пригласить первую статс-даму ко двору.
— Тетушка, государь император, помимо письма, на словах просил передать вам свое глубочайшее уважение и желание видеть вас при дворе. Он от души радовался возможности принести вам извинения за понесенные вами огорчения и неудобства.
— Благодарю тебя, друг мой.
— Я надеюсь лично проводить вас до Петербурга. Это доставило бы императору большое удовольствие.
— И напрасно. Мой возраст и мои болезни не позволяют мне так торопиться с поездкой. Да и есть ли в ней нужда на самом деле?
— Тетушка, простите, но я в недоумении.
— Почему же? Я принадлежу к другому веку, друг мой, и вряд ли найду общий язык с новым поколением. Император мог бы быть моим внуком.
— Но император мне говорил, как он ценит такую преемственность и как хочет иметь при дворе особу, которая состояла в тесной дружбе с его покойной бабкой.
— Эта дружба была не так проста, и император не может не знать ее обстоятельств. Я не дружила и не желала дружить с флигель-адъютантами императрицы. В свою очередь, они не упускали возможности настраивать против меня государыню. Я глубоко уважала государственные таланты Екатерины Великой, ее умение обращаться с людьми, ее высочайшую образованность, любила государыню как человека, но ее отношение ко мне — оно было при разных обстоятельствах разным. Я не хочу обманывать в этом ни себя, ни царственного внука. Однако время ее царствования было самым счастливым временем для Отечества.
— Но это ни у кого не вызывает споров, тетушка.
— Ты не совсем прав. У меня бывает немало людей, и доходит множество слухов. Молодой государь собирается исправлять ошибки царственной бабки и готов скорее следовать примеру Петра Великого.
— Разве это так плохо?
— У меня своя точка зрения на этого монарха. То, что утверждал Петр Великий, он утверждал путем насилия и жестокости. Думая о благе Отечества, он не думал о благе тех, кто это Отечество составляет, — о русском народе. Будет очень плохо, если молодой император оправдает для себя подобный путь. Он тяжело отзовется на всем государстве.
— Но вы же не откажетесь прибыть ко двору, тетушка?
— Конечно, нет. Думаю, это случится в мае месяце. Тебя же, друг мой, я удерживать более трех дней не собираюсь. Не хочу лишать тебя радости свидания с матерью. И мой тебе совет поторопиться ко двору, чтобы кто-нибудь не занял твоего места около императора. При дворе не бывает пустых мест.
Глава 19 В конце пути
После всех переживаний ссылки наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Княгиня не пожелала выехать в Петербург немедленно, как на том настаивал ее племянник господин Татищев. Она выдержала срок, ему названный, и мы добрались до Петербурга в мае. Государь Александр Павлович принял княгиню с большой почтительностью, его супруга — с известной робостью и уважением. Княгиня была в восторге от юности и красоты государыни и не переставала заботиться о том, чтобы императрица Елизавета не совершила ни одной ошибки относительно сложного и незнакомого ей этикета русского двора. В отношении государя ее чувства можно было назвать смешанными. Она была уверена в его прирожденной доброте и воспитанной гуманности, но не могла не признать, что годы правления отца с его увлечением казарменной муштрой и вахтпарадами не прошли бесследно для всех сыновей. Увлечение армией сказалось на их интересе к наукам и искусствам. В одном из разговоров император спросил княгиню, сожалеет ли она о прекращении своего директорства в Академии. Княгиня призналась мне, что уклонилась от прямого ответа. Директорство барона Николаи не могло пойти на пользу русской науке, но оно было непоколебимым, поскольку барон продолжал исполнять обязанности секретаря вдовствующей императрицы и пользоваться полной ее поддержкой. Вместе с тем ни сам император, ни его супруга особого интереса к вопросам просвещения не проявляли. Княгиня с грустью заметила, что многие ее начинания заглохли или не получили должного завершения, тогда как среди академиков явно стал давать о себе знать дух чиновничества и канцелярских интриг. На мой вопрос — можно ли было бы справиться с подобным бедствием, княгиня только пожала плечами, ответив, что себя в былых должностях она не видит и не хотела бы видеть. Очевидно, утверждала она, что настало время самовластия министров и директоров департаментов, чего бы никогда не могло случиться при покойной императрице, которая сама решала все сложные вопросы административной деятельности.
После Петербурга нам предстояла поездка в могилевское имение, где княгиня затеяла строительство большой церкви, и скорое возвращение в Москву. Семь лет отрешенности от двора заставили княгиню в связи с приближающейся коронацией заняться полной экипировкой — от собственных туалетов до экипажей и отделки московского дома, где она рассчитывала принимать императорскую чету и множество гостей, привлеченных ее возвращением ко двору. Все эти хлопоты потребовали займа в банке значительной суммы, из которой половина пошла на выплату векселя князя Павла, четверть — на уплату долга племянника Татищева и последняя четверть — на все необходимые расходы. Трудно было не заметить, как огорчили княгиню эти оказавшиеся неизбежными траты. Единственным утешением для княгини послужило то, что она разрешила материальные трудности племянника и добилась обещания императора произвести в фрейлины ее племянницу Кротову и дать чин камер-юнкера князю Урусову, женившемуся на другой ее племяннице. И все же княгиня явно тяготилась этими хлопотами, благодаря которым она неделями не могла разрезать вновь купленных книг, как бы живо она ими не интересовалась. Она призналась, что больше всего мечтает вернуться в Троицкое и полностью отрешиться от придворной суеты.
Из редких замечаний княгини я знала, что она переписывается со своими английскими друзьями и не перестает им жаловаться на одолевавшие ее пустоту и одиночество. Задуманная поездка в Англию оказалась одинаково невозможной из-за пошатнувшегося здоровья княгини и из-за появившегося большого банковского долга, увеличивать который княгиня не считала возможным. Она часто вспоминала своего самого близкого друга миссис Гамильтон и ту обстановку откровенности и высоких интересов, которая их столько лет сближала. Дети не могли заполнить образовавшуюся пустоту, принося все новые и новые разочарования сердцу матери. Поэтому таким благословением свыше княгине показалось решение миссис Гамильтон прислать к ней в Россию свою племянницу мисс Мэри Вилфорд. Мисс Мэри предполагала задержаться у княгини на целый год, и эта перспектива заняла все мысли и чувства княгини.
— Ваше сиятельство, к вам граф Алексей Григорьевич Орлов!
— Да ты что, Еремей? Алексей Орлов? Не перепутал ли?
— Никак нет, матушка княгиня, граф Алексей Григорьевич собственной персоной. Просил узнать, не будет ли вашей милости принять его сиятельство.
— Орлов… А впрочем, тебе интересно будет его увидеть, мое дорогое дитя. Я рассказывала тебе о нем. Это цареубийца, который помог вступить на трон нашей великой императрице Екатерине. Что могло привести его ко мне? Мы в ссоре и не встречались множество лет. Да что это я — проси, Еремей, проси.
— Ваше сиятельство, разрешите выразить вам глубочайшее мое почтение и поблагодарить за то, что вы милостиво решили меня принять. Давно собирался нанести вам визит, но боялся, что вы не пожелаете меня видеть.
— Да, граф, не виделись мы с вами так давно, что, кажется, встречаемся уже в царстве теней.
— Я о том и подумал, княгиня, что хоть отношения наши складывались не всегда благополучно, мы оба принадлежим к одному времени и одинаково благоговеем перед памятью покойницы, царствие ей небесное. Тень великой Екатерины не может нас не объединить.
— И это несмотря на то, что мы с вами, по всей вероятности, по-прежнему не будем сходиться во взглядах. Присаживайтесь, граф. Я не спрашиваю вас о причине вашего столь неожиданного визита, хотя не сомневаюсь, он вызван не сантиментами или, во всяком случае, не одними сантиметрами, не правда ли? Но сначала хочу вам представить моего юного друга мисс Мэри Вилфорд. Она приехала из туманного Альбиона, чтобы скрасить мое старческое одиночество.
— Рад знакомству, рад. Видите ли, ваше сиятельство, меня привела к вам забота о такой же юной и прелестной особе. Это моя дочь Анна.
— Ваша дочь? Так что же вас беспокоит в отношении ее?
— Я хотел бы представить ее вам, княгиня, и заручиться для моей Аннушки вашим высоким покровительством.
— Вы просите о моем покровительстве для вашей дочери, граф?
— Единственной, княгиня, и обожаемой.
— Это и впрямь неожиданность.
— Не такая уж большая, княгиня. Я не знаю женщины, заслуживающей большего уважения. Впрочем, в этом я всего лишь присоединяюсь к общему мнению.
— Спасибо, граф, хотя мне и трудно верить вашим словам. Но наши счеты не должны распространяться на молодое поколение. Само собой разумеется, привозите вашу дочь. Я буду рада с ней познакомиться.
— Она уже здесь, княгиня.
— Как здесь? Где же?
— Она ждет в карете. Ждет вашего решения.
— Боже мой, граф, как же вы могли! Немедленно ведите ее сюда. Немедленно! К тому же сегодня прохладно на улице, и она может простыть. Еремей! Беги вниз, помоги молодой графине выйти из кареты и проводи ее к нам.
— Нет, княгиня, не лишайте меня радости самому привести к вам дочь. Я последую за вашим дворецким.
— Я коротко переведу вам смысл нашего разговора, мой милый друг. Это верно, что вина графа в отношении императора Петра Третьего формально не доказана, но есть и иные обстоятельства, набрасывающие тень на его имя. Вы слышали имя принцессы Елизаветы, той, что была похищена в Ливорно?
— И затем погибла в какой-то тюрьме в России? О, о ней много говорили в Англии.
— Да, знаю. Так вот граф Алексей Орлов и есть тот человек, который организовал в Италии похищение этой принцессы. Но теперь он хочет показать мне свою единственную дочь, и невинному ребенку я не могу отказать.
— Моя дорогая русская мама, я все не решаюсь вас спросить…
— Не решаешься? Разве я вам в чем-нибудь отказывала, милая мисс Мэри? Тогда смелее!
— Я просто боялась вас огорчить, потому что меня заинтересовал тот страшный граф, который приезжал с дочерью.
— Он показался тебе страшным?
— В нем есть что-то застывшее, неживое, начиная с этого портрета императрицы Екатерины на груди с такими неправдоподобно крупными бриллиантами и кончая огромными гайдуками и этим карликом-уродцем в шутовском костюме. Я видела у вас уже немало гостей, но не с такой же свитой!
— Ты права. Граф Орлов отстал от времени. Так ездили в Москве по меньшей мере тридцать лет назад.
— Что же побуждает его быть таким старомодным?
— Видишь ли, мой друг, граф не может похвастать своим происхождением. Он из небогатой семьи и неожиданно, по милости императрицы Екатерины, оказался владельцем неслыханных, сказочных богатств, о каких ты могла читать только в восточных сказках. У нас говорят в таких случаях, что богатство ударило ему в голову, а отсутствие хорошего воспитания не позволило удержаться в рамках хорошего вкуса.
— А откуда взялось его богатство?
— Я не хотела бы отвечать на этот вопрос. Догадки — это еще не уверенность, и неосторожное предположение может бросить незаслуженную тень на имя великой императрицы. В одном я уверена: немалое богатство ему принесло похищение принцессы Елизаветы, хотя это и было государственным преступлением.
— Даже преступлением?
— Конечно. Принцесса была иностранкой, к тому же невестой известного немецкого владетельного принца. Ее похищение было совершено обманным путем, когда ее заманили на русский военный корабль под предлогом его осмотра.
— И принцесса была одна? Но так не бывает.
— Но так и не было. Принцесса Елизавета была со свитой, а также вместе с английским посланником и его супругой. Все было устроено так, как будто граф Орлов принимал их всех от лица российской императрицы.
— А почему императрице Екатерине понадобилось это похищение? Ведь это же не была ее подданная?
— Конечно, нет. Но императрица подозревала в ней родную дочь императрицы Елизаветы Петровны и, следовательно, претендентку на русский престол, хотя принцесса и не имела для этого достаточных прав.
— Почему же?
— Принцесса была внебрачной дочерью императрицы. Впрочем, русское правительство утверждало, что принцесса была и вовсе самозванкой.
— А в чем же была правда?
— Я предоставляю тебе самой сделать вывод. Скажу только, что принцесса превосходно владела пятью языками, виртуозно играла на нескольких музыкальных инструментах, в совершенстве знала государственное устройство всех европейских стран, отлично танцевала и ездила верхом. Остается вопрос, где могла всему этому научиться самозванка?
— Где же, моя русская мама?
— Как хорошо, мое дитя, что твоя жизнь проходила в этом изумрудно-зеленом ирландском городке, которого никогда не касались страсти монаршьих дворов. Твоя бесхитростность согревает мое сердце сознанием, что еще можно встретить в жизни человека, порожденного самой натурой и не испытавшего презренной ломки так называемой цивилизации. Но я предпочту именно поэтому поставить тебя перед вопросом вместо ответа. Да, подобное образование требует времени и немалых средств, которые кем-то должны были быть предоставлены.
— И этот человек известен?
— Для своего и твоего блага я не буду называть никаких имен. Кстати, пусть твое воображение займется иными темами. На этой неделе мы с тобой приглашены на праздник в Нескучном, который так не понравившийся тебе граф Орлов собирается дать в мою честь. Его любезность не позволяет мне отказаться, а ты получишь редкую возможность увидеть сказочное зрелище.
— А что такое Нескучное?
— Это и Москва, и не Москва. Дом графа расположен на краю столицы среди огромного парка, на крутом берегу реки Москвы. Лишенный императрицей права жить в Петербурге, Алексей Орлов устроил в нем маленький Версаль, праздниками в котором поражал воображение москвичей. Надеюсь, ты все это увидишь.
— Но почему императрица лишила графа права жить в столице? Ведь он выполнял все ее поручения.
— За удачное похищение принцессы Елизаветы.
— Тогда я и вовсе ничего не понимаю.
— Просто оно компрометировало правительство в глазах и европейцев, и даже собственных подданных. В результате граф не получил никаких официальных наград, был отравлен в отставку и на жительство в Москву.
— А принцесса Елизавета?
— Умерла при непонятных обстоятельствах в крепости. Но довольно об этом. Мы должны заняться твоим туалетом перед предстоящим праздником. Моя гостья не имеет права ударить в грязь лицом перед графом и его гостями.
— О, мисс Бетс, если бы вы знали, какое это было сказочное зрелище, этот Нескучный сад!
— Дорогая мисс Мэри, я много слышала рассказов об орловских праздниках и убедилась, что ни один не похож на другой.
— Начать с того, что граф Орлов встретил нашу карету у ворот, великолепных ворот с колоннами и скульптурой, и пошел рядом с каретой, говоря всяческие любезности княгине. Он был так взволнован, что я не верила своим глазам.
— Посещение княгини — великая честь для каждого, а для него особенно. Это род примирения с москвичами, на которое граф, возможно, и не рассчитывал.
— Нет, нет, вы только послушайте, мисс Бетс! От входных дверей до самых ступенек нашей кареты был разостлан великолепный ковер, на который и ступила княгиня — граф прямо на руках вынес мою русскую маму из кареты. Вдоль входа стояла целая гвардия разодетых в шитые золотом ливреи лакеев. Дом сверкал тысячами огней. Отовсюду раздавалась музыка. Кругом стояли цветы, и прислуга весь вечер разносила на подносах такие великолепные напитки и сладости.
— Так принято встречать в Москве гостей, мисс Мэри. Разве не видели вы таких же праздников и в нашем доме?
— Да, конечно, но там было всего так много! К тому же эти толпы гостей в маскарадных костюмах. О чем-то подобном я только читала в исторических романах.
— Ее сиятельство любит говорить, что история не торопится в России, но всегда замедляет свой шаг. Европа всегда может увидеть в ней свое прошлое.
— О, княгиня, несомненно, права, права во всем. Вы знаете, мисс Бетс, на столах было такое множество угощений, столько серебряной посуды, что совсем не хотелось есть, но только любоваться этим великолепием. Между тем лакеи все время приносили все новые и новые перемены и не переставали усиленно потчевать гостей. А музыка — музыка гремела так, что не было вовсе слышно даже ближайшего соседа!
— И граф, конечно, сидел возле княгини?
— Он не отходил от русской мамы весь вечер ни на шаг. Но это было что-то особенное, когда по его знаку в зале образовали круг, куда вышла танцевать его дочь. Молодая графиня так хороша собой, так грациозна и скромна, что от нее просто нельзя было оторвать глаз.
— А как отнеслась к ней ее сиятельство?
— О, княгиня не говорила ни слова, но лицо ее светилось такой добротой, что граф несколько раз бросался целовать ее руки, благодаря за снисходительность к его любимице. Русская мама прижала девушку к груди и наговорила ей множество, по всей вероятности, приятных слов, потому что молодая графиня вся зарделась, а граф начал утирать слезы.
— Я так рада за ее сиятельство! Ей так редко удается испытывать подобные переживания, а она так нуждается в сердечности и теплоте, которые вы принесли в наш дом.
— Но мою русскую маму нельзя не полюбить с первого взгляда. Со мной так и случилось, когда я увидела ее на крыльце дома в свой приезд. Перед этим я начала горько сожалеть, что согласилась на уговоры родных и поехала в Россию. Они хотели, чтобы развеялась моя скорбь по брату, а я в последнюю минуту испугалась незнакомой женщины, с которой предстояло провести достаточное количество времени.
— Я так жду окончания вашего рассказа, мисс Мэри!
— О да, простите! Молодая графиня после каждого танца подбегала к отцу, целовала руку у него и у русской мамы. А за ужином граф стоя выпил здоровье княгини Дашковой и опустился перед ней на колено. Это было очень торжественно и красиво. Моя русская мама, мне кажется, едва справлялась со слезами. А в конце граф снова проводил нас до кареты и долго благодарил княгиню за то, что согласилась приехать в его владения, которые он назвал своим домишкой. Моя русская мама всю обратную дорогу молчала и сразу по приезде ушла к себе. И еще горничная мне сказала, что у нее всю ночь горел в покоях свет.
— Я не верю своему счастью, моя русская мама! Сегодня приезжает Кэтрин. Вы решили выписать в Москву мою сестру из Парижа. Это невероятно!
— Счастье заключается только в том, мое дитя, что мисс Кэтрин согласилась оставить Париж и присоединиться к тебе. Что до меня, я не могла допустить мысли, чтобы твое желание осталось неисполненным. К тому же мне самой любопытно познакомиться с твоей сестрой. Она похожа на тебя?
— Нисколько! Кэтрин, в отличие от меня, много жила в городах. Она привыкла к обществу. Все говорят, она очень наблюдательна, остроумна и остра на язык. Иногда я теряюсь перед ней, но если бы вы знали, как мы привязаны друг к другу!
— Тем лучше, мое дитя, тем лучше. Теперь вы вместе будете знакомиться с Россией, и у нас образуется целая веселая шумная семья, которой мне так не хватало всю жизнь.
— Простите меня за нескромность, моя русская мама, но почему вы не вышли второй раз замуж? Разве в России это не принято?
— Почему же. Множество женщин даже по нескольку раз заново устраивают свою жизнь. Для меня это лишь доказательство, что они не любили ни разу.
— Не любили, хотя выходили по своей воле замуж?
— Замужество и любовь, мое дитя, далеко не одно и то же. Мой брак был одним из немногих счастливых исключений, и память о нем я не хотела осквернять. Если судьбой мне было предназначено всего пять лет полного счастья, я готова довольствоваться только ими, не разливая благородное вино пусть даже прозрачной родниковой водою. Князь Михаил всегда остается со мною, хотя наши дети и могут приносить мне немалые огорчения. Но пойдем посмотрим, как убраны комнаты мисс Кэтрин, и ты должна мне подсказать, какие цветы предпочитает твоя сестра. Думаю, в наших оранжереях они найдутся на любой вкус.
— Вы столько времени уделяете письмам, милая Кэтрин, что я готова вас заподозрить в писательских амбициях.
— О нет, ваше сиятельство, так далеко мое честолюбие не простирается. Я трезво оцениваю свои возможности и хочу просто помочь своим друзьям составить полное представление о России.
— Это любопытно — свежий взгляд на нашу страну и людей.
— Не может быть, чтобы мои замечания вас могли заинтересовать, ваше сиятельство, но если это так, я готова показать вам свои наброски. Мне будет только приятно ваше внимание.
— В самом деле?
— Тут нечего обсуждать. Вот последнее мое письмо, на котором еще не просохли чернила. Вы мне очень польстите, если его прочтете, княгиня.
— Но я сделаю это с большим удовольствием, милая Кэтрин.
«Мне кажется, что я все это время носилась между тенями и духами екатерининского дворца. Москва — императорский политический элизиум России. Все особы, бывшие в силе и власти при Екатерине и Павле и давно замещенные другими, удаляются в роскошную праздность ленивого города, сохраняя мнимую значительность, которую им уступают из учтивости. Влияние, сила давно перешли к другому поколению, тем не менее обер-камергер императрицы князь Голицын все так же обвешан регалиями и орденами, под бременем которых склоняются еще больше к земле его девяносто лет от роду; все так же, как во дворце Екатерины, привязан бриллиантовый ключ к его скелету, одетому в шитый кафтан, и все так же важно принимает он знаки уважения своих товарищей-теней, разделявших с ним во время оно власть и почести. Рядом с ним другой пестрый оборотень — граф Остерман, некогда великий канцлер; на нем висят ленты всевозможных цветов — красные, голубые, полосатые; восемьдесят три года скопились на его голове, а он все еще возит цугом свой стучащий кость об кость остов, обедает с гайдуками за своим столом, и наблюдает торжественный этикет, которым был окружен, занимая свое место».
— Да, вы беспощадны, Кэтрин, вы очень беспощадны. Впрочем, это не мешает вам говорить правду — тени екатерининского века, нас всех трудно иначе назвать.
— Ради Бога, простите, княгиня, если мои слова вас чем-нибудь задели. Они никак не относятся к вам.
— Они не могут не относиться и ко мне. Но дело не в них. Лучше скажите, как оценили вы бывших флигель-адъютантов великой Екатерины?
— Кого именно, ваше сиятельство?
— Скажем, Ивана Николаевича Римского-Корсакова.
— Это мерцающее привидение из бриллиантов?
— Ни слова больше. А князя Барятинского?
— Повинного в гибели императора Петра Третьего? Простите, княгиня, но для меня они все сходны между собой — все та же болтовня о важных ничтожностях, надменность, тщеславие, пустая суета, и это притом что раскрытый гроб стоит у их подгибающихся ног, грозя предать скорому забвению их мишурные существования.
— Приговор целой эпохе.
— Я все-таки огорчила вас, княгиня.
— К приговору неприменимы оценки — его просто выслушивают.
— Но это ни в коем случае не относится к вам!
— Потому что о присутствующих не говорят. Само собой разумеется, что судят всех, кроме них.
— Нет же, княгиня! Разрешите мне объясниться. Я не довела своей мысли до конца. С вами каждому мыслящему человеку интересно, княгиня. Ваши острые суждения, ваши необъятные знания, ваш философский склад ума, наконец, делают беседы с вами необычайно увлекательными. Я знаю, сколько часов посвящали вам Дидро и Вольтер. Мне посчастливилось убедиться в их правоте. В Россию стоило проделать этот трудный путь ради одного общения с вами, но и только с вами.
— Но почему же, дорогая? Разве вас здесь плохо принимают? Разве вы не окружены на каждом балу множеством собеседников? Мне казалось, вы непременно найдете себе друзей и подруг.
— Но вы же их не нашли, княгиня? Вы до сих пор возвращаетесь мыслями к вашим английским знакомцам. И потом, разрешите мне быть до конца искренней в моих наблюдениях.
— Только в таком случае они и будут представлять для меня интерес. Я выслушаю вас с большим вниманием.
— Благодарю вас, княгиня. Вы правы, нас повсюду встречают с редкой благожелательностью. Ваше покровительство открывает перед нами с сестрой все двери, и внешне здешние барышни и дамы выглядят как настоящие парижанки. Внешне! Потому что достаточно им оглядеть вас с головы до ног, поинтересоваться фасоном и ценой каждой мелочи туалета, наговорить вам кучу любезностей, и больше им решительно нечего сказать. Они начинают откровенно скучать вами, а вас самих ничто не может спасти от мучительной зевоты. Для меня все это интересный натуралистический музей, но оставаться постоянно в его залах — это слишком!
— Мне трудно возражать вам, милая Кэтрин, и в чем-то я даже рада вашим оценкам. Вы беспощадней меня, но ведь вы и принадлежите к куда более молодому поколению, которое нам, старикам, необходимо прощать.
— Вы так думаете, княгиня? Но тогда позвольте вернуться к теме, которая одинаково волнует нас с сестрой. Княгиня! Будьте же до конца милосердны, помиритесь с сыном! Разрешите князю снова оказаться около обожаемой матери. Как бы велика ни была его вина перед вами, прошло столько лет вашей разлуки, что былая острота обиды невольно ослабела, зато осталась любовь, которой вам обоим так не хватает.
— Друг мой, разве Мэри не говорила вам, что это бесполезный разговор. За все прошедшие годы я не видела со стороны князя Павла никаких проявлений раскаяния.
— Но в чем же, княгиня? В его женитьбе? А если он любит свою жену и она отвечает ему взаимностью, в чем же можно раскаиваться? И разве такое раскаяние не будет жестоким оскорблением любимого человека?
— В ваших рассуждениях не остается места для матери.
— Но сыновья любовь не имеет ничего общего с любовью супружеской. Она не должна становиться меньшей от семейного благополучия.
— Но я и не мешаю сыну пользоваться этим благополучием, как вы выразились, хотя и не верю в него. Мой сын не может быть благополучен с этой провинциальной интриганкой. Князь Павел — с его образованием, знанием света, привычкой ко двору! Нет, друг мой, и еще раз нет! Может быть, когда-нибудь со временем князь Павел осознает всю меру своей вины и найдет способ мне об этом должным образом сказать, и я увижу своего сына, но не раньше, ни в коем случае не раньше.
— Мисс Мэри! Боже милосердный, мисс Мэри, где вы?
— Что случилось, мисс Бетс? Я уже ложилась спать…
— Мисс Мэри, скорее идите к ее сиятельству. Она заперлась и не хочет никого видеть после этого страшного посланца.
— Какого посланца? О чем вы говорите?
— Мне трудно выговорить эту страшную новость. Ее сиятельству только что сообщили, что князь Павел скончался.
— Не может быть! Наверно, вы что-то перепутали, мисс Бетс. Я знаю, что князь Павел заболел, но княгиня даже не слишком волновалась — доктора сказали, что у него всего лишь небольшая простудная горячка.
— Доктора — не боги, откуда им все знать. Верно одно, что князя не стало. Нарочный так прямо и сказал княгине, нисколько ее не подготовив. Ее сиятельство так страшно побледнела. Мы бросились к ней, но она отстранила нас рукой и, не сказав ни слова, ушла в кабинет и повернула за собой ключ. Горничная пыталась подслушать, но из кабинета не раздается ни звука. Я не осмеливаюсь постучать, но вы, мисс Мэри, вы можете, ее сиятельство вам все простит. Пожалуйста, поторопитесь, мисс Мэри. Я боюсь, что может произойти что-то страшное.
— Княгиня! Моя бесценная русская мама! Пожалуйста, я вас очень прошу, впустите вашу Мэри. Я так хочу быть рядом с вами. Вы не откликаетесь. Но тогда я лягу на полу и пролежу здесь всю ночь, у вашего порога. Не обрекайте меня на одиночество, когда мне так необходимо быть рядом с вами. Какие мне найти слова, чтобы убедить вас, моя дорогая мама!
— Войдите, Мэри, хотя в эту минуту мне трудно видеть даже вас.
— О, не говорите так, моя дорогая мама! Каждое горе теряет свою остроту, когда его удается разделить с близкими. Вы помогли мне перенести горечь утраты моего родного, горячо любимого брата, позвольте же и мне попытаться это сделать в отношении вас.
— Бесполезно, дитя мое. Совершенно бесполезно. Я потеряла многих близких мне людей, но сын, единственный сын, которого я столько лет собственными руками отталкивала от себя, — Боже, как это страшно! Какую страшную жертву я принесла своей гордыне, этому бесчувственному идолу, способному испепелить все человеческие чувства.
— Не вините себя, дорогая мама. Ведь вы в действительности так любили князя, так всегда заботились о нем.
— Чем? Тем, что платила его долги и приводила в порядок заброшенные имения? Но кому нужны все эти сохраненные богатства теперь, когда его нет? Как будто я откупалась от родного сына, как будто укоряла его своей щедростью и помощью! Боже милосердный, я даже не могу сказать, за что мне такое страшное наказание! Я заслужила его. Заслужила!
— Не говорите так, дорогая мама! Какие бы формы ни принимала материнская любовь, она остается все той же святой любовью, а вы всегда ее продолжали испытывать.
— Это верно. Но сколько раз и вы, мое дорогое дитя, и милая Кэтрин уговаривали меня поступиться своей гордыней. Как я могла не прислушаться к вашим молодым любящим голосам! Как могла не прислушаться к голосу сердца! А теперь мне остается единственное — пригласить мою невестку, простить ее и самой попросить у нее прощения. Я знаю, что значит потерять молодого мужа. Любимого мужа…
— Как это чудесно, дорогая мама! По крайней мере, вы теперь не останетесь одна.
— Одна? Вы хотите все-таки меня покинуть?
— Но Кэтрин говорила вам перед отъездом…
— Да, я помню все ее доводы. Доводы разума, не сердца. Кэтрин считала, что каждый должен делать свою жизнь, как любят повторять французы, что вам обеим предстоит создать свои семьи, не огорчать родных и друзей, но я…
— Дорогая, дорогая моя мама, конечно же я задержусь около вас. Конечно, все это произойдет не так скоро. Дело будущего, о котором, тем более сейчас, не стоит говорить.
— И неужели Россия так намного хуже вашей Ирландии?
— Вы сказали «ваша Ирландия» — и этим сказали все, дорогая моя русская мама. Но я полюбила и Россию, и прежде всего вас.
— Так вы обещаете, вы не уедете слишком скоро?
— Нет, нет, не думайте о моем отъезде.
— Что ж, я ведь могу уехать вместе с вами, только бы не оставаться в этом страшном одиночестве.
Постскриптум
Но вы все-таки оставили своего старого русского друга, мое дорогое дитя. У молодости свои права, у старости всяких прав становится день ото дня меньше. Как, впрочем, и желаний. Я выполнила Вашу просьбу и еще раз оглянулась на прожитую мною жизнь. Если вас развлечет это чтение и вновь вернет ваши мысли в Россию, ко мне, к нашему с вами Троицкому, я буду счастлива и даже на разделяющем нас огромном расстоянии почувствую прилив новых сил. Только для чего мне они? В Троицком все так же красиво. Снежная зима сменяется благоухающей зеленью весны. Сугробы уступают место цветущим клумбам цветов. Я по-прежнему сажаю кусты и деревья и стараюсь сделать еще прелестней этот райский уголок. С приходом осени над усадьбой тянутся длинные вереницы курлыкающих журавлей, и их печальные голоса возвещают наступающие долгие месяцы одиночества теперь уже и без засыпающей природы. Дом наполняется чудесным запахом спелых яблок. Огонь начинает по вечерам трещать в камине, и длинные тени ложатся из темных углов к моим ногам. В Троицком больше нет театра и так нравившихся вам театральных представлений. После вашего отъезда у меня нет охоты заниматься их постановкой. Не звучит фортепьяно, клавиши которого так чудесно оживляли ваши милые пальчики. Притихли со своими песнями горничные, уважая мой покой и долгие одинокие часы у камина с книгой в руках. Я замечаю, что даже вам, мое милое дитя, я пишу все более короткие письма. Кажется, я сказала вам все слова, которые отражают то, что происходит в моем сердце. И теперь остается только старое, очень старое сердце, которое не ищет новых слов, кроме тех, которые рвутся по-прежнему из глубины моей души: да благословит вас Господь. Да хранит он вас в печали и радости, в годину тяжелых испытаний и самого светлого счастья, пусть он пребудет с вами до конца ваших дней, до последнего поворота на торных и извилистых дорогах нашей жизни.
Ваша Екатерина ДашковаКнягини Екатерины Романовны Дашковой, урожденной графини Воронцовой, не стало 4 января 1810 года. Прах ее похоронен в церкви села Троицкого Тарусского уезда, без пышного ритуала и «всяческих почестей», как того хотела сама княгиня. За пять лет до кончины она завершила свои «Записки» словами: «С честным сердцем и чистыми намерениями, мне пришлось вынести много бедствий; я сломилась бы под ними, если б моя совесть не была чиста… Теперь я гляжу без страха и беспокойства на приближающееся разрушение мое». Мир ее праху!
Справка об авторе
Молева Нина Михайловна — москвичка (во многих поколениях). Окончила филологический факультет и аспирантуру Московского университета. И — Щепкинское училище при Малом театре. Доктор исторических наук, кандидат искусствоведения. Член Союза писателей и Союза художников России. Архивист — по убеждению. Ученица Игоря Грабаря. Автор 49 научно-исследовательских и художественных книг, около 300 статей и публикаций. Особое увлечение — Москва, от доисторических времен до наших дней. Среди произведений: «Архивное дело №…», «Человек из легенды», «Ошибка канцлера» (роман), «Ее называли княжна Тараканова» (роман), «Манеж. Год 1962-й» (историческая хроника), «Когда отшумела оттепель» (историческая хроника), «Московская мозаика», «Москвы ожившие преданья», «Жизнь моя — живопись», очерки о путешествиях и жизни в штате Нью-Йорк (США), Италии, Париже, Варшаве и городах Польши.
Роман «Княгиня Екатерина Дашкова» печатается впервые.

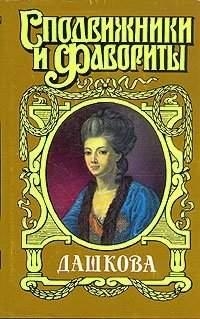




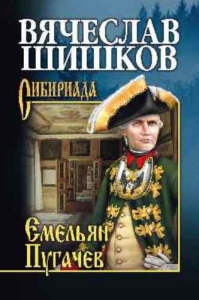
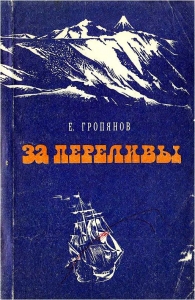

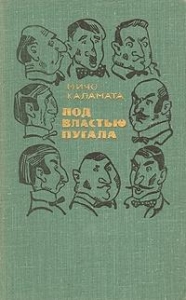
Комментарии к книге «Княгиня Екатерина Дашкова», Нина Михайловна Молева
Всего 0 комментариев