Возвращение Ибадуллы Художники С. Волков, Д. Бисти.
Часть первая ЗЕМЛЯ ОТЦОВ
Глава первая ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ
I
С равнины горы видны издалека.
Для жителя степи они закрывают и возвышают горизонт, кажутся границей мира и служат рубежом, за которым воображение рисует иную землю. Сверкающие вершины висят над голыми стенами, которые опираются на пятнистые склоны.
Изменчивые, непостоянные краски гор зависят от часа дня и времени года. Летом белые шапки укорачиваются, осенью начинают сползать вниз и всю зиму опускаются к равнинам, никогда не достигая их. Под солнцем горные льды вспыхивают, блестя голубыми, зелеными, розовыми лучами.
С равнин горы не кажутся далекими. Думается человеку, что довольно ему сесть на доброго, сильного коня, чтобы уже к концу дня достигнуть подножий. Но проходит полдень, близится вечер, а горы все отступают. Упрямый наездник ночует в степи.
На второй день всадник начинает замечать в горах движение. Это изумительное зрелище! Кажущееся единство гор распадается на пояса укреплений, они перемещаются, множатся и устанавливаются в глубину, готовясь к борьбе с человеком. Навстречу выходит первый вал обороны, за ним шевелятся другие. Проверяя готовность, они меняют очертания, обнажают каменные мускулы скал.
Первый вал открывает лысины, разбросанные среди лесов. А вот уж это и не леса, а выпяченные травянистые ребра. Тени лесов, превратившись во впадины, извиваются и стекают с подножий. Там, в глубоких выемках, и вправду прячутся леса.
Вчера смутная зелень только угадывалась. Сегодня всадник видит весь первый вал гор с его мягкими, закругленными вершинами. Он порос травой и кустами, по нему ползут медленные тени облаков.
Высокие каменные стены, которые вчера, казалось, опирались на мягкие дерновые подножья, отступили назад, насупились: дикие, мрачные. А белые шапки все еще висят где-то далеко, не приближаясь и не удаляясь.
Конь идет по диким полям. Маки миллионами чашечек едино и гибко повинуются движению солнца и заливают землю алым цветом. Кончаются маки, и их сменяют низкие заросли тюльпанов.
Всадник поет. Мотив его песни однообразен и прост. Повышая и понижая голос, человек рассказывает обо всем, что видит. Он поет о цветах и травах, о сусликах, которые свистят тревогу и прячутся в хитрых норах, о ястребе, который охотится за сусликами, о ветре, о солнце и о себе самом с сокровенными думами одиночества.
Кончив свою песнь, всадник вспоминает другие — о черном медведе и барсе, жителях пещер, о кабанах, пасущихся в сочных долинных лесах, о прохладных ручьях, которые бегут с гор, чтобы напоить поля и исчезнуть в песках.
Всадник поет от полноты сердца и радости жизни. Ему вольно и хорошо.
На третий день в шапках гор проступают синие и зеленые льды и, наконец-то, видит всадник, как далеки они и те хребты, которые их носят. Они спрятались за первым поясом, прикрылись скалистыми стенами второго и не над ними стоят, а смотрят из-за них!
И человек постигает не со слов других людей, а собственным опытом несравненное величие гор. Он останавливается и озирается кругом. Положив руку на круп коня, он оглядывается, ищет взором места, откуда пришел. Внизу лежат его равнины! А сам он уже в горах; сам того не заметив, он уже поднялся над степями и пустынями.
Познавая необычное, он смотрит, он мыслит и продолжает свой путь уже без песен.
II
Дышится плохо, дышится трудно. Голова так тяжела, точно набита тем же камнем, по которому ступают ноги. Дороги нет — скользкая узкая тропа бесконечно ползет и ползет вверх, цепляясь за отвесную стену ущелья.
Слишком мало света проникает сверху, и в ущелье темно. Где-то на дне бежит ледяная вода. Живая вода должна бурлить на камнях, прыгать и пениться на скалистом ложе. Но не видно и не слышно воды — такой мрак лежит внизу и так глубока пропасть. Там, под ногами, пусто и тихо. Пустота терпеливо ждет неверного шага человека, бродящего по горным кручам.
Карабкаясь по оврынгу — карнизу, подвешенному на случайных выступах скал, томительно напрягаясь, тянутся люди и вьючные животные.
А наверху кружит метель. Ветер бьет снегом в горные вершины, терзает камень, залепляет трещины, полирует скалы и льды. На оврынг сыплются упущенные вихрем струи песка и мелких камней, летит сухая снежная пыль. Люди смотрят вверх с тревогой: если ураган спустится в ущелье, он сорвет маленький караван с узкого карниза, как осенний ветер уносит вялые листья. Лучше остановиться и переждать во впадине стены. Есть надежда, что здесь удастся спастись.
После невольной передышки люди вынуждают себя итти и заставляют двигаться животных. Ураган наверху стихает; нужно выбраться из теснины до наступления ночи.
Наконец достигнут перевал. Его обозначают невысокие пирамиды камней, сложенных редкими путешественниками много лет тому назад. Кое-где между камнями торчат рога горных козлов-нахчаров и гульджей. Это благодарственные жертвы богам или богу за то, что смерть еще раз пощадила людей, позволила им подняться на перевал из далеких равнин.
Наверное, были здесь и лоскутки цветных тканей, знаки суеверного почтения и благоговения, привязанные к рогам и зацепленные за камни. Если и были, то время унесло их. Уже десятилетия минули, как перевал заброшен. Современные пути прошли стороной.
III
Недалеко от каменных пирамид с рогами нахчаров стоял рабат, хижина для путешественников — грубо сложенные четыре стены из дикого камня с примкнувшим к ним загоном для скота.
Много лет ушло с того дня, когда через перевал прошел последний караван, и никто не знает, кем и когда был построен этот рабат. Однако его крыша и навес над загоном хорошо сохранились. На больших высотах гниение не властно над деревом. Здесь нет ни грибка, ни точащих древесину насекомых.
Даже неожиданный запас топлива нашли путники в углу рабата. Это была куча терескена, растения, благословенного горцами за то, что оно умеет распускать на мертвых галечных осыпях пучки веток, похожих на сплющенные кочки.
Не произнося ни слова, путешественники развьючили косматых, дикого вида яков и поставили их в загон. От ветра дыру входа завесили кошмой и развели огонь в грубом очаге без трубы. Терескен вспыхнул сразу и дал сильное, жаркое пламя. К нему протянулись шесть рук.
Люди молчали, им не о чем было разговаривать между собой. У них не было общих мыслей, которыми они могли бы поделиться. Двое из них получили деньги за работу — они обязались проводить третьего до границы и указать ему путь за рубеж.
Обещая все хорошо исполнить, проводники поклялись рассветом, десятью ночами, всем великим и единственным и приходящей ночью. Клянясь, они вкладывали свои руки в руки нанявшего их человека. Таковы формула и ритуал нерушимой клятвы. Путник был уверен в своих проводниках и мог положиться на то, что запас продовольствия и топлива, оставляемый в рабате на случай, если он вернется, никто не тронет.
Несколько дней тому назад этот путник пришел с юга. И если он сумел найти затерянный кишлак, значит он был сильный человек, который не боится гор. В кишлаке он был принят по обычаю, как гость, у которого не спрашивают имени и цели прихода, пока он сам не назовет их. О чем говорил пришелец с главой кишлака аксакалом, старший проводник узнал, когда его позвали, — чужой искал дорогу за рубеж, и аксакал согласился помочь ему.
Целая жизнь прошла с тех черных дней, когда русские и афганцы устанавливали новую границу между своими владениями. Хитрые инглезы сумели навязаться в судьи для разрешения и примирения пограничных споров, и они обманули и русских и афганцев. Плохая получилась граница: она разделила таджикские семьи, разъединила братьев. С тех пор изменились караванные пути, но аксакал, старый человек, помнил горные тропы и знал, кому поручить путника. Аксакал сказал проводнику: «Этот человек говорит, что хочет вернуться на родину и он оплатит твой труд».
Каждый должен иметь родину и стремиться к ней — это такая же очевидная истина, как то, что каждый труд следует вознаграждать. Теперь путник близок к цели. Дальше он пойдет один.
«Что суждено этому человеку? — думал старик. — Ждет ли его жизнь, или смерть? Разве кто-нибудь из живых читал книгу судьбы? Никто…»
IV
Дым терескена легко уносился в дыру над очагом. Вода быстро закипела в медном, насквозь черном от давней сажи кумгане, но чай был невкусен. На высоте перевала вода начинала кипеть при температуре около восьмидесяти градусов и больше не нагревалась, поэтому путешественники и не пробовали сварить себе рис — они знали, что твердые зерна не разварятся и за целые сутки. Рис — пища жителей долин и предгорий, но не тех, кто бродит по хребтам Крыши Мира.
Трое людей насытились привезенным с собой холодным вареным мясом и черствыми лепешками, легли и скоро заснули. Вокруг рабата рвался ветер, метал снег и песок, шуршал, стонал и выл дурным голосом. Где-то вдали загремело…
Старший проводник поднялся, поправил терескен в очаге, вслушался, покачивая головой с длинными редкими волосами на остром подбородке худого морщинистого лица. И снова в горах прошла лавина. Едва заметно дрогнула земля…
Наутро лица всех троих почернели — не от дыма очага, но потому, что ночи на больших высотах бывают тягостны. Глянув один на другого, они смолчали.
Все вместе они сложили в углу рабата оставляемые путнику скудные запасы и заботливо завалили их большими камнями. Вьюки сделались легкими, и младший проводник один седлал яков. Старший показывал и объяснял путнику, как тот должен итти дальше один.
Перед ними лежала безотрадная каменная пустыня. Повсюду — скалы, мертвые галечные поля, перепутанные острые хребты с рваными позвонками. В чистой пустоте неба над обледенелыми вершинами висели перистые полоски облаков. Стало совсем светло, но солнце все еще не могло взойти, прячась внизу, под горами. От мерзлых камней веяло мертвенным холодом.
Рассказывая о дороге, проводник почти не прибегал к словам. Расстояния он изображал числом поднятых пальцев, повороты обозначал движением согнутых под углом ладоней. Путник должен был дойти до реки и переправиться на другой берег. Тряся пальцами и чуть прищелкивая языком, старик изобразил стремление бурной воды. Жестикуляция, редко подчеркиваемая отдельным коротким словом, служила непередаваемой манере горца рассказывать о местности, так он привык. Бессознательно подражая забытому искусству древних мимов, актеров старинной пантомимы, старик как бы лепил руками, и его немой рассказ печатался в сознании и памяти слушателя, как ясная рельефная карта.
Своими жестами проводник переходил реку, — он сказал «об», что значит по-таджикски вода, — проникал в долины, карабкался по кручам и шел уже там, за границей. Наконец он чуть слышно, нехотя произнес: «кишлак», присел, изображая окончание пути, и выпрямился. Всё. Остальное его не касалось.
Зажимая в руке короткую, клочковатую бородку, путник внимательно слушал и следил за жестами проводника, потом попросил повторить все сначала. Тот терпеливо повторил, после чего они взглянули друг другу в глаза и путник сказал:
— Возьми пищу из рабата. Увези ее с собой. Я не вернусь.
Ничем не выразив своего удивления, старый горец сделал рукой отрицательный жест. Он поклялся оставить тут продовольствие, и как же можно привезти его обратно? Аксакал обвинит его в обмане гостя. Нет, все останется здесь…
Вскоре двое людей и три яка двинулись в обратный путь. Оставленный в одиночестве путник — его звали Ибадулла — слышал, как младший проводник запел. Юноша вывел высокую ноту и смолк. Потом повторил, взяв ниже, и вдруг рассыпал скорбные музыкальные фразы, точно заплакал.
Это была грустная, за душу хватающая песнь горца, печальная, как ледяные пустыни и вековой гнет, в которых родились и певец и мелодия. В душе одинокого путника она отдавалась тревогой.
А старый проводник торопил яков. Теперь они были свободны от груза и на них было удобно ехать верхом. Солнце, наконец, встало в небе, и ветер внезапно стих. Сделалось тепло, и все стало обычным. Но жутко было старику. Он чувствовал: место на перевале стало плохим, почему-то дурным стало место — вот что! Скорее прочь отсюда: день встал недобрый, и час наступает недобрый.
О человеке, оставленном на перевале, горец уже забыл. Старика давило предчувствие беды, грозящей ему самому и его любимому младшему сыну, который умеет так хорошо петь, и его дорогим якам. Скорее, скорее бежать отсюда — злой час подступает! Дьявол-Эблис, ломающий горы, затевает возню в темных ямах преисподней…
И верно, в ущельях гудело и ухало, под ногами чуть вздрагивала земля.
V
Расставшись с проводниками, Ибадулла тоже не медлил. Он забросил за спину шерстяной мешок — курджум с черными и грязнобелыми полосами — и пошел к северу, где внизу, после спуска, должна протекать горная река, служившая пограничным рубежом.
Дороги не было, тропа умерла на перкале, и где было ее продолжение — неизвестно. Белые кости животных, разбросанные там и сям, были единственными свидетелями прежних путей.
Ибадулла ступал нелегко, воздух высокого плоскогорья был слишком редок, чтобы человек мог позволить себе свободу быстрых движений. Тотчас же сердце напоминало о себе мучительно-быстрым биением. Грудь требовала воздуха, и ничем не удавалось утолить ненасытную жажду: ни поднимая плечи, ни растягивая, сколько хватало силы, сделавшиеся тесными ребра. Одно помогало — частый отдых.
Путник знал режим пешехода в горах и не боялся припадков удушья — они кончались после короткой передышки, и Ибадулла вновь двигался дальше. Дорогу ему указывали три вершины — две справа и одна слева.
Проходили часы. Много раз, по мере движения солнца, ветер менял направление. Налетали внезапные шквалы, полные снежной пыли и острого песка, потом вновь прорывалось неожиданно жаркое солнце.
Ибадулла миновал плоскогорье и сползал вниз по осыпи. Спуск был крут и тяжел, но дышать становилось все легче. Уже ушли три путеводных горных пика, сменившись двумя другими.
Иногда человек скользил и падал, хватаясь руками за что попало. Срывались камни и скачками мчались вниз. Один камень сбивал с места другой. Вся поверхность осыпи принималась греметь, морщиться, течь.
Такие места называются тарахташ — гремящие камни.
Ибадулла боялся движения камней. Порой ему казалось, что вся осыпь готовится ожить и смолоть его в беспощадной громаде. Скорее бы достигнуть поворота, где можно будет расстаться с предательской дорогой… После каменной реки рубеж должен быть близок.
Наконец Ибадулла увидел под собой стремнину настоящей реки. Рожденная невдалеке, она была маловодна и от пены казалась белой, как вата хлопчатника. Ледяная вода была еще холоднее, чем воздух, и над рекой стлался легкий туман.
Изображая реку, проводник указывал себе на пояс — поток был мелок. Но трудность заключалась в том, чтобы перейти реку незамеченным и не обнаружить себя на том берегу.
Ибадулла затаился на краю наречной террасы. Он знал, что сам он неразличим среди скал. Но как же трудно было и ему рассмотреть кого-нибудь на том берегу! Если он войдет в воду, то будет заметен, как камень или бревно. Но камни в реке неподвижны, а бревен здесь не бывает.
Далеко и много видел Ибадулла из своей засады. Он удалился от рабата на расстояние, быть может, в целый таш, то-есть на десять или двенадцать километров. Здесь, внизу, дышалось свободно, полной грудью.
Разница в высоте обозначалась теплом и весной. Здесь повсюду, где мог зацепиться корень, распускались растения. На корявых ветках шиповника зеленели листья, кое-где выскочили розовые стрелы эремурусов, алели первые цветы.
Кристальная прозрачность воздуха сокращала расстояния и чудесно приближала все предметы. Далеко вправо и несколько ниже виднелись маленькие, как спичечные коробки, приземистые здания и квадратные башни серожелтого цвета. Осведомленный проводником, Ибадулла знал, что там — афганский пограничный пост. На противоположном берегу не удавалось различить ни одного строения. Там было пусто: каменные осыпи, скалы, кое-где живая зелень — и только. Но Ибадулла не доверял глазам и не спешил. Не следует спешить. Ведь он мог ждать день, два, неделю… Нужно присмотреться, понять, освоиться и не сделать ошибки.
Никто не гнал Ибадуллу, не было никакого приказа, лишающего его самостоятельности и связывающего сроком. Хотя он не считал, что готовится совершить что-то дурное, но знал, что должен скрываться и что для осуществления его намерения ночь будет благоприятнее дня Он поправил веревки, удерживающие курджум за плечами, и встал, невидимый в тени скалы.
VI
Вдруг под ногами Ибадуллы земля пошла в сторону, или что-то дернуло его за ступни, он не понял. Но он уже падал, тщетно пытаясь удержаться. Инстинктивно сгибая колени, он вытягивал руки, ловя несуществующую опору. Опять его бросило, он боком коснулся земли и, извиваясь, пытался подняться.
Ибадулла видел, как берег реки раскололся и начал медленно, нестерпимо медленно разворачиваться, как створ грандиозных ворот, открывающих выход из подземного мира. Весь целиком раскачивался горный хребет и так неторопливо, точно само время остановилось. Лениво и мягко проседали скалы… И, наконец, человек услышал гром кончины мира. Точно труба звучала над землей и в земле. Она гудела, ее рев налегал, давил и нестерпимо мучил кости и мускулы бессильного тела.
Удар, и еще удар, и еще… не было счета, и некому было считать. Все разрушалось.
Ибадулла еще слышал треск и грохот гор, но уже ничего не видел. От разрушенных гор поднялась пыль, затмившая небо. Но человек успел подумать, что сам он уж мертв, погребен и для него ничего больше не осталось в этом враждебном мире…
Ибадулла очнулся, пораженный тем, что он еще живет и дышит. Пыль редела. Крупные частицы выпадали вниз, а мелкие еще долго будут плавать в атмосфере, подкрашивать дождь и придавать особенную, тревожную красоту небу и зорям.
День вернулся; горы успокоились, но Ибадулла больше не узнавал их. На том месте, где были здания пограничного поста, высилась гора. Не стало вершин, служивших ему указателями пути. На юге, откуда он спустился, был обрыв, за ним вставали высочайшие стены. На севере река исчезла — там зияла впадина, сухой отрезок бывшего русла.
Из всего, что только что незыблемо было здесь, лишь он, маленький слабый человек, остался невредимым. Ибадулла почувствовал нестерпимую муку одиночества. Чего не отдал бы он за звук человеческого голоса!
Еще плохо сознавая, что он делает, путник устремился на север. Как муравей, он карабкался в диком ландшафте только что рожденной поверхности земли. Одного страстно хотелось ему — скорее уйти от гор и от этого страшного места.
Глава вторая ДНЕВНОЙ РАССВЕТ
I
Солнце село, и темнота заставила Ибадуллу лечь. Он заснул сразу тяжелым, лишенным сновидений сном.
Очнувшись утром, путник вспомнил все. Рядом с собой он нашел курджум с запасом пищи и удивился ему, как чуду.
В горах стояла тишина — такая давящая и тяжелая, как вода на дне колодца. Глядя в бледное рассветное небо, Ибадулла думал об удивительной прихоти судьбы, которая разрушила горы и сохранила в целости слабое тело человека…
Итак, он совершил задуманное и пришел на эту землю. Позади остался рубеж, граница двух государств в диких горах, где все разрушено землетрясением. Теперь его жизнь разделилась на две части…
Ибадулла старался вновь и вновь осознать значение совершенного. Нет, он не сделал ошибки. На мгновение он ощутил силу и свободу. Да, пусть будет так. Но в его мыслях было смирение, а не гордость.
Пора. Ибадулла поднялся, закинул за плечи курджум. По привычке, он забрал в кулак свою короткую курчавую бороду. Нужно понять, куда итти. Он немного постоял, озираясь по сторонам, спокойный, неторопливый, тщетно стараясь вспомнить жесты и редкие слова старого горца-проводника, найти в памяти указание и связать его с местностью. И он двинулся вниз по ущелью, твердо зная одно: нужно спускаться, чтобы выйти из гор на север или на запад.
В середине дня Ибадулла почувствовал близость селения. Встретились бесспорные признаки: сначала на узенькой террасе нашелся кусок возделанной почвы и под ногами оказалась тропа со следами, оставленными домашними животными. Но вскоре тропа исчезла под беспорядочным нагромождением обломков камней. Пришлось проделать трудный и опасный обход по кручам. Потом вновь попалась тропа.
Вдруг до слуха Ибадуллы дошел первый за все время голос живого существа. Он увидел человека, лежащего ничком. Рядом с ним мохнатая собака протяжно выла, задирая к небу узкую морду.
Ибадулла приблизился. Собака встала и, охраняя неподвижное тело, с грозным и жалким рычаньем обнажила желтые зубы.
Путник попятился. Он не испугался клыков, но отдавал должное верному сторожу. Не делая резких движений, он присел в стороне и наблюдал. Руки человека были раскинуты, подогнутые ноги застыли, и в открытых глазах не было жизни.
Ибадулла нашел в курджуме вареное мясо, отрезал кусок и бросил собаке. Обманутое взмахом руки человека, животное отскочило, но потом жадно проглотило мясо. Привыкнув к незнакомцу, собака позволила ему приблизиться к телу хозяина.
Путник заметил рану на голове и засохшую кровь на руках мертвого. Застигнутый подземным толчком, спасаясь от смерти, он, очевидно, выскочил из дома, но камень настиг его.
Грусть сжала сердце Ибадуллы. Он понял, что под обвалом погиб целый кишлак — так же, как вчера на его глазах исчез афганский пограничный пост. Путник опустил голову и закрыл лицо руками…
Нехорошо покинуть без погребения тело человека, бросить его на добычу птицам и зверю. Собака не помешала Ибадулле опустить погибшего в расщелину и завалить его камнями. Животное пошло было за путником, но скоро отстало.
В ущелье, где брел Ибадулла, было сухо, и это все больше беспокоило его. Человек не может слишком долго обходиться без воды.
II
Среди ночи рассыпались молнии. Синие извилистые вспышки били сразу со всех сторон. Ибадулла видел, как грозовые стрелы падали сверху и поднимались снизу. Гром рвался в скалах, и никто не мог бы сказать, что грохочет сильнее — небо или горное эхо?
Воздух сделался жестким и сухим, как песок пустынь. Ибадулла чувствовал, что во рту у него появилось странное ощущение кислого. Ему казалось, что по телу прыгают искры. Вскоре обрушился свирепый, короткий ливень. Он потушил молнии и напоил человека.
Утром от ночных потоков остались во впадинах лужи светлой воды; они утолили жажду, и путник двинулся дальше.
В тени ущелий было прохладно, а на освещенных местах солнце палило. Ибадуллу лихорадило, он пил жадно и много.
Ущелья бесконечно ветвились, попрежнему мертвые, безлюдные. Изредка в неизмеримом пространстве прозрачного воздуха мелькал орел. Порой на кручах виднелись табунки горных каменных козлов-нахчаров. Однажды особенный звук поразил внимание Ибадуллы. Он остановился и наблюдал за маленьким, блестящим на солнце самолетом, который огибал высокий пик горы. Издали казалось, что он не летит, а ползет по круче. Самолет оторвался от горы и исчез. В горах стало еще пустыннее…
На третий или на четвертый день Ибадулла понял, что он блуждает. Время шло, а воды больше не было. Пришло утро, когда путник бросил пустой, отслуживший свое курджум. Человек устал. Теперь он шел по долинам, где встречались полянки, поросшие низкой весенней травой. Иногда почти из-под ног вспархивали доверчивые куропатки. Кое-где встречались ленивые сурки. Но у путника не было оружия, чтобы сбить птицу, и он не умел ловить сурков.
Кроме возможности итти, у Ибадуллы ничего не было. Он не хотел думать и умел не думать о том, что с ним будет, когда отсутствие воды и пищи станет сильнее его воли. Он шел и шел.
Одна из ночей застигла его у выхода из ущелья. Наверное, уже очень далеки и перевал и страшные места, разрушенные землетрясением. Ибадулла вглядывался в темноту, но нигде не мерцал огонек. Засыпая, он понял, что не знает, сколько дней уже длится его блуждание в горах.
Ночь не принесла отдыха, утром усталость была еще большей. Ибадулла еле заставил себя подняться на непослушные ноги. Он долго стоял, мучительно борясь с головокружением.
В предгорных равнинах весна доживала свои последние недели. Воздух был свеж, полон тонкого запаха цветущих трав.
Наконец перед Ибадуллой открылось свободное пространство. Постепенно, мягкими террасами, в неизмеримую даль уходили равнины. Им не было предела. Горизонт спрятался за туманной сухой дымкой дрожащего воздуха. Где-то там лежали горячие пески пустынь. И где-то, невидимые отсюда, были людские поселения.
Ибадулла уверял себя, что не могут быть слишком далеки жилища, и люди, и вода… Нужно итти, нужно заставить себя итти.
Голода уже не было. Рот высох. Нельзя было сомкнуть растрескавшиеся, твердые губы, нельзя было сказать ни одного слова, даже если бы было кому сказать.
Ибадулла заставлял себя считать шаги и на каждую сотню загибал один палец. Когда пальцев не оставалось, он позволял себе остановиться, поднять голову и взглянуть вдаль. А на ходу приходилось смотреть под ноги, чтобы не упасть. Ибадулла постоянно сбивался со счета, но не хотел отказаться от него. Счет осмысливал движение и очень помогал бороться с соблазном поскорее лечь и отдохнуть.
Нужно беречь, беречь время, ведь силы уходили сами собой с каждым исчезающим часом. Ибадулла знал, что у него остается не так много часов.
Когда он оглядывался назад, горы казались такими близкими, точно он не отходил от них. Но как-то он заметил блеск в горах, и это утешило его. Он смотрел на игру льдов в лучах вечерней зари. Солнце садилось, были освещены только верхушки гор, и от почерневших подножий на степь наступал мрак, приближаясь и сгущаясь.
Ибадулла понял, что много прошел, и пожалел, что у него не хватит сил дойти до конца. Но о том, что он выполнил свое желание и пробился через горы, он не жалел.
Жажда и голод неотвратимо, помимо воли человека, делали свое дело. Как Ибадулла двигался дальше и что с ним было или должно было быть, он больше не знал. Переставая понимать и помнить, Ибадулла все же брел вперед, шатаясь, запинаясь и падая.
III
В пустой высоте неба таился орел. От нагретой солнцем земли взвивались токи горячего воздуха, но тепло не могло подняться так высоко, как птица. Жестокий мороз властвовал там. Орлу не было холодно. Его спину согревали прямые солнечные лучи, его жилистое тело покрывал черно-желтый пух, его могучее сердце мощно толкало в артерии горячую кровь.
Нежные концы перьев на распростертых крыльях ловили малейшие изменения плотности воздуха, на который опирался орел. Принимая их сигналы, грудные мускулы бессознательными, но верными движениями поддерживали равновесие и сменяли короткие нисходящие спирали восходящими. Орел был свободен, и его глаза искали добычу.
К горам медленно, почти незаметно ползло что-то, что с этой высоты показалось бы всякому другому глазу бесформенным, слегка меняющим контуры пятном, тенью почти неподвижного облака. Но орел различал уверенных вожаков стада, могучих баранов, которые помнят дороги на летние пастбища, и стройных молодых овец, и внимательных маток с беспокойными, беспомощными ягнятами — нежной, желанной добычей.
Уже пора бы орлу совершить разбойничий налет на стадо, уже прошел не один час, но хищник еще выжидал. Он видел повозки, следующие за стадом, и фигуры всадников. Не разумом, а опытом, переданным от длинного ряда предков, орел ощущал смертельную опасность.
Кроме людей, безопасность стада охраняли чуткие собаки. Точно гибкая кольчуга покрывала стадо, и орел терпеливо ждал удобного случая для внезапной атаки.
Орел висел над стадом и следил за ним не отрываясь. Но видел он в степи и еще одно живое существо: навстречу массе овец двигался человек. Он перемещался еще медленнее, чем стадо. Иногда он падал и долго лежал, точно таясь и прячась, потом полз и был похож на волка, который скрадывает добычу. Изредка человек поднимался, но вскоре опять падал и замирал надолго.
Орлы не нападают на людей, для них человек не служит добычей, за которой охотятся, которую выслеживают. И все же одинокий обессилевший путник привлекал его внимание. Долгие остановки и неверные движения человека возбуждали орла. Слабость, проявленная живым существом, всегда волнует хищника.
Орел сложил крылья и, управляя хвостом, начал падать. Над землей он осторожно расправил крылья, описал круг над телом, опустился вблизи и застыл, глядя на человека круглым глазом. Казалось, что оба — и птица и человек — мирно отдыхают. Орел чувствовал, что человек еще жив, и это заставляло его быть осторожным.
Постепенно хищная птица осваивалась, смелела и раздражалась. Переступив раз и два, она нацелилась. И вдруг человек пошевелился! Орел взмахнул крыльями и тяжело оторвался от земли.
Бригадир Умар Ишанбаев не первый час приглядывался к врагу, устроившему засаду в небе. Когда орел упал в степь, Ишанбаев отъехал от стада, но не прямо к орлу, а наискосок, чтобы не спугнуть осторожного хищника.
Метрах в четырехстах Ишанбаев остановил приученного к стрельбе с седла коня и приготовил карабин. Он уже держал орла в крестике оптического прицела, когда на земле что-то пошевелилось и птица взлетела.
Краем глаза Ишанбаев заметил лежащего человека. Это не помешало ему завершить начатое. Затаив дыхание, он слился с ружьем, легко, не напрягаясь, повел прицел, опередил хищника и мягко нажал на спуск.
Камнем рухнул на землю орел, а Ишанбаев поскакал к человеку. Глаза лежащего были открыты, взгляд — странный, дикий.
— Друг, что с тобой?
Ответа не было.
Ишанбаев присел, осторожно приподнял голову человека.
— Товарищ, кто ты? Откуда?
Глаза изменили выражение. Губы не шевелились, но послышался какой-то слабый гортанный звук. Ишанбаев, подставив ухо, спросил еще раз и услышал откуда-то издалека:
— …шел… гор…
Потом глаза закрылись, но не совсем. От истощения между веками осталась щель, через которую проглядывала полоса глазного яблока. На своих ладонях Ишанбаев ощутил мертвую тяжесть головы.
Подскакал еще один пастух.
— Он пришел с гор, — объяснил бригадир. — Плохо, совсем умирает.
Пастухи знали о большом землетрясении, о большом несчастье, случившемся в горах две недели тому назад. В тот день толчки были и в их районе, но без разрушений и жертв.
Они смотрели на почерневшее лицо с присохшими к деснам губами полуоткрытого рта. Умирающий, быть может, один уцелел из населения погибшего горного кишлака…
Ишанбаев закинул на ремень дорогой карабин — премию райисполкома за отличную работу, приказал товарищу:
— Постереги! — и с места бросил в галоп своего кровного туркменского скакуна.
Медленно надвигалось громадное овечье стадо. Тысячи тонких ног попирали землю, тысячи ртов сбривали траву. Слышались густые голоса баранов, высокие вскрики маток, жалобно-нежные возгласы ягнят. На границах стада за порядком следили деловитые собаки, сознающие меру своей ответственности.
Одним крылом стадо коснулось умирающего путника и спешенного пастуха. Подбежала и замерла сторожевая собака, принюхиваясь к чужому запаху. Несколько любопытных овец вытянули головы. К ним примкнули другие. Пастух выпрямился и крикнул. Собаки бросились восстанавливать нарушенный порядок. Пастух охватил за шею ближайшую матку, достал из-за пазухи алюминиевую чашку и принялся доить.
Послушная овца скосила горбоносую голову и глядела на человека добрым взглядом красивых глаз. С другого бока суетился шустрый ягненок. Пользуясь случаем, он толкался мордочкой и ловил длинный сосок. Матка щедро отдавала душистое молоко из полного вымени и своему ягненку и человеку.
Пастух тщетно пытался напоить бесчувственного человека, молоко напрасно проливалось. Тогда он поступил как с маленьким, потерявшим мать ягненком: опускал палец в молоко и смачивал им запекшиеся губы. Не открывая глаз, человек слабо глотнул.
— Будешь жить! — сказал пастух.
В обозе стада находилась радиотелефонная установка для связи с районным центром на время летнего похода.
— Случилось происшествие, товарищ Шарипов, — сообщал из степи бригадир Ишанбаев. — Нашел человека. Он пришел с гор. Лежит без сознания. Нужно спасать.
— Подержи его у себя, напои, накорми. Отправишь к нам с очередной связной машиной, — ответил тот. — А что он рассказывает?
— Что рассказывает? — вспыхнул Ишанбаев. — Он не рассказывает, а умирает! У Умара Ишанбаева не бывает напрасных слов, ты разве не знаешь? Он умирает! Его орел уже хотел клевать! Ты забыл разве, что было в горах? — горячился бригадир, увлеченный свойственным сильному человеку желанием немедленно действовать при виде чужого несчастья.
Шарипов не забыл о землетрясении. Бедствие разразилось в почти безлюдном районе, но один из горных кишлаков действительно исчез без следа. Не изменяя своему обычному спокойствию, Шарипов сказал тем же бесстрастным голосом:
— Будем быстро спасать, хорошо… Повтори, где ты находишься? Так… Место для посадки есть? Посылаю самолет.
IV
Районная больница находилась на окраине кишлака. В саду, обрамленном высокими тополями, доцветал урюк, на лозах винограда завязались грозди.
В палатах было свежо, просторно и тихо. Разносили завтрак. Главный врач в сопровождении дежурного врача делал обход больных. Найденный в степи путник вызывал особенное сочувствие. Вначале жизнь в истощенном теле едва теплилась. Но сильный, еще молодой организм — пострадавшему было лет тридцать — быстро оправлялся от перенесенных лишений. Вскоре незнакомец стал без посторонней помощи одеваться и передвигаться. Но с психикой его творилось что-то неладное. Больной молчал. Не было сомнений, что еще недавно он владел речью, так как не умел объясняться знаками и не был глух. Он слышал и понимал, но не отвечал.
В истории болезни он значился как житель погибшего во время катастрофы горного кишлака, пока — без имени.
Врачи и весь персонал больницы относились к несчастному с ласковой, бережной предупредительностью. Врачи надеялись, что уход, покой и время восстановят утраченную способность говорить. Следовало терпеливо ждать, когда нервная система найдет потерянное равновесие, и осторожно помогать больному. Медицине известен не один случай расстройства или даже полной потери речи у людей, пострадавших от стихийных бедствий. Главный врач говорил:
— Он вполне сознательно смотрит. Рефлексы почти в норме, он все понимает, он уже не возбужден. Никаких расспросов, никаких напоминаний о катастрофе. Покой. Испытаем его еще недели две, к тому времени он успеет восстановить физические силы. Потом посмотрим, быть может, прибегнем к специальному лечению.
Больной подолгу сидел в саду, медленно, понурив голову, точно глубоко задумавшись, бродил по затененным дорожкам. Заметили, что он подолгу глядел на воду, которая бежала по арыкам сада.
Через несколько дней главный врач разрешил больному гулять и за пределами больничной усадьбы. Он ходил по улицам, смотрел, слушал, о чем говорят люди, но молчал. Изредка с ним заговаривали посторонние, и он отвечал знаком, что нем.
Однажды один из колхозников повел немого в поле. Как хозяин, колхозник показывал немому горцу обильные всходы хлопка, объяснял новинку — систему временных оросительных каналов, высвобождавшую дополнительную землю под посев… Добрый человек и сведущий сельский хозяин, он хотел вызвать интерес к жизни у того, кто, как считали, потерял всех близких во время землетрясения. Разве не замечательно, что теперь умеют заставлять арыки ходить по полю, не отнимая у колхозников землю, как было прежде?
Потом они отправились взглянуть на новую машину для уборки хлопка. Кто бы мог подумать, что хлопок будут убирать машиной? Это чудо!
Добровольный «врач» был строгим критиком и не скрывал, что машина еще не так хороша, как должна быть. Он назвал ее «опытной». Ему хотелось втолковать немому гордую мысль о том, что в нашей стране люди решают невероятную задачу: убирать хлопок не руками, а машинами!
После этого дня в больнице заметили, что немой полюбил бродить по ближним полям. Никто не видел его улыбки, но он наблюдал за всем с таким нескрываемым вниманием, точно познавал жизнь впервые.
— Он поправляется, — с удовлетворением говорили врачи.
Прошли назначенные две недели, и главный врач сказал больному:
— Мы решили, что вам будет полезно показаться специалистам в городе. Они помогут вам восстановить способность речи. — Следя за выражением лица больного, главный врач продолжал: — Вы еще молоды, сильны, перед вами вся жизнь, и вы хотите жить, правда?
Больной опустил голову в знак согласия. Ободренный этим проявлением логического мышления, врач заключил:
— Вы поедете в город с нашим провожатым, который позаботится, чтобы вас поместили в специальную больницу. Вам будет там хорошо. Вы согласны ехать?
Немой опять утвердительно опустил голову.
Больному выдали одежду, обувь и пояс, в котором хранились советские деньги, что он достал в обмен на золото у менялы-сараффа перед тем, как уйти в горы.
В город ехали на автобусе. Путь продолжался весь день и всю ночь. Немой смотрел по сторонам не отрываясь. Утром его осмотрели в городской клинике нервных заболеваний и предложили явиться на следующий день для помещения в стационар.
Весь день немой и его провожатый осматривали расположенный в предгорьях город.
Вдали виднелись снежные вершины. Город был новый, он вырос за последние два десятилетия на месте старого кишлака. Его окружал пояс садов; на широких улицах лежала тень деревьев, в арыках щедро бежала вода. Немой так смотрел по сторонам и так слушал объяснения своего провожатого, что тот начал испытывать к нему настоящее дружеское чувство.
— Не горюй, — говорил провожатый, — голос тебе вернут. А в случае чего — и так дело найдешь.
Вечером, исполняя данные ему указания, провожатый повел немого в театр. Шла старая, построенная на преданиях народа, вечно живая пьеса, рассказывающая о правде, чести, любви, побеждающих злобу, измену и самую смерть.
Рано утром провожатый, уверившись в здравом рассудке немого, оставил его в саду клиники и простился, торопясь на отходящий автобус.
Немой выждал с полчаса, а потом отправился на вокзал и взял билет до города, расположенного в глубине страны, километрах в семистах к западу.
Ибадулла свободно владел речью и не затруднился назвать кассиру нужную станцию.
Дорога уходила через предгорья. Рельсы были проложены по путям движения древних племен, на родину Ибадуллы.
Глава третья СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД
I
Ибадулла последним спустился по ступенькам вагона, пробрался через толпу и отошел в сторону. Он на родине, его ноги, наконец-то, на родной земле!
Была вторая половина дня, солнце висело еще высоко. На станционных путях тянулись длинные вереницы вагонов. Гудки, лязг буферов, людские голоса то сливались в общий гул, то слышались раздельно. Из высоких кирпичных и металлических труб и из труб паровозов поднимались дымки, смешивались и рассеивались, затягивая безоблачное небо желтовато-серой дымкой.
Ибадулла наудачу пошел вдоль перрона. Вскоре каменная платформа кончилась. Вдаль, уменьшаясь и сужаясь, уходила аллея из столбов с толстыми нитями проводов и сходящихся тусклосеребряных полос рельсов. Там лежала уже пустыня, буро-желтая, туманная под жаром солнца.
Где же город?..
Толпа уже разошлась. Ибадулла нашел выход и оказался на площади.
Всю дорогу он просидел скромно в углу вагона, не произнося почти ни слова. Спал урывками, но усталости не чувствовал. Сейчас он стоял на площади с тем же невозмутимым видом, с каким сидел в вагоне. Каждый сказал бы, взглянув на Ибадуллу, что этот человек никуда не торопится, свободно располагает временем и еще не решил, куда пойти: вправо или влево. На самом же деле Ибадулла был растерян и потрясен. Где же город, его город?
Уже давно в его сознании жило точное представление о внешности города, которого он не видел, но который хорошо знал. Здесь же не было ничего, что могло бы связать зримую действительность с образом, созданным силой воображения.
Ибадулла пошел по широкой улице. Дома с окнами по фасадам, высокие деревья, прозрачные решетки оград… Ничего, что бы напоминало тот город! Он шел дальше. Его вело ощущение, знакомое каждому заблудившемуся человеку: еще немного, и он выйдет на знакомое место. Но знакомых мест не было.
На проволоке телеграфных столбов и на ветках деревьев висели паутинки — волокна хлопка. Где-то поблизости занимаются очисткой хлопка от семян.
Потянулась нескончаемая оштукатуренная и побеленная стена.
Над ней виднелись крыши заводских корпусов и длинные, белые, как сахар, горы хлопка. Как много его! Началось лето, через четыре месяца созреет новый хлопок. Как видно, на родине в прошлом году собрали хороший урожай…
Кончилась стена, и город сразу оборвался. Ибадулла повернул обратно и вновь пришел на вокзальную площадь. Наверное, его город лежит в другой стороне.
Ибадулла бродил и бродил по широким улицам. Прошел час, может быть, два… Везде — дома с большими окнами, много воды в арыках, тенистые ряды сильных тополей, акаций, карагачей. Бессознательно описываемая кривая вывела его опять к вокзалу. Ибадулла сел на скамью. Или он вышел из вагона не на той станции?
На площади было людно. Проезжали автомобили, останавливались большие красно-желтые и синие автобусы, забирали пассажиров и отправлялись куда-то. Вдруг на одном автобусе Ибадулла прочел три слова: «Хакан — Старый Аллакенд».
Ибадулла встал. Конечно, — отец же рассказывал! — проведенная русскими железная дорога между Самаркандом и Ашхабадом прошла в двух часах ходьбы от Аллакенда. Отец говорил, что около станции был ничтожный поселок из глиняных мазанок. Это он стал теперь большим городом! Не пойти ли в Аллакенд пешком? Нет, через два часа настанет ночь.
Ибадулла направился к автобусу с надписью, но машина тронулась раньше, чем он успел подойти к ней. Не зная, что делать, он остановился. Сзади кто-то сказал:
— Пойдем на аллакендский поезд, он скоро отправляется!
— Пошли, — ответил другой.
Ибадулла обернулся — двое мужчин шли к вокзалу. Он догнал их у кассы, купил билет и, не упуская из виду невольных проводников, сел в поезд. Через полчаса он вышел на маленьком вокзале. Вдали, над вершинами деревьев, поднимались высокие купола и закругленные головы минаретов.
II
Со времени последнего весеннего дождя минуло больше трех недель. Теперь до поздней осени с безупречно чистого неба больше не упадет ни одной капли.
Поднималась едва заметная пыль. Ибадулла видел, как в неподвижном воздухе за идущими людьми оставались длинные, низкие облачка, золотистые и прозрачные в солнечных лучах. Мельчайшие чешуйки земли порхали, как видимая часть воздуха, и медленно, неохотно оседали вниз.
Лето стояло уже в полной силе. Жгучие косые лучи солнца били в лицо, заставляли щурить глаза. Узкая дорога казалась бесконечной среди стен и домов предместья.
Ибадулла медленно ступал по истертым плитам старинного тротуара. В щелях, между квадратами обожженного кирпича, кишели муравьи, занятые бесконечным и безнадежным восстановлением постоянно осыпающихся тоннелей в свои подземные городки.
Ибадулла устал. Дойдя до поворота, он остановился в тени за выступом глиняной стены. Сверху нависали ветки, густо осыпанные еще зеленым, но уже крупным урюком, первым по времени созревания сладким плодом родной земли.
Предместье кончилось. Скоро город. Пусть будет то, что будет…
Ибадулла опустил голову и, точно в первый раз, заметил свои сапоги, растоптанные, разбитые. Пыль въелась в баранью кожу и казалась такой же естественной, как покров сожженной солнцем земли. Наверное, и халат имел не лучший вид. Одежда нищего? В этом не было стыда…
Ибадулла вышел за угол. Уже город? Нет еще. На расстоянии четверти часа ходьбы стояла городская стена, построенная из глинистого грунта. Выбитые зубцы, осыпающиеся боевые башни — бурджи, глубокие, почти до самого основания, бреши. Стена крепости Кала была изувечена временем, а не таранами и пушками завоевателей.
Прямо перед Ибадуллой, за дорогой, вздымалась голая и неровная насыпь пухлой солончаковой почвы, бесплодная, без единой травинки, без единого кустика. В ней виднелись белые куски, точно обломки гипса или извести.
Ибадулла взобрался на насыпь и оказался на длинной и широкой возвышенности, изрытой ямами и забросанной обломками кирпича и костей.
Каждый древний город окружается кладбищами. Но Ибадулла знал и другую особую причину обилия кладбищ за стенами Аллакенда. Тысячу лет город считался в мире ислама священным и верующие мусульмане стремились получить погребение в его земле. Издалека старики и больные приезжали в Аллакенд и терпеливо ждали в нем смерти. Кладбище из года в год поднималось все выше. Ибадулла вспомнил, что путь между Хаканом и Аллакендом так и звался прежде — Дорога Смерти.
Старый могильник истлел. Не было видно ни одного туга — шеста с изображением раскрытой человеческой ладони наверху, — чтобы привлечь мысли и молитву прохожего. Не было видно ни одного почитаемого мазара — склепа, святого — гази или имама — учителя ислама. И нигде ни одного человека. Да, люди не ходили сюда…
Охваченный созерцанием, Ибадулла чувствовал себя человеком, который пришел, чтобы поклониться могилам предков. Те, кто дал жизнь его дедам и прадедам, были и здесь, безразлично смешанные с прахом тысяч и тысяч. Пыль, забвение, покой…
III
Несколько дальше возвышалось одно из величественных древних сооружений, которыми всегда славились Аллакенд и его окрестности.
Поднимая тонкую пыль рыхлой земли могильника, Ибадулла спустился вниз. Пришлось обойти поле, залитое водой для орошения. Вот и хонако, как назывались мечети дервишей.
Ибадулла хорошо понимал смысл архитектурных линий здания. Каменная громада портала означала Ворота Вечности. Неслучайной была и форма стрельчатой арки, прорезавшей портал. Грандиозный- свод, суженный книзу, расширялся вверху и заканчивался стрелой. Рисунок, полный традиционного смысла: ноги, широкие плечи и острый шлем на голове. Абрис гиганта-воина. Ислам учит: вечная жизнь открыта бойцу за коран. Прямая линия верха портала символизировала жизнь праведника, мудреца — учителя культа. «Почему не жизнь народного героя, о котором не забывают предание и песнь?» — подумал Ибадулла.
За порталом возвышался широкий сферический купол — знак седьмого неба или достигнутой мечты.
Еще не вся чешуя прекраснейшей древней мозаики осыпалась с портала. Сохранились пятна, глубинно-синие, как Аравийское море или как горное бездонное озеро, нежноголубые, как полуденное небо, бирюзовые, как лист весеннего тюльпана. На темени синего купола лежала лохматая шапка из ветвей — гнездо неприкосновенного аиста, птицы мира, благоденствия и тихого семейного счастья…
Здесь все было многозначительно. Но великолепное здание явно покинуто, и сознание Ибадуллы остро воспринимало эту заброшенность ненужного людям места. И все же своими мощными формами портал хонако вопреки времени и окружающему его запустению утверждал:
— Я существую!
А в нескольких сотнях шагов от мечети-хонако за низкой оградой высились многочисленные здания какого-то крупного завода.
Ибадулла присел в тени портала. В тишине он слышал только один звук — страстное воркование невидимой горлинки.
Тишину разорвала заводская сирена, означая конец смены. Ибадулла встал и заметил мраморную доску, прикрепленную к стене. Надпись на ней была составлена на двух языках: узбекском и русском, и, называя год сооружения и имя строителя, предупреждала, что хонако, как памятник народной архитектуры, находится под охраной правительства республики. Паспорт и охранный лист… Только сейчас Ибадулла обратил внимание на чистоту вокруг хонако. Входы во внутренние помещения были тщательно замурованы. Было ясно, что это здание хотели сохранить…
Вдруг Ибадулла услышал звук шагов. Так все же здесь бывают люди?..
Появился человек в белом костюме, желтых ботинках, в черной узбекской тюбетейке, расшитой белыми разводами. Судя по чертам лица, он был узбеком. Остановившись шагах в десяти от Ибадуллы, рослый и, видимо, сильный человек разглядывал его с непринужденностью, которая была непристойной по понятиям путника. Следовало произнести традиционное слово привета, но человек молча прошел мимо и опять задержался, на этот раз спиной к Ибадулле. Он чего-то ждал. Потом прошел мимо и исчез за углом. Ибадулла вскоре забыл об этом прохожем.
Осматривая здание, он обогнул восточный фасад, и тут перед ним открылась странная, неожиданная картина разрушения. Из десяти или двенадцати колонн чудовищной толщины, образующих перекрытую сводом галерею, только две или три стояли прямо. Остальные покосились наружу, и свод над ними разрушился.
Ибадулле приходилось слышать о том, что после установления советской власти многие старые, освященные временем здания стали разрушаться, и он с особенным вниманием осмотрел покосившиеся колонны. Быть может, фундаменты подмыло водой? Нет, квадратные цоколи колонн из тесаного камня стояли вертикально. Это сами колонны были подрублены почти наполовину своей толщины! Работала чья-то рука. Зачем? Кто-то сознательно покушался на хонако. Но ведь не та власть, которая взяла его под охрану! Такие раны наносят втихомолку, исподтишка…
Осматривая одну колонну за другой, Ибадулла дошел до крайней, нетронутой. Его внимание привлекла надпись, начертанная мягким графитным карандашом, свежая, четкая, быть может вчерашняя или сегодняшняя. Она сказала путнику привет в трех строках витых арабских букв:
Пришедший издалека, тебя ждут.
Иди смело, ты посол друзей.
Путь известен. Для тебя он безопасен и прям.
Надпись находилась на уровне глаз Ибадуллы. Чистый слог напоминал стихи корана. Ибадулла внимательно осмотрел поверхность колонны. На другой стороне и ниже он нашел карандашные черточки: пять рядов по пять черточек в каждом, всего двадцать пять.
Под рубахой на груди Ибадуллы висел маленький кожаный, тщательно зашитый мешочек. В нем прятался свернутый в трубочку листок пергамента, наследие деда и отца. Быть может, сто лет тому назад писец-каллиграф без единой ошибки изобразил на мягком, почти прозрачном лепестке кожи такими же буквами, как надпись на этой колонне, слова священного талисмана:
Во имя бога милостивого и милосердного
скажи: я ищу прибежища у господа дневного рассвета
от злобы сотворенных им существ,
от вреда застигающей нас темной ночи,
от злобы дующих на узлы,
от зла завистника, ненавидящего нас.
Во имя бога милостивого и милосердного
скажи: я ищу прибежища у господина людей,
царя людей, бога людей,
от зла тайно внушающих нам злые мысли,
от вдувающих зло в сердца людей,
от враждебных джинов и злых людей.
Этот талисман в точности воспроизводил две последние главы корана. Его назначением было оградить верующего от зла. И только… Ибадулла вглядывался в надпись на колонне. Место, заполненное извилистыми значками и точками, обозначавшими чью-то темную, полную загадочного значения мысль, чем-то отличалось. Похоже, что здесь уже не раз писали и стирали написанное.
Вдруг Ибадулла нахмурился. Он вспомнил, что такие двадцать пять черточек были паролем тайной исламистской организации. Помещенная рядом с ними надпись должна иметь свой, но непонятный ему смысл. И неприятный прохожий, и чья-то злоба, подрубившая колонны, и темный смысл надписи слились в один образ… Ибадулла поднял темнокоричневую от загара и дорожной грязи руку и стер жесткой ладонью надпись и черточки.
Солнце уже село. Ибадулла обошел мечеть-хонако и двинулся к городской стене, пересекая кладбище.
IV
С каждой секундой небо синело все глубже, темнота падала на город с южной стремительностью. Запад угасал. Там, где недавно еще было солнце, ему вослед уже спешила вечерняя звезда, которой привык клясться старый Восток. День уходил в ночь, как клинок меча, исчезающий в черных ножнах.
Городская стена зияла темными провалами, густые тени кутали кладбище. От полуразрушенного сводика согоны — могильного холмика — метнулось какое-то животное, пронзая тишину визгом и хохотом. От неожиданности Ибадулла вздрогнул и остановился. Отвратительный лай шакала смолк в отдалении. Путник ступил в глубокий ковер пыли под городской стеной.
Он прошел по мосту через широкий арык и вскоре оказался на каменном тротуаре улицы, которая вела в город от ныне исчезнувших ворот в стене. Сбоку бежала вода в арыке. Казалось, что это от нее поднимается прохлада.
Быстро холодало — сухой воздух не препятствовал нагретой земле отдавать накопленное за день тепло. Невидимыми волнами тепло мчалось вверх, в холодное небо.
Ибадулла был одет в короткий, едва по колено, стеганый халат из алачи, подбитый отборной ватой. Красные, синие и зеленые полосы на бумажной ткани уже выцвели и потускнели от пыли и грязи. Как и земля, тело человека быстро отдавало тепло. Ибадулла зябко стянул халат на груди.
Он очень устал. Усталость смиряла волнение и заставляла желать простого покоя и сна. Найдет ли он нужную ему дверь и откроется ли она перед ним? Кто встретит его там?
Чтобы найти дорогу, Ибадулла остановил случайного прохожего и расспросил его.
V
Улица поднималась к центру города. Подъем был бы заметен и менее усталому человеку, чем Ибадулла.
Больше тысячи лет Аллакенд строился и перестраивался на одном и том же месте. Фундаменты первых домов покрыла толща городских отложений в десять человеческих ростов. Она засосала целые сооружения, ныне в ней находят засыпанные здания и хорошо сохранившиеся храмы древних культов.
За пределами города и его предместий вода текла в мелких ложах оросительных каналов — арыков. А здесь, ближе к центру, вода оказывалась все ниже, струилась где-то очень глубоко, среди отвесных каменных стен, носящих следы последовательного наращивания. Она текла там, где тысячелетие тому назад стояли дома на ровной плоскости еще не превратившегося в холм оазиса.
Через узкую черную щель с невидимой на дне водой были перекинуты к саду частые мостики. Там, под деревьями, стояли длинные помосты, покрытые коврами.
Вокруг электрических ламп вились рои ночных насекомых. На коврах, поджав скрещенные ноги, сидели люди. Около них стояли чайники и лежали вкусные пшеничные лепешки. Пленительно пахло пловом. Только десяток шагов сделать в сторону… Зеленый чай легко и незаметно освобождает человека от гнета утомления, пусть копившегося не один день и даже не одну неделю… Это было настоящее искушение. Ничего не нужно говорить, чайханщик сам принесет чайник и пиалу, а если молвить два слова, то появится и вкусный рис с пахучими кусками нежного бараньего мяса. В цветном платке, которым был подпоясан Ибадулла, нашлись бы еще деньги, но он сдержался и пошел дальше.
Сад сменился высокой стеной двухэтажной медресе. Массив из тонких кирпичей старинной формы с такими же, как кирпичи, швами строительного раствора казался шершавым даже в ночной темноте. В нескольких местах из маленьких прямоугольников окон вырывался электрический свет. Внизу устроилась парикмахерская. Ибадулла видел, что духовное училище перестало служить местом воспитания будущих мулл; в его кельях-худжрах больше не жили имамы, учителя ислама, и их послушные талоба — ученики.
Все многолюднее становилось на главной улице города. Его население отдыхало, пользуясь ночной прохладой. И вместе с Ибадуллой и навстречу ему двигались люди, они занимали всю улицу от одной стены до другой. Медленно и осторожно в толпе пробирались редкие автомобили. Уличные фонари освещали много лиц, и загорелых дочерна, и светлых, халаты и европейские костюмы, непокрытые головы, чалмы, тюбетейки…
За бывшей медресе поднималось высокое здание мечети. Ибадулла подошел к широко открытым дверям. В ярко освещенном обширном зале за столами сидели самые разные люди, занятые чтением газет, книг и журналов. Радио передавало музыку. Ибадулла пошел дальше.
Все плотнее становилась уличная толпа. Опять за решеткой показались деревья, под ними теснился народ. Ибадулла протолкался вперед и оказался перед старым хаузом — водоемом глубиной в четыре или пять человеческих ростов, длиной шагов в девяносто, а шириной, может быть, в шестьдесят.
Сверху и до дна колоссальной ямы гигантскими ступенями спускалась каменная облицовка. В старину, да и в самом недавнем прошлом в таких открытых громадных водоемах город хранил запасы воды. В стоячей гнилой воде и в жидком иле дна хаузов водились мельчайшие насекомые, а в их телах гнездились личинки страшной ришты.
Тонкий, как волос, червь-паразит переселялся под кожу человека, вырастал там в громадных нарывах. Это была одна из самых распространенных в священном Аллакенде болезней. Лечение — многодневная, мучительная операция. Червя вытаскивали постепенно, наматывая его на палочку. От оператора требовалось большое терпение. Если ришта разрывалась, то на месте одного нарыва появлялось несколько, и нужно было вновь ждать, чтобы черви созрели.
Теперь водоем стал ненужным. Его осушили. Дно было твердое, ровное, как стол. Над хаузом висели яркие электрические фонари, они освещали сетку и две группы девушек в белых костюмах. Из разговоров окружающих Ибадулла понял, что команда города и гости оспаривали на спортивном поле приз имени республики в волейбол.
На краю хауза росла трехсотлетняя шелковица. В одном месте ее корни вытолкнули каменную ступень. Ствол поднимался толстой бочкой и на высоте трех человеческих ростов делился надвое. Одна мощная ветвь засохла. Выставившись над хаузом, она, как рука, держала гнездо аистов.
Разбуженные ночным шумом высокие черно-белые птицы стояли на гнезде. Они поворачивали длинноносые головы вниз то одним, то другим глазом и следили за ходом состязания, не пугаясь свистков судьи и криков людей.
Ибадулла пробился назад и пошел по улице не спеша, заложив за спину руки. Он знал, что уже близок к цели, и волновался.
VI
Худое лицо Ибадуллы с правильными резкими чертами было обрамлено черной, клочковатой бородой. На подбородке она торчала вперед, а к ушам поднималась узкими полосами по краям нижней челюсти. С темного лица смотрели карие глаза с золотыми искорками на радужной оболочке. Их взгляд был прям и смел. Порой в нем возникало что-то настойчивое и вместе с тем быстрое. Тогда взгляд делался острым, как лезвие ножа, проникающего в мякоть спелой дыни.
Синее полотнище чалмы из дешевой крашеной индиго маты было так умело замотано вокруг головы, что сливалось с тюбетейкой. Чалму можно было снимать, как шапку. На давно небритой голове отросли черные волосы.
И внешностью и одеждой Ибадулла походил на многих жителей города, но все же чем-то он выделялся, какой-то трудно определимой суммой внешних проявлений личности. Ведь никто не мог знать, что в складке чалмы путника таился забытый им самим кесек, традиционный для мусульманина кусочек земли. И никто не мог узнать о спрятанном в сознании Ибадуллы его прошлом и о том, что привело его в священный город.
Внезапно улица скрылась под сложными кирпичными сводами, будто уйдя под портал грандиозного здания. Но это особенное сооружение лишь перекрывало перекресток двух улиц. Его возвели много столетий тому назад, чтобы дать тень прохожим и место торговцам. По рассказам отца Ибадулла знал, что когда-то здесь в темных нишах-лавках сидели неподвижные, молчаливые люди с ящиками, полными любых денег. Менялы-банкиры торговали деньгами со всем миром. По векселю банкира-сараффа можно было получить любую сумму денег в Бомбее, Калькутте, Тегеране, Стамбуле, Пекине, Бангкоке, Каире и даже в далеких Феце или Тимбуку. По имени менял купол звался Сараффон — имя, сохранившееся до настоящего дня.
Отойдя в сторону, Ибадулла остановился у стены с видом человека, который явился сюда для условленной с кем-то встречи, и только. Однако он заметил, что за ним следят.
Еще до того, как войти под купол, Ибадулла обратил внимание на двух людей, шедших навстречу. Если теперь он видит их здесь, значит они повернули и пошли за ним по пятам… Зачем? Чего они хотят?
Он искоса поглядывал на незнакомцев. Таких людей Ибадулла привык называть инглези, если это были англичане или американцы, и фаренги, если это были европейцы других национальностей.
То были фаренги. Они тоже остановились шагах в десяти. Один улыбался и что-то говорил другому, молодому человеку лет двадцати пяти. Это русские. Они заинтересовались им и не скрывают своего любопытства.
Нужно выждать. С детства Ибадулле внушали, что судьба каждого человека предопределена от рождения и до последнего дыхания. Если это правда, то встреча с незнакомыми русскими, быть может недобрая, была предначертана, как и все другое.
VII
«Судьба или воля человека, предначертание или убеждение в своей правоте — что же решает, что перевешивает в ту или иную сторону, когда действие человека зависит от его чувств?» — спрашивал себя Ибадулла, глядя вслед уходящим русским.
Не чувствуя себя более связанным, путник не стал ждать. Он повернул налево от купола Сараффон и через несколько десятков шагов оказался в темноте и одиночестве. Весь свет и все оживление остались на главной улице. Контраст был разителен.
Как во всех древних городах, имеющих длинную историю, так и здесь внезапно происходила эта перемена обстановки. Несколько шагов уводили в другую эпоху, на столетия в прошлое.
Ибадулла заторопился. Он минул два переулка и свернул в третий. Глухие стены домов высились по сторонам, и проулок был таким узким, что казалось, можно достать руками сразу до двух противоположных стен. Как тени, мимо ног человека метнулись занятые своими делами молчаливые собаки.
В темноте на выбеленных стенах с трудом различались пятна дверей и ворот. Память Ибадуллы цепко хранила рассказы отца. Ибадулла считал двери и ворота; чтобы не ошибиться, он шопотом повторял счет. Наконец он остановился. Ладони нащупали сухое резное дерево и холодные шляпки громадных кованых гвоздей. Рука нашла тяжелое кольцо, подняла его, уронила. Медь кольца ударила о металл подкладки. Звук утонул где-то в глубине дома или в толстом дереве двери.
Ибадулла приложил ухо к доскам. Ничего не было слышно. Не ударить ли вторично?
Нет… Где-то уже шаркают медленные шаги. В щели блеснул луч света. Но оклика из-за двери не было.
Ибадулла слышал, как по внутренней стороне двери шарят руки. Звякнула и закачалась в петле полоса железного засова. Сердце Ибадуллы сжалось. Что будет?..
Дверь открылась, и в лицо путника упал яркий свет ручного электрического фонаря. Он закрыл от Ибадуллы того, кто стоял перед ним. И путник сказал кому-то, державшему фонарь:
— Мир тебе.
— Тебе мир, — был негромкий ответ, произнесенный спокойным старческим голосом. В голосе был вопрос. Ибадулла произнес:
— Не ты ли хозяин дома, Мослим-Адель? Я пришел к тебе. Я — сын Рахметуллы, Ибадулла…
Луч света дрогнул и упал на порог. Хозяин отступил, давая дорогу гостю. Молча, приложив ладонь к левой стороне груди, старый человек поклонился пришельцу и жестом пригласил его следовать за собой.
Из внутреннего двора по извилистой лестнице они поднялись на второй этаж и оказались на открытой веранде. За ней была освещенная комната. Они вошли, и хозяин вновь поклонился гостю, жестом указывая ему место.
Ибадулла опустился на ковер. У него больше не оставалось сил, и он боялся, что может упасть.
Глава четвертая ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
I
— Эмир Сеид-Алим-Хан умер в изгнании. Люди, ушедшие с ним, умерли или состарились. Они, их дети и дети их детей лишены родины. Это истина, Мослим-Адель.
Такими словами начал Ибадулла беседу с хозяином на следующее утро.
Мослим помедлил с ответом. В серьезном деле нельзя торопиться, а поспешность в высказывании своих мыслей — неуважение к собеседнику.
Старик держал в руке маленькую, похожую на грушу, тыкву. Ее желтая поверхность гладко зашлифовалась от времени, из узкого конца выдавалась деревянная пробочка с черной ременной кисточкой. Мослим вытащил пробку, насыпал на ладонь чуть-чуть бурозеленого порошка табака и стряхнул его себе в рот под язык. Потом сказал гостю:
— Это истина… Но ты шел по земле родины, и вот ты в городе твоих отцов, где увидел свет и где твои ноги сделали первые шаги.
В словах Мослима не было скрытого смысла. Видимо, он хотел только слушать гостя. Он молчал и смотрел на Ибадуллу спокойным взглядом темных глаз в морщинистых веках.
— Да, я прошел через горы и шел дальше, — сказал Ибадулла. — Я заблудился в ущельях, умирал от жажды и голода. Меня нашли. О чудо, со мной, чужим, поступали так, как не всегда братья поступают с братом! Не зная, что сказать им, я молчал. Для них я был немым, но я слушал. Я видел, как живут люди в том кишлаке, где больница, я видел город. Люди показались мне счастливыми, и они добры. Я не сказал слов благословения тем, кто заботился обо мне с любовью, не желая платы… В сердце я храню благодарность, как священный долг. Но моя душа тоскует…
Ибадулла остановился, сжал руки, сосредоточился. После паузы, не нарушенной Мослимом, он продолжал:
— Там, за горами, я слышал разные слова о родине. Много дурного и злого, но и хорошее также. Мое ничтожное наследство — воспоминания несмышленого ребенка и рассказы отца. Он любил родину и учил меня. И я решился. Я говорю правду, нехорошо для человека только слышать о родине, которую он не знает. В родном городе я видел вчера разрушающиеся стены крепости, толпы людей на улицах и забытые народом мечети. Чем живет народ? Что знает он и что помнит? До сих пор, Мослим, я слушал, но молчал. Душа моя открыта перед тобой. И с кем мне еще говорить? Ты помнишь моего отца, и ты принял в свой дом его сына…
Без нарочитости, но внимательно наблюдал Мослим за Ибадуллой. Чтобы понять человека, нужно не только слышать его слова. Часто главное читается в движении рук, в интонации голоса, в выражении глаз и рта. Старик отвечал медленно, наблюдая, как действуют его слова.
— Мне было тридцать пять лет, Ибадулла, когда бежал эмир. Тогда я был твоего возраста. И я, оставшийся на родине, не лишенный ее неба и воздуха, помню и знаю больше, чем ты.
Глубокие морщины рассекали лицо Мослима. Он погладил обеими руками свою желтовато-белую бороду и продолжал:
— Я помню день, когда брат твоего отца, мой отец и несколько их друзей были зарезаны палачами по приказу эмира. Эта смерть навечно соединила их для меня… Ты можешь посетить подземную тюрьму, зиндан. Теперь он пуст, его ходят осматривать те, кто не видел прошлого. Сторож покажет тебе место, где пролилась родная кровь. В дни моей молодости на нашей родине лилось слишком много крови и слез, Ибадулла.
— Пусть это было так, — последовал поспешный и горячий ответ. — Прошлое есть прошлое, но мы, Мослим, живем сегодня и будем жить завтра. Правда, что дни рождаются из дней, а настоящее происходит из прошлого. Но почему ты напоминаешь мне о смерти? Я пришел для жизни.
Мослим улыбнулся. Его лицо смягчилось, голос зазвучал теплее:
— Да, ты похож на отца, теперь я вижу. Среди многих людей я сумел бы узнать — вот, вот он, сын Рахметуллы. Я любил его. Мы спорили перед его отъездом, я едва не последовал за ним. Тогда я колебался… Твой отец был сильным мужчиной. А твоя мать… я не видал ее лица, но моя жена называла ее красавицей. Увы, красота лица гаснет и не возвращается.
Улыбка исчезла с лица Мослима, и он продолжал:
— Так же не возвращается и прошлое, Ибадулла. Роковая ошибка некоторых людей скрывается в мысли о возможности вернуть прошлое. Эта ошибка приводит к разрушению и к смерти. Может быть, и ты не сразу поймешь это. Послушай, сын друга, я видел необходимые перемены в жизни нашего народа, оценивал их, познавал их благо. Ты говоришь, спасшие тебя люди добры? А знаешь ли ты, почему они добры и почему они не могут быть злыми?
— Нет, — ответил Ибадулла.
— Да, ты еще не можешь понять, — согласился Мослим, — и трудно объяснить это в нескольких словах. Но помни, наши люди добры потому, что они свободны и сильны. При эмирах были бесправие, насилие и войны. Поэтому люди были слабы и злы. Теперь родина живет в мире. Кому может не нравиться мир? Я всю жизнь до недавнего времени учил детей и юношей добрым наставлениям правды. Мой сын и моя дочь учат их тому же и сегодня. У меня много внуков. Но у тебя нет детей, Ибадулла?
Ибадулла сидел на сложенном вдвое ватном одеяле, удобно скрестив ноги и опираясь локтем на подушку в пестрой наволочке. Остро поведя желтоватыми белками глаз, он резко ответил на неожиданный вопрос:
— Почему ты спрашиваешь об этом, почему напоминаешь? Хотя… ты не знаешь. Были. Их унесла оспа. Так суждено.
Мослим покачал головой и мягко промолвил:
— Сожалею, Ибадулла, сожалею… И мне знакомо жгучее горе отца. Но из моих внуков ни одного не убила оспа. В нашем городе давно нет оспы. И заботятся об этом наши врачи, а не судьба. Но ты еще молод, горе проходит, ты успеешь вновь познать счастье отцовства. Дети освежают взор человека, — привел Мослим народную поговорку. — Теперь же скажи мне, правда ли, что эмир Сеид-Алим-Хан после войны и незадолго до своей смерти просил разрешения республики вернуться к нам?
— Да, — ответил Ибадулла, — близкие к нему люди передавали, что он почувствовал приближение смерти и хотел быть похороненным в священной земле на родине.
— Не всегда человек предчувствует приближение конца, — возразил Мослим. — Только ли умереть на родине хотел эмир? Ты действительно веришь, что у него не было других мыслей?
— Я не был приближенным эмира, он не советовался со мной, — безразлично ответил Ибадулла. — Говорят, ему сообщили, что не нуждаются в нем, и не позволили вернуться. Он умер.
— Не каждый человек искренен даже перед лицом смерти. Некоторые умеют лгать до последнего вздоха, — сурово заметил Мослим. — Я знал эмира, он был жесток и лжив. Верю, он хотел вернуться, но зачем? Я никогда не поверю, что он томился тоской по родине. Не родину он любил, а другое… На сотне верблюдов он увез в изгнание драгоценные камни и золото. Разве он не перевел заранее много миллионов за границу и не держал всю жизнь награбленные им здесь громадные капиталы в индийских и английских банках! Он был отвратительно жаден. Богач, он не стыдился принимать денежную помощь от афганского падишаха — двенадцать тысяч рупий в месяц… А! Кто бы мог поверить, что он полюбил родину в изгнании? Он не имел родины. Я хорошо помню Сеид-Алима. Больше всего на свете он любил деньги и остатки власти, которую ему когда-то сохранили русские.
— Зато теперь русские имеют всю власть на нашей родине! — воскликнул Ибадулла. — Тебя зовут Мослим-Адель — Мослим-Справедливый! Скажи, разве я говорю неправду?
Глядя в помрачневшее лицо гостя, Мослим отрицательно покачал головой. Он искал взглядом темнокарие глаза собеседника. Найдя их, заговорил:
— Было время, когда я думал так же: до революции, когда я не знал жизни и мой разум был темен. Я говорил себе: русские стесняют и ограничивают власть эмира в свою пользу. И был неправ. Русские прекратили войны, которые вел эмир со своими соседями. Одно это было уже благодеянием. И мы стали многому учиться у русских. Прежние русские сами не были свободными. Но когда они свергли своего царя и уничтожили власть богатых, к нам пришла завоеванная русскими свобода и сделалась нашей свободой!
Мослим вытянул руки к Ибадулле и с силой продолжал:
— Тех русских, о которых ты думаешь и говоришь, нет больше. Это прошлое! Есть новые русские. Мы живем с ними рядом, они наши братья. Ибадулла! Ты не знаешь этого, и ты не виноват. Ты жил за высокими горами, и они заслонили от тебя родину.
Ибадулла уронил голову на грудь и закрыл глаза. Он не чувствовал себя виновным, но тяжесть лежала на его сердце. Как понять Мослима?..
— Кто хочет жить, мыслить и трудиться, — продолжал между тем старик, — тот нуждается в мире. Труд приносит покой душе. Но разве мирная жизнь нравится тем, кто ищет угнетения других людей, кто говорит, что одни люди хуже других, если у них не такой цвет кожи и другой язык? Нет, сын Рахметуллы, нет! Угнетатели не имеют родины ни на равнинах, ни в горах.
— Горы качались и падали, Мослим, когда я спускался с них, — сдавленным голосом ответил Ибадулла.
— Горы рассыпаются, но дела людей остаются. Они могут оказаться крепче гор, Ибадулла.
Случайно рука Ибадуллы встретила под халатом рукоятку ножа, форма которого не менялась столетиями. Талисман на груди и клинок отличной гиссарской стали были всем, что оставалось от наследства… Ибадулла чуть слышно прошептал:
— Ты стал суров, Мослим-Справедливый, и гнев звучит в твоем голосе. Итак, все и навсегда изменилось? Если не верить тебе, то кому еще могу я поверить? Твоими устами со мной говорит родина, но я плохо понимаю ее язык.
— Но разве ты знал его, сын друга? Разве ты слышал его раньше? Во мне нет гнева, истина сурова, но не зла.
— Я стремлюсь к ней.
— Тогда время принесет тебе познание. Но скажи мне теперь, свободен ли ты от помыслов злобных безумцев, мечтающих поднять меч ислама против твоей родины?
— Я пришел на родину, и мое сердце томится по любви, а не по злобе…
Мослим взял руки гостя в свои руки и сказал:
— Ты мой гость, и ты путник по родной земле. Живи, ищи, и ты найдешь утоление жажде сердца.
II
Ибадулла прошел базар и остановился у подножия башни Калян, главного и великого минарета священного города Аллакенда.
Круглая, сужающаяся вверх башня была сооружена в пятьсот двадцать втором году хиджры 1 . С тех пор прошло восемь с четвертью столетий. Отец рассказывал сыну о всех деталях замечательного сооружения, описывал цвет кирпича, разнообразие узорных поясов кладки. Ибадулле показалось, что он уже бывал здесь. Глядя вверх, он видел, как минарет уносится в небо, и сразу навсегда полюбил его.
Потрясенный новым миром идей, завесу перед которым отдернул Мослим, Ибадулла уже давно бродил по городу. Вначале, точно ослепнув и оглохнув, он так ушел в себя, что не видел лиц и не слышал голосов. Он очнулся только у мавзолея Исмаила Самани и долго сидел на прохладном камне ступени.
Вход внутрь закрывала решетка. Гробница основателя первой династии мусульманских владык Аллакенда белела в углу, чистая, нетронутая.
Мавзолей стоял на мощенном плитами дворе. С течением времени земля поднялась вокруг, а двор ушел вниз. Если пустить воду, то мавзолей сделается островком в прямоугольном озере. Перед мавзолеем небольшой кусочек земли не имел плит и на нем росло несколько деревьев. Ибадулла вспомнил рассказ отца о засыпанном ходе под мавзолеем. Так же, как гробница, этот ход был не тронут.
Прежде первый Саманид почитался святым, но сегодня никто не приходил поклониться его могиле. И путник не нашел слов молитвы. Он думал о другом. Он вспоминал, что есть в городе один человек, ученый и мудрый. Разные слухи ходили о нем и проникали через границу, но никто не отрицал глубины его познаний. Что скажет он ищущему родину?
Пришел уборщик, надзиравший за мавзолеем. Республика заботилась о памятниках старины. Вслед за уборщиком Ибадулла вошел внутрь, приблизился к гробнице. А вот и отверстие в ней. Отец говорил с осуждением, что в старом Аллакенде сюда опускали прошения и получали ответы. Муллы обманывали народ…
Ибадулла спросил уборщика о человеке, имя которого он вспомнил, и узнал адрес.
— Это большой человек. Многие приезжают к нему даже из далеких мест, — с уважением говорил уборщик, запирая решетку, — его дверь открыта для всех. Народ любит его.
Путь к ученому шел мимо большого минарета. Остановившись у его подножия, Ибадулла искал отдыха мыслям в воспоминаниях о прошлом величии города. Приближавшиеся к Аллакенду караваны видели постепенно поднимающуюся над горизонтом резную чалму минарета, первый признак города. Утомленные лаучи, погонщики верблюдов, радовались концу длинного и опасного пути через пустыни, становились на колени и творили благодарственную молитву. Затем они шли дальше и видели, как снизу минарет обрастал бесчисленными куполами мечетей и дворцов.
Ночами, когда страшный ветер теббад вздымал соленую пыль и делал мрак непроглядным, в небе поднималось спасительное зарево нефтяных факелов, пылающих на вершине минарета, чтобы указать путешественникам дорогу.
Обходя башню, Ибадулла невольно ждал призыва муэдзина, возвещающего час молитвы, а услышал голоса русских. Двое сидели в тени минарета, а третий стоял спиной к Ибадулле и с увлечением говорил:
— Пусть рассказывают. Пусть это не сказка, а быль. Сверху сбрасывали людей, и кто-то обижается, если этот минарет называют минаретом смерти? В средние века всюду свирепствовали жестокие казни. В Аллакенде средневековье сильно задержалось, но кто старое помянет, тому глаз вон. Ведь не для казней же строили минарет!
Русский в серой шляпе повернулся лицом к минарету, и Ибадулла узнал молодого человека, внимание которого вчера так смутило его под куполом Сараффон. Но в своем увлечении русский не заметил теперь Ибадуллу. Подняв голову, он говорил:
— Вы пригляделись, товарищи, а для меня тут все ново. Уметь найти такие пропорции, такие линии! Сколько столетий уже минуло, а созданное людьми чудо живет и живет… Вы говорите, что почти на четверть своей высоты минарет закрыт городскими отложениями? Но и сейчас он кажется неизмеримым. Как гениально осуществил древний зодчий свою власть над ощущениями человека, как изумительно выполнена работа!
Русский отступил, выбирая новую точку для обзора. Один из его товарищей сказал:
— Я прожил здесь тридцать лет, но люблю старые памятники города, как в первый день. Они несравненны. Здесь у нас есть еще много, замечательных, неповторимых сооружений.
Ибадулла был поражен: эти русские умеют так же понимать и чувствовать, как он! Но молодой русский не дал ему времени на размышление. Он заметил Ибадуллу и подошел к нему со словами:
— Вот мы и опять встретились Вы иначе одеты, но я сразу узнал вас. Я не совсем вежливо вчера вас рассматривал. Простите меня, я впервые в Средней Азии, меня увлекают и лица и здания… Но вы, может быть, не понимаете по-русски?
Ибадулла с видимым трудом подобрал слова, нужные для ответа:
— Я понимаю… я плохо говорю… Но я понимаю.
— Ну вот, тем лучше, — похвалил русский. — А вы согласны с тем, что мы говорим о минарете?
— Да. Ваши слова — правда.
— Значит, мы единомышленники! — радостно воскликнул русский. — Так будем знакомы, — и он протянул Ибадулле правую руку, а левую приложил к сердцу. Русскому не удалось изящно сделать это движение вежливости; было видно, что у него совсем нет привычки. Однако Ибадулле было приятно желание русского подражать узбекским обычаям, он охотно принял протянутую ему руку.
III
Первые русские… Никогда еще не приходилось Ибадулле говорить с русскими. Кто они, коммунисты? Они были дружественно приветливы.
Вчетвером они зашли в столовую, ели острый мясной суп — шурпу и кебаб из баранины. Впервые в жизни Ибадулла сидел за столом вместе с людьми, так внешне похожими на инглезов или фаренгов. Это было странно, но еще более странной была манера русских говорить просто и горячо, как будто они не обдумывали свои слова.
О себе никто из русских ничего не говорил: или собственные дела были им неинтересны? Они охотно говорили о прошлом Аллакенда, обсуждали перспективы развития города и оазиса. Свои мысли русские излагали так, как будто от высказываемых ими мнений зависело их личное благополучие.
События семидесятых годов прошлого века… Русские войска в Самарканде. Решающая встреча с армией эмира и бескровная победа русских — сарбазы эмира разбежались при первых же выстрелах. Они не хотели защищать своего повелителя. Дехканин и ремесленник, насильственно загнанные в армию эмира, при первом удобном случае бросали оружие и уходили домой — они не боялись русских.
Малочисленные русские отряды страдали только от жары и тягости непривычного климата. Собеседники приводили удивительные цифры. Несколько тысяч русских солдат осуществили присоединение эмиратов, населенных миллионами людей. По мнению собеседников Ибадуллы, произошло так потому, что народ ненавидел эмира…
Как большинство людей, родившихся и всю жизнь проживших на Востоке, Ибадулла в совершенстве владел выражением своего лица и умел ничем не выдавать своих чувств и мыслей. Иногда русские обращались к нему, спрашивая его мнение. Он отвечал одним словом или жестом. А ему очень хотелось вмешаться в разговор — задавать вопросы, спорить. Он был глубоко взволнован.
Некоторых выражений русских Ибадулла не понимал, его запас слов был ограничен, но общая нить рассуждений не ускользала. Они не хотели вреда его народу и, что было удивительно, о делах Узбекистана говорили совершенно как о своих. Так мог бы говорить узбек, а эти люди были посторонними!..
Вот они перешли к истории России и осуждают свое старое царское правительство с тем же жаром, как обвиняли эмират.
Ибадулла успел разобраться в своих новых знакомых. Младший недавно приехал из Москвы, он умел искать воду и строить каналы. Двое других были старыми жителями Аллакенда. Самый старший был очевидцем революции. Он рассказывал об энтузиазме восставших против эмира дехкан, рабочих и ремесленников, об отрядах революционеров, наступавших на Аллакенд сразу с нескольких сторон, о восстании, организованном коммунистами в решающую минуту в самом городе, и о тайном бегстве последнего эмира — Сеид-Алим-Хана.
— Никакая сила, — говорил старший русский, — не могла удержать народ в эмирском ярме, когда люди осознали значение происшедшей в России революции! Каждый хотел получить свою долю свободы.
Русский рассказывал о сговоре эмира с англичанами. Чтобы удержаться, эмир готовился продать Аллакенд Англии. Старшему русскому пришлось видеть примчавшегося в Аллакенд для заключения сделки английского генерала Малиссона. Аллакендские националисты-джадиды, объединившись в партию джумхуриет-улема, в союзе с религиозными фанатиками проповедовали призыв англичан и священную войну против русских. Народ решил иначе…
Ибадулла думал о стране, откуда он пришел. Ему казалось, что она находится в таком же состоянии, как его родина тридцать лет тому назад: ее явно готовились подчинить наследники инглезов-англичан американцы. И в ней богатые люди и муллы заключали союз с англо-американцами. Но русские продолжают говорить о родине:
— Будь Аллакенд вне пределов бывшей Российской империи, весьма вероятно, что сегодня здесь властвовали бы англичане и американцы в союзе с местной буржуазией…
Новые знакомые не позволили Ибадулле заплатить за обед.
— Вы были нашим гостем, — заявил старый аллакендский житель. — Мне кажется, что вы не местный, иначе я помнил бы ваше лицо.
Ибадулла не возражал. Да, он приезжий. Наудачу он назвал дальний, предгорный район — тот, где его нашли и позаботились о нем, как о брате. Тогда молодой русский сказал Ибадулле, что он скоро поедет в те края искать воду. И тут же русские заговорили о тяжелом наследстве, оставленном эмирами. Воды было так мало, что каждый новый ребенок, родившийся в эмирате, оказывался лишним… потому что системы орошения пришли в упадок, последние эмиры не заботились о них.
Дальше Ибадулла потерял нить. Что? Русский сказал, что республика со временем уничтожит все пустыни?
«Может ли быть? — думал Ибадулла, глядя на русского. — Но ведь на родине всегда было больше пустынь, чем орошенной, возделанной земли…»
Он унес с собой странное ощущение прикосновения к некоему быстрому-быстрому движению, которое может унести человека, как река уносит попавший в нее кусочек дерева. И, как видно, жизнь этих трех людей так же полна, как эта река. Ни одной пустыни? Высокая, благородная цель!
IV
Ибадулла нашел дом, указанный ему уборщиком мавзолея. Но оказалось, что Мохаммед-Рахим был не дома, а в своем рабочем кабинете, в здании одной из бывших медресе.
Главный вход в портале медресе был закрыт, и Ибадулла проник внутрь через боковую калитку. Изолированное со всех четырех сторон, здание открывалось обозрению только изнутри замкнутого двора, вымощенного каменными плитами. Посредине его росли высокие белые акации с полуотцветшими гроздьями пожелтевших цветов.
Стены, только в отдельных местах пробитые узкими, неправильными щелями редких окон, снаружи не давали возможности определить число этажей. Таков обычный план древних строителей: они стремились и укрыть обитателей от прямых солнечных лучей и дать возможность защищаться от штурма. Со двора было видно, что этажей только два. Двери комнат-худжр первого этажа открывались прямо во двор, а двери второго выходили на массивную каменную галерею.
Уже вечерело, и весь двор был в тени. Ибадулла невольно ожидал увидеть многих мужчин. Одни будут прогуливаться по обширному прямоугольнику двора, тихо, и внушительно обмениваясь заранее взвешенными словами, другие — готовить пищу на горящих в мангалах углях, третьи — просто сидеть, размышляя, дремля. Так должно быть в медресе.
Но эта была необычная. Из открытой ближней худжры первого этажа доносился резкий стук пишущей машинки. В двух или трех местах висели доски с названиями каких-то учреждений. Во дворе — женщины, дети… Великий минарет, мавзолей Исмаила Самани, мечеть-хонако существовали, как памятники, а это громадное, отлично сохранившееся здание жило новой жизнью.
Ибадулла назвал имя Мохаммеда-Рахима, и ему указали на одну из худжр второго этажа.
Очертания входа в худжру напоминали линии порталов древних мечетей. Здесь меньшие размеры еще яснее раскрывали мысль древних зодчих. Ислам навечно сузил рамки искусства запрещением изображать живые существа. Но чувство художника трудно сковать и невозможно избавить от заманчивого соблазна: дверной проем сужался в ногах, расширялся в плечах и венчался сводом — острой чалмой.
Линии входа, хорошо знакомые Ибадулле, сейчас смутили его. Он немного помедлил, а потом, пользуясь тем, что никто не ответил на его стук, тихо нажал рукой на тяжелое полотнище двери. Ибадулла переступил через высокий порог. Перед ним открылось удивительное по своей неожиданности зрелище.
Ему не приходилось видеть такой обширной худжры. Она была, быть может, шагов двадцать в глубину и не меньше в ширину. Здесь могли бы жить десять, нет, пятнадцать студентов-талоба и не мешать один другому. Но не размеры удивили Ибадуллу, — книги. Они были всюду: и в шкафах вдоль чисто выбеленных известью стен, и на этажерках, и просто на полу. Царство книг. Толстые фолианты, распухшие от времени, в тяжелых деревянных переплетах, обтянутых истертой бурой кожей, — для одного такого нужна отдельная полка. Свитки рукописей. Самые разные по формату тома современных изданий, журналы в мягких обложках, газеты… Сколько знания!
В дальнем углу помещения Ибадулла заметил узкую деревянную кровать с небрежно брошенным на нее полосатым узбекским халатом. Налево стоял большой письменный стол. Перед сидевшим за ним человеком на специальной резной подставке лежала раскрытая старинная книга, рядом — письменный прибор, стопки чистой и исписанной бумаги. Каменный пол покрыт потертым, почти черным ковром. Ибадулла сделал несколько шагов и неуверенно остановился. Погруженный в чтение, хозяин не замечал посетителя.
На голове Мохаммед-Рахима была черная тюбетейка, лицо обрамляла короткая борода смоляно-черного цвета, подчеркивавшая необычный цвет лица — белого, без тени загара. Очевидно, ученый редко выходил на солнце.
Ибадулла ждал, соблюдая приличие. Через несколько минут Мохаммед-Рахим оторвался от книги и заметил его. Не удивляясь, протянул Ибадулле руку, и тот, сделав несколько шагов навстречу, пожал ее обеими руками.
Мохаммед-Рахим сделал рукой знак, приглашая сесть, и кивнул головой, предлагая гостю говорить.
— Я Ибадулла, сын Рахметуллы, — начал гость. — Мой отец покинул город и родину вместе с эмиром Алим-Ханом и умер в изгнании. Теперь я вернулся на родину…
— Так. Подожди! — перебил его Мохаммед-Рахим. Он встал и прошелся по просторной худжре, повторяя: «Рахметулла, Рахметулла…» Ибадулла следил за ним глазами. Ученый носил свободную куртку, расстегнутую на груди, широкие полотняные брюки и легкие туфли, Он был высок ростом, худощав и заметно сутуловат, но отнюдь не стар — лет на десять старше Ибадуллы, не больше.
Наконец он подошел к Ибадулле:
— Ты сказал — Рахметулла? Помню такое имя. Я изучал тот период. Среди беглецов и добровольных эмигрантов было два человека с таким именем… Чем занимался твой отец? Кем он был?
Мохаммед-Рахим стоял перед Ибадуллой и смотрел на него сверху вниз. Ибадулла хотел подняться, но Мохаммед-Рахим положил ему руку на плечо.
— Он был толмачом, — ответил Ибадулла.
— Какой же язык он знал?
— Русский.
— Хорошо. Ты говоришь правду. Итак, сын толмача Рахметуллы вернулся. Мой друг Мослим рассказывал мне о твоем отце, который имел несчастие покинуть родину. Ты вернулся? Вероятно, твой отец не сумел забыть землю отцов… А кто ты? К чему ты стремишься и чего ищешь на родине?
— Я ищу покоя моей душе, — ответил Ибадулла. — Я ищу указания и знания. Ты мудр, я слышал о тебе за пределами родины, даже в той стране, где жил. Я прошу тебя сказать, в чем долг человека и в чем величие родины?
Мохаммед-Рахим сел на свое прежнее место и спросил:
— Что ты делаешь сейчас?
— Я пришел в город, и я гость Мослима.
— Ты говорил с ним? Народ по праву зовет его Аделем — Справедливым. Слушайся его.
— Истина имеет много сторон, — возразил Ибадулла.
— Вот как?! — усмехнулся Мохаммед-Рахим. — Узнаю отзвуки хитросплетений, выдаваемых за науку учителями ислама! И ты действительно полагаешь, что одна сторона истины способна опровергать другую? Или ты, как истощенный жаждой конь, напившись из одного колодца, спешишь к другому?
— Я ничего не скрываю и не привык лгать. Мослим потряс мое сердце. Но во всем ли он прав?
Ученый резко захлопнул лежавшую на подставке книгу и повернулся к Ибадулле всем телом:
— Чего же тебе нужно от меня? Тебя кто-то послал? Говори правду!
— Я говорю только правду. Меня никто не посылал. Я одинок, свободен и люблю историю своего народа! В ней я ищу примера для себя.
Мохаммед-Рахим вглядывался в лицо гостя, стараясь определить его искренность.
— История, история… — произнес ученый после молчания, показавшегося Ибадулле очень долгим. — Поистине, верно сказано, что ложь есть не что иное, как искаженное отражение правды. Я понимаю тебя. Но поймешь ли меня ты? Ты думаешь, что знаешь историю родины. Ты можешь любить родину, но не понимать ее истории, ее стремлений. Чего стоит такая любовь! Скажи, ты, конечно, не знаешь русского языка и не умеешь читать по-русски?
— Отец учил меня.
— Хорошо. Он любил своего сына. Читай!
На корешках книг, стоявших на ближней полке, Ибадулла прочел:
— Ленин…
— Ленин! — громко повторил за ним Мохаммед-Рахим, — Вот настоящий ключ к настоящему свету! Ты не имеешь этого ключа.
— Но я имею право искать истину и родину! — воскликнул Ибадулла. — Человек не может дышать, не зная истины и не имея родины.
— Ты говоришь громко, — с иронией заметил Мохаммед-Рахим. — Когда люди говорят слишком громко, они слышат только свой собственный голос. Ты выражаешься, как человек, получивший образование. Ты учился?
— Да, в медресе.
— Почему же ты не стал муллой?
— Я не захотел. Я хотел знать истину и не узнал ее.
— Это признание делает тебе честь. Но ты жил среди людей, которые кричат изо всех сил, чтобы заглушить голос правды. А знаешь ли ты хотя бы такую простую истину, что не криком, а своей деятельностью люди доказывают любовь к родине? И что никто не получает родину по наследству, как дом или сад?
Глава пятая ЗНАКИ ВЕЛИЧИЯ
I
— Итак, — продолжал Мохаммед-Рахим, — ты утверждаешь, что знаешь историю. Хорошо… Посмотрим, узнаешь ли ты ее теперь. Читай! — И Мохаммед-Рахим дал Ибадулле несколько листков рукописи. Это были наброски одного из докладов, сделанных недавно.
«…Аллакендская земля обладает неограниченным плодородием, но у нас, как и во многих странах Азии, с ранней весны и до поздней осени не бывает дождей. И жизнь нашего народа, естественно, привязана к течениям рек».
«Для меня прекрасное имя нашего Зеравшана звучит, как бег воды, звенит, как золото. Зеравшан — Золотораздаватель! Действительно, в его песках можно найти чешуйку золота. Кто-то пытался объяснить имя реки такими находками. Любители желтого металла близоруки, золото Зеравшана — его вода!»
«Он, Зеравшан, рождается на хребте Кок-Су. Это тоже значительное имя — зеленая, или живая, вода. Собравшись из речек Матчи, Ягноба, Рамы, Искандер-Дарьи, Зеравшан вливается из гор на запад и изгибается к югу».
«Наш Аллакендский оазис создан плодородным илом, который Зеравшан принес в пустыню Кызил-Кум — Красные Пески. Здесь, перед своим впадением в Аму-Дарью, Зеравшан некогда разливался по низменности многими протоками, речками, озерами, болотами».
«Тогда древний низинный оазис был богат водой, тугаями, камышами. Озера и дельта Зеравшана изобиловали рыбой, тугаи кишели зверем и птицей. И первые люди появились здесь очень давно. В те дни Зеравшан был еще полноводным притоком Аму-Дарьи. Это было задолго до изобретения письменности…. Тогда в горах, на месте современных кишлаков Духаус и Тобушин, еще лежали языки могучих ледников».
«Первые поселенцы на нашей земле были охотниками и рыболовами, и до нас дошло полное глубокого смысла предание об обстоятельствах появления первой государственности».
«В те годы оазис обладал уже развитой системой искусственного орошения, люди нуждались в централизованной системе управления каналами. Общим собранием народ из своей среды избрал первого бия по имени Аберци, и первый город возник как его резиденция и получил название Бийкенд — княжий город».
«И вот Аберци, по преданию, вскоре злоупотребил властью. Богатые начали покидать оазис, унося свое достояние. Но бедные люди без имущества восстали из любви к родине, силой свергли Аберци и избрали нового бия, Караджурина…»
«Богатый водой и землей оазис быстро заселялся. Из года в год тугаи отступали перед обработанными участками. Искусство проводить воду на поля так развилось, что уже не каждую осень Зеравшану удавалось достичь Аму-Дарьи. Взгляните на карту — Азия имеет характерную особенность: многие реки, начинаясь в горах, как бы теряются в пустынях. Это печать труда человека, а не прихоть природы!»
«Заселились и верховья Зеравшана. Под Самаркандом появилась плотина, и река распалась на два русла — Кара- и Ак-Дарья, между которыми лег единственный в мире искусственный плодороднейший межречный остров Мианкаль».
«А в Аравии Магомет уже начал проповедь новой религии — ислама. В нем правящая верхушка арабов получила обоснование идей нетерпимости, захвата, угнетения и исключительного превосходства. Ислам узаконил право завоевания всех других народов: «Да будут они схвачены и да погибнут в страшной резне!», «Рабы вне всякого закона, их жизнь зависит от прихоти господина!»
«Богатый Восток давно привлекал внимание арабов. Мирные народы подвергались внезапному нападению фанатичных воинов и были насильственно обращены в ислам».
«Среди других завоеванных арабами городов Аллакенд выделился как торговый узел и перевалочный пункт на пути в Индустан и как центр исламистского благочестия, исламистской «науки». Объявленный «священным», Аллакенд застраивался пышными зданиями мечетей и высших исламистских училищ — медресе».
«Через четыре столетия после арабского захвата Средняя Азия испытала новое бедствие — нашествие монголов. Оно также осуществлялось под лозунгом нетерпимости. Великий хан монголов Темучин-Чингиз, разрабатывая теорию захватнических войн, сказал: «Оседлые — рабы, они должны быть вещью и пищей кочевников».
«История монгольского нашествия была историей предательства. Развращенные исламом правящие классы не сделали ни одной серьезной попытки к сопротивлению и бежали, бросая области и города. Вооруженные силы использовались лишь как конвой для охраны вывозимого богатства правителей».
«Нашествие монголов ознаменовалось неописуемым истреблением беззащитного населения. По словам поэта: «Они явились, предали все огню и мечу, пожару и грабежу».
«Реки попрежнему не отказывали людям в воде, но страна, потерявшая значительную часть населения, оживала мучительно и медленно. Трудящиеся восстанавливали разрушенные оросительные системы. Однако и через семьсот лет после монгольского нашествия еще встречались заброшенные каналы и поля».
«Осевшие монголы частично восприняли культуру завоеванных ими народов и охотно приняли ислам. В исламе монгольские ханы нашли более тонко и убедительно разработанную теорию захвата и насилия, чем в простых и грубых заветах Чингис-хана».
«Пора отметить две типичные исторические особенности нашей родины. Завися от беспрерывного действия сложных оросительных систем, народ был прикован к созданным им сооружениям. Поэтому наши предки были более уязвимы в эпохи нападений захватчиков, и этим же облегчалась неограниченная эксплуатация трудящихся правящими классами. Тот, кто распоряжался головными сооружениями каналов, за горло держал народ».
«Второй особенностью была роль ислама, как мировоззрения, поставленного на службу правящим классам. С помощью ислама тормозилось духовное развитие народа. Даже в семье ислам создал как бы два враждебных класса тем, что закрепил женщину как рабу и вещь мужчины».
«Развращающая роль ислама особенно проявилась в Аллакенде. Наш город почти тысячелетие был мировым центром исламистского образования…»
«Возвышались и падали властители, сменялись династии. За Саманидами явились Сельджуки, за ними хорезмские ханы. Монгольское нашествие оставило Чингизидов; им наследовали потомки Тамерлана. В 1500 году Шейбани утвердил свой род на престоле. Через сто лет власть захватили Аштарханиды. Им наследовала династия Мангитов. Она сумела дотянуть до года освобождения народа, тысяча девятьсот двадцатого».
«Но как бы ни называлась династия и какое бы имя ни носил ее представитель, всегда в Аллакендской цитадели, Арке, сидел ничем не ограниченный повелитель — эмир. Что было народу, орошающему и возделывающему земли Аллакенда, до его имени? В руке эмира народ был, как стадо в руке пастуха».
«Имамы, ишаны, муллы, чтецы корана и учителя грамоты всегда внушали народу одну и ту же, тысячу лет незыблемую, истину: «Как пастух может в любое время зарезать любую овцу в своем стаде, так и эмир имеет священное, неоспоримое и самим богом установленное право по своей воле пресечь жизнь любого человека».
«Эмир заботился о двух вещах: во-первых, нужно собрать как можно больше налогов; и сборщики-дарги грабили народ в пользу эмира, не забывая и себя. Во-вторых, нужно грабить другие народы, а свой держать в повиновении. На награбленные деньги эмир содержал армию и вел войны. Пословица говорит: «Кто взялся за рукоятку меча, тот не ищет предлогов». И эмиры никогда не выпускали из рук ни рукоятки меча, ни кривого кинжала убийцы».
«И третья забота была у эмира, подсобная к первым двум; чтобы было с кого собирать налоги, нужно заставлять народ поддерживать сети магистральных арыков».
«Каждый мятежник, вольнодумец и непослушный объявлялся вероотступником; ведь посягая на священную власть эмира, он разрушал ислам. Для таких всегда были настежь открыты двери зиндана, подземной тюрьмы; их всегда ждали длинные ножи палачей. Для них был открыт и сиах-чах, черный колодец. В глубокой яме хранилось это единственное за тысячу лет изобретение эмиров Аллакендских, повелителей «Города бога». Там жили особенные насекомые, называемые в народе «овечьими вшами». Прожорливые, они могли заживо обглодать узника. Когда сиах-чах случайно пустовал, жизнь воспитанников эмира поддерживали кусками свежего овечьего мяса».
«Шпионы эмира бродили повсюду, ловкие, вкрадчивые, внимательные. Двуногие ищейки были натасканы в особом искусстве: скрещенными в рукавах халата руками они вслепую, но разборчиво записывали услышанные речи».
«Таков был мир ислама. Не только в Аллакенде, но и в Хиве-Хорезме, в Коканде, в Дели, в Тегеране, в Каире, в Феце и в Руме — Турции, империи Кейсар-и-Рума — султана, меча ислама…»
«Однако же Аллакендские эмиры владели еще одним рычагом власти и дохода, не менее важным, не менее, если не более, мощным, чем меч, нож и шпионы.
В Аллакенде не было ни священного черного камня Каабы, ни гроба пророка Магомета. Гробница льва ислама Али лежала далеко от Аллакенда, в увядшем городе Мазари-Шериф. Отпечаток ноги праотца всех людей Адама показывают на высокой горе на острове Цейлоне, а оттиск ноги Магомета на камне, называемом Кадам Рассул, хранится в Индии, в городе Лукноу…»
«В чем же таился секрет духовного могущества Аллакенда?»
«Вот поучительная история возникновения известного медресе Диван-Беги, здание которого отлично сохранилось и поныне. В 1033 году хиджры, системы мусульманского лунного счисления, в году, соответствующем 1623 году солнечного счисления, на месте, удобном для этой цели, началось возведение обширного каравансарая. Но вмешался эмир и повелел:
— Да будет и это здание медресе».
«Были возведены два этажа, вмещающие девяносто худжр, удобных келий для наставников ислама и их учеников. Знатоки архитектуры и сейчас находят в здании некоторые отклонения от типичного плана медресе — эмир вмешался поздно. Так священный город получил двести сорок восьмое духовное училище. Да, двести сорок восьмое!»
«Эмиры Аллакенда были прославлены как владельцы «дома науки» и «аудитории познания для всего света». Они отлично понимали свои особые преимущества — крупных торговцев исламом».
«Диплом любой медресе Аллакенда признавался везде, где исповедовали ислам. Обладатель такого диплома повсюду становился — на выбор — муллой, учителем, судьей, чиновником, придворным летописцем, поэтом».
«Питомцы аллакендских медресе угодливо творили лживые исторические описания и создавали дутые репутации восточных владык, так легко принятые на веру многими европейскими учеными. Цветистые восхваления, потоки пышных слов прикрывали и оправдывали любые злодеяния».
«Выходцы из аллакендских медресе служили глашатаями и надежнейшими опорами власти. А для них самих диплом медресе являлся драгоценным ключом, отпиравшим двери к выгодным должностям и богатству».
«Со всей Средней Азии, из Индии и Турции, из Крыма и Казани прибывали разноязычные ученики всех цветов кожи. И, может быть, только один на сто тысяч стремился к истинному познанию. В иные годы в Аллакенде скоплялось больше тридцати тысяч талоба — студентов».
«И со всей Азии «Святой город» собирал стариков, благочестиво жаждущих погребения в благословенной земле аллакендских кладбищ».
«Благодарные «ученые» ислама рьяно проповедовали народу покорность эмиру, внушали ненависть к другим народам и к свободной мысли, воспитывали злобу и презрение ко всему, что находилось вне ислама».
«Их деятельность была успешной. За тысячу лет власти эмиров не произошло ни одной перемены. Ни одного изобретения или технического усовершенствования. Наоборот, древние ремесла и древнее искусство народов падали. Общественные отношения так же закостенели, как ручные ремесла, изумительно трогательные по тщательности, терпению и мастерству работника».
«Неизменные приемы обработки почвы, постепенно истощаемой невежеством руководителей; слепое уничтожение степных кустарников и трав, вызвавшее распространение пустынь; непрестанные эпидемии, остановившие прирост населения. Тысячелетие деревянного плуга-омача, кетменя и цепи…»
«Таково наше прошлое… Я утверждаю, что подлинная основа истории нашего народа заключалась в стремлении освоить приречные территории созданием искусственного орошения, и, невзирая на все помехи, народу это удавалось».
«Характернейшая черта нашей новой, советской истории есть впервые полученная народом возможность всецело заняться своим настоящим делом. Пройдут десятилетия, и в один плодороднейший массив соединятся все приречные оазисы — от Каспийского моря на западе до горных восточных границ. Перед нами — будущее исключительного благоденствия. Тому, кто понимает величие наших дней, прошлое невольно кажется малым и темным…»
«Чем больше наши успехи, тем острее борьба врагов. И среди нас еще живут скрытые, но злобные враги народа».
«На вооружение врага принят и ислам. Чтобы помешать человечеству стать счастливым, империализм использует исламистские идеи, развращающие сознание и волю людей…»
«Кто-то сказал, что лучшая религия та, которая приносит прекрасные надежды юношам, здравые советы — зрелости и нежные утешения — старикам. Сколько коварства в этих простых на вид словах! Наша сила — знание, а не вера. Мы спокойно отвергаем ислам и всякую другую религию».
«Но мы не можем забыть об исламе. Им питаются сохранившиеся у нас пережитки буржуазной, частнособственнической идеологии и морали!»
II
В худжре Мохаммед-Рахима было два окна. Одно открывалось на уровне пола, оно пряталось в глубокой щели стены, подобное амбразуре-бойнице для старинной медной пушки. Другое было прорезано наверху, наискось от нижнего. Его подоконник начинался высоко, на уровне человеческого роста.
Снаружи на толстую стену бывшего медресе падали лучи вечернего солнца. Отсвет проникал в худжру, освещал почти черный ковер, закрытую книгу на подставке и белые пальцы Мохаммед-Рахима.
Ибадулла смотрел на неподвижное лицо ученого и думал: «Сейчас этот суровый мудрец скажет мне — уходи, ты мог бы и не приходить сюда».
Мохаммед-Рахим поднял глаза и, не моргая, взглянул на Ибадуллу. Молчание длилось.
Заходящее солнце опускалось все ниже, лучи пробились в худжру, осветили лицо Мохаммед-Рахима, и он опустил глаза.
Ученый размышлял. Наконец он опять посмотрел на гостя. Во взгляде было сочувствие. Оно пробудилось в его сердце для человека, решившегося вернуться на родину из далекого невольного изгнания. Мохаммед-Рахим сказал:
— Ты нашел меня в здании медресе. Наши предки хорошо умели строить, мне удобно работать за этими непроницаемыми для звуков и зноя стенами. Я попробую говорить с тобой языком, который много столетий однообразно звучал здесь. Вероятно, этот язык будет тебе понятней. Итак… «не скрывайте истину, когда вы знаете ее». Вот изречение, знакомое тебе с раннего детства. Да, путь человека тяжел и должен освещаться. Я вижу, ты бредишь великим прошлым нашей родины, ты хочешь великого будущего и готов добывать его даже мечом… Не отвечай, я знаю и помогу тебе. Когда ты, погружаясь в предания, читал и слушал повествования о прошлых днях, с кем ты был? Твои чувства увлекали тебя с полководцами и властителями! Ты вторгался в Синд вместе с всадниками Имад-уд-дин-Мохаммеда, ты завоевывал Индию рядом с Мохаммедом-Газневи и Мохаммедом-Гхори. Ты строил государство рука об руку с Исмаилом Самани, защищался от монголов с Джелал-эд-дином, совершал походы с Тимурленгом, был советником Шейбани… Да, ты страстно хотел победы одним, желал поражения другим. Тяготясь медлительностью героев, потрясавших твое воображение, ты всей душой подстрекал их к войнам и сражениям…
Ибадулла бессознательно кивал головой, соглашаясь. Ученый читал в его душе. Так было — и трепет, и горечь неудач, и восторги побед.
Мохаммед-Рахим увлекался и говорил все более громким голосом:
— Вместе с завоевателями ты выступал в походы, взбирался под тучами стрел на стены крепостей, истреблял армии и тешился уничтожением народов!.. Безумец, ощупью, без света ты бродил в прошлом. А страдания народов, кровью которых, как пиявки, жили твои «великие мира»? А жалкая участь угнетенных и порабощенных? А безысходное бесправие мужчин и позорное рабство женщин? Что это? Только пыль под копытами коней твоих героев? Твои заблуждения глубоки, человек!
Ибадулле показалось, что большие черные глаза ученого раскалились и жгут. Ибадулла вздрогнул, как человек, внезапно уличенный в совершении злого дела.
— Величие? — продолжал Мохаммед-Рахим. — Наши отцы и матери были живым зерном в жерновах угнетения, а все же находили силу заботиться о родине, любить друг друга и воспитывать детей. Не там, где следует, ищешь ты, Ибадулла, сын Рахметуллы, знаки величия! Ты невежда, и ты еще имеешь гордость кричать?!
В лице Мохаммед-Рахима было столько грозного, что Ибадулла невольно откинулся назад.
— Не бойся, — сказал ученый, — следуя велению совести, я даю тебе наставление, и только… Нет границы, отделяющей прошлое от настоящего, но прошлое зачастую может быть рукой мертвеца, который ловит живого за ногу. Ты человек, и никто не может оспорить твое право на счастье! Но я смотрю на тебя и думаю: ты еще окружен тенями, единственное место которым — в могиле. Ты раздражаешься, когда жизнь оказывается не похожей на образ, созданный твоим воображением. В сущности, ты находишься в смертельной опасности, но знаешь ли ты это? Ты стоишь на краю гибели, ибо среди мертвых призраков прячутся живые злодеи, — таков их обычай.
— Нет, я ушел от них! — почти крикнул Ибадулла.
— Не лги, ты не ребенок, — строго возразил Мохаммед-Рахим. — Ты должен понять, что если не сумеешь сорвать со своей кожи коросту предрассудков, злодеи найдут тебя и на краю света.
Уже наступили сумерки, и в худжре ученого стало темно. В яйце свода точно сама собой зажглась электрическая лампочка. Падая сверху, желтый свет положил резкие тени на взволнованное лицо Мохаммед-Рахима.
III
…Да, в новую жизнь нечего взять с собой; как нищий, пришел он на родину.
Ибадулла растерялся. Ему казалось, что само движение времени остановилось и опять наступил страшный час, как в горах, когда разрушались вечные каменные хребты. Ничто не защищало его. Он закрыл лицо руками, его глаза стали влажными впервые за несколько лет.
Мохаммед-Рахим заговорил вновь, прерывая гнетущее молчание:
— Иногда во мне думают найти злого и глупого фанатика-муллу, полного затверженных наизусть слов и готовых на все случаи жизни изречений. Есть люди, которые могут во всех видеть только отражение собственных заблуждений. Не будь таким. Я разорвал ислам, религию богатых, вероучение насильников, исповедание рабства и крови. В наши дни создается подлинная религия мира созидания. Самый скромный строитель оросительного канала достойнее чингизов и Тамерланов, его кетмень драгоценнее меча Искандеров.
— Я знал труд и уважаю труженика, — прошептал Ибадулла, — я не жил чужим потом…
Голос ученого смягчился:
— Придя на родину, ты должен знать, что она зовется Советский Союз, и наш Узбекистан — часть дома для всех людей и для всех народов. Падение ждет угнетателей во всем мире. Они теряют власть, но корни зла еще живут. Есть один общий враг — богатство одних, созданное из нищеты других. Пока это еще есть в мире, люди разделены и народы несчастны. Есть много плохих людей, но никто не дурен или хорош лишь потому, что родился узбеком, таджиком, туркменом, казахом, киргизом, евреем, русским, индусом, китайцем… Твоя родина, сын Рахметуллы, живет в семье народов, доверяй братьям. Теперь я отпускаю тебя, в твоей душе нет зла. Моя дверь будет открыта для тебя.
— Но назови мне людей, кому я могу довериться, — попросил Ибадулла.
— С чистой целью верь чистым людям. Верь коммунистам, остерегайся тупиц, пытающихся итти с лицом, обращенным вспять, и злобствующих в тиши. И здесь есть злобные безумцы, до сих пор проклинающие в душе эмира Мозаффара за то, что при нем пришли русские. Верь доказывающим любовь к родине делом, не доверяй болтунам… Различай человека, а не цвет его кожи или место его рождения. Ты гость Мослима, доверяйся ему, как отцу!
IV
Когда утром Ибадулла ушел, чтобы походить по родному городу, глубоко и надолго задумался Мослим-Адель, справедливый человек, заслуженный учитель республики. Он сидел неподвижно, с привычно поджатыми ногами. Его глаза были устремлены в одну точку.
Свое сердце и дверь своего дома он раскрыл перед человеком, пришедшим из-за рубежа…
Медленное и слабое старческое дыхание не беспокоило пчелу, присевшую отдохнуть на длинной желтоватой бороде спокойного человека.
Размышление перешло в легкий сон. Пчела улетела, луч солнца переместился из одного угла комнаты в другой.
Пробуждение принесло уверенность и решение. Мослим поднялся, взял трость и вскоре вошел в здание, расположенное на площади, недалеко от городской крепости Арка.
Тургунбаев не заставил посетителя ждать. Он немедленно принял Мослима, обеими руками пожал его руку, усадил его на диван и сел рядом.
Мослим рассказывал не торопясь: хозяин слушал не перебивая, озабоченно покачивал головой. Уже окончилась повесть о путнике Ибадулле, но не сразу заговорил Тургунбаев. Он встал, несколько раз прошелся взад и вперед, открыл дверь в соседнюю комнату, сказал своему секретарю:
— Я еще занят, если кто придет, пусть подождет. — Вернулся и вновь сел рядом с Мослимом: — Что же ты хочешь посоветовать мне сделать?
— Закон справедливо строг к преступнику, но добр к человеку, не умышляющему злого, — ответил Мослим. — В своих помыслах Ибадулла не виновен. Его отец был слаб и совершил роковую ошибку, последовав за эмиром. Он потерял родину. Увез сына… Но сын не должен отвечать за отца. Ошибки родителей не могут быть судьбой для детей.
— Конечно, нет. И сын не отвечает… Да. Но сам он скрытно перешел границу. Это его преступление.
— Его толкало желание найти родину, и он был готов совершить проступок. Но в стране, где он вырос, иначе понимают многое, чем мы. Он не думал о преступлении. И в том месте и в тот день, когда он шел, границы не было.
— Как?! — и Тургунбаев удивленно поднял свои густые черные брови.
— Это было во время большого землетрясения в горах.
— Ах, вот что! Но ведь граница все же осталась.
— Не думая о дурном, человек не посчитался с границей.
— И это верно… Действительно, какой трудный случай.
Зазвонил телефон. Тургунбаев поднял трубку:
— Прошу извинить, я очень занят, позвоните позже.
Мослим настаивал:
— Прошу тебя, пойми. Ты молод, ты не знал таких людей, для тебя это история. Он пришел из прошлого, пришел в мой дом, доверчиво, как ребенок. Он ищет родину и не хочет нам вреда. Он не преступник, он несчастен. Нужно помочь ему. Мы всегда были строги к врагу, но добры к человеку… Я верю ему. Убедись и ты.
V
С трудом возвращается домой Мослим-Адель. Прохожие здороваются со старым учителем. Кого только не знает он! И все знакомы с ним. Он приветливо отвечает, но перед его глазами ходят круги. Нет, без отдыха не дойти домой…
Тяжело человеку его возраста слишком много волноваться. И спал он очень плохо, — после прихода сына Рахметуллы болело сердце, ныли ноги и плечи. Во рту был дурной вкус, точно от плова, сваренного в плохо полуженном котле. Печень давила в бок и мешала дышать.
Память, злая память, она хуже больных сердца и печени. Всю бессонную ночь ходила память по страшным закоулкам прошлого. Все вышло из глубокой могилы, все вновь поднялось, как только человек назвал себя. Лет пятнадцать назад Мослим писал Рахметулле, приглашал вернуться на родину. Теперь пришел его сын и с ним — образы ужаса и крови.
Тридцать лет прошло со дня бегства эмира Сеид-Алима, никогда не воскреснет прошлый мир. Но он живет в памяти, проклинающий и злобный, как ядовитая серая эфа. Нет, не отдаст Мослим и одного дня своей дряхлой, угасающей жизни за целый год той молодости, что была прожита в старом Аллакенде, владении последнего династа из рода Мангит.
Мослим сидел на скамье в маленьком городском саду и обеими руками опирался на загнутую рукоятку трости. Сердце уже билось ровнее, и дышалось легче.
К месту, где отдыхал Мослим-Адель, подошел его старый друг, профессор Аллакендского педагогического института. С ним был молодой человек, москвич, в серой фетровой шляпе, работник одной из многочисленных экспедиций, занятых съемкой в пустынях и изыскивающих новые источники воды для орошения.
Мослим оживился. А не будет ли новому русскому другу нужен работник? Мослим может поручиться за одного человека. Он еще молод, вынослив, знает местные условия и способен выполнять любую работу, не требующую, конечно, специальных знаний…
VI
Ночь. Высокие минареты и закругленные купола древнего Аллакенда растворялись в черном небе. В неизмеримой выси мелькнула золотая стрела падающей звезды — по преданию кочевников это ангел метнул копье, в джина, подслушивающего тайны неба…
Ибадулла сидел около минарета Калян, неподвижный, как камень. Без обязанностей, без семьи, он был свободен.
В родном городе нашлось все, описанное отцом. Память подсказывала лишь, что прежде, — ведь он был тогда трехлетним ребенком, — все — и здания, и улицы, и площади — было гораздо больше.
И все же дом предков весь перестроен, потому что в нем живет новое поколение, говорящее на том же языке, но чувствующее и мыслящее иначе. Ибадулла сознавал себя отставшим, опоздавшим, точно родина в своем движении опередила его, стоявшего на месте.
В доме старого Мослима Ибадуллу ожидали хозяин и двое гостей. Один был зрелым мужчиной, лет на пятнадцать старше Ибадуллы, другой мог быть ровесником пришельца.
— Мои друзья, — представил их старый учитель. — От них я ничего не скрываю, я просил их прийти, чтобы они вместе со мной выслушали повесть твоей жизни и дали советы, как помочь тебе.
Рассказ был труден. Ибадулла вспоминал вслух, не пытался оторвать одно или отбросить другое. Рассказ не был связен, детские годы заслоняли недавнее прошлое; вмешивались впечатления последних дней и заставляли повторять, давая новое ощущение и смысл пережитому раньше. Не замечая, пришелец говорил и о быте народа, среди которого он жил до сих пор, о печалях покинутых им людей, об их надеждах, о бедности и о жестокости борьбы за существование.
Поднимая глаза, Ибадулла видел спокойные и внимательные лица гостей Мослима и чувствовал, что его понимают. Никто ни разу не прервал Ибадуллу, не помешал говорить и не помог подсказом.
…На следующее утро гости Мослима навестили Тургунбаева.
— Мы видели этого человека, — сказал младший, — и выслушали его.
— И что же?
— Нет нужды принимать по отношению к нему какие-либо меры ограничения. Нужно дать ему право на жизнь и на работу. Мослим прав.
— Да, так, — подтвердил старший. Он не был многоречив, и Тургунбаев знал цену его слов.
— А этот Ибадулла не подозревал, кто вы? — спросил Тургунбаев.
— Нет, — ответил старший.
— Он искренен и доверчив, — дополнил младший.
— Благодарю вас, товарищи, — сказал Тургунбаев. — Итак, Мослим не ошибся. Я рад за него и за этого человека.
— Я тоже, — заключил старший.
Часть вторая НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Глава первая КРОВАВЫЕ ПЛАНЫ
I
Другая страна, иной, чужой мир… За пределами азиатской границы Советского Союза, в полутора или в двух часах полета к юго-востоку, есть город. Его узкие, кривые переулки сходятся и пересекаются без всякого плана, под самыми случайными углами. Переулки не мощены, изрыты ямами — неизгладимыми следами зимних дождей — и забросаны нечистотами, свидетельством тесноты и невежества жителей.
Здесь, когда начинаются дожди, пешеход тонет выше колена. Никто не в силах избежать ловушек глубоких рытвин, когда все затоплено жидкой глиной, клейкой, как кисель, коричневой, как кофе, и смрадной. Счастлив тот, к чьим услугам ноги лошади, мула или осла…
Летом переулки высушены солнцем, разрезаны короткими тенями, душны, знойны, зловонны. Стены на солнечной стороне облеплены сплошной черной и живой массой из мириадов мух.
Здесь мухи — стихия, упорная, непобедимая и злая. Недаром древние народы имели особого бога и для мух — по имени Зебуб.
Целыми часами можно блуждать в переулках, поворачивая неизвестно куда. Ничего не видно, перспектива ограничивается несколькими десятками шагов. Все однообразно, все близко. И случайный пешеход быстро теряет представление о времени, и путь кажется бесконечным.
Нигде ни одного окна. Из глухих стен торчат бурые, растрескавшиеся и сухие, как порох, концы тонких балок. Местами свисают неровные срезы кровель из почерневшего камыша или рисовой соломы, прикрытые слоем все той же глины. Вероятно, за глиняными стенами стоят глиняные дома, но с улочек их не видно. Все сложено из глины. Это не простая глина, она — плодороднейший азиатский рыжий лёсс.
В стенах встречаются узкие двери, они всегда заперты. Замкнуты и узенькие ворота.
Через ямы и бугры с трудом тащится высокая повозка на двух огромных колесах с толстыми деревянными спицами и массивными ободьями. Возница сидит на спине осла, его ноги касаются земли. Перед своими воротами человек слезает и выпрягает осла. Противоположная стена переулка так близка, что оглобли не дают возможности повернуться. Пока человек возится с воротами, потревоженные мухи гудят и густыми роями опускаются на осла. Истощенное животное не шевелится, только болезненно передергивает потертой кожей и моргает гнойными глазами.
На стене распласталась пестрая кошка, которая провожает прохожего диким взглядом суженных, как черточки, зрачков. Пробегает молчаливая собака. У нее лохматая желтая шерсть, уши срезаны вплотную к черепу, а хвост обрублен до корня. Это сделано для того, чтобы сторож имел хороший слух и был зол. Старые обычаи прочны… Собака измождена и печальна. Стрелой она проскакивает мимо прохожего в страхе перед привычной жестокостью человека.
Не слышно голосов, все точно вымерло. Изредка гнетущее молчание разрывает безобразный, задыхающийся рев осла; ему отвечает другой такой же.
Люди встречаются редко. Мужчины смотрят прямо перед собой, они безразличны и не обращают внимания на случайного прохожего. А на кого смотрит женщина и смотрит ли она вообще, — кто может сказать? Лица женщин спрятаны под черными покрывалами из толстого конского волоса. Покрывало падает низко, ниже колен. Что оно скрывает? Нежную смуглую кожу или глубокие морщины? Ясный взгляд или вывороченные трахомой веки? Строгий профиль или страшную «львиную» маску проказы?
По закону ислама женщина обязана иметь во рту «платок молчания». Зачастую волосяные сетки попорчены на уровне рта. Может быть, так легче дышать… Привычка закусывать покрывало свойственна многим женщинам.
II
Почему же, за чью вину эти женщины обречены из поколения в поколение видеть свет дня через черный сумрак плетеного лошадиного волоса? Это древняя легенда, не каждый знает и понимает ее смысл…
Случилось как-то престарелому пророку Магомету почтить посещением дом своего приемного сына Гарета. Молодой человек не был предупрежден и отсутствовал. Честь принять святого гостя выпала на долю его жены. Пророк долго и громко восхищался ее несравненной красотой. Вернувшись домой, Гарет немедленно отослал женщину в дом пророка, и живой подарок был принят с радостью.
Мусульмане, сведущие в коране, по-разному говорят о смысле этого события. Иные склонны возвеличивать силу сыновьей любви, восхвалять преданность старшим и умение угадывать их желание. Другие одобряют и ставят в пример мудрость человека, умеющего во-время и добровольно уступить свое достояние. Жена есть такое же владение мужа, как конь или одежда. Лучше отдать самому, чем ждать, когда отнимут силой; это истина, познание которой облегчает существование слабых.
Так или иначе, но и в те дальние годы нашлись люди, которые вслух усомнились в правоте Магомета. Их смелые слова дошли до ушей пророка, и он обратился к богу. Наутро бог устами своего пророка изрек пятьдесят девятый суррат корана, разъясняя, что отец имеет право взять себе жену не родного по крови сына. Этим откровением бог вновь укрепил власть Магомета над душами и телами людей.
Однакоже бог милостив и милосерден. Чтобы в дальнейшем уменьшить соблазны, покончить с поводами для сомнений и разлада и навсегда обезопасить правоверных от искушения красотой чужих жен, бог приказал пророку:
— Предпиши своим женам и всем дочерям и женам правоверных опустить покрывало донизу!
Это повеление бога записано в том же пятьдесят девятом суррате корана, оно — закон!
И вот уже больше тысячи трехсот лет женщины всех народов, принявших ислам и исповедующих коран, открывают свои лица только перед мужьями. Старые обычаи прочны…
Но мешает ли черное покрывало богатым и сильным людям отнимать красивых жен и дочерей у бедных и слабых?
Горячий ветер врывается в переулки и подхватывает сухую мелкую пыль. Серые облака взлетают над слепыми стенами. Местами из-под стены вытекают ручейки мутной воды и прячутся под другими стенами.
Только ветер и вода знают, что делается в домах людей, они не расскажут.
Мусульманин живет спиной к улице, он привык тщательно прятать свое имущество и все мелочи своей личной жизни от жадного случайного взгляда. Но спасают ли его стены от насилия со стороны тех, кто имеет власть?..
III
Внезапный и крутой поворот переулка выводит прохожего на простор. Он видит широкую белую дорогу, и перед ним открывается неожиданно обширный мир.
По обочинам дороги выстроились высокие деревья. За обочинами, в двух широких, обложенных камнем канавах, бежит обильная вода.
Поистине, здесь пролегает граница двух миров. Против глиняного городка открывается подлинный Эдем, рай, обещанный своим последователям пророком Магометом. Не нужно умирать, чтобы увидеть его!
Среди густых садов белеют красивые дома. В пышной листве прячутся крытые веранды, виднеются опущенные над окнами полотнища парусины — защита от солнечных лучей. В садах повсюду струится обильная вода. Над одним из домов развевается большой американский флаг со звездами и полосами. Дом выстроен по европейскому образцу, но на его крыше поместили киоск в восточном стиле, с резными столбиками и остроконечным куполом.
Из киоска открывается отличный вид на ближние и дальние окрестности. Отсюда лабиринт переулков, тесный мирок глиняных стен и плоских крыш представляется отталкивающе грязным пятном даже дельцу, умело эксплуатирующему дешевый труд нищего народа.
От «земного рая» его надежно отделяет дорога, бегущая с запада на восток от недальней государственной границы. Дорога широка и пряма. «Земной рай» хорошо виден обитателям глиняного городка.
Учителя и вожди ислама утверждают, что такие наглядные примеры приносят поучение правоверным. Религия разъясняет, что только собственные грехи удерживают людей в земном аду. И совсем не так плохо, когда перед взором человека постоянно находится убедительная картина награды, которая обеспечена в той жизни за унижения и бедствия в этой. А так как та жизнь, за гробом, вечна, то что значат в сравнении с ней короткие годы между рождением и смертью человека?
А в этой жизни бог награждает своих избранников богатством. Чем богаче человек, тем больше он отмечен милостью бога! И покушение на неравенство между людьми есть покушение на бога!..
Из киоска под полосатым флагом обозревается равнина с возделанными полями. Магистральные арыки обозначены прижавшимися к ним безобразными, почти голыми, корявыми стволами тутовых деревьев, с которых срезаны все побеги с листьями, чтобы кормить червей шелкопряда.
Поля рассечены лабиринтом низких глиняных стен. Как ни драгоценна орошаемая земля, каждый мелкий собственник ограждает свой клочок. Каждый сеет то, что вздумает и когда захочет. В году бывает два, три и четыре урожая. Где-то нужно кормить осла, козу, овцу. Для всех нужд есть только один маленький кусочек плодородной почвы, в нем вся жизнь семьи.
Легко заметить, что на орошенных полях арыки и стены занимают больше трети всей удобной земли. Странно, расточительно, бессмысленно… Но старый уклад прочен.
Такие города и поселки, как этот, расположены и в полутора и в двух часах полета от границ Советского Союза и на других расстояниях. Их много.
IV
К западу от дороги, среди возделанных полей резко выделялась широчайшая ровная площадь однообразного желтого цвета, освобожденная от арыков и деревьев. Внимание трех человек, поднявшихся в киоск под полосатым флагом при восходе солнца, было обращено туда.
Лицо генерала сэра Барнса Этрама, сухое, длинное, с выцветшими глазами и серыми усами, которые падали на квадратный подбородок, отвечало типу офицера английской армии, хорошо известному по иллюстрированным журналам. Генералу было больше шестидесяти, однако он держался очень прямо и имел весьма бодрый вид в свежем широком полотняном костюме, который казался на нем мундиром, хотя на плечах не было погон, а на груди — знаков отличия. Тип военного, которого легко узнать в любом костюме.
Совсем иначе выглядел полковник американской авиации Джошуа Сэгельсон, крепкий мужчина лет сорока пяти. Его можно было бы так же легко вообразить и хозяином фабрики, и владельцем гаража, и банкиром, и даже официантом бара. Полковник был в брезентовых сапогах, а рукава его военного кителя были «по-штатски» засучены выше локтей. Широко расставив ноги, он опирался локтями на перила киоска и смотрел в бинокль на темные полосы взлетных дорожек и на маленькие домики, выстроившиеся на правом краю аэродрома.
Третий, английский инженер Никколс, уселся на плетеный стул и после беглого взгляда на аэродром вытащил из кармана трубку и закурил. Ровесник полковника Сэгельсона, Никколс имел некоторое количество житейских правил и почти никогда не нарушал их. До завтрака он не курил, и эта трубка ломала порядок.
Никколс был недоволен. Начало завтрака затянулось, предстоит хлопотливый день, а он собирался посвятить сегодня все время личной переписке. Программу испортил преждевременный приезд этого американца и генерала Этрама.
На аэродроме около домиков распластались несколько тяжелых самолетов. Чуть дальше присели в ниточку меньшие самолеты. Оттянутые назад плоскости придавали им стремительный вид — они казались скворцами, готовыми сорваться с телеграфной проволоки.
Крайний из тяжелых самолетов медленно пополз вперед, остановился, развернулся на месте, пробежал по дорожке и оторвался от земли. На аэродроме осталось длинное облако пыли. Доносилось мощное постепенно глохнущее гуденье моторов. Самолет уходил к горам; на большой высоте он повернул обратно.
Можно было различить, как под машиной появились шарики, точно кто-то бросил горсть резиновых мячей. Мячи падали и разворачивались куполами парашютов. Крохотные фигурки людей приземлялись, собирали парашюты и сбегались в кучку.
Освободившись, самолет снижался, описывал широкий круг, ожидая очереди на посадку. Другой в это время готовился к взлету. А когда поднялся и описал круг, от него тоже отделились точки. Но это были уже не люди, а тюки вещей. Автомашины подобрали их.
— Очень метко, — сказал сэр Барнс Этрам полковнику Сэгельсону.
Внизу прозвучала гулкая нота гонга. По обычаю, метрдотель приглашал к завтраку.
Тренировка воздушных десантов на аэродроме продолжалась.
V
Какие только деревья не растут в саду дома с полосатым флагом! Груши, абрикосы, персики, яблоки, сливы, апельсины. Аллеи бамбука, струящие солнечные лучи через прозрачную сетку тонких стволов, сменяются густыми зарослями толстых бананов. Очаровательный сад! Одни деревья цветут, на других завязываются плоды, на третьих — уже созрели.
А сколько разнообразных птиц! Здесь никто не тревожит пернатых, никто не мешает им жить и пользоваться бездумными и легкими птичьими радостями.
Порхали стайки легкомысленно-крикливых зеленых попугаев. Вороны, ряженные в яркие синие и зеленые перья, прохаживались по дорожкам. Взлетали карие удоды, серые и хлопотливые, как везде, сновали воробьи.
После утреннего завтрака генерал Барнс Этрам, полковник Сэгельсон и инженер Никколс совершали в саду утренний моцион: чтобы сохранить силы и молодость, генерал Этрам считал необходимым ежедневно пройти пешком не менее шести миль.
Предназначенная для прогулок аллея была предусмотрительно затянута виноградом. Толстые лозы, на которых висели длинные гроздья ягод, сплетались наверху. В аллее царили утренняя прохлада и радостный зеленый сумрак.
Генерал Этрам совсем недавно вернулся из Англии. Он охотно рассказал бы о многом — ведь старые люди разговорчивы и любят, чтобы их слушали, — но сдерживается. Будь он наедине со своим соотечественником Никколсом… Но полковник Сэгельсон чужой. Генерал вспоминает: «Карточки, постоянные карточки на предметы потребления, они въелись в жизнь, как ржавчина, хотя со дня окончания войны прошли уже годы! Истощенные люди, заплаты на домах и локтях. Даже бриться стали хуже! Толпа на улицах отвратительна, мужчины угрюмы, а женщины? Как это он сказал своему другу? Да, женщины смотрят, как голодные кошки. Еще бы… цены растут, не каждая семья в состоянии выкупить причитающиеся по карточкам продукты…»
Генерал твердо ставил ноги и в конце аллеи делал четкий поворот через левое плечо. Но его лицо мрачно. Никогда еще он не покидал остров в таком угнетенном состоянии духа. Генерала преследует навязчивая мысль: ему кажется, что для многих его соотечественников жизнь стала не лучше, чем для тех цветных, которые прозябают здесь за дорогой, в гадких берлогах за глиняными стенами. Это ужасно, империя тяжело больна…
Мысли сэра Барнса прервала свалившаяся сверху гусеница. Вцепившись в редкую ткань белого пиджака, она упорно сопротивлялась осторожным усилиям генерала. Наконец он оторвал длинное кольчатое тельце с жесткими волосками и рогатой головой и бережно посадил гусеницу на виноградный лист.
— Я вижу, вы вегетарьянец, дорогой сэр Барнс, — насмешливо заметил полковник Сэгельсон. — Да раздавите вы эту дрянь!
— Вы ошибаетесь, милейший полковник, — возразил генерал Этрам. — Из этой «дряни» вылетит красивейшая ночная бабочка по имени аттакус-атлас. Размах ее крыльев достигает десяти дюймов…
Дальше генерал продолжал с тонкой улыбкой и с чуть заметной иронией, с какой воспитанный человек позволяет себе поставить на свое место невежу:
— Никколс, такой же старый индиец, как я, меня отлично понимает. Мы все здесь привыкли мягко обращаться с живыми существами, таков обычай народа. Неблагоразумно по мелочам раздражать людей, среди которых приходится жить. Примите мой совет, полковник.
Сэр Барнс Этрам родился в Индии, научился ходить с помощью заботливой индийской няньки, был отправлен в закрытую школу в Англии, затем окончил военное училище и вернулся в Индию, — так же, как его отец и дед. Его ожидала прямая, ровная дорога, открытая представителю третьего поколения тех, кто удерживал в короне английских королей и королев самую драгоценную жемчужину. Поручик в двадцать пять лет, капитан — в тридцать пять, полковник — к пятидесяти и генерал в шестьдесят. Когда почувствуется усталость — обеспеченная старость, отдых на родине, в уютном коттедже, на полной пенсии и с сознанием отлично проведенной жизни. Общее уважение, визиты почтительных соседей и, при желании, даже кресло в парламенте…
И вот все рухнуло. Что в том, если Англия еще имеет сильные позиции и в Индии и в Пакистане! Не то, не то! Жалкое положение, если вспомнить прошлое. Не признаваясь самому себе, генерал ненавидел туземцев, как он называл народы, населяющие полуостров, ненавидел всех, правда мусульман немного меньше, чем индусов.
Сэр Барнс Этрам так ушел в свои мысли, что не сразу услышал полковника, задавшего ему какой-то вопрос, и ответил не американцу, а своим мыслям.
— Вы удивились моей гуманности по отношению к гусенице, полковник. Это дело привычки, рожденной целесообразностью. Но мы умели и всегда сумеем быть беспощадными. Юношей я слышал в офицерском собрании рассказ фельдмаршала Робертса Кандагарского о штурме Дели. Приказ на штурм гласил: «Грабить воспрещается, вся добыча будет собрана в одно место и справедливо поделена. Раненых не подбирать, кто бы они ни были. После победы о них позаботятся, а при неуспехе гибель ждет одинаково всех. Пленных не брать, их некому караулить».
Сэр Этрам перевел дыхание и продолжал:
— Дели — громадный древний каменный город. Бой был длителен и беспощаден. После победного штурма столица стала безжизненной. Нигде ни звука, только стук копыт английских коней нарушал гробовую тишину. Трупы валялись повсюду, собаки глодали тела. Коршуны, слишком сытые, чтобы летать, бесшумно вспархивали, давая дорогу всадникам. Кони тряслись и фыркали от страха. Сердца победителей торжествовали!..
Генерал еще больше выпрямился и продолжал особенно внушительным тоном:
— Уверяю вас, Сэгельсон, нам есть что вспомнить в этой стране. Мы еще храним национальные традиции, мы еще не перестали быть воинами. Будущее это покажет.
После длинной паузы, в течение которой был сделан еще десяток поворотов в аллее, полковник Сэгельсон обратился к более современной теме:
— А как у вас на острове с коммунистами, генерал? Они будут когда-нибудь поопаснее сипаев, а?
— Эта язва опаснее вам, чем нам, — возразил генерал.
— Ну! — усмехнулся полковник Сэгельсон. — Не смущайте меня этим пугалом. Мы их давим и окончательно раздавим в нужную минуту.
— Желаю успеха, — отпарировал генерал. — Но у вас не всегда понимают, что убеждения походят на гвоздь: чем больше по нему бьют, тем глубже он входит. Не следует перегружать предохранительные клапаны. Вспомните историю германской разведки у нас на острове перед второй войной. Мы знали сеть германской агентуры, но беспокоили осторожно, чтобы не спугнуть до времени. А в тридцать девятом году срезали сразу все и ослепили немцев на всю войну. Это был мастерский ход старого Уинстона. Мы сумеем повторить его с коммунистами.
— Принято к сведению, — произнес Сэгельсон тоном военного, выслушавшего приказ. — А как поживает старый лев? Вы не виделись с ним? Хотя, прошу прощения, сэр Барнс, ведь вы, кажется, лейборист?
Генерал скрыл свое неудовольствие под отлично разыгранным смехом. Он не только виделся с премьером, но и слышал знаменательные слова: «Англия еще может удивить мир блеском национального гения в тот день, когда она неожиданно смирит наглость американцев». Но эту тайну генерал Этрам не выдал бы даже на смертном одре. Премьер был раздражен отказом американцев пустить Англию на тихоокеанскую конференцию, где участие принимали собственные английские доминионы, раздражен американскими интригами в Иране, на ближнем Востоке и в других местах, это верно. Но премьер был спокоен, и его слова были обдуманны.
Будучи бесконечно далек от того, чтобы догадаться о чувствах генерала, полковник Сэгельсон взял его под руку с товарищеской фамильярностью:
— Наша судьба в том, чтобы еще теснее сплотиться, — сказал он.
— Конечно, — охотно согласился сэр Барнс. — Поэтому я так же искренен с вами, как с соотечественником. Но ведь не может же наш остров со всеми его владениями причалить к вам где-нибудь между Балтиморой и Чарлстоном! Разговоры о сорок девятом штате — злостная коммунистическая демагогия и пропаганда Советов. Однако вечность нашего союза является исторической действительностью. Не так ли, Никколс?
Инженер Никколс прогуливался с безучастным видом и не слишком внимательно следил за мыслями, высказываемыми Этрамом и Сэгельсоном. Несколько вынужденно он принял участие в беседе:
— Мне кажется, что наша традиционная политика, как бы сказать… сейчас не удовлетворяет. Мы давно умели поддерживать в Европе более слабые государства и склонять чашу весов в свою пользу. После того как царь Петр выказал силу России и эта страна стала опасна для Англии, мы несколько раз сбивали спесь с Москвы чужими руками. А результат? Россия ныне сильнее, чем когда-либо прежде. Восточный колосс получил стальные ноги вместо глиняных. Правда, я обыватель и лучше разбираюсь в железобетоне, чем в политике. Но с точки зрения инженера конструкция сегодняшнего дня не кажется мне устойчивой. Почему так бесконечно длится война в Корее, и что мы выиграем от нее? Что будет дальше при всех наших приготовлениях?
Никколс сам не ожидал, что скажет так много. Это было результатом дурного настроения.
Генерал Этрам чуть заметно пожал плечами. Никколс наивен и бестактен: он, невежда в политике, должен был отделаться незначащей фразой и подтвердить мысль старшего. Никколс — великолепный инженер, и этого достаточно.
Под тремя парами подошв хрустел песок аллеи. Было слышно мелодичное карканье сизоворонки. — Вдали чуть слышно гудели авиационные моторы.
Полковник Сэгельсон обладал ценными свойствами дельца — он умел заставлять людей высказываться и возобновил разговор:
— Так почему бы не удовлетворить законное любопытство нашего уважаемого строителя, дорогой сэр Барнс?
— К величайшему сожалению, — неохотно ответил генерал Этрам, — общие дела может исправить только война. Видит бог, я не хочу ее. Мы готовимся, лишь следуя проверенному историческому закону — хочешь мира, готовься к войне. Поэтому вина не падает на наши головы. После войны за круглым столом усядутся двое — вы и мы. Я не пророк, но полагаю, что тогда-то будут просто и конструктивно решены все вопросы нашего единства. Я, как и многие, считаю, что все беды человечества зависят от неустройства общественной иерархии. Именно за поддержание этого высокого принципа — каждая нация на своем месте, как и каждый человек! — мы с вами возьмем на себя высокую ответственность.
— После тотальной войны, — подсказал Сэгельсон.
— Затасканное выражение… и неуместное, — поморщился генерал. — После войны за нашу цивилизацию, против коммунистической опасности, против тирании, как хотите. Когда это нужно, тотчас же находятся отличные определения и лозунги.
— Отличные определения и лозунги… — повторил Никколс так тихо, что его не услышали. Последние недели он никак не мог избавиться от навязчивой мысли о «малой войне», которая, по его мнению, бесконечно и бесплодно тянулась на Дальнем Востоке.
Точно сговорившись, все трое взглянули на часы. Пора. Время, назначенное для утреннего моциона, истекло.
После тени аллеи открытое пространство между зеленым тоннелем и домом казалось ослепляющим и враждебным. Нужно было сделать усилие, чтобы покинуть тень и выйти под воинственные лучи солнца.
Глава вторая ПЕЩЕРЫ
I
Из ворот дома с полосатым флагом медленно выкатывался большой автомобиль, блестя лаком и никелем. Несколько полуголых и совсем голых детей, мальчиков и девочек, выскочили из засады за стволами деревьев. Дети бросились к автомобилю с пронзительными криками:
— Взгляни, господин! Сжалься, смилуйся! Дай рупию! Взгляни, благодетель! Кинь рупию, сжалься!
Во всех городах, поселениях, на всех дорогах страны раздается этот, всюду один и тот же, пронзительный крик. Голодные дети голодных родителей ведут борьбу за существование своими скудными средствами — такова их жизнь, и они делают то, что могут.
Дети забегали перед автомобилем, почти бросались под колеса:
— Смилуйся, сжалься!
Шофер дал сердитый, продолжительный сигнал, и дети, как воробьи, порхнули в стороны. Они хорошо знали по опыту, что автомобили не любят шутить. Генерал Этрам и инженер Никколс бросили несколько мелких монет, и на дороге осталась кучка тощих, маленьких тел, роющихся в пыли.
Автомобиль с развевающимся на кожухе полосатым флажком без остановки прошел мимо аэродрома. На хорошем, но пыльном шоссе было тесно, так как дисциплина движения плохо соблюдалась. Часто попадались ослы, навьюченные разными грузами или несущие людей на своих острых спинах. Непривычным глазам странно было видеть маленькое животное, быстро перебирающее тоненькими палочками сухих ног под нагрузкой, которая казалась больше и тяжелее его самого. Зачастую на одном осле было по два седока.
Преобладали пешеходы. Они брели целыми группами — одни сгорбленные под тяжестью мешков с пожитками, другие только с палками в руках. Женщины, которым, вероятно, было трудно дышать под традиционными черными покрывалами, тащили детей, посадив их себе сзади на пояс и подавшись вперед всем телом. Попадались и женщины с открытыми лицами. Но какие же это были жалкие, истощенные, опаленные беспощадным солнцем лица!
Полковнику Сэгельсону все люди и все лица тут казались совершенно одинаковыми, чуждыми и неинтересными, как песок на океанском берегу. Очевидно, бессильные и бесполезные, они начинали раздражать деловитого полковника.
— И куда они все тащатся? Почему не сидят где-нибудь у себя дома и не занимаются чем-нибудь?
— Идут по своим делам… Многие переселяются, — неопределенно ответил генерал.
— Куда? — полковник хотел все знать.
— Куда-нибудь. Прямо перед собой. В пространство, — генерал улыбнулся. — Кто-то сказал, что в другом месте лучше, и они тронулись. Это те, кто ничем не связан. Они свободны, у них нет ни земли, ни имущества… Не забывайте о разделении страны на Индию и Пакистан. Индусы продолжают выселяться, а мусульмане — приходить. Основные волны уже схлынули, но, — и генерал чуть заметно усмехнулся, подыскивая слово, — процесс взаимного изгнания еще продолжается…
Встречались длинные вереницы живописных верблюдов. Во главе каждого каравана на осле ехал вожак. Конец недоуздка первого верблюда был привязан к седлу осла, а каждый следующий верблюд — к идущему впереди. Создавалось навязчивое впечатление, что именно маленький живой осел приводит в движение эти тяжелые четвероногие автоматы.
Длинные ноги верблюдов небрежно шлепали мягкими лепешками ступней, каждая нога казалась самостоятельной, действующей сама по себе. Порой слышался тоскливый голос верблюда, как бы жалующегося на скучную судьбу.
Люди шли молча…
Чужая, непонятная жизнь медленно струилась по пыльному шоссе. Роскошный автомобиль с европейцами плыл, как в мутной воде, расчищая себе дорогу повелительными звуками клаксона.
II
В пятнадцати или шестнадцати милях от аэродрома автомобиль свернул на подошедшую к шоссе с севера более узкую дорогу. Здесь сразу стало пусто, встречались только группы рабочих, занятых ремонтом. Замечая машину, рабочие заранее расходились и стояли, темнокожие, полуголые, с лохмотьями вокруг бедер и разноцветными тряпками, обмотанными вокруг головы. Охотно бросив кирки, лопаты и кетмени, они безучастно смотрели на автомобиль, медленно преодолевающий ремонтируемый участок, и потом не спешили браться за дело.
— Никчемные работники, — презрительно бросил Сэгельсон. — Мне было бы трудно с такими. Хорошо, что работы окончены. Вероятно, вы извелись с ними, Никколс?
Вместо ответа инженер махнул кистью руки. Вмешался генерал Этрам:
— Они таковы от рождения, и ничто и никогда их не изменит. Я давно привык к туземцам и привязался к ним. Меня они не раздражают. Нужно их понимать. У них скромнейшие потребности, их вполне удовлетворяет горсть сушеной шелковицы, кусок пресной лепешки, две унции риса и немножко фруктов. Наша кошка ест больше.
Автомобиль проходил район, занятый рисовыми полями. Под солнцем металлически блестели затопленные мутной водой участки, разделенные низкими валиками грунта. На некоторых поднималась зеленая щетка ростков драгоценного злака, другие казались пустыми. Тучи комаров вились над дорогой, и шофер прибавил ход, хотя автомобиль и подбрасывало на частых мостиках через арыки.
— В лучшем случае четверо здешних рабочих выполняют работу одного вашего или нашего, — продолжал генерал Этрам. — Однако все вместе они стоят в три раза дешевле. И они ничего не требуют. На этой дороге они работают вдали от дома, спят на земле и ходят домой, лишь когда у них кончается запас принесенной с собой пищи. Попробуйте-ка поставить наших рабочих в такие условия. Они вымрут через несколько месяцев. В этой стране европейцы должны управлять, а в остальном следует обходиться местными ресурсами.
Заметив, что около последней группы рабочих на земле лежали два человека, полковник Сэгельсон приказал шоферу остановить машину. Он быстро подошел к лежащим и толкнул одного из них носком сапога под ребра.
— Бездельник, встать!
Рабочий не пошевелился.
— Вернитесь, полковник, — позвал генерал Этрам. — Это, наверное, больные.
Сэгельсон обернулся. Десять или двенадцать человек, которые составляли ремонтную бригаду, видимо, хотели подойти к полковнику ближе, но остановились и сейчас стояли неподвижно.
Рабочие были очень худы. Большие глаза на сухих, обтянутых тонкой кожей лицах, обожженные солнцем до черноты, пристально смотрели на американца.
— Почему вы не работаете, болваны? — строго спросил Сэгельсон.
Никто не ответил, и полковнику при всей его самоуверенности сделалось неприятно под упорными взглядами двух десятков глаз. Отмахиваясь от налетевших комаров, он сел в автомобиль, и машина покатилась дальше. Генерал был доволен, что Сэгельсон получил маленький урок, но воздержался от комментариев.
Дорога приближалась к предгорьям и описывала широкие, мягкие петли. На одном из поворотов пришлось задержаться перед металлической штангой шлагбаума, охраняемого вооруженным патрулем. Наконец открылось ровное и широкое плато, где можно было развить большую скорость. Предгорная терраса вытягивалась и сужалась, сжимаемая голыми скальными обрывами. После третьего шлагбаума автомобиль остановился.
III
В гористых районах Средней и Центральной Азии встречаются места, где сразу обрывается пространство, покрытое плодородным грунтом, и над ним встают горы. Многометровый пласт рыжего лёсса внезапно ограничивается стеной камня.
Как видно, здесь еще не закончен, еще продолжается процесс горообразования. Здесь скалы по-своему, по-горному молоды, они крепки, не выветрены, голы. Их острые трещины созданы быстрым и сильным движением, а не постепенной работой времени.
Молодым горам свойственна резкая крутизна откосов, взбираться на них трудно и небезопасно. Весной, когда дикая окрестная растительность еще живет зимним запасом влаги и не убита солнцем, подножия окружены густой зеленой каймой. Такие места встречаются в предгорьях Гималаев. Слово «Гималаи» было бы правильнее произносить Хималайи — Царство Снегов. Они грандиозны; если рассыпать составляющую их массу по всей суше Земли, то уровень ее поднимется на высоту пятиэтажного дома. А Хималайи продолжают расти.
Царство Снегов — это древнейшее гнездо человеческих цивилизаций, и в нем много чудес, созданных рукой человека. Работа была начата давно, в те времена, когда история еще не вырезалась на каменных плитах, не чертилась на глиняных пластинках, не писалась на папирусе и пергаменте. А если и писалась, то лишь в форме иносказаний и темных загадок, вкрапленных в описания дел забытых богов…
На расстоянии полутора часов полета по прямой от долины в предгорьях Хималайев, где остановилась автомашина, есть место, именуемое Бамьян. Там в ущелье кем-то выбиты ниши, где стоят сорокаметровые исполины. Время изъело чудовищные фигуры и сделало отвратительно-страшными когда-то величественные лица. Но высеченные внутри горы проходы и винтовые лестницы еще сохранились. По ним можно подняться на лысые головы колоссов.
Гиганты имеют имя — Шах-Мама. Это искаженное имя Будды, легендарного индусского философа-вероучителя Шакья, или Шахиа-Муни.
Местные жители не советуют всходить на плоское темя главного колосса. Горцы считают, что он не любит человеческой болтовни и кощунственных прикосновений. Случается, что дерзкий падает…
Есть в Хималайях и грандиозные храмы, выдолбленные в жестком теле гор. В тех, что известны современным людям, за малыми входами открываются высочайшие залы с колоннами причудливой резьбы, с толпами высеченных из камня фантастических фигур, соединивших в своих удивительных образах черты человека и зверя. Дивно, величественно воплощены замыслы неизвестных художников.
Но как подумаешь, что весь этот чудовищный труд был осуществлен рукой, едва вооруженной куском плохой мягкой стали или хрупкого бронзового сплава, — преклоняешься перед мужеством работников и дивишься цели столь великих усилий. Зачем?
Чтобы увековечить имя какого-нибудь тирана, ненавидимого при жизни и проклятого после смерти, или чтобы возвеличить власть выдуманных богов и их именем требовать от народа приношений хлеба, золота и самой человеческой крови!..
IV
Строители секретной базы американской авиации, расположенной на легко преодолимых расстояниях от границ Советского Союза, затратили на свои сооружения неизмеримо меньше усилий, чем древние. Но современные строители пользовались и наукой, и могучими взрывчатыми веществами, и совершенными механизмами…
Ни с воздуха, ни с земли нельзя было рассмотреть сооружения авиационной базы, все они находились внутри, в массиве горного отрога.
Точно самой природой предназначенное для летного поля, плоское дно долины сжималось постепенно сходящимися к северу высокими каменными откосами. В них были высечены глубокие пещеры.
Каменные ангары могли вместить самолеты максимального размаха плоскостей. Мастерские были насыщены оборудованием, рельсовыми путями; тянулись транспортеры, стояли подъемные краны.
Главный строитель базы инженер Антони Никколс сдавал в эксплуатацию законченное им сооружение. Полковник Сэгельсон принимал базу как начальник, а генерал Барнс Этрам играл роль представителя правительства. Сопровождаемые подчиненными Никколсу инженерами, они обходили помещения и осматривали устройства.
База была обеспечена обслуживающим персоналом. Часовые встречались повсюду. Особенно тщательно охранялись уже укомплектованные склады оружия и еще пустые хранилища для атомных, водородных и других бомб.
Помещения для бактериологического оружия находились несколько в стороне. Входы в них преграждались массивными, герметически закрывающимися дверями, как в банковских кладовых. Были готовы установки для дезинфекции газами и перегретым паром на случай аварии. Бактериологическое оружие требовало особенных и еще больших предосторожностей, чем атомное.
Попав в свою сферу, инженер Никколс разговорился. Он приводил интересные цифры. По его словам, при современной технике подземные сооружения выгоднее наземных. Выстроенная на открытом месте база обошлась бы дороже и не могла бы быть так идеально замаскирована и столь недоступна для поражения с воздуха.
— Самая крепкая база из известных мне, — утверждал увлеченный своим искусством строитель. — К тому же весьма важно, что конструктивное единство сооружений и горы придают нашей базе высокую сейсмическую стойкость. Недавнее катастрофическое землетрясение на советской границе отразилось и здесь толчком силой в восемь баллов, но у меня все сохранилось в целости…
— Да, да, — небрежно отозвался полковник Сэгельсон. Он не был знаком с подземными толчками.
Недавно он побывал на одном из «предприятий», занятых подготовкой бактериологической войны, и, путая поспешно нахватанные сведения по бактериологии и энтомологии, пустился рассказывать о достигнутых успехах в этой области. Сэгельсон поминал об «обобщении корейского опыта», погружался в грязные подробности гнусных экспериментов…
— Опять Корея… — с раздражением подумал Никколс, набивая трубку, и оживление покинуло его. Положительно, этот Сэгельсон обладал способностью действовать на нервы главного строителя базы.
V
В одной из пещер оказался обширный и, видимо, глубокий бассейн с бурлящей водой. Вода поднималась снизу с сильным напором, который выдавал себя характерным водяным бугром на поверхности. Широкий канал отводил воду.
— Здесь проблема водоснабжения решена своеобразно, — пояснял Никколс. — Нам удалось на относительно небольшой глубине обнаружить мощный источник. Вода подается своим напором, но в избыточном против проектной потребности количестве. Мы пробурили колодец, нашли известняк с карстовыми пустотами и сбрасываем туда излишки воды.
— Куда же девается эта вода? — заинтересовался генерал Этрам.
— Выходит где-нибудь в русле Инда, а может быть, и на дне Индийского океана. Во всяком случае, далеко, так как мы бурили сбросовые колодцы на глубину почти двух тысяч футов..
— К чему такие сложности и лишние траты? — фыркнул полковник Сэгельсон, — почему вы не пустили воду верхом? Сколько вам стоило бурение?
— Э, нет, дорогой полковник, — вмешался генерал Этрам. — Вы забыли местные условия. Здесь острый водяной голод. Из-за недостатка воды много удобной земли не обрабатывается, а орошаемая чрезвычайно дорога. Находка нашего уважаемого Никколса вызвала бы крики и вредную демагогию со стороны так называемых патриотов. Мы обсуждали вопрос с нашими местными друзьями.
— Пусть, — не сдавался Сэгельсон. — Наша концессия, наши недра! А если мы завтра найдем урановую руду?!
— В местных условиях вода дороже урана, — настаивал Этрам. — За очередь на полив здесь сражаются целыми деревнями, и люди доходят до полного отчаяния. Я видел это не раз. Разгласите находку, покажите воду, и вы создадите новые затруднения нашим друзьям в правительстве, откроете еще один путь для интриг против них!
— Чортова дипломатия с этими черномазыми! — выбранился Сэгельсон.
Полковник решил немедленно приступить к переводу всего авиационного хозяйства с пригородного аэродрома. Он категорически отверг замечания генерала Этрама о нежелательности преждевременного обнаружения базы.
— В случае надобности мы все официально опровергнем, — заявил полковник. — Что же касается тайны, то вы, сэр Барнс, хоть и старый индиец, но склонны к иллюзиям, — уколол он генерала. — Утверждаю, что вся округа посвящена в наш секрет, сотни тысяч человек знают его. Бросим пригородный аэродром цветным, пусть разводят на нем рис. А здесь я буду как у себя дома. Непрошенному посетителю я, не консультируясь с цветными властями, предложу длинную исповедь, короткую веревку и глубокую могилу, — добавил полковник, вспомнив сток воды, исчезающий в земных недрах.
Несколькими десятками миль выше в узком месте долины инженер Никколс, соорудил предохранительный барраж — плотину, надежную гарантию от опасности затопления летного поля в случае наводнения. Убежденный в высоком качестве работ, полковник принял барраж без осмотра.
Глава третья ПАУКИ
I
К городу, разделенному белым шоссе на две так не похожие одна на другую части, с востока приближался пешеход. Он медленно передвигал босые грязные ноги по пыли и изредка восклицал:
— Валлаги, биллаги, таллаги! Именем истинным, единым! Валлаги, биллаги, таллаги!2
Судя по чистому и сильному голосу, пешеход был далеко не стар. На его худом теле висел ветхий халат, весь облепленный заплатами. Сальные пятна, дым придорожных костров, копоть очагов караван-сараев и грязь безвестных ночлегов придавали своеобразное единство этому пестрому одеянию.
— Валлаги, биллаги, таллаги! — разносился настойчивый, громкий крик.
Пустая скорлупа кокосового ореха, похожая на ссохшуюся почерневшую дыню, длинный бамбуковый посох и свернутая чалмой тряпка на голове были единственным достоянием странствующего дервиша-дивоны.
Их много бродит по дорогам. Спросите у дивоны его имя. Он услышит вас, если захочет, ответит то, что вздумает, если захочет ответить. Обычно у него нет ни одной монеты и никогда никаких документов. Бродячих дервишей никто не считал в стране, где отсутствие имущества освобождает человека от необходимости удостоверять свою личность, а сколько-нибудь точное количество даже оседлого населения никому не известно и определяется лишь приблизительно.
Странствующие дервиши не придерживаются каких-либо определенных норм поведения. Один молчит, другой проповедует, третий показывает ловкие, остроумные фокусы, выдаваемые за чудеса.
Некоторые дервиши являются представителями общин, подчиняются кое-каким правилам. Союзы дервишей напоминают средневековые общины странствующих монахов. Многие дервиши свободны от всяких союзов. Среди них можно встретить и религиозного фанатика, и упрямого лентяя-тунеядца; бродягу по призванию и несчастного, кто остался один и не нашел в себе сил, чтобы создать новую семью, новый очаг…
Там, где законы состоят из одних запретов, где государство, имея права, не имеет обязанностей, существование человека случайно, непрочно…
Странствующий дервиш-дивона не умрет от голода. Люди, почти такие же нищие, как и он, не отказывают в подаянии. Народ беден и добр. Он кормит бродягу и не отказывает ему в крове, не спрашивая имени и не вдумываясь, кто протягивает пустой кокосовый орех — «праведник» или мошенник.
Дивона вошел в город. Пройдя почти треть его, он воскликнул:
— Скажи: 3 мы сотворили человека прекраснейшим образом!
Заимствованное из корана изречение преобразило дивону. Он выпрямился, гордо откинул голову и делал широкие, смелые шаги. Держа бамбуковый посох в левой руке, он поднял правую, сжимая пальцы в кулак и указывая в зенит свободным указательным пальцем. Таков традиционный жест утверждения установленного кораном единобожия.
Но вскоре человек остановился, поднес руку ко лбу, точно вспоминая что-то, и начал неожиданно низким и скорбным голосом:
— Скажи: потом низвергли мы его на нижайшую ступень лестницы!..
И это изречение было взято из корана. Оба они, поставленные рядом как бы случайно, свидетельствовали о жестокости божества и о жалкой роли человека — хрупкой игрушки в руках злого создателя.
С каждым словом печального откровения дивона горбился, уменьшался. Голос его замирал, он ронял голову на грудь и остро выпячивал костлявую спину. На подогнутых коленях он едва тащился дальше, казался стариком, таким же изношенным, как и его одеяние.
Наступал вечер. По широкой дороге, поодиночке и группами шли жители города, возвращаясь в свои дома после дневного труда. Странствующий дервиш-дивона не был для них необычным зрелищем, однако многие останавливались и вслушивались. Встречные уступали дивоне дорогу, он же шел вперед, как бы никого не видя.
Вблизи от ограды сада, где стоял дом под флагом со звездами и полосами, дивона заметил высокого человека в костюме европейского покроя из желтоватого шелка; его голову обвивала ослепительно-белая чалма.
Дивона остановился и издали закричал, указывая на высокого человека своим посохом:
— Скажи: тогда объявят каждому, что он совершил! А также и то, чего он не совершил, хотя и следовало! Тогда твои ноги прилипнут одна к другой. Тогда твой взор будет блуждать, а твое сердце подойдет к горлу!
Ни один богослов не мог бы обвинить дивону в искажении текстов священной книги. Но обращенные к человеку, они звучали обвинением, напоминали о смерти.
Человек в шелковом костюме шел прямо на дивону, а тот стоял, как врытый в землю, и не собирался уступить дорогу.
— Ты опять явился к нам, Эль-Мустафи? — гневно спросил высокий. Его красивое лицо исказилось от гнева и презрения. — Ты опять будешь кричать на улицах и базарах? Берегись! Тюрьма и палки скучают по тебе, вонючая собака!
Издеваясь, он зажал двумя пальцами нос и брезгливо описал дугу, обходя дервиша. А дивона поворачивал ему вслед черное от густого загара и грязи лицо, на котором сверкали белые зубы и белки глаз, и кричал:
— Скажи: бог един! Скажи: взвешивайте верно и не давайте погибнуть равновесию! Скажи: бог не любит изменников!
Высокий человек хорошо знал коран. В обрушенных на него проклятиях не было ничего, что оказалось бы в противоречии с книгой. Это лишало его возможности предпринять против дивоны какие-либо серьезные действия…
II
Высокий человек в шелковом костюме скрылся в воротах сада, смежного с владениями дома под полосатым флагом. Там над густой зеленью возвышалась крыша из рифленого железа, покрывавшая здание европейской архитектуры.
Гневные возгласы дивоны собрали толпу в несколько десятков человек. Мужчины в халатах или в коротких шароварах с голыми торсами, в разноцветных чалмах, почти все босые, женщины с закрытыми лицами стояли молча и с безразличным видом. Очевидно, они ждали, что еще скажет дивона.
Из ворот владения, принадлежащего оскорбленному дивоной человеку, вышли пять или шесть мужчин с палками в руках: слуги, которым было приказано рассчитаться за хозяина. Но они, заметив толпу, остановились. А дивона, опустив голову, беседовал сам с собой тем голосом, каким человек обычно говорит только наедине.
— Существует ли жилище слабее дома паука? — спрашивал он и торопился ответить четкой скороговоркой: — Нет, нет и нет. Легкий ветерок уносит и дом и хозяина, топит их в луже. Крыло стрекозы разрушает дом паука и крыло шмеля тоже. Да, да, да. Это истина, истина, истина, — внятно повторял дивона, зная, что его не только слушают, но и понимают.
И, однакоже, для мухи нет крепче пут, чем путы паука. Почему же это так? Почему, почему, почему? Какой закон дал пауку такую великую власть? Нет такого закона, нет, нет, нет. Но почему же силен паук? А, а! Не потому ли, что сам паук был раньше мухой? А, а! Кто может быть страшней мухи, сумевшей превратиться в паука?
Смотри-ка, что ты там видишь? — спрашивал себя дивона, указывая на дом под крышей с рифленым железом, и отвечал: — Дом паука, если ты не слеп и способен понимать. А там что ты видишь? — дивона указал на дом под полосатым флагом и подтвердил: — Тоже дом пауков, это истина.
Дивона опустился на корточки на обочину шоссе и заговорил тихим голосом:
— Повсюду стоят дома пауков, пауков, пауков… Не хватает мух, чтобы их накормить… Пауки едят один другого, но мухам от этого не становится легче.
Дивона замолк, погрузившись в созерцание. Посох и чаша из скорлупы кокосового ореха лежали, рядом с ним. Кто-то нагнулся и положил чашу вверх отверстием. Несколько мелких черных монет упало в нее.
Люди с палками в руках, вышедшие из дома под рифленой крышей, уже вернулись за ворота. Один из стоявших близ дивоны сказал ему:
— Эль-Мустафи, ты устал и голоден. Пойдем со мной, будь моим гостем, если угодно богу.
Окружавшие дивону люди разошлись так же молча, как собрались. Только с десяток мужчин задержались, еще чего-то ожидая.
Человек, пригласивший Эль-Мустафи, нагнулся и тихо сказал:
— Мы ждали тебя…
Эль-Мустафи пошевелился и указал рукой на запад. Уходящее солнце лило оттуда потоки света. По шоссе, окутанному сияющей золотой дымкой пыли, приближалось нечто, похожее на черный шар. Дивона опустил руку и принялся искать что-то в дорожной пыли.
Стремительно увеличиваясь, шар превратился в автомобиль. Не доезжая до места, где сидел Эль-Мустафи, автомобиль резко снизил скорость, свернул вправо и, повелительно сигналя, подошел к воротам дома с полосатым флагом.
Дивона выпрямился и метнул камень. Седоки в автомашине заметили Эль-Мустафи в тот момент, когда он размахнулся. Но камень не пролетел и пятой доли разделявшего их расстояния.
— Я никогда не привыкну к этим дурацким фигурам, — воскликнул полковник Сэгельсон. — Какой беспорядок! Тоскую по нашим полисменам и полицейским судам для бродяг. В Штатах мы быстро отучили бы подобного проходимца шагаться по дорогам.
— Вам придется привыкать, — возразил генерал Этрам, тяжело вылезая из автомобиля. — Местный колорит, так сказать фольклор. Дервиш-исламит, дивона, как их еще называют. Как видите, они бывают агрессивны, но не следует обращать на них внимания. Особенно если агрессивность, как в данном случае, условна. Лучше не задевать их. Мой любимый Киплинг, — мы когда-то встречались, — с его добродетельными бродягами, увы, безнадежно устарел…
III
Поздний обед затягивался надолго. Генерал Барнс Этрам любил поговорить и нашел в полковнике Сэгельсоне внимательного слушателя. Полковник ждал извещения о присвоении ему генеральского звания. Он был доволен собой, доволен базой и охотно интервьюировал генерала Этрама. Молчаливый инженер Никколс не мешал.
— Нужно быть терпимым, нужна привычка, и… следует уметь подавлять в себе чувство брезгливости, чтобы понимать местное население, — повествовал генерал. — В наши дни на карте полуострова появилось молодое и крупное мусульманское государство. В умах мусульман Пакистан заменяет упавшую Турцию. Начинают мечтать о возрождении мирового значения ислама. Полезная, нужная даже, по-моему, вспышка панисламизма естественна, но не будем преувеличивать ее масштабов. Нет, средние века ислама, времена Салахэддинов, Омаров и Баязетов не вернутся, конечно, как нельзя возродить крестовые походы. Но мы ни в коем случае не должны мешать пылким мечтаниям цветных интеллигентов. Больше того, мы обязаны всячески поощрять и развивать панисламизм. Пусть они опьяняются мечтами, они всегда останутся нашими союзниками. Наличие широких опор панисламизма в народе для меня сомнительно, но что это за народ? Лучшее, что в нем есть, это фанатики. Нужно уметь их направлять.
Генерал и полковник встретились глазами, и Сэгельсон подмигнул сэру Барнсу.
— Вот именно, — продолжал генерал, — среди фанатиков уже сегодня мы находим нужных людей для непосредственной и повседневной борьбы с коммунистами. Но в массе туземного населения есть всякие течения… Ныне Индия и Пакистан получили «независимость», и нужно быть виртуозом, чтобы не извлекать фальшивых нот.
Генерал задумался: мысль о возможных осложнениях с американцами требовала осторожности и сковывала его слова.
Полковник немного выждал и подсказал генералу:
— Не извлекать фальшивых нот или обладать достаточной силой понуждения, чтобы заставить уважать себя.
Вошли слуги и переменили блюда. После их ухода сэр Барнс ответил:
— Не всегда удается и накопить силу и применить ее в нужную минуту. Вообще лучше избегать осложнений с управляемыми народами.
— За мою базу я ручаюсь, я не опоздаю. К тому, что уже имеется, скоро накоплю там оружия на моторизованную дивизию, останется только перебросить солдат, — возразил полковник. — Как только понадобится, я вылезу из своей каменной скорлупы и устрою им второе Дели, о котором вы так красочно рассказывали сегодня утром. На современный лад! У них, я слышал, есть какие-то специальные ангелы смерти?
— Накир и Монкир, — блеснул эрудицией генерал.
— Так вот, пусть только они пикнут. Тут-то я и спущу на них всех этих Накиров и Монкиров и всех чертей, возведенных в напалмово-атомно-водородную степень, клянусь честью! И… Словом, еще несколько лет, и строительство наших баз будет закончено во всем мире. Тогда мы сможем повсюду разговаривать без дипломатических тонкостей! — грубо закончил полковник Сэгельсон.
— Никогда нельзя забывать о дипломатии, — возразил генерал Этрам, шокированный не программой, а формой ее изложения.
— Согласен, согласен, — успокоил его полковник. — Вернемся к местным делам. Итак, что следует думать о местных революционерах?
— Как вам сказать… — ответил генерал. — Здесь есть свои особенности. Конечно, и тут есть законы и личность имеет формальное правовое положение, но дело в том, что каждый противник власти, основанной на законах ислама, нарушает ислам и тем самым в глазах исламитов ставит себя вне закона. Таково существо дела. А практика… — генерал усмехнулся, — практика бывает достаточно решительной. Здесь охотно и неограниченно прибегают к так называемому «благодетельному произволу». Уверяю вас, ислам хорошая вещь.
— Я не совсем понял, — признался Сэгельсон, — кроме того, это может быть неудобным для нас, европейцев.
— Постараюсь сформулировать. Для ислама нарушение социального строя есть ересь, отступничество. Особенно теперь, когда мистическая сторона ислама значительно ослабела и усилилась, как выражаются господа коммунисты, классовая сущность, что, впрочем, характерно не только для ислама…
— Вы имеете в виду христианство?! Позвольте, я христианин! — перебил полковник Сэгельсон.
Мы все христиане, — солидно парировал генерал, но ведь есть политика.
— Ну… допустим, — согласился Сэгельсон.
— Мусульманское духовенство, — продолжал сэр Этрам, — повсюду ведет проповедь священной борьбы против коммунистов. Муллы обладают хорошо развитым политическим чутьем, и коммунисты для них заняли то место, где еще недавно были христиане. Это обязывает нас уважать ислам и его руководителей. У нас общий враг! Заметьте также, что в исламе духовное звание зачастую совпадает с личной состоятельностью. Муллы — обычно коммерсанты, часто — крупные собственники. Сегодня у нас общая стратегия, нужно избегать тактических ошибок и быть честными конкурентами. Тогда все исламиты пойдут с нами рука об руку…
Глава четвертая ЗА ГЛИНЯНЫМИ СТЕНАМИ
I
Дивона Эль-Мустафи и пригласивший его к себе человек по имени Бекир остановились в одном из безыменных переулков глиняного городка.
За дверью в стене дома Бекира оказалась вторая стенка. Следовало повернуть, чтобы проникнуть в бирун, двор и помещение для мужчин, обитающих в доме, и доступные для гостей-мужчин.
Влево, у стены, отделяющей двор от улицы, на тонких столбиках резного дерева возвышался навес. Его крыша из камышовых цыновок была застелена рисовой соломой, смазанной толстым слоем глины для защиты от дождя и зноя. Под навесом — низенький, всего на четверть от земли, деревянный помост.
По канавке через двор Бекира протекала мутная вода, которой население пользовалось для всех нужд. Дивона вымыл лицо, руки и ноги. Наступал час вечерней молитвы, и уже слышались визгливые голоса муэдзинов, напоминающие правоверным об их долге перед вечным. Однако ни хозяин, ни его гость не совершили обязательного обряда.
Хозяин расстелил на помосте под навесом рваное ватное одеяло, и Эль-Мустафи сел на приготовленное место.
Бекир принес закопченный фаянсовый чайник с надбитым носиком и скрепленными медными скобками трещинами, широкую пиалу, тонкую серую лепешку и пригоршню пыльных сухих фруктов на маленьком медном подносе. Эль-Мустафи отламывал от сухой лепешки крохотные кусочки и долго жевал их, запивая маленькими глотками теплого чая.
Из двери, отделявшей бирун от эндеруна, женского двора, на четвереньках выползло живое существо. Оно с усилием поднялось на ноги, и дивона заметил маленькую девочку в короткой грязной рубашонке. На руках и щиколотках блестели ярко начищенные широкие медные браслеты. Волосы были острижены, и только над ушами оставались две пушистые прядки — основа будущих кос. Какие мать и отец не мечтают о падающих ниже колен черных косах красавицы дочери?
Из той же двери эндеруна скользнула толстая серая змея — даман-крысолов. Девочка не обратила внимания на змею, постоянного жителя дома и свою игрушку, с которой она умела пить из одной чашки. Змея опередила ребенка и скрылась под помостом, на котором отдыхал дивона.
Неловко переставляя слабые, еще неумелые ножки, девочка побежала к отцу.
Бекир присел и протянул руки навстречу дочери. Девочка тоже тянула ручонки, спешила, торопилась. Ее ножки заплелись, но отец успел подхватить ее. Он целовал дочь, щекоча нежную детскую кожу своей жесткой курчавой бородой. Девочка прильнула к отцу, теребила его бороду и что-то щебетала.
В двери эндеруна появилась женщина в коротком, чуть ниже колен, платье из яркой бумажной материи. Из-под платья до щиколоток опускались узкие шаровары из пестрого ситца. Лицо женщины было закрыто. Увидев дивону, женщина отбросила чачван 4 и приветствовала гостя застенчивой, но радостной улыбкой.
Бекир опустил дочь на землю и любовно подтолкнул ее к матери, приговаривая:
— Беги, мой цветочек, лети, моя птичка, чистая вода моих глаз, беги, радость моей души…
От внимательного взгляда дивоны не скрылась болезненная худоба рук и ног ребенка, его неестественно вздутый живот.
Эль-Мустафи сурово спросил хозяина дома:
— Почему так плохо идет твоя торговля, человек? Ты забыл свои обязанности, ты проводишь дни в чайханах, стал ленив и небрежен?
Бекир развел руки широким и безнадежным жестом:
— Какая торговля может быть там, где покупатели так же нищи, как продавцы? Пока тебя не было, мулла Аталык открыл еще три лавки и окончательно задушил нас, бедных розничников. Богатые, они торгуют, а бедным осталось обмениваться нищетой. Не будь у меня клочка земли, уже полгода, как меня и всей семьи не было бы на свете. Но и с землей человек погибает. Мираб дает так мало воды, что мой ячмень совсем засох.
— Мирабы заботятся только о садах богачей и инглезов. Их деревья сочны, и густа даже трава, будь она проклята, которую они разводят для бесполезного украшения, да будут прокляты все украшения, и да возьмет Эблис души всех богачей, инглезов и мирабов! — раздался во дворе приглушенный голос.
Около короткой внутренней стенки, ограждавшей вход ив переулка во двор, стояли двое мужчин. Не успел один из них закончить свою злую жалобу на богачей и чиновников, распоряжающихся водой, как за его спиной появилась третья голова в чалме.
II
Один за другим люди входили во двор Бекира. Босые ноги бесшумно ступали по твердой, чисто подметенной земле. Обязательные слова приветствия — мир вам — произносились шопотом.
Солнце уже зашло. Быстрые сумерки падали как черный войлок, закрывающий вход в палатку кочевника. Но еще быстрее наполнялся молчаливыми людьми гостеприимный двор Бекира.
Дивона опустил голову и закрыл глаза, — он казался спящим. Он видел песчаный берег тяжелого, как расплавленный свинец, и такого же гладкого океана, видел окраину города и дом, куда он пришел проститься с друзьями перед дальней дорогой на север родной страны. Придется ли опять увидеться?
Сейчас он будет говорить людям слова правды. Нужно суметь поднять знамя независимости родины и свободы человека. Объяснить, как и кому богатые продают народ. Пусть из народа двинется волна смелых и сильных, обильная смена ему, Эль-Мустафи, если он сделает неверное движение…
Только что Бекир произнес имя Шейх-Аталык-Ходжи. Эль-Мустафи встречал этого человека в медресе.
Люди собираются, пора заговорить языком, понятным всем.
Отдохнув, Эль-Мустафи чувствовал себя молодым, бодрым. Он был даже весел, смутьян-дервиш, мечущий во врага тонкие стрелы, полные невидимого яда.
III
Кривые тесные переулки малолюдны. В слепых стенах нет окон, откуда люди могли бы увидеть проходящих мимо Бекира и Эль-Мустафи. Все двери тоже закрыты. Стены не имели ушей, чтобы услышать шаги. Однако жители глиняного городка знали, что дивона пришел к ним, и нашли дом, где он должен провести ночь.
Все теснее и теснее окружали люди дивону. Поджимая под себя ноги, заполняли помост под навесом, присаживались на сухой теплой земле поближе к Эль-Мустафи. Опоздавшие пробирались в сумраке, подыскивая себе свободное местечко с той особенной ловкостью движений, которая позволяет им свободно ходить в тесноте базаров, где неуклюжий инглез не сделает и шага.
У стен эндеруна, женского двора, возникали неподвижные фигуры в черных покрывалах. Все молчали. Фигура сидящего дивоны казалась бесформенной кучей грязных лохмотьев. Вдруг Эль-Мустафи провел по лицу обеими руками и поднял голову со словами:
— «Мы сотворили человека прекраснейшим образом». Вам говорили, что это слова бога. Но, поистине, разве не прекрасны вы, мужчины и женщины? Разве не прекрасны ваши дети, цветы вашей любви? Да. Но истина не может утаиться под покровом лжи, даже если этот покров велик, как Хималайи.
Эль-Мустафи говорил негромким, грудным голосом, но так искусно, что до людей доходил каждый оттенок его речи. Он продолжал:
— Если же вы будете лгать себе и друзьям, если вы будете сами себе замазывать грязью глаза, что случится с вами? — Дивона приподнялся и протянул к толпе обе руки: — Что будет с вами, когда вы заткнете себе уши и оттолкнете руку друга?
В голосе дивоны зазвучали грозные ноты, вопросы сменились обличениями:
— Вы молчите, точно наелись земли. Много дней я не видел вас и не говорил с вами. Сделались вы лучше? Нет. Стали вы умнее? Нет. Может быть, вы стали богаче? Конечно, нет!
Дивона шипел, как рассерженный питон:
— Вы, низверженные на последнюю ступень, не поднялись ни на полступени. Наша родина прекрасна, нет лучше ее. Нет земли лучше нашей, ее хватит на весь народ. Вы же продолжаете лениво гнить в нечистотах и ту же участь готовите вашим детям. Кто виновник? Вы!
Было уже совсем темно. Очертания человеческих тел сливались. Двор Бекира между выбеленными стенами был так наполнен, что казался черной ямой, набитой мешками риса.
Когда дивона переводил дыхание, были слышны резкие вскрики ящериц: гек-ко, гек-ко…
В погоне за насекомыми гекконы на широких лапках с острыми коготками бегали по крышам и стенам. Почти задевая людей за головы, проносились летучие мыши.
— Вас постигает несчастие, и вы в унынии. Но вы не хотите понять урок. Вы постоянно произносите: «Такова воля бога». Бог сотворил несчастие еще до дня рождения ваших отцов, говорите вы. И болтаете о судьбе. А ведь вам уже говорили: люди, судьба есть западня для глупцов, злой хитрец называет свой обман вашей судьбой. Вы глупы, люди!
Столько гнева вложил дивона в последние слова, что они ударили, как проклятие. Люди вздрогнули, и, как стон, раздалось возражение:
— Не сердись, святой. Мы всегда голодны, и мы слабы…
— Ты солгал, человек, — возразил дивона. — Вы голодны, но вы сильны. Всю жизнь вам не хватает пищи, умирают ваши дети, сохнут поля. За одну рупию, взятую в долг, вы возвращаете три. Почему?
Кто-то решился ответить:
— Инглезы и богатые все взяли себе и не дают нам.
— Наконец-то ты познаешь истину, человек. Много времени понадобилось тебе для этого! Когда ты будешь умирать, ты, быть может, поймешь, что сила инглезов и богатых длится только до того часа, пока ты ее терпишь.
Дивона сделал паузу и добавил безразличным голосом:
— Я вижу, что больше мне нечего сказать вам. Мир вам, люди. Я устал и хочу спать.
Люди зашевелились, но никто не поднялся. Раздались возражения:
— Нет, нет. Мы не уйдем. Мы поймем тебя. Говори!
— Хорошо, — ответил дивона. — Я расскажу вам о делах других людей и о примерах, достойных подражания…
Над глиняным городом висело невидимое во мраке облако тончайшей горячей пыли. Дыхание людей казалось знойным.
IV
Духота в зале умерялась размахами громадного веера, подвешенного к потолку. Бесшумный мотор приводил в движение широкие лопасти. Искусственный ветер разгонял табачный дым и освежал обширную столовую.
На белой скатерти стояли электрические вентиляторы. Тихое жужжанье пропеллеров помогало вееру и не мешало разговаривать.
— Вы положительно делаете из меня ходячую справочную книгу, мой дорогой Сэгельсон, — самодовольно шутил за вином и десертом генерал сэр Барнс Этрам.
— Ничего не поделаешь, мы всегда торопимся, а от такого чичероне, как вы, не отказался бы и сам президент, — польстил Сэгельсон. — Я всегда хочу понимать все, что видят глаза. Например, сегодня этот грязный нищий бросил в нас камень…
— И не добросил его…
— Вот именно. Не понимаю его психологии. Он сумасшедший, а? Ведь здесь не запирают сумасшедших? Я рассуждаю так: у нас каждый парень, у которого ладно с мозгами, выберет удобную позицию на верный выстрел, влепит пулю в цель и удерет, если это нужно.
— Был такой разбойник Баче-Сакао, он же Хабибулла, сын водоноса. Счастливый соперник афганского падишаха Амануллы, калиф на час… А вы не помните, полковник, какой смертью закончились дни его недолгого величия?
Вопрос показался полковнику Сэгельсону совершенно не идущим к делу. Он сморщил лоб, пытаясь вспомнить, и ответил наугад:
— Кажется, его пристрелили? Нет, зарезали.
— Память изменяет вам. Был зарезан законный преемник Амануллы, Надир-Хан. А Баче-Сакао был судим афганским судом по мусульманскому праву и по приговору был побит камнями во рву кабульского кухендиза, городской крепости, в ноябре 1929 года.
— Бр… — поежился полковник. — Паршивая, собачья смерть. Но позвольте, какая же связь с нашим бродягой?
— Прямая и простая. Камень в руке мусульманина выражает проклятие. И совершенно не обязательно попасть в цель. Уверяю вас, что далеко не каждый брошенный собравшейся толпой камень долетал до Баче-Сакао. Я был там и видел. Но это ничуть не мешало символичности народного проклятия и реальности самой казни.
— Чорт побери! — злобно воскликнул полковник. — Теперь я буду обращать больше внимания на того, кто, будь он сам проклят, посмеет бросать в меня камнями!
— Советую вам ограничиваться более меткими, чем сегодняшний дервиш, — порекомендовал генерал.
В зал вошел метрдотель-европеец и торжественно доложил:
— Мистер Касим-Хан!
За слугой появился тот самый красивый высокий человек в шелковом костюме и белой чалме на голове, которого обличал дивона Эль-Мустафи.
Совершенно как в оперетте «Баядерка», как показалось полковнику Сэгельсону, Касим-Хан приложил ладонь к груди и наклонил голову для общего поклона. Затем он по-европейски пожал всем руки и непринужденно уселся, не ожидая приглашения.
Полковник вопросительно взглянул на инженера Никколса, и тот представил гостя:
— Мистер Касим-Хан, видный деятель и негоциант. Мистер Касим-Хан был нашим генеральным подрядчиком по найму и расчетам с рабочей силой во время строительства базы.
— Я поспешил сюда, чтобы приветствовать моего старого друга, достопочтенного сэра Барнса, а также и вас, многоуважаемый полковник, и поздравить вас с благополучным прибытием. Я был заблаговременно извещен нашими общими друзьями, — говорил Касим-Хан, играя низкими нотами голоса.
— Очень приятно, мистер Касим. Надеюсь, все в порядке и нет никаких спорных претензий? Как, Никколс, вы не собираетесь жаловаться друг на друга?
— Вполне удовлетворен нашей совместной работой, — опередил Никколса Касим-Хан. — Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Я могу всегда поставить любое количество рабочих. То же самое относится к материалам. Могу оказать кредит на самых выгодных условиях и на разумные сроки. Мой девиз — братство и взаимопонимание, дружба наций и взаимопомощь.
— В свое время, в свое время, — не слишком любезно отозвался полковник. Ему не понравилась развязность мулата, как он про себя окрестил неожиданного визитера, и, чтобы поставить его на место, Сэгельсон небрежно бросил:
— Итак, хорошо заработали? Неплохо набили себе карманы на подряде, признавайтесь?
Лицо Касим-Хана выразило возмущение. Он откинулся на спинку плетеного стула и протестующе вытянул руки с растопыренными пальцами.
— Я возражаю, я обижен! — взвизгнул генеральный подрядчик неожиданно тонким голосом. — Клянусь именем всемогущего и всемилостивого, я лишь свел концы с концами. Кто назовет это барышом? Округа полна голодных, у них дети, они хотят есть. Кто о них позаботится? Наши люди сами, как дети. Следуя святым заветам корана, я забочусь о бедных, и мое сердце полно любви.
— Э, да вы, оказывается, филантроп, мистер Касим! Вы добродетельный человек, как некоторые наши богомольные деятели, — рассмеялся полковник. — Это почтенные чувства, я ценю их, поверьте! Не обижайтесь, всегда и всем нужны опытные посредники, организаторы и сотрудники. Мы с вами деловые люди и найдем общий язык. Никто из дельцов во всем мире не жаловался на нас…
V
После того как мистер Касим-Хан откланялся, полковник Сэгельсон спросил генерала Этрама:
— Я понял, что цветной джентльмен тоже входит в местный колорит и сдается мне вместе с прочим инвентарем, не так ли?
— Да, без него нельзя обойтись. У него большие связи. Никто не знает истинных размеров его состояния, но, несомненно, он очень богат. Он аристократ, его полное имя Сеид-Касим-Эд-дин-Хан. Он один из родственников, чуть ли не сын недавно умершего Сеид-Алим-Хана, бывшего эмира аллакендского. Эмигрант, но пустивший прочные корни, что доказывает его силу, — здесь неохотно принимают чужих… Он — местный банк, и у него десятки тысяч должников. В этой стране, должен вам сказать, мелкие долги всегда выплачиваются, а проценты зачастую в несколько раз превышают одолженную сумму. Выгодное занятие… Тот, кто должен ему несколько десятков, сотен или тысяч рупий, никуда не уйдет. Иной раз находят труп зарезанного или застреленного человека. Это неисправный должник. Полиция ничего не знает, и убийц никогда не обнаруживают…
Полковник слушал с горящими глазами.
— Здорово, клянусь душой, здорово! — с чувством сказал он, когда генерал кончил. — Интереснейшая страна, прямо тысяча и одна ночь! Кажется, я не был достаточно любезен с этим Аладдином…
Генерал Этрам молчал, опустив голову. Откуда-то донесся ослабленный расстоянием крик, в котором звучали боль и отчаяние. Сэгельсон и Никколс невольно вздрогнули и прислушались. Крик не повторился. Слышались лишь мелодичные голоса лягушек, населяющих арыки сада.
Полковник Сэгельсон вернулся к интересовавшей его теме. Он рассуждал, что хотя с мертвого долга не получишь, но такой решительный прием побуждает остальных должников. И не приходится возиться со взысканиями… Да, на совете акционеров Сэгельсон поддержал бы правление такого банка.
— Да и вы, сэр Барнс, отозвались о действиях этого банкира без осуждения, как я понял? — обратился полковник к генералу Этраму. Но ответа не получил.
Сэр Барнс Этрам переутомился за день; вероятно, последний стакан вина был лишним. Свесив голову на грудь, генерал спал. Его серые усы оттопыривались от спокойного дыхания, а пух на старчески облысевшей голове шевелился в освежающей струе вентилятора.
Сэгельсон подмигнул Никколсу и обратился к нему:
— Поставляя рабочих на строительство, этот Касим попросту заставлял вас платить их долги. Молодец…
Неразговорчивый Никколс неопределенно пожал плечами. Полковник удовлетворился этим. Они сидели молча и курили. Трубка Никколса слегка хрипела. Сегодня он много курил и потерял прибор для чистки.
Никколс любил строить. В 1940 году он, тогда молодой тридцатилетний инженер, обратил на себя внимание во время работ, спешно производимых военным министерством Англии под угрозой нависшего над островом германского нашествия. Он участвовал в сооружении морских баз и аэродромов, был в числе строителей, тянувших бесконечные бензинопроводы от берегов Нормандии в глубь Франции, когда англо-американская армия неторопливо оттесняла слабый западный заслон третьего райха.
Никколс одинаково страстно увлекался и проектированием и самим производством строительных работ — качество, довольно редкое среди инженеров. Для него строительство было самоцелью. Строить и строить как можно больше и как можно лучше. Но после войны Англия строила мало и плохо. Никколс принял предложение военного министерства и начал строить авиационные базы в Азии. База, сданная им сегодня, была второй и очень интересной. Удалось быстро осуществить сложные подземные работы, смело решить многие трудности. Никколс гордился, показывая базу.
Сейчас он чувствовал себя вялым и опустошенным. Весь день пришлось выслушивать нудные разговоры на политические темы. По понятиям Никколса полковник Сэгельсон не был джентльменом, а его рассказы о бактериях и зараженных насекомых были просто отвратительны…
Никколсу не было дела до того, зачем он строит. Сегодня некому было оценить его работу. Они даже поленились осмотреть великолепный барраж, построенный в горле долины близ берега Инда…
Громадная, как птица, сумеречная бабочка влетела в зал и порхала, привлекаемая огнем, то поднималась, то опускалась. По столу носилась причудливая, меняющаяся тень.
Полковник потянулся и зевнул. Приятная истома охватывала его тело, не хотелось сделать усилие, чтобы подняться и направиться в спальню. Интересная мысль, а не войти ли в компанию с Касим-Ханом? Что ни говори, а все же — настоящий восточный принц, аристократ!
Телефонный аппарат на столике в углу загудел, резко нарушив тишину ночи. Генерал Этрам вздрогнул и очнулся.
Инженер Никколс подошел к телефону.
— Да, — сказал он. — Да, он недавно был здесь… Что?! Вот как… Очень жаль, — ответил Никколс на какое-то сообщение. Затем повернулся к сидевшим за столом и произнес безукоризненно спокойным тоном джентльмена — Печальное событие: только что убит Сеид-Касим-Хан. В саду, почти на пороге своего дома. Голова разбита камнями. Убийцы успели исчезнуть в темноте. Производится следствие.
Полковник Сэгельсон встал и оглянулся на находившееся за его спиной окно, задернутое легкой шторой.
— Завтра же переезжаю на базу, — категорически заявил он.
Глава пятая ВЕРУЮЩИЕ
I
Мулла Шейх-Аталык-Ходжа полулежал на заднем сиденье автомобиля. Он удобно вытянул ноги в черных кожаных туфлях с острыми, слегка загнутыми носками и распахнул узкий сюртук, обычно застегнутый на длинный ряд пуговиц. На голове муллы была туго свернутая зеленая чалма.
Шейх-Аталык-Ходжа так глубоко погрузился в свои мысли, что не видел поворота с белого шоссе на дорогу, отходящую к секретной авиационной базе. Не будь резкого толчка, бросившего муллу к борту автомобиля, он ни на секунду не вышел бы из состояния глубокой задумчивости. Его шофер не смел так водить машину! А эти американцы ездят, как одержимые Эблисом, да поразит их истинный и единый!..
Мулла чуть заметно шевелил губами, а его пальцы перебирали четки. Бог пророка Магомета наделен девяноста девятью именами, и таково число зерен в четках каждого мусульманина. Однако сейчас мулла не думал о боге и числе его имен и не молился, хотя имел вид человека, сосредоточившегося в благочестивом созерцании. Чем бы ни были заняты его мысли, всегда казалось, что он молится: велика сила привычки, а хорошие привычки — благодеяние для разумного человека…
Шейх-Аталык-Ходжа владел многими хорошими привычками и обширными познаниями. Он изучал тонкости учения ислама под строгим руководством мудрецов в знаменитой медресе, находящейся в одном городе Индии. Правда, некогда, в восьмидесятых годах прошлого столетия, основатели этого высшего духовного училища увлеклись было светским образованием. Они осмелились счесть недостаточным свет ислама и включили в учебный курс математику, физику, химию, географию и историю чужих стран. Но вскоре настоящие мусульмане взяли дело в свои руки. Знаменитое медресе давало и будет давать только нужные правоверным знания.
Мулла Шейх-Аталык-Ходжа учит народ усвоенным им самим истинам: коран есть единственный источник мудрости, шариат — неизменно-вечный свод всех законов и правил, адат — единственное собрание освещенных временем обычаев и примеров постижения законов и их применения. Все же прочее находится вне ислама и — ложь!
Шейх-Аталык-Ходжа обладал широкой эрудицией. В борьбе со «светским» образованием он приводил веские примеры. Когда некий еретик Локман привез в Мекку списки поэм, сложенных из преданий таджиков о подвигах Рустама и других легендарных богатырей, бог через пророка Магомета гневно предупредил мусульман:
«Иной купит пустые сказки для отвлечения других с божьего пути. Он ищет, чем бы позабавиться. Таким людям приготовлено бесчестное наказание».
А великий халиф Омар приказал сжечь величайшую в древнем мире библиотеку завоеванного арабами египетского города Александрии.
«Если в этих горах книг, — сказал Омар, — содержится противоречие корану, уничтожьте их. А если в них говорится то же, что уже выражено семьюдесятью тысячами шестьюстами тридцатью девятью словами корана, то к чему вам это собрание книг?»
Пусть в огне погибло громадное количество единственных в мире экземпляров сочинений древних ученых, философов, прозаиков и поэтов, пусть история получила непоправимый ущерб — зато восторжествовала истина ислама, облегчилось ее проникновение в умы!
Но сейчас не помогает мудрость. Ничто не может успокоить муллу; уже много недель, как он полон гнева: до сих пор не схвачены убийцы славного Сеид-Касим-эд-дин-Хана, близкого друга и делового компаньона муллы!..
Автомобиль несется по отлично отремонтированной дороге к секретной авиационной базе, задерживается на миг у первого шлагбаума и вновь, как подхваченный бурей, уносится вперед.
Сменив шофера, сам Джошуа Сэгельсон, недавно произведенный в генералы, наслаждается быстротой, выжимая из мотора все данные ему конструкторами «лошадиные силы».
Губы Шейх-Аталык-Ходжи шевелятся, зерна четок скользят в его послушных пальцах. А убийцы здесь, где-то рядом; они ходят в мечети, слушают чтецов корана — да покарает их единый мучительной смертью, — осмеливаются совершать намаз…
Гибель Сеид-Касим-Хана принесла мулле нежданное наследство: часть общего капитала, не оформленная расписками, была в руках муллы, и наследники не узнали о ней. Люди попрежнему, хвала богу, хотят жить, берут в долг и вносят проценты… Но покоя нет.
При вести о страшной смерти компаньона и друга земля дрогнула под ногами муллы, как при землетрясении. Ведь нищие злодеи могут завтра наброситься и на него, опору веры, имама — учителя ислама. И он утроил заботы о своей личной охране…
Мулла думал о печальной судьбе ислама. Законы ислама позволяли казнить только добровольно сознавшегося в преступлении человека. Но как много было способов в руках прежних кади-судей, чтобы быстро добиться признания! Пытка помогала воспитывать народ и управлять им. Сначала немцы, потом американцы поняли это, заимствовали пытку у мусульман. Но сами мусульмане теряют былую решимость. Заблуждение! Опытный палач теперь нужнее, чем прежде! Народ глупеет и безумеет!
Шейх-Аталык-Ходжа уставился в спину генерала Сэгельсона. Приходится признавать руководство свиньи, родившейся от женщины с непокрытым лицом в нечистой стране, уступать ему доходы, слушать его грубые речи. Мулла охотно скормил бы генерала Сэгельсона червям, как сто лет тому назад поступил с британскими послами полковником Стоддартом и капитаном Конноли славный эмир аллакендский Насрулла-Хан. Но… это только игра воображения… Нет других союзников, судьба ислама отныне связана с судьбой Америки. Это мулла понимает так же ясно, как то, что от любого волнения народа он найдет убежище только в воздвигнутой американцами крепости в предгорной долине…
Автомобиль остановился. Генерал Сэгельсон обернулся, и лицо Шейх-Аталык-Ходжи расплылось в сладчайшей улыбке:
— Да, доехали очень быстро, я наслаждался стремительностью, подобной полету сказочного волшебного ковра. Господин генерал управляет машиной, точно вдохновленный богом. Я испытывал несказанное удовольствие и чувствую себя отлично…
II
— Вы направляетесь в страну, временно принадлежащую коммунистам, — говорил мулла. — Советский Союз есть дар-уль-харб, то-есть страна врага. В ней мусульмане должны уничтожать нечистых людей и завладевать их имуществом. Так велит бог. Он, милостивый и живой, приготовил великолепные награды воинам ислама.
У муллы горбатый нос, густые черные брови и черные, без единой седой нити, усы и борода. Его лицо покрыто загаром черножелтого цвета. Он умеет говорить громким и внушительно-сильным голосом проповедника, гордо откидывая голову. Значение своей речи он подчеркивает жестами то одной, то другой руки, простирая их вперед к слушателям, с четырьмя вытянутыми пальцами и опущенным вниз большим. Кисти рук у муллы узкие, а пальцы тонкие и длинные, заостренные на концах — руки человека, чьи предки из поколения в поколение не знали физического труда.
— Единый и вечный начертал для каждого его судьбу и обещал показать книгу, где записаны все дела людей. Идите же смело и без страха. Без воли милосердного ни одна пылинка не падет с одежды человека, ни одна мысль не тревожит разум, ни одно желание не пробуждается в сердце.
Подвернув под себя полы халатов и скрестив ноги, слушатели муллы сидели на каменном полу, застеленном толстой светлой кошмой с красными разводами. Небольшая комната, высеченная в горе, как и все помещения секретной авиационной базы, служила им временным жилищем.
В углу лежали аккуратно свернутые толстые шерстяные одеяла и подушки. Окон не было, едва слышно ныли вентиляторы, нагнетающие и отсасывающие воздух. Комната освещалась электрическими лампами в длинных трубках, укрепленных на стенах.
По-разному люди слушали муллу.
Сафар и Исхак сидели застыв, не делая ни одного движения, с привычно напряженными и мрачными лицами. Худые, жилистые, сильные, с проседью в бородах, они положили руки на колени и опустили глаза. Они хорошо знали истины, излагаемые муллой, безусловно верили каждому его слову, черпали в них внутреннюю силу и могли бы слушать его часами, не испытывая ни скуки, ни нетерпения.
Пожилые, одинокие, Сафар и Исхак чувствовали себя обреченными: относясь безразлично к чужой жизни, они не слишком дорожили своей. Им в жизни больше не на что было надеяться, кроме как на единственное прибежище человека — на деньги. Если же ждет неудача, они войдут в рай. Сейчас земные деньги зависели от удачного исхода рискованного предприятия, а что такое риск, они знали.
Судьбы Сафара и Исхака были сходны, как две истертые медные монеты. Они были молодыми, отчаянными джигитами, когда в марте 1931 года в числе двух тысяч других всадников переправились через Аму-Дарью и напали на кишлаки советских таджиков и узбеков. Но удалые джигиты были разгромлены народным ополчением под руководством Мукума Султанова, а их начальник Ибрагим-Бек живым попал в плен. Спаслось лишь несколько десятков его бойцов. Порознь, на надутых бурдюках, они переплыли обратно через Аму-Дарью.
Истекшие с тех дней два десятилетия Сафар и Исхак провели, питаясь подачками случайных господ. Зачастую кто-нибудь из богатых и сильных людей нуждался в вооруженной челяди, в молодцах, способных молчать, умеющих обращаться с оружием и не задумывающихся, когда прикажут спустить курок или ударить ножом человека, не спрашивая, кто он и кому мешает на этом свете.
Бурхану было не больше тридцати или тридцати двух лет. Он носил только усы по афганскому обычаю. Лет десять тому назад Бурхан был советским солдатом, сдался гитлеровцам в плен и предпочел измену родине длительной голодовке в фашистских лагерях для военнопленных. Впоследствии он прошел через американские лагери для «перемещенных лиц», получил специальную подготовку и считал своей «профессией» ту работу, что его ждала. Бурхан сидел неспокойно, вертелся, ему очень хотелось курить, но он не смел позволить себе такую вольность.
— Истинный наложил проклятие на неверных, — звучал повелительный голос муллы. — Правоверные обязаны убивать их, где бы ни застали. Только мусульманин свободен и имеет право жить на земле. Запомните то, что я вам скажу, это великое откровение. Ныне христиане более не враги ислама! Помните: американцы и англичане, следующие ошибочному учению пророка Иссы-Христа, ныне — вернейшие союзники ислама! А неверные, назначенные быть уничтоженными, это коммунисты. Они восстали на бога, и бог проклял их. Убийство коммуниста есть высшая заслуга перед богом… Бог требует от вас их крови и открывает вам двери Эдема!
Ахмад, Исмаил и Юнус слушали, не отрывая глаз от лица муллы. Когда Шейх-Аталык-Ходжа вытягивал острые пальцы, увлеченным его красноречием Ахмаду и Исмаилу казалось, что он обращается именно к ним. А Юнус чуть сжимался — ему думалось, что мулла может знать об одном его проступке.
Ахмад и Исмаил прошли тщательную подготовку в школе, организованной американцами для агентов по борьбе с коммунистами. Юнус был присоединен к ним несколько позже. Эти трое были рекомендованы американцам муллой Шейх-Аталык-Ходжой, тогда как Сафар и Исхак были присланы в американскую школу покойным ныне Сеид-Касим-Ханом.
Ахмад и Исмаил принимали участие в нападениях на индусов в период разделения Индустана на два государства. У них уже были «заслуги» перед богом ислама. Оба действовали на территории Кашмира и откровенно хвастались убийствами индусов — «поклонников коровы», как они выражались.
Юнус был сыном одного из неоплатных должников муллы. Взятый за долг ребенком, он вырос слугой в доме кредитора отца, привык почитать и бояться Шейх-Аталык-Ходжу. Мулла отдал его американцам как принадлежащую ему вещь.
Все шестеро слушателей муллы были обучены обращению с разным оружием, прыжкам с парашютами с больших высот, умели производить съемку местности, читать карты и знали многие необходимые им в дальнейшем уловки и приемы. В школе мулла не спускал с них глаз и занимался воспитанием их чувств и мыслей как воинов ислама.
— Отнимая жизнь у нечестивого коммуниста, вы совершаете благое дело, — продолжал мулла свое последнее, торжественное напутствие. — Однако будьте осторожны, вступая в борьбу. Милостивый разрешает вам давать неверным дорогу, оставлять их на некоторое время в покое с тем, чтобы пришел благоприятный час для их полного уничтожения. Закон разрешает вам не только не брить голову в пути, и позволяет вам все, потому что Советский Союз есть дар-уль-харб. В случае надобности нарушайте предписания святой веры, не бойтесь даже пропускать часы омовений и молитв. Не остерегайтесь ничего, что названо в законе гарамом — недозволенным, и мекрухом — мерзким, даже употребления в пищу мяса свиньи…
Внезапно вспомнив «мерзкого» дивону Эль-Мустафи, мулла прервал свою речь и замер, беззвучно шевеля губами, точно читая немую молитву.
Ведь по его указанию, по его настоянию этот наглый смутьян и подозреваемый еретик и безбожник, оскорбивший Сеид-Касим-Хана за несколько часов до его смерти, был арестован властями по подозрению в убийстве. Бродяга, не имеющий ни земли, ни дома, ни денег, возмутитель порядка, ведущий странные речи, замеченный им еще в медресе. И что же? Не семь и не двенадцать свидетелей, требующихся по обычаю, а едва ли не тридцать человек явилось сразу и в установленном законом порядке сняли с дивоны, справедливые подозрения. Народ волновался, и власти освободили бродячего проповедника. Тогда мулла приказал своим людям схватить дивону и тихо расправиться с ним. Но смутьян исчез, точно в воду канул…
«Положительно, смерть моего несчастного друга лишила меня самообладания», — подумал мулла и, поймав утерянную нить мыслей, продолжал святую речь:
— Итак, вам все дозволено. Когда вы вернетесь сюда, в дар-уль-ислам, вы будете очищены от всех невольных прегрешений. Поэтому да не будет ничем отягощена ваша совесть в стране врага! А после смерти вас введут в сады Эдема. Там под чудными деревьями текут реки прозрачной воды и исполняются все желания воина ислама, отдавшего жизнь за дело веры. Вас ждут там скромные взоры нежных молодых дев, подобных гиацинту и кораллу, которых еще не видел до вас ни человек, ни джин…
Юнус успокоился. Мулла кончает речь и, как видно, не знает, что Юнус не так давно встретил около американской базы дервиша Эль-Мустафи, которого разыскивал мулла, и поленился сказать об этом. Сейчас Юнус искренне раскаивался в своей небрежности.
III
В последнее время генерал Сэгельсон не скупился на улыбки и любезности по отношению к своему «дорогому другу», как он стал называть муллу Шейх-Аталык-Ходжу.
Мулле был предложен ужин, приготовленный специальным поваром-мусульманином, следовательно вполне приемлемый и ничем не могущий оскорбить чувства законоучителя. Для рассеяния всех сомнений повар был вызван и представлен мулле.
Охотно поглощая острые блюда, генерал хвалил местную кухню, говорил о своем уважении к исламу и всячески старался расположить к себе гостя в зеленой чалме. Это были не первые уверения в дружбе, и Шейх-Аталык-Ходжа безукоризненным чутьем делового человека сразу понял, чего следует ждать от командующего базой. Но мулла был вежливо холоден, так как предлагающий дело обязан говорить первым. Пусть неуклюжий американец сам скажет нужные слова.
Часа через два, устав от непонятливости азиата, Сэгельсон сделал прямое предложение. Он предполагает добиваться кредитов на дополнительные работы по устройству запасного аэродрома и дорог. Согласен ли Шейх-Аталык-Ходжа принять подряд на поставку рабочих при условии, что три четверти барыша пойдут генералу?
Неравноправность условий генерал Сэгельсон обосновывал особо высокими сметными ценами, что будет его специальным вкладом в дело, и тем, что ему придется кое с кем поделиться.
Мулла не был ученым экономистом, но твердо знал основной закон — доход на вкладываемый в дело капитал тем выше, чем дешевле рабочие руки. Генерал еще не знал, как дешевы рабочие руки, которыми мог располагать мулла. Не четверть реального барыша, а три четверти достанутся мулле. Однако следует заставить генерала поволноваться и сбавить. Поэтому Шейх-Аталык-Ходжа холодно попросил времени на размышление.
С большой предупредительностью генерал усадил дорогого гостя в автомобиль и строго поручил его бдительности офицера, назначенного с двумя солдатами охранять муллу в пути и до двери дома. Сейчас здоровье муллы сделалось особенно ценным.
Ехали медленно, осторожно. Автомобильные фары выхватывали из мрака куски дорожного полотна. Какой-то зверь, попавший в луч света, поспешно свалился в кювет.
В нескольких километрах от базы мулла приказал остановить машину. Он знал, что здесь, невидимая в темноте, стоит гробница — мазар святого. Мулла вышел из автомобиля, отошел в сторону и, недоступный для нечистого взгляда, сотворил глубокий поклон — саджад.
Шейх-Аталык-Ходжа горячо молился. Он просил у бога помощи и покровительства мусульманам, которые сейчас должны отправиться в дар-уль-харб — страну врага. Просил об успехе их дела, умолял приблизить день великой войны против коммунистов.
Потом мулла горячо благодарил бога за предстоящие барыши от сделки с американским генералом. Он был убежден, что в этом деле уже проявляется милость всевышнего, что бог наглядно поощряет союз с христианами. Увеличивая богатство муллы, бог ислама зримо благословляет своего слугу…
Неподвижная машина ярко светила фарами, чтобы мулла не потерялся в темноте. На обратном пути к автомобилю мулла вспомнил о дурном мусульманине, гордом и строптивом человеке по имени Ибадулла, который оскорбил его отказом от совместной деятельности и исчез. У муллы были длинные руки, но след Ибадуллы потерялся в горах, невдалеке от советской границы…
Мулла остановился. Ночь была безветренна и тиха. Издали доносились лай, тявканье и стоны шакалов. Привлекаемые раздражающим запахом обильных остатков пищи, которые щедро выбрасывались из кухонь американской базы, шакалы откочевывали с тощих свалок на улицах глиняного городка и крались, озираясь и поджав хвосты, по пустынному летному полю.
IV
Яснее и яснее слышен гул авиационных моторов. Судя по звуку, самолет идет где-то за Аму-Дарьей, за границей.
Лунная азиатская ночь светла, ярка, прозрачна. На поверхности земли видно хорошо. Отраженного света достаточно, чтобы без труда читать газетные заголовки. Острому молодому зрению пограничника доступен даже и текст статьи. Солдат невольно всматривается в небо. Но даже в самую светлую ночь невозможно рассмотреть самолет.
В последнее время за рубежом отмечалась повышенная активность авиации. Самолеты появлялись в сумерки или в самом начале ночи. Они проходили на большой высоте, в десять или одиннадцать тысяч метров, всегда слева направо, то-есть с востока на запад. Иногда одна машина, иногда две.
Из-за высоты шум моторов казался более отдаленным, чем на самом деле, — звуковой волне требуется тридцать секунд, чтобы донести сигнал с высоты в одиннадцать тысяч метров.
Полеты тревожили границу. Там, за мутной рекой, кто-то усиленно упражнялся в искусстве ночных полетов и выбрал для своих занятий приграничную зону.
Самолет на большой скорости шел вдоль реки. Вдруг шум изменился, усилился и вот уже падает сверху! Самолет над головой. Граница нарушена. Тревога!
Проходит десять минут. Двенадцать. Пятнадцать… За это время неизвестный самолет успел описать в верхних слоях атмосферы дугу длиной больше ста пятидесяти километров и снова оказаться вне нарушенной им границы. Зачем это понадобилось?
Немедленно начинается тщательный осмотр, без внимания не остается ни одно местечко дикой, почти не населенной местности.
Днем с самолета «ПО-2» обнаруживают раскрытые парашюты. Они лежат на колючих кустарниках и на песке, среди гребней песчаных холмов.
Но никаких следов людей нет, хотя их ищут те, кто умеет смотреть. Да, ошибки нет: никто не отходил и никто не приближался к месту, где нашлись парашюты. В сброшенных тюках ничего не оказалось, кроме шерстяных одеял. Анализ не установил в тканях каких-либо болезнетворных бацилл.
О факте нарушения границы пошлют ноту. Вскоре, по истечении полагающегося по дипломатическим традициям срока, поступит ответная нота:
«Произошла непредумышленная ошибка во время учебного полета. Пилот был введен в заблуждение неточностью штурманских вычислений… дефекты в приборах обнаружены при обследовании самолёта… сброшен учебный, условный груз».
Последуют извинения. Есть нерушимое правило: до последней секунды мира и до первого выстрела на границе дипломатия говорит с безупречной вежливостью.
V
Многомоторный самолет проходил над Гиндукушем. Это название горного хребта было бы правильнее писать Хинду-Куш — Могила Индуса. Почему родилось такое мрачное название?
С именем хребта связан кусок кровавой истории ислама. Арабские завоеватели в цепях гнали вереницы «нечистых многобожников» индусов в ледяные горы добывать алмазы в пещерах диких хребтов. На своей теплой родине индусы не знали даже легких заморозков, и невольные искатели сокровищ никогда не возвращались домой…
Неспокойно было лететь над Хинду-Кушем. Горные пики вздымались рядом, обрамляя воздушные проходы, по которым проносился самолет. Местами пространства были так узки, что невольно казалось — вот-вот и громадная машина заденет за камни или за льды концом длинного крыла.
Самолет тащил за собой на стальном тросе большой ширококрылый планер. Длинное и узкое, как у хищной птицы, тело планера прикрывал легкий колпак. Планер был особой конструкции, почти без металлических частей. В нем находились семь человек: пилот и шесть пассажиров, тех, кого напутствовал в дальнюю дорогу мулла Шейх-Аталык-Ходжа. Чтобы воины ислама не нарушали равновесия планера и не затрудняли пилота во время трудного полета, американцы рассадили людей по точно определенным местам и разъяснили опасность перемещения.
Пассажиры чувствовали, как от холода и неподвижности их тела цепенеют. Но они знали, что это ненадолго, и терпели. Иногда кто-нибудь осторожно шевелился, стараясь немного изменить утомительное положение, и передергивал затекшими плечами под лямками парашюта.
Наконец горы ушли вниз и назад, кругом легла тусклая, спокойная пустота. Земли уже не было видно. Скорее бы прозвучал сигнал, по которому придется броситься вниз, на теплую землю.
Прыжок никого не смущал. Они уже не боялись, как в начале обучения, кажущейся неизмеримости воздушной бездны. Они верили в качество парашютов, в свое уменье и ловкость, доверяли силе документов и денег, полученных от американцев, но больше всего они полагались на непререкаемую судьбу, освобождавшую их от тягот сомнений и свободного выбора…
И все же ожидание угнетало…
Увлекаемый буксиром, планер вибрировал. Людей оглушал страшный рев и грохот. Работа моторов буксирующего самолета обрушивалась всей силой на легкое тело планера. Казалось, что не рассекаемый пропеллерами воздух, а именно этот шум заставляет дрожать планер и скоро его разрушит. В тревоге кто-то громко молился, сам не слыша произносимых слов.
VI
Неожиданно всех резко рвануло и планер дернулся назад. Сначала он взвился, потом нырнул вниз и выпрямился приподнимаясь. Сразу пришла тишина. В легком оперении машины тонко свистел воздух.
Приблизились решающие минуты. Планер отцепил буксирный трос и теперь парил над дар-уль-харбом, страной врага, парил как вампир на гибких прочных крыльях, невидимый, свободный и бесшумный.
Доставивший его самолет уже ушел далеко для исполнения своей второй задачи — отвлечь внимание от места действительного приземления воздушного десанта.
Скоро дадут сигнал. Пассажиры напрягали мускулы и шевелили руками, стараясь вернуть гибкость затекшим и окоченевшим телам.
Сафар громко произносил исповедание веры: нет бога, кроме бога… В тишине все слышали презрительное «ха!», изданное Бурханом.
Зазвенел колокольчик. Ожидаемый всеми тихий звук показался пронзительным, громким.
Последовательность прыжков была установлена заранее и твердо заучена.
Один за другим люди вываливались из люка и падали. Специальный прибор откроет парашют приблизительно в двухстах метрах над поверхностью земли. Автоматическое управление удачно разрешало проблему затяжных прыжков в ночное время.
Облегченный планер набирал потерянную высоту и послушно поворачивал. От жарко нагретой дневным солнцем земли поднимались токи воздуха, они мягко и сильно жали снизу на крылья планера.
Пересекая Аму-Дарью, планер попал в глубокую воздушную яму и клюнул вниз. Но умелый пилот вынесся в теплое пространство над левым берегом и вернул часть потерянной высоты.
Все дальше и дальше от нарушенной границы скользил невидимый планер, бесшумный, как сова. Пилот был обязан посадить машину в таком удалении от рубежа, чтобы никто не мог заметить его днем и разгадать хитрую тайну ночного маневра. Но высоты хватит еще на полчаса свободного полета. Этого достаточно…
VII
Исполняя приказ, Сафар выбросился первым и первым оказался внизу. Приземляясь, он подогнул ноги, чтобы смягчить толчок, свернулся комком, мягко повалился на бок и так же легко вскочил. На земле было светло, почти как днем, — так казалось после мрака неба. И совсем не было ветра. В сторону метнулось какое-то мелкое животное, испуганное упавшим с неба человеком.
Не раздумывая, Сафар бросился собирать парашют. Озноба как не было, сразу стало тепло. Окоченевшие пальцы мешали. Сафар заметил, что ему не удается так быстро собрать парашют, как на тренировках, но скоро в его руках уже был компактный пакет шелка и тонких шнурков.
Сафар был назначен старшим группы, и его первой обязанностью было собрать людей вместе и уничтожить парашюты.
Луна светила очень ярко, и Сафар увидел, что стоит на дне мелкой песчаной котловины. Не так далеко от себя он различил две темные фигуры: десант сумел упасть кучно!
— Вот и трое! — сказал он себе вслух.
Вскоре нашлись еще двое. Не хватало Бурхана-безбожника, как называл его Ахмад.
Десантники были твердо уверены, что их выбросили именно в назначенном месте, в пустыне и вдали от населенного пункта, но все же они не решались дать сигнал или громко кричать.
Бурхана искали долго и бранили его. Он должен был выбрасываться последним и наверняка задержался, упустил время.
Сафар и Исхак тоже не любили Бурхана. Прозванный в американской школе «человеком со многими языками», Бурхан надоедливо хвастался своими похождениями, смотрел на всех свысока и позволял себе смеяться над людьми, старшими по возрасту и по опыту жизни.
Нетерпеливый Ахмад предлагал прекратить поиски. Но потеря одного человека на первом шагу была бы плохой приметой… Только через час, когда все успели измучиться и начали думать, что Бурхан остался в планере, он нашелся.
Он лежал, поэтому было так трудно его заметить. Когда товарищи подошли, он стал ругаться, смешивая узбекские, таджикские, русские, арабские, немецкие и английские ругательства. Сафар сразу понял, что Бурхан вовсе не хотел, чтобы его нашли.
— Я ушиб ногу! — кричал Бурхан. Оставьте меня в покое и уходите. Я отлежусь здесь и приду потом, я знаю маршрут.
— Не кричи, — сказал ему Ахмад, — ты забыл, где находишься?
Бурхан замолчал, Сафар ощупал его ногу. Под коленом было что-то странное, и нога имела неестественное положение. Но Бурхан не дал посмотреть как следует и назвал Сафара позорным именем.
— Убирайся от меня! — злобно вскрикнул он, лежа на боку и сжимая в руке пистолет.
Сафар отошел и, глядя на пистолет, напрягся, готовясь отскочить, если Бурхан начнет стрелять. Да, итти со всеми Бурхан не сможет… И оставить его нельзя, его могут найти, и он постарается купить себе жизнь, безбожник…
Исхак подобрался сзади к Бурхану и выхватил пистолет из его руки. С помощью Ахмада Исхак отстегивал лямки парашюта и что-то говорил Бурхану, стараясь его успокоить. Но Бурхан не слушал и продолжал оскорблять Сафара. Он знал обязанности старшего, но редкий человек может примириться, когда приходит его последний час… Пусть бранится. Сафар с достоинством молчал, хотя Бурхан назвал его старой тощей свиньей и вшивым шакалом.
Ахмад ловко вытащил свой пистолет ткнул дулом в затылок Бурхана, заглушая звук выстрела.
Бурхан смолк, и Сафар сказал:
— Бурхан был плохой человек, но судьба послала ему легкую смерть.
— Он был дурной мусульманин, — заметил Ахмад. — Бог сломал ему ногу, чтобы избавить нас.
— Ты прав, — сказал Исхак, — он мог продать нас, как уже продавал других.
— Вы все правы, — заключил Исмаил. — Мы избавлены от него, и это добрый знак.
Они постарались поглубже зарыть тело Бурхана. На его могилу навалили камни, о которые он сломал себе ногу, чтобы до трупа плохого мусульманина не добрались шакалы и не открыли тайну.
На рассвете, когда огонь уже не виден, а дым еще плохо различается, они сожгли парашюты.
Потом по компасу двинулись в путь. Следовало найти один маленький кишлак — первую ступеньку на пути по дар-уль-харбу.
Часть третья В ДВИЖЕНИИ
Глава первая ПОИСКИ
I
Странной, удивительной казалась земля этой ночью. Прямоугольник света, падающий из окна вагона, бежал рядом, причудливо стелясь и прыгая по краю бесплодной насыпи железнодорожного пути. Чуть дальше было темно, и там неслась смутная путаница резко изломанных черт, точно почва была перевернута плугом, оставившим поднятые черные пласты.
Горизонт казался близким, но был мутным, без звезд. Они как будто забрались еще выше и сделались маленькими и тусклыми.
В двенадцати или тринадцати вагонах пассажирского поезда могло бы поместиться население целого кишлака: больше пятисот человек стремились куда-то этой ночью вместе с Ибадуллой. Но, кроме него, никто не обращал внимания на землю и звезды.
Не было видно, куда паровоз тянет вагоны, и Ибадулла ощущал стремительный бег поезда, как движение по прямой. Позади остались город с его великими памятниками, мечетями, минаретами и мавзолеями, дом доброго Мослима — справедливого друга, строгий мудрец Мохаммед-Рахим, знающий прошлое и настоящее. Там осталось и время, составленное из дней, которые никогда не вернутся. Нельзя взять назад ни одного прошедшего часа и ни одной прошедшей секунды. Никто не в силах этого сделать.
«Бог бессилен вернуть время назад и изменить прошлое, не так ли?» — спрашивал себя Ибадулла. «Да, — отвечал он, — дела человека переходят изо дня в день, связывают прошедшую минуту с настоящей. Дело — вот основа бытия человека, цель и средство жизни. Дело связывает дни так крепко, что нет силы, могущей нарушить эту связь, перестроить и изменить ее. Следовательно, воля человека, совершающего дело, сама соединяет его прошлое с настоящим. Сам человек, создавая причину, предопределяет следствия. А где же место для бога и для творимой им судьбы?..
Не первый год подобные мысли тревожили Ибадуллу. За последнее же время место, отведенное в его сознании богу, уменьшалось с особенной быстротой.
Его учили думать, что человек отдан судьбе, безраздельно управляющей жизнью. Судьба мусульманина лишила его родины, жены, детей. Мослим сказал, что для оспы нет судьбы, а есть врачи, и это правда! Если бы Ибадулла жил на родине, где нет оспы, его близкие были бы теперь с ним, живые…
Шейх-Аталык-Ходжа, и все его друзья, и учителя ислама считали, что величие прошлого было основано на мече и цель мусульман была воевать и побеждать. И всегда должно быть так. Так ли это?
Судьба мусульманина отдавала его, Ибадуллу, в руки Шейх-Аталык-Ходжи и американцев. Но он ушел. Где же была судьба? Ведь он сам, и никто иной, так решил и так сделал. Там, за горами, утверждался ислам, а народ был жалок, нищ, угнетен. Родина же отвергает ислам. Но ведь родина вознаграждена! Она обильна хлебом, сердца людей богаты добротой, а их умы — знанием… И кто ты, Ибадулла, в этом большом мире?. Человек стоял у окна вагона, повторял про себя свое имя и спрашивал, кто же он, кто, кто? — пока у него не закружилась голова…
Он нашел наверху большую яркую звезду и не отрывал от нее взгляда. Звезда не оставалась на месте, она обгоняла поезд, затем поезд нагнал ее, опередил и оставил где-то сзади. Наверное, эта дорога не была прямой, какой казалась. Путь извивался и поезд вместе с ним — по воле людей, проложивших в пустыне стальные рельсы.Поезд идет по земле родины, и никогда Ибадулла не покинет ее пределы.
— Идите ложитесь, Ибадулла, — позвали его, и он послушно отошел от окна. — Мы скоро приедем, нужно немного поспать.
Это говорила девушка Фатима. Она лежала под легким одеялом на нижнем диване. Наверху, против предназначенного Ибадулле места, крепко спал тот самый русский, с которым Ибадулле пришлось встретиться и в первый и во второй день своего пребывания в городе. А в третий раз их свела воля Мослима, как считал Ибадулла.
Русского звали Ефимов, Иван Сергеевич, товарищ. Следовало говорить или товарищ Ефимов, или Иван Сергеевич. Но когда Ибадулла ошибался и говорил товарищ Иван или просто Ефимов, русскому было все равно, он также охотно отзывался.
Ибадулле не хотелось спать. Однако он послушно забрался на верхнюю койку, заложил руки за голову и закрыл глаза. Он продолжал спрашивать себя — кто он, и постепенно уходил далеко в прошлое.
II
Уже маленьким мальчиком Ибадулла знал все закоулки громадного Кабульского базара. Отец и сын иногда сидели вместе в чайханах базара, как все мужчины, и ребенок учился держать себя так же строго и спокойно, как взрослые.
Были очень вкусные кандилаты — шарики из тростникового сахара и муки, — сушеные дыни и финики, шелковица, абрикосы и мягкий сморщенный изюм из винограда без косточек.
Сожженные солнцем дочерна водоносы с громадными бурдюками, похожими на безголовых облысевших баранов, кричали на разные голоса одно и то же: «Воды! Воды! Свежей воды!»
Сквозь густую толпу, не стесняясь, проезжали большие люди на маленьких ослах. Ослы были спокойны и серьезны, никого не толкали, никому на наступали на ноги. Когда хозяин слезал и уходил, осел оставался ждать его, будто вкопанный в землю. Отец знал интересную поговорку: будь у осла ноги толще, он поднял бы весь мир.
Без конца тянулись кузнечные ряды. Там с потолков свисали длинные ремни. Дергая за ремень рукой или ногой, кузнец приводил в действие мех. Струя воздуха дула в яркую кучку раскаленного угля, и кузнец вытаскивал из маленького горна кусок желтого, как солнце, железа. Он бил по нему молотком, железо краснело, темнело и превращалось на глазах мальчика в подкову, кетмень или нож. Отец говорил, что всегда так обрабатывали железо, со дня, в который родился пророк Магомет. Но теперь нет таких мастеров, которые делали клинки, рубившие пух.
Ярчайшими цветами и блеском переливалась поливная глиняная посуда, и отец говорил, что в старину посуда была даже лучше.
Целыми улицами висели ковры, шелка, платки и бумажные материи, ими можно было бы одеть весь мир.
В крошечных будочках сидели золотых дел мастера. Они возились с цветными камешками, крутили и вили серебряные и золотые проволочки, и вдруг один из них показывал серьезному мальчику в большой не по росту чалме, державшемуся за руку отца, браслет, бусы или женскую серьгу с подвесками, такую же, как у матери.
Проходили молчаливые женщины в накидках на головах, к которым спереди были пришиты большие длинные покрывала, сплетенные из черного конского волоса. Издали все женщины казались похожими на мать. Но эти женщины никогда не открывали своих лиц, они были чужие, а он — мужчина…
Важно сидели сараффы-менялы, торговцы деньгами, такие неподвижные, точно под шелковыми халатами были не живые тела, как у всех остальных людей, а тяжелые мешки, туго набитые золотыми монетами. Среди менял было много индусов в красных чалмах-пагри, обмотанных не так, как у мусульман, и с рогатыми знаками, нарисованными на лбах. К сараффам приходили люди, садились и пили с ними чай. И разговаривали — по одному слову в час. Отец говорил, что так заключаются большие сделки на суммы, равные стоимости товаров целых базарных рядов, и от которых может зависеть судьба десятков и сотен тысяч людей, сделки на ввоз и вывоз риса и зерна, хлопка, шерсти, винтовок, патронов и даже пушек…
Так же было и на родине, в Аллакенде. Отец постоянно рассказывал о городе, его улицах, мечетях и окрестностях. Показывая сыну какое-нибудь место в Кабуле, отец обязательно замечал:
— У нас тоже было так, или: у нас было похоже, или: а у нас было иначе.
Во всем, что попадалось на глаза, отец находил повод для сравнения и рассказа. Иногда мальчик говорил: «Я тоже помню». Ему казалось, что он помнит, он не лгал. Он никогда не лгал, — ложь позорна для мужчины… Отец всегда удивлялся и слушал сына вздыхая… А вечером он говорил жене: «Ты знаешь, он сегодня вспомнил»… — и тогда вздыхала и мать.
Сын твердо знал, что нет в мире лучшего места, чем его родина! Ведь он родился в великом Аллакенде, как его отец, дед, прадед.
Иной раз для забавы отец и сын следовали за жадным инглези — англичанином или американцем, искавшим на базаре старое оружие, ковер или другие красивые вещи. Люди на базаре говорили, что на родине инглези нет красивых вещей и никто не умеет их делать.
Инглези выбирал кривой кинжал с рукояткой из пожелтевшей слоновой кости в источенных белыми муравьями бархатных ножнах, бронзовую чашу с тонкой насечкой, седло с высокой шишкой луки, шашку с золотым узором на клинке и со стихом корана на синеватой стали…
Инглези не понимал языка людей, и купец, вежливо кланяясь покупателю, в глаза называл его паршивейшим псом, незаконнорожденным сыном черепахи и свиньи. Никто не смеялся, все умели искренне забавляться с серьезными лицами.
Много лет прошло с того черного года, когда войска инглези напали на Афганистан, взяли Кабул и выжгли город и базар. Но ненависть к ним продолжала жить в обиженном народе.
Просто совершаются дела между правоверными, но нужно узнать, позволит ли судьба заключить сделку с неверным. И купец начинал гадать на четках. Он захватывал наугад горсть зерен и считал: раз — Адам, два — Ева, три — Эблис. Если выходил Адам, продажа совершалась без затруднений. Ева давала указание повысить цену и не уступать. Но когда в конце гадания выпадал Эблис, купец махал инглези рукой и поворачивал спину. Нечистый пожиратель свиного мяса может убираться восвояси, ни за какие деньги ему ничего не продадут. И нищие протягивали к инглези черные ладони, одинаково издеваясь над ним и проклиная его, давал ли он им что-либо или нет.
…Эмир Сеид-Алим-Хан был большой красивый человек в золотом халате и в громадной, как гнездо аиста, белой чалме. Он ездил в Кабул разговаривать с самим афганским падишахом. Окруженный свитой, он ехал на красивой лошади карабаире, которую вели под уздцы.
Быть может, тысяча человек, ушедших с эмиром, ютилась и теснилась в купленном им поместье под Кабулом, по имени Кала-и-Фата. Люди без родины, они постоянно говорили о ней. Она была за горами, куда заходит солнце, и следовало молиться, обратившись к ней лицом. Иногда кто-нибудь уходил туда. Редко случалось, что кто-нибудь возвращался, их рассказов хватало на месяцы.
…Мулла читал детям строфы из корана, и мальчики повторяли за ним вслух, чтобы заучить наизусть. Этим начиналась и кончалась обычная наука мусульманина, но Ибадуллу обучили и арабскому письму. Он был понятлив и трудолюбив, в тринадцать лет он без ошибки писал священные тексты, не только имея книгу перед глазами, но и на память, как настоящий мирза. На родине, при дворе эмира, отец служил толмачом, переводчиком с русского. Он сохранил три или четыре русские книги и тщательно, потихоньку от других, учил сына говорить и писать по-русски. У отца не было такой ненависти к русским, как у эмира.
Мальчик не помнил, когда он, впервые услышал и впервые понял, что родиной владеют русские. Отец надеялся, что сын дождется дня, когда изгнанники вернутся на родину. «Мир есть лучшее из решений», — говорил Рахметулла и вздыхал — он не хотел, чтобы его сын сделался воином. Мальчик охотно учил русский язык и восхищал отца своими способностями. У ребенка была хорошая память, и услышанное однажды оставалось в ней навсегда, подобно камню, положенному в стену.
…Проходили годы. Ибадулле эмир казался маленьким человечком, утонувшим в парчовых халатах, точно раздавленным громадной чалмой. Или Сеид-Алим-Хан всегда был таким, а вырос сам Ибадулла?..
Пророк Магомет имел девять жен, и столько же разрешено законом святым имамам, верховным учителям ислама, преемникам пророка. Всем прочим людям, даже эмирам, закон разрешает четырех жен. Кроме разрешенных жен, эмир имел сорок семь наложниц. Закон говорит о женах: наложница — не жена.
А у отца была одна жена, мать Ибадуллы. Близилась пора женить сына и устроить его. Отец продал все, что имел, зарыл в землю деньги на выкуп за будущую невесту, а на то, что осталось, купил немного дешевой земли, бесплодной, без воды.
Два года они жили, как дикие звери, на мертвой земле. Два года двое мужчин, отец с сыном, как кроты, рыли кяризы. Колодцы пробивали склон пологой возвышенности и соединялись по дну водотоком, узким проходом-норой для вывода наружу собирающейся на дне колодцев воды. Было устроено два кяриза: один на двенадцать, другой на пятнадцать колодцев. Тяжелая, опасная работа.
Ибадулла познал великую радость человека, оросившего поле, давшего жизнь земле и хлеб своей семье. И вторую, когда девушка впервые открыла свое лицо мужчине, ставшему мужем. И дважды третью радость — двух сыновей, одного за другим, подарила жена.
…Умер отец. Перед смертью он проклял эмира и собственное безумие, лишившее внуков родины. А потом пришла оспа…
III
Ибадулла не мог оставаться в месте, опустошенном смертью. Он продал орошенную землю, спрятал золото в поясе и ушел в Индию, в город, где находится знаменитое высшее духовное училище для мусульман, университет ислама, медресе. Там он стал талоба — студентом, ищущим света познания и покоя душе.
Многим из духовных руководителей ислама в тот год казалось, что время начинает благоприятствовать тем, кто думает о возрождении мирового значения мусульманства. По их мнению, Советский Союз был обречен упасть под ударами германцев, подобно всем остальным государствам Европы. И медресе закипело слухами и мечтами…
Победа Германии вновь возвысит Турцию, старого друга немцев. Уже даны обещания и произошел обмен тайными, нерушимыми клятвами между турецким правительством и германским фюрером — так утверждали некоторые, точно они сами присутствовали при переговорах. Империя Кейсар-и-Рума возродится в еще больших пределах, и вновь заблестит меч ислама.
Англичане и французы будут изгнаны из Азии и Африки…
Воспаленные мечты исламитов не знали предела: Советский Союз будет разорван на мелкие куски. Вновь создадутся былые эмираты Аллакенда, Хивы, Коканда. В Сибири, на Волге, в Крыму и на юге бывшей Российской империи появятся новые ханства.
Предосудительность чтения газет и книг иноверной печати была забыта, все обсуждали политические вопросы. Передавали якобы точнейшие сведения о религиозном и национальном кипении на территориях, входящих в Советский Союз. Ссылались на верных людей: советские мусульмане не могут дождаться сигнала восстания!
Утверждали, что Гитлер почитает ислам и рядом с ним стоят скрывающие до решительного часа свои имена мусульмане, чьих советов слушается владыка Германии. Передавали даже, как известие абсолютно достоверное, что Гитлер порывает с христианством и поклялся содействовать распространению ислама во всей Азии и Африке.
Строились планы перекройки карты мира, один смелее и решительнее другого.
Профессора-мудариссы и студенты-талоба, считая себя призванными руководить движением ислама, организовали особый тайный союз.
Под видом талоба в медресе появился таинственный человек по имени Сеид-Али, знаток законов ислама. Под печатью клятвы избранные поверяли друг другу его секрет. Оказывается, Сеид-Али — не кто иной, как принявший ислам внук бывшего императора Германии Вильгельма второго, этого умершего в изгнании друга Турции и всех мусульман. Сеид-Али — друг нового германского повелителя славного Адольфа Гитлера и прислан к мусульманам со словами любви и союза.
Все ждали сигнала — вступления Турции в войну против Советского Союза. Тогда-то и поднимется повсеместно зеленое знамя джихада, беспощадной к коммунистам войны за ислам.
Прибыл посол и с Дальнего Востока. Император Японии Хирохито хотел знать, как отнесутся мусульмане к вступлению японских войск в Индию и чего они хотят за союз со страной Восходящего Солнца…
IV
Фанатики ислама разыскивали потомков пророка Магомета, чтобы заместить долженствующие вскоре открыться с помощью Гитлера и Хирохито многие вакансии мусульманских владык. Возникли многочасовые яростные споры о правах кандидатов на будущие престолы.
Дряхлый Сеид-Алим-Хан, бывший эмир Аллакендский, пытался расправить свои согнутые развратом и старостью плечи и проявлял неожиданную щедрость, поощряя не только словом, но и золотом подготовку войны против коммунистов.
Политики медресе утверждали, что Турция выступит против Советского Союза немедленно после поражения советских армий на волжских рубежах. Такое условие принято якобы в тайном договоре между Гитлером и турецким правительством!
Решающая минута приближалась. Германское радио, агенты гитлеровской пропаганды и шпионы третьего райха кричали о выходе германских войск на Волгу, о поражении Советов…
…В медресе талоба помещаются по двое, по трое и более, в зависимости от размера худжр. Ибадулла жил вместе с Шейх-Аталык-Ходжой, происходившим из рода богатейших феодальных землевладельцев-заминдаров в Западном Пенджабе. Богач нуждался в дипломе медресе для увеличения своего личного авторитета. Он честолюбиво мечтал сделаться шейх-уль-исламом, то-есть одним из вождей религии. В скромном узбеке Ибадулле дальновидный политик усматривал одно из возможных средств связи с низами осевшей под Кабулом колонии аллакендских эмигрантов и самим Аллакендом. В медресе Шейх-Аталык-Ходжа щеголял аскетической скромностью личной жизни, бредил величием ислама и жаждал священной войны…
Однажды он, веря в успехи Гитлера, приближающегося к Волге, в присутствии верных девять раз подбрасывал волшебный камень яда-таш, чтобы узнать, в каком дне наступающего месяца начнется, наконец, война. И девять раз получилось — в двадцать третьем…
…Ударом, не сразу правильно понятым и оцененным, была поражающая весть о разгроме прославленных непобедимыми войск Гитлера на Волге. Фанатики отказывались верить. Один из талоба, осмелившийся легкомысленно сделать вывод о предстоящем крушении гитлеровской империи, был тяжело изувечен. Но с непреклонностью судьбы каждую неделю и каждый месяц, как проткнутый пузырь, уменьшалась на карте захваченная германцами территория. Под ударами советских армий войска Гитлера гибли, бежали, сдавались в плен, рассыпались прахом.
Разочарование исламитов было жестоким. Приходилось признать, что считавшиеся «мусульманскими» советские республики Средней Азии и не собирались предпочесть зеленое знамя красному.
Гитлер исчез. В общем разгроме Турция сумела уцелеть, но не могло быть и речи о восстановлении ее прежней силы.
Таинственный талоба Сеид-Али бежал. Говорили, что он едва успел скрыться от ищеек инглези в афганских горах. Его искали как германского агента и шпиона.
Молчаливый и грустный Ибадулла, прислушивавшийся ко всему, чтобы найти надежду вернуться на родину, испытывал прежнюю горечь и новое смятение.
Вскоре многие политики медресе воспрянули духом. Начался кровавый дележ громадного полуострова Индустана. Возникало новое мусульманское государство — ведь раздел происходил по признакам исповедуемых населением религий.
«Ученые» изуверы разъезжались, чтобы подстрекать мусульман избивать «нечистых» индусов, многобожников, не признающих ислама. Лилась кровь бедняков, наживались богачи, захватывая за бесценок или совсем даром землю и имущество выселяемых индусов. Но все это было чуждым Ибадулле делом, и резня претила его сердцу.
Пришли вести от Сеида-Али. Он обращался к своим братьям по исламу с горячим призывом резать не столько нечистых почитателей коровы, сколько коммунистов, кто бы они ни были. И, что было весьма многозначительно, все четыре гонца, доставившие послание от Сеида-Али и усиленно рекомендуемые им, как единомышленники, были инглези, его недавние враги! Поистине, менялись времена, и новые светила вставали на небе ислама!
…И глубокая трещина прошла в отношениях между Ибадуллой и Шейх-Аталык-Ходжой. Рассыпалась непрочная постройка дружбы между бедным сыном невидного аллакендского эмигранта и представителем знатной семьи, кичащейся своим происхождением от древних шейхов-князей былых арабов-корейшитов, завоевателей Синда.
Шейх-Аталык-Ходжа принадлежал к числу тех, кто быстро понял значение происшедших политических изменений. Он безоговорочно согласился с тем, что пришло время, когда борьба с коммунистами сделалась неизмеримо важнее резни индусов. Бывший ярый враг всех инглези, противников Гитлера, ныне утверждал истинное, но, если вдуматься, не такое уже новое откровение: сущность ислама заключается в беспрекословном повиновении богу, установившему раз и навсегда незыблемое место для каждого человека, как бедного, так и богатого. Пробуждая вражду бедных к богатым, коммунисты разрывают ислам!
В кругу верных Шейх-Аталык клялся в ненависти к инглезам, но умел с блеском обширной эрудиции доказывать и неизбежность и необходимость длительного союза с ними.
Охладевшие друзья расстались. Ибадулла тосковал, чувствовал себя потерянным, ненужным, без родины, без надежды, без дела, к которому можно приложить руку и найти забвение в труде. Жизнь потеряла цену.
Иногда он перечитывал старое, полученное отцом лет пятнадцать тому назад, письмо из Аллакенда от старого друга Мослима. Человек, о котором отец всегда отзывался с уважением и любовью, звал примириться и вернуться на родину.
Развязку невольно ускорил сам Шейх-Аталык-Ходжа. Он разыскал Ибадуллу и предложил ему готовиться к переброске на родину с помощью американцев.
Происходила организация диверсионных групп из мусульман, разыскивались надежные люди. В секретных, созданных американцами школах проводилось обучение современных воинов ислама.
Ибадулле пришлось выбирать. Он не хотел ни связи с американцами, ни службы им. Он ушел тайно, полагаясь лишь на себя.
Где же была судьба? Ведь он сам, и никто иной, так решил и так сделал…
V
Пассажирский поезд остановился только на две минуты. Чем-то случайным, условным могла показаться железнодорожная станция человеку, незнакомому с ландшафтом Средней Азии.
Кругом неровная степь, обманчиво казавшаяся ночью вспаханным полем, несла редкие пучки жесткой травы. Уже минуло короткое время весеннего цветения, середина мая — это разгар лета. Сожженная жаром и безводьем растительность сделалась черно-серой, ее щетинистые растрепанные кочки торчали на бесплодных лысинах коричневого такыра.
Недалеко от станции медленно бродили и лежали несколько верблюдов. Большие тела вялых животных были такого же цвета, как грунт. Их горбы с клоками темной шерсти подражали кустикам засохших трав. Пустыня умело маскировала своих обитателей.
Кругом станционного здания не было никакой ограды, и пустая земля начиналась прямо от дверей. Рядом в степь вросли пять или шесть низких глинобитных строений с плоскими крышами. В стороны расходились тропы, извилистые пути в невидимые за горизонтом поселения и стоянки скотоводов.
Между станцией и железнодорожными путями стояло несколько пыльных акаций. От рельсов отходил наклонный желоб, кончающийся в бетонном горле подземного водоема. Воду для людей, животных и деревьев привозили в вагонах-цистернах.
Недалеко от станции высился горб моста, переброшенного через глубокую впадину. Она подходила к железнодорожным путям с северо-востока и уходила на юг. С моста открывалось глубокое и пустое русло. Местами его отлогие склоны перерывались отвесными стенами, источенными неправильными рядами черных отверстий, нор, проделанных стрижами.
Полупустыня, полустепь издавала особенный и едва различимый запах. В нем слышалась тончайшая лёссовая пыль, смешанная с ароматом недавно засохших растений. Сухой, печальный запах. Но в нем различалась особенная, бодрящая струя смолистого креозота от железнодорожных шпал.
В безводном ущелье, сужающемся под мостом, изгибалась черная тень стальной фермы, отброшенная недавно взошедшим солнцем. Горы находились на севере и на востоке, но отсюда их еще не было видно. Сухая впадина тянулась от них, как говорил Ефимов. Он показывал обеими руками: там, слева и справа, выходят отроги хребтов, между ними втягивается пустыня. Сухое русло должно вписываться в самую низкую линию местности, в тальвег этого плоского обширного куска земли.
Легкое снаряжение исследовательской группы было погружено на трех ослов. Главный груз составляли переносные резиновые резервуары для воды, наполненные доверху. Группа должна была перемещаться от колодца к колодцу, имея запас воды на длинные переходы.
Все малочисленное население станции вышло пожелать доброй удачи в пути людям, обследующим пустыню. Железнодорожники тоже принимали участие в организации экспедиции, это они выбирали ослов, самых сильных и выезженных. По маршруту экспедиции не было удобных троп для автомобиля.
VI
Каждое утро было жарким, а к полудню зной становился таким тяжким, что угнетал даже привычного человека.
Маленький караван двигался вдоль впадины. Сетка сухого, растрескавшегося ила затягивала ее дно. Грязно-белая корка была совсем тонкой, ее обновляли недолгие воды, сбегавшие по впадине в дождливое время года. Но и тогда, как видно, воды едва хватало, чтобы покрыть низ русла по колено человека.
Люди искали следы воды, но не на дне мертвого русла, а в его окрестностях. Иногда им попадались красноречивые знаки.
В своих естественных движениях природа никогда не следует прямым линиям, ее случайные следы извилисты, как буквы арабской грамоты. А работа человеческих рук оставляет прямой след. Человек спешит и любит прокладывать кратчайшие пути к своим целям. Он всегда овладевал землей, прямыми линиями дорог, городов и каналов. Такие следы и искали Ефимов и Фатима.
Едва заметные очертания выемок могли рассказать изыскателям о системе бывших арыков и каналов для орошения полей. В холмиках угадывались очертания рассыпавшихся глиняных стенок.
Инженер Ефимов был начальником, студентка Фатима Аюбова проходила производственную практику, Ибадулла исполнял обязанности рабочего — таков был его первый деятельный шаг на земле родины. Он не сразу понял, что в республике все люди очень заняты и никто не оказывает человеку благодеяния, предлагая работу, обеспечивающую его жизнь.
Ибадулле было очень стыдно, когда он в первый раз держал рейку и не понимал, зачем Ефимов смотрит на него в трубу и делает ему какие-то знаки рукой. Рейку он научился держать в один день, но чертить план, вычислять угол и работать с масштабом не мог. Оказывается, и считал он плохо.
Математику арабы переняли в Индии, и весь мир пользуется их цифрами и системой счета. Среди узбеков были и ныне есть известнейшие ученые математики. Но все это Ибадулла впервые услышал от русского Ефимова и от узбекской девушки Фатимы, никогда не носившей покрывала на лице.
Ни к чему оказались науки, с таким трудом постигнутые в медресе. Кому нужны знания старых священных книг и тонкие толкования основ ислама и его законов, кому?
Но цель работы, в которой он ныне участвовал, Ибадулла понимал без всяких объяснений. Пустынь нет, есть места без воды и места, имеющие воду. Некогда здесь была вода, потом она ушла, за ней ушли и люди…
Книги в библиотеке медресе упоминали о подобных событиях: некогда и в Сарыкамышской впадине было пресное озеро, большое, как море. Бог ислама, разгневанный на туркменов, высушил озеро и лишил поля воды. Так же он поступал и с другими людьми, чтобы наказать их за неверие.
Ефимов и Фатима чертили планы. Кусок за куском укладывалась карта системы древнего орошения. На бумаге легко соединялись части этой системы, тогда как на земле связь между ними была стерта.
— Зачем? — спросил Ибадулла.
— Чтобы знать, сколько воды здесь было прежде, сколько людей жило и кормило себя своим трудом, — ответил Ефимов.
— Но зачем это знать? Воды нет.
— Чтобы дать сюда воду. Чтобы найти пропавшую воду. Или чтобы привести сюда новую…
Глава вторая ПРИВИДЕНИЯ
I
Длинный деловой день приближался к желанному концу… Было время, когда, как рассказывают, в жаркие месяцы года день разбивался на две части, утреннюю и вечернюю, с длинным перерывом и сном между ними.
Но если бы сейчас кто-нибудь напомнил Садыку Исмаиловичу Исмаилову о порядках, свойственных старому быту, он вряд ли получил бы хоть слово в ответ от занятого человека. Садык Исмаилович был целиком погружен в подписывание исходящих бумаг. Курьер должен успеть сдать почту в отделение связи до шести часов вечера, а сейчас большие часы в кабинете показывали уже пять.
Бумаг много: несколько статистических сводок о продаже разнообразных товаров за истекший месяц, бухгалтерский отчет, конъюнктурный обзор работы торговых точек, шесть писем.
Исмаилов внимательно прочитывал все бумаги, перед тем как поставить свою подпись. Одну он недовольно отложил, написав в углу: «Совершенно не так! Переговорить со мной!»
Рядом с директором стоял управляющий делами и подкладывал начальнику очередной документ, перевертывая, в случае надобности, страницы. К сделанной подписи он бережно прикладывал пресс, хотя было так жарко, что чернила мгновенно впитывались и высыхали на пересохшей до ломкости бумаге, и пресс не успевал выполнить свое назначение. Но таково правило, установленное Исмаиловым. Когда директор напряженно работает, нужно ему помогать, а его четкая, красивая подпись не должна подвергаться риску быть смазанной.
Наконец управляющий делами собрал бумаги и ушел. Исмаилов надавил кнопочку звонка и сделал знак вошедшему секретарю. На столе появились бутылка и стакан. Исмаилов налил себе пенящегося вишневого напитка. Он жадно всасывал освежающее питье, вытянув шею, чтобы ни одна капелька не попала на чистейшую шелковую рубашку, покрывавшую его выпуклую грудь.
Покончив с бутылкой, Исмаилов удовлетворенно вздохнул и откинулся на спинку кресла. На минуту ему сделалось очень приятно после холодной и вкусной воды. Но вскоре стало опять жарко, пожалуй еще хуже, чем было.
Конечно, во время жары лучше всего утолять жажду зеленым чаем. Но советское учреждение — не чайхана. Исмаилов не допускал ни малейших признаков распущенности.
До конца занятий оставалось еще минут двадцать. И еще четверть часа директор должен пробыть в конторе после окончания рабочего дня, чтобы все работники имели перед своими глазами пример сознательного отношения к труду. Отвратительная манера спешить уйти, как будто труд — это тягость.
После легкого стука, на который Исмаилов поленился ответить, в кабинете появился его приятель Хассан Хамидович Хамидов. Так же, как Исмаилов, Хамидов носил белые брюки, шелковую рубашку и черную тюбетейку с вышитыми белыми разводами, напоминающими огурцы с загнутыми концами. Однако костюм Хамидова не был так безупречно опрятен, как костюм Исмаилова.
Хамидов придвинул стул к креслу друга и тихонько спросил:
— Сделал? Можно брать?
— Да, — ответил Исмаилов, не поворачивая головы. — Пусть возьмут за полчаса до закрытия магазина. Там готово.
— Сколько?
— Двенадцать кусков. Шерсть высшего сорта в ассортименте. И штапельное полотно.
Диалог между друзьями заключал лишь самое необходимое и мог показаться постороннему условным, точно люди говорили на каком-то жаргоне. Но друзья привыкли. Далеко не в первый раз они обменивались подобными вопросами и ответами. Результатом же подобных переговоров было исчезновение тех или иных товаров из магазинов или из складов торгующей организации и их последующая перепродажа из рук в руки по повышенным ценам. Однако это была совсем не кража. Номинальная стоимость товаров незамедлительно и полным рублем вносилась в кассу.
Слишком быстро богател народ. Колхозники-дехкане имели так много денег и так повысились их требования, что каждый хотел носить одежду обязательно из самых лучших шерстяных и шелковых тканей. Легкая промышленность не поспевала удовлетворять растущий с каждым днем спрос на ткани, которые еще недавно были роскошью. А те, кто хотел их купить, не торговались с посредниками.
Таким несложным способом Садык Исмаилович Исмаилов обеспечивал себе регулярный ежемесячный доходец, в несколько раз превышающий его директорскую ставку. Привычка делала свое, и Исмаилов не представлял себе, что можно жить иначе.
Хамидов не задержался сам и не помешал директору выйти из конторы в шестнадцать минут седьмого. Ночной сторож уже пришел. Он низко поклонился хозяину, стыдливо прикрывая спиной ступеньку. Там разворачивалась нехитрая и малодоходная торговля: рассыпные папиросы, спички, мешочек каленых семечек, леденцы.
Исмаилов делал вид, что не замечает. Пусть этот человечек имеет свое маленькое «дело». Мелочь, за нее директор не отвечает.
II
От конторы до купола Сараффон было не больше трехсот шагов, а от купола — пять минут ходьбы до дома.
Ни слова не сказав жене, открывшей ему дверь, Исмаилов поднялся на второй этаж маленького дома в переулке. В комнате с выходившими на веранду затемненными окнами хозяин, не нагибаясь, скинул с ног ботинки. Жена поспешила подставить туфли и подала легкий халат. Затем женщина бережно повесила на распорки брюки и рубашку мужа и подобрала обувь. Исмаилов слышал, как она сказала детям в соседней комнате:
— Шш! Сидите смирно. Не слышали? Отец пришел, он устал.
Садык Исмаилович был доволен своей женой. Он считал, что семейная жизнь ему вполне удалась. Послушная, молчаливая и работящая женщина была быстро приучена делать все, что от нее требовалось, без излишних напоминаний.
В хозяйстве она умела обходиться раз и навсегда установленной и, Садык Исмаилович про себя это признавал, довольно скромной суммой денег. Исмаилов жил, укладываясь в получаемый им оклад директора. Хорошая жена. Прежде, при эмире, когда Садык был грудным ребенком, мужчина брал себе вторую жену, третью, четвертую.
Совсем не трудно управлять несколькими женами, нужно быть мужчиной и уметь взяться за дело. И не так дорого было содержать нескольких жен, если заставить их работать, а не бездельничать.
Умные люди имели прежде хорошие доходы от жен. В досоветском Аллакенде три женщины, помимо всех прочих обязанностей и работая только урывками по вечерам, ткали первосортный шерстяной ковер в шесть квадратных метров за полгода. Такой ковер, настоящий Аллакендский, был золотой валютой. За него без торга платили шестьсот двадцать пять аллакендских тенег, или двенадцать с половиной фунтов стерлингов, или, что еще лучше, шестьдесят пять могущественных зеленых американских долларов, заработанных между прочим. А если заставить жен ткать весь день? Многие мужчины покупали побольше жен и жили в полном достатке их трудом. Было время. Тогда действительно стоило родиться мужчиной!
Но что пользы вздыхать о прошлом? И сейчас Садык Исмаилович может содержать трех жен, даже не заставляя их работать. Но и этого нельзя себе позволить, и это считают безнравственным, недопустимым, незаконным. Ничего, есть и другие пути. Капитал увеличивается и отлагается в виде золотых слитков и драгоценных вещей. Они не потеряют ценность, когда исполнятся желания…
Исмаилов в одиночестве пообедал и прилег отдохнуть на веранде. Вечерело, и дневной жар спал. В доме и в маленьком дворике было тихо. Садык Исмаилович не любил шума. Но у соседа Мослима всегда шумят. И о чем они все время болтают, эти люди?! Неприятный дом, в нем женщины и дети не знают своего настоящего места, им позволяют говорить громким голосом.
Садык Исмаилов спокойно и холодно ненавидел старого Мослима и всех его домочадцев и друзей. Это ничуть не мешало ему радушно приветствовать соседей при неизбежных встречах и вежливо осведомляться об их здоровье. Но когда придет вожделенное время, он захочет сам перерезать им всем горло, как это делалось в старом Аллакенде.
Осужденного со связанными руками ставили на колени. Исполнитель казни, а им по закону мог быть и каждый личный враг осужденного, хватал его одной рукой за лицо, отгибая голову назад, и водил ножом по горлу. В городском музее, что помещается в Арке, хранятся эти ножи, их лезвия источены долгим употреблением, но еще годятся…
Исмаилов повернулся спиной к стене, за которой жил старый Мослим со своими домочадцами, и принялся в уме подсчитывать стоимость уже накопленных драгоценных вещей — это было приятным упражнением памяти и воображения. Хамидов принесет еще денег. Кроме того, Хассан многозначительно предупредил, чтобы друг не ложился спать, — будет серьезное дело. Исмаилов не собирался утруждать себя мыслями о значении намека. К чему думать о том, что без труда узнаешь через несколько часов?
III
Хамидов появился за двадцать минут до захода солнца. Мануфактура была вывезена, и директор имел право немедленно получить свою долю. Всегда и повсюду скорый и точный расчет — надежнейшая основа дружбы. Присев на корточки около Садыка, Хассан сосчитал и вручил ему деньги. Потом они погрузились в тихую беседу.
После окончания средней школы Исмаилов и Хамидов избрали наилучшую, по их мнению, карьеру и поступили в торгово-финансовый техникум. Они покорно подчинялись учебной и общественной дисциплине, успешно сдавали все зачеты и получили дипломы специалистов.
Сдержанный, спокойный и внушительно-вкрадчивый Садык Исмаилович опередил товарища. Он успел достичь поста директора одной из городских торгующих организаций, тогда как Хамидов застрял на должности рядового банковского работника. Исмаилов успешно делал карьеру, зато Хамидов умел устанавливать связи с нужными людьми. Это он создал надежную организацию, ловко распоряжавшуюся украденными у государства товарами. Хамидов артистически носил удобную маску добродушного, даже несколько легкомысленного человека. Он был другом всем, открывал душу каждому и был готов любить первого встречного. Бойкий оратор, он охотно выступал на собраниях, умел насмешить присутствовавших. На самом деле он был выдержанным и смелым. Он тоже умел не «показывать» добытых спекуляциями денег и набивал кубышку не менее жадно, чем Исмаилов.
Удобно растянувшись на ватном одеяле, Хамидов, почти на ухо рассказывал Исмаилову некоторые новости и мелочи, которые имели для обоих приятелей определенное значение.
Недавно Хамидов встретил андижанца, который приехал из Ферганы на поклон могиле двенадцатиметрового богатыря, якобы погребенного под Хаканом. Старик-андижанец побывал и в Аллакендском музее, где нашел ветхие предметы с надписью: «Чаша и плеть Рустама, о котором писал Фирдоуси». Посетитель обратил внимание и на плакаты, разоблачающие старого эмира Мозаффара.
Андижанец узнал «камчу и чашу Рустама». По его словам, эти ветхие предметы принадлежали не Рустаму, а тому самому богатырю, поклониться могиле которого он приехал. До революции колоссальные чашу и камчу показывали за деньги на аллакендском базаре. Старик очень доволен, что святые вещи догадались спрятать в музее и теперь даром позволяют их трогать…
И андижанец согласен с тем, что на плакатах музея ругают проклятого Мозаффара.
Садык терпеливо и не без интереса слушал Хассана. Если у приятеля есть что-либо более важное, он сам доберется до нужного сообщения. Хассан любил начинать издалека; он вертелся повсюду, собирал и сам пускал слухи, а для Садыка служил живой газетой.
Исмаилов знал и чашу и плеть, которые по своим размерам могли действительно принадлежать двенадцатиметровому великану. Националисты ловко подсунули их в музей; прикрываясь именем Фирдоуси, они поддерживали исламистские суеверия.
Таким же ловким ходом были и «антиэмирская» пропаганда против старого Мозаффара, который умер за пятьдесят лет до революции, и выставка картин, изображающих «зверства завоевания» русскими Средней Азии — под лозунгом разоблачения капитализма.
Дело в том, что Мозаффар признал зависимость эмирата от России. С этого, по мнению националистов, и начались все бедствия, которые закончились социальной революцией и образованием Узбекской Советской Республики.
Затем Хамидов рассказал о менее приятном случае— на улице молодежь шумно осмеяла муллу, заявившего, что дождь бывает по воле бога, а орошать осужденные богом пустыни — грех.
Садык и Хассан учились в тех же школах, что все мальчики, и преподаваемые науки были достаточно убедительны, чтобы друзья потеряли интерес к проблеме существования бога. Но они были готовы исполнять самые стеснительные обряды религии и ненавидели антирелигиозную пропаганду.
Об исламе нужно тактично молчать, как будто бы с ним покончено, как будто бы его совсем нет. Пусть ислам остается в тени, пусть пишут о чем угодно: о колхозах, заводах, каналах… Но только не о религии! Пока жив ислам — жива надежда…
Исмаилов и Хамидов считали себя просвещенными и исторически мыслящими людьми. Личный атеизм не мешал им. Примером для них был видный деятель младоаллакендской партии первой четверти столетия Абу-Фитрид. Разве такой человек мог верить в бога? Нет, конечно. Но в разгар революции кто, как не он, обратился к последнему эмиру, так прославляя Аллакенд:
«Солнце образования, дом науки, аудитория познания для всего мира».
Когда Аллакенд был полон учеными ислама и их учениками, торговля кипела и легко завязывались связи со всем миром. Ислам особенно хорошо утверждал право каждого на неограниченное обогащение. Не было религии лучше ислама, чтобы держать простой народ в повиновении.
Шариат предписывает брать с человека тем меньше налогов, чем он богаче. В эмирате владелец сорока баранов платил зякет ценой одного барана, а владелец четырех тысяч платил зякет только в сорок баранов, а не в сто. Ислам мудро поддерживает богатство!..
Исмаилов глубоко уважал себя за способности и знания — у него были развитые вкусы и широкие потребности. И с него, с директора, вычитают налоги в большей сумме, чем с ничтожной уборщицы и с других его подчиненных! И получает он только в четыре раза больше уборщицы, а должен был бы получать в сто раз больше. С этим нельзя примириться никогда! Каждый раз, подписывая ведомость заработной платы, Исмаилов внутренне возмущался несправедливостью.
— Да, плохо, — мрачно сказал Исмаилов. — Вот вам узбеки, бывшие мусульмане! За примером ходить недалеко. Вот он, сын раба Мослим. Вот сын нищего без имени Мохаммед-Рахим, воображающий себя умным. Сколько их, будь они прокляты! Они восстановили одних узбеков против других, расшатали основы нашей жизни, развратили узбеков. Расшатав ислам, они подорвали самые основы жизни узбекского народа.
Отец Исмаилова был одним из третьеразрядных многочисленных и полуголодных чиновников эмира, питался объедками двора и ползал на животе перед каждым. Зато иной раз и его удостаивали приказанием прочесть народу приговор главного судьи — казни-каляна, — и тогда мирза Исмаил, раздувшись от гордости, в расшитом халате и высокой чалме, присутствовал при совершении казни. Костюм неудобный, но следует показаться народу в величественном виде. Отец Хамидова был мелким даргой — сборщиком базарного налога, но и его руки не знали иного труда, кроме счета денег. Сыновья родились слишком поздно, чтобы видеть «величие» отцов, но их память бережно хранит хвастливые рассказы.
IV
Невеселые разговоры и еще более мрачные мысли испортили настроение Исмаилова. Хамидов еще о чем-то болтал, но хозяину уже надоело его слушать. Очевидно, он недослышал, и у Хассана нет никаких особых сообщений. Пора спать… Но Хассан вдруг еще больше понизил голос, и это пробудило уставшее внимание Садыка.
Хассан шептал:
— Наконец-то пришел тот человек, оттуда… Он здесь. Он сидит у тебя внизу.
Исмаилов не понял. Какой человек? Почему Хамидов кого-то привел и не сказал об этом сразу?
Хамидов продолжал шептать:
— Я ждал, пока совсем стемнеет, чтобы твои соседи не смогли его случайно увидеть через стену. У меня неудобно, большой общий двор, ты знаешь. Ему будет лучше жить у тебя, к тебе никто не ходит. Сейчас я его приведу.
Исмаилов сообразил, что это за гость. Внезапно его начала бить мелкая дрожь. Он приподнялся, пытаясь схватить руку Хассана, но того уже не было.
Заскрипели ступеньки ведущей со двора лестницы. Их знакомый звук казался Исмаилову очень громким. Кто-то сел перед ним на корточки. Затарахтели спички в коробке, и вспыхнувший огонек осветил согнутые ладони рук. На секунду свет ударил Исмаилову в лицо и заставил его прищуриться. Спичка погасла, и на ее месте остался красный огонек папиросы. Незнакомый голос произнес:
— Мир тебе, мусульманин.
— Тебе мир, — автоматически ответил Исмаилов. «Хамидов мог бы предупредить заранее. Хорошо, что темно…»
Три головы сблизились. Пришелец дышал густой смесью лука и табака. Он говорил таким низким и глухим голосом, что в трех шагах ничего нельзя было бы разобрать:
— Правоверные, близится торжество. Коммунисты осуждены погибнуть в страшной резне, и ад переполнится их телами. Могучие американцы помогают нам. Они дают деньги и оружие. Они обучают мусульман способам борьбы против коварных коммунистов.
Незнакомец перевел дыхание и продолжал:
— Добрые вести. Новые бури идут на русских. Я сам видел знаменитого ревнителя веры Сеида-Али. Заключен новый добродетельный союз. Скоро меч выйдет из ножен. Но бойтесь опоздать. Проявивший малое усердие застанет жатву убранной другими, и ему не достанется ни колоса…
Гость говорил не спеша. Его речь, наполненная заимствованными из корана образами, успокаивала и внушала доверие. Он, без сомнения, фанатик, твердый и надежный. Исмаилов успел прийти в себя.
Месяца два тому назад, кажется в начале мая, Хамидов принес дошедшее долгим и извилистым путем сообщение: «Ждите гостя из-за рубежа». Бывали и раньше такие вести, но никто не приходил, хотя Хамидов и писал на уцелевшей от его кирки колонне мечети-хонако, неподалеку от входа в город, условные слова и знак из двадцати пяти черточек, расположенных в пять рядов…
Исмаилов умел, меняя почерк, мелко исписывать листки тонкой бумаги, наполняя их сведениями о жизни города, о движении самолетов, поездов, грузов, о воинских частях. Директор торговой организации бывает в курсе многого, многое знает, о многом догадывается. Доверяя своей счастливой судьбе и ловкости друга, он передавал листки Хамидову для пересылки.
Отнюдь не расчеты на денежное вознаграждение руководили Исмаиловым. Честолюбец метил далеко, он хотел, чтобы когда-нибудь его имя было произнесено громко и его деятельность награждена высоким постом.
Чего же еще хотят от него? Разве недостаточны его заслуги перед любым будущим правительством? Неужели он еще должен скрывать этого человека и подвергаться непосредственной смертельной опасности?
Воспользовавшись паузой, Исмаилов попытался избавиться от гостя, которого так ловко всучил ему Хамидов.
— Надолго ли прибыл, друг? — прошептал он. — У меня будет плохо уважаемому послу. У меня дети, глупая и болтливая жена. Я опасаюсь несчастия от легкомыслия женщины…
Пришелец немного помолчал, взвешивая слова. Потом он сурово ответил:
— Муж есть владелец жены, жена — владение мужа. Твоя жена так развращена тобой, что ты, не управляешь ею и она не слушает тебя? Сожалею о тебе. Бог сказал: правоверные имеют врагов в своих женах и детях, забота о них отвращает от святой войны. Ты опасаешься жены? Не медля ни минуты, изгони ее. Близок день, когда мужья и здесь получат власть и право смерти над женами. Если не хочешь изгнать, напомни женщине ее обязанности, мужчина.
Исмаилов, наконец, сообразил, что напрасно поставил себя в неловкое положение. Его слова должны были резко противоречить тому, что гость наверняка слышал о нем от Хамидова, прежде чем решился прийти в его дом. Исмаилов поспешил поправиться:
— Нет, моя жена послушна. Но женщина слаба.
— Так укрепи ее, — резко приказал гость.
V
Амина подкрадывалась к выходящей на веранду двери. В своем доме женщина не нуждается в свете, чтобы передвигаться бесшумно и незаметно. Ни одна половица не скрипнет под ее ногой, и она ничего не заденет.
Женщина хотела понять, что за человека привел Хамидов, почему он сначала сидел в нижней комнате; для этого нужно подслушать, о чем говорят мужчины.
Обитательницы соседнего дома, где жил Мослим, жалели Амину за то, что она всегда сидела дома и не знала ничего, кроме магазинов и базара. Старшая внучка Мослима смеялась над ней и называла ее трусливой овцой и глупой курицей. Это все из-за того, что Амина боится мужа и во всем его слушается. Амина никогда и никому не жаловалась на Садыка.
Она не знала его прежде, он договорился с ее бабушкой и по обычаю заплатил выкуп, калым. Амина была сиротой, и бабушка воспитывала ее. Когда девушку выдавали замуж за Садыка Исмаилова, бабушка и все тетки говорили: «Счастливая Амина, она выходит замуж за торгового человека, у нее все будет, и все будут ей завидовать».
Торговый человек считается самым почетным и богатым. Правда, у Садыка хорошая квартира, отдельный дом в два этажа, в каждом этаже по две комнаты и свои дворик внизу, где Амина полная хозяйка.
Но с деньгами очень трудно. Особенно плохо стало после рождения второго ребенка. Муж не захотел ничего прибавить к прежним деньгам на хозяйство. Он сказал: «Довольно, правительство все время снижает цены, а ты научилась хозяйничать и можешь обойтись».
Пусть так. Она обходится, но в своем доме она имеет право знать все! И Амина старалась услышать, о чем говорят мужчины. Но мужчины говорили так тихо, что Амина не могла разобрать ни одного слова. Она слышала только невнятное: бу-бу-бу и шт-шт-шт…
Женщина присела, оперлась на руки и высунула голову за дверь. Ей удалось различить несколько отдельных слов, но связь и смысл ускользали. Этот незнакомый, который пришел с Хамидовым, сказал: «священная война»! Они говорят о войне? Ужас, опять будет война… Теперь они что-то говорят о женщинах?
Услышав шорох одежды и различив движение, Амина скользнула во вторую комнату и легла рядом с детьми. Но спать она не могла.
Амина прислушивалась к слабым звукам движения и расшифровывала их: мужчины спустились вниз; открылась калитка на улицу; муж задержался во дворе, входил в нижние комнаты. Амине казалось, что там говорят. Значит ли это, что кто-то остался в доме? Или ее обманывает напряженный слух?
Садык вернулся на веранду и долго ходил, шлепая мягкими туфлями. Теперь он лег. Он всегда летом спит на веранде один.
Вдруг Садык позвал. Амина вздрогнула и притворилась спящей, хотя никто не мог увидеть ее в темноте. Садык повторил:
— Иди сюда.
Амина вышла на веранду. Садык лежал на постели из нескольких ватных одеял, не сняв халата, хотя ночь была очень теплая. Амина присела рядом с мужем, и он сказал:
— Ко мне пришел человек, мой друг, мой большой друг. Он спит внизу. Он будет у меня жить. Завтра ты с детьми перейдешь вниз, а я с ним буду здесь. Если тебя кто-нибудь спросит о нем, ты ответишь: он двоюродный брат моего мужа, я видела его на свадьбе. Теперь он приехал к нам в гости из Ташкента и через некоторое время уедет домой… Ты скажешь: он такой же торговый человек, как мой муж… Ты все поняла?
— Нет, — робко возразила Амина. — Я хорошо помню всех, кто был на свадьбе. Твоего двоюродного брата не было, и я никогда не видела этого человека, пока он не пришел вместе с Хамидовым в наш дом…
Срывая злость на жене, Садык нащупал ее руку выше локтя, вцепился и начал выкручивать кожу. У Садыка были сильные пальцы с твердыми длинными ногтями. А другой рукой он ударил жену в грудь.
От боли у Амины потекли слезы, но она не вскрикнула. Она могла разбудить детей, внизу был чужой человек, могли услышать соседи… И Садык еще больше рассердился бы.
Муж не так уж часто бил ее, не нужно только возражать, он не любит, когда с ним спорят и его не понимают.
Садык разжал пальцы. Хорошо, что она не носит платьев с короткими рукавами и открытой шеей, как женщины в доме соседа, старого Мослима, думала Амина. Под платьем с длинными рукавами и закрытым воротом синяки не видны.
Притянув к себе голову жены, Садык сказал ей на ухо:
— Дома, при госте, ты обязана носить паранджу. Надевай ту, что тебе подарила бабушка на свадьбе. Но на улицу ты будешь выходить попрежнему с непокрытым лицом. Теперь ты все поняла? Или мне придется еще повторять?
— Да… Все поняла…
— Иди.
Амина ушла. Она побоялась сказать, что ей будет трудно с детьми. Они не привыкли и будут пугаться, видя мать с черной занавеской на лице. Они ведь еще маленькие, неразумные. Но нельзя сердить мужа, и сопротивление ничему не поможет, будет еще хуже.
Женщина лежала без сна и смотрела в темноту. Многие мужчины перестают интресоваться своими детьми после того, как они подрастут. Так говорили и бабушка, и тетки, когда они напутствовали ее в семейную жизнь. Но ее дети еще совсем маленькие, и они всегда были безразличны Садыку. Он никогда и не смотрел на них… Есть мужчины, которые разговаривают со своими женами, улыбаются, смеются. И не бьют…
Но где же паранджа? Нужно вспомнить, куда она ее положила. Завтра будет некогда искать, ведь она встает с первым светом, в доме много дела, Садык такой требовательный. Нужно приготовить ему завтрак и выгладить рубашку и брюки, он каждый день надевает все свежее.
Не зажигая света, Амина тихонько рылась в вещах. Наконец ее руки нащупали жесткую волосяную сетку. Паранджа была роскошная, чачван обшит широкой полосой черного шелкового бархата, украшенного ярким узором. Так и полагается жене торгового человека.
Глава третья НАХОДКИ
I
Истекал второй месяц настойчивого обследования пустыни. Маленький караван все дальше уходил от сухого русла исчезнувшей реки. Исследователей увлекали сохранившиеся признаки древнего канала. Из всех следов погибшей оросительной системы этот был яснее и глубже всех. Его обозначали сглаженные ветрами широкие валы, образованные вырытым грунтом и дальнейшими работами по очистке зарастающего илом дна. Ибадулла хорошо знал, как высоко поднимаются берега старых оросительных каналов.
Но Ефимову было мало простого предположения или одного взгляда. И у русского и у девушки Фатимы была своя мудрость: они считали, что каждое умозаключение должно основываться на опыте и на исследовании фактов, а не на отвлеченных суждениях.
Обливаясь потом, они пробили отвал узкой траншеей. В разрезе обнаружились слои многих отложений. Действительно, это был канал, действовавший многие столетия. Ефимов постарался сосчитать слои. Их было около сорока.
Не делая ответвлений, канал уходил вдаль. Где-то там вода некогда существовавшей реки давала жизнь людям. Где?
Во второй половине дня пришлось решать, итти ли дальше, чтобы продолжить обследование неожиданно возникшего объекта, или вернуться.
Горячий воздух трепетал, за горизонтом поднимались и опускались миражи. Порой светлая линия отрезала видение. Мираж поднимался и стоял призрачными образами холмов и деревьев. Под ними блестела вода.
Но воды там не было. Вода была в резиновых резервуарах на паланах — вьючных седлах ослов. Послушные животные с безразличным видом опустили уши, хотя вопрос о воде касался их не меньше, чем людей.
Земля, по которой никогда не ступала нога человека или ступала очень давно, что, в сущности, одно и тоже, с особенной силой тянет к себе; неизвестное обладает своей собственной силой притяжения.
Фатима убеждала итти дальше, ведь воды хватит на двое суток, а путь назад, к колодцам, будет легким и быстрым, без остановок для съемки. Воды хватит.
Ефимов как будто колебался. Он спросил:
— А что думает Ибадулла?
Руководитель разведочной группы часто обращался к Ибадулле в третьем лице. Между собой Ефимов и Фатима перешли на ты в первые же дни. Иначе было с Ибадуллой, хотя молчаливый, сдержанный спутник нисколько не стеснял их, они разговаривали при нем не таясь.
Русский оставался таким же, как в первые встречи. Он знал очень много интересных вещей, охотно рассказывал, и Ибадулла привык к его непосредственности. Все в Ефимове было просто и легко, как будто в жизни нет целого моря бедствий и страданий. Молодость, думал Ибадулла: как видно, его дни были такие же прямые, как те черты, что он проводил на бумаге, прикладывая к ней визирную линейку. А все же молодой русский был не таким простым… Как-то он чертил, а Ибадулла смотрел через его плечо. Ему показалось, что Ефимов ошибся, и он сказал:
— А эта линия должна итти не так.
Начальник исправил, а потом посмотрел на Ибадуллу:
— А вы знаете, что я подумал, когда первый раз увидел вас? Я думал, вот сильный человек, немало повидавший в жизни, живет он в наше время, а вид у него совсем такой, как тысячу лет назад. Что может быть внутри у такого человека? Не обижайтесь, я был под впечатлением аллакендских древностей, а у вас вид тогда, право же, был уж очень особенный, точно вы и вправду только что вышли из какого-нибудь тайника старой медресе, где вас заколдовал злой волшебник. Вот и сейчас я подумал, что древний инженер, распоряжавшийся строительством этих каналов, мог быть очень похож на вас. Что вы скажете, а?
— Может быть, — ответил Ибадулла.
— Тяжелая судьба была у тех инженеров. Они работали для других. Мы с вами работаем для себя. Попросту говоря, в этом-то и кроется разница между прошлым и настоящим. Не представляю себе, как я мог бы работать для частного хозяина? — говорил Ефимов, закрывая планшет и вытирая со лба пот, заливавший глаза. — Вероятно, это сквернейшая из скверных штука — работать для других, а?
II
Земля родины всегда слагалась из оазисов по долинам рек и из пустынь, разделявших оазисы. Она делилась на места, где было суждено течь воде, и на места, осужденные на бесплодие. Была судьба для человека и судьба для земли. Мудрость постигалась из древних книг, поэтому никогда не изменялась. Она говорила о том, как должен жить правоверный, чтобы войти в рай; там, в раю, очень много воды. Мудрость ислама не интересовалась земной водой…
Для кого трудились молодой русский Ефимов и узбечка Фатима? Ибадулла всегда знал, что хозяин нанимает людей для получения дохода от их труда. Знал, что Москва издали управляет землей родины, и для него название этого города звучало именем постороннего повелителя, распоряжающегося достоянием узбеков-мусульман.
У Фатимы — свое знание: земля принадлежит узбекскому народу, а Москва помогает, как брат. Фатима говорит о громадной стоимости машин, материалов и всего остального, что дает Москва. Сейчас Узбекистан получает от Москвы больше, чем дает взамен.
А Ефимов утверждает, что земля гибнет и превращается в пустыню от плохого управления государством, от невежества, небрежения; значит, правление Москвы ведет к уничтожению пустынь?..
— Так что же предложит нам глубоко задумавшийся Ибадулла? — сказал Ефимов. — Итти нам дальше или вернуться?
— Итти дальше, — ответил Ибадулла.
Он с первых дней заметил особенную систему Ефимова. Хотя молодой русский имел право приказывать, он всегда старался сделать так, точно все сами хотят одного и того же.
Ибадулле приходилось встречать таких людей. Они боялись судьбы, боялись вмешаться в ее таинственную ткань, опасались не угадать и поэтому-то и — уклонялись от решения. Они хотели остаться в стороне, чтобы не испытывать чувства ответственности при неудаче.
Но вскоре Ибадулла иначе понял смысл поведения Ефимова, и ему понравилась своеобразная тактика молодого начальника. Такому легче, приятнее повиноваться. Но кто же научил его этой тонкой мудрости управления людьми?
Древний канал проходил через возвышенность, и по его сторонам потянулись высокие горбы вынутой земли, дававшей тень. Дно, затянутое затвердевшей вековой пылью, заметно выгибалось вверх.
Фатима одета была так же, как и Ефимов. Эта изумительная девушка уверенно носила костюм мужчины — полотняную блузу, широкие брюки, брезентовые сапоги. Только на голове у нее была не фуражка, а тюбетейка — все, что оставалось от костюма женщины, так как тюбетейка была не простая черная, как у мужчин, а женская, бархатная, расшитая золотом. И еще остались у нее косы, черные, длинные, настоящие узбекские. Она почти три раза обвивает их вокруг головы.
По-русски девушка говорила совершенно свободно. Она разговаривала с Ибадуллой и по-узбекски, но редко. Ефимов совсем не знает узбекского языка, и нехорошо, когда двое беседуют между собой, а третий их не понимает.
В трубе нивелира мир кажется перевернутым, поэтому и рейку держат наоборот. Каждый день находилось время, чтобы учить Ибадуллу, как производить съемку местности. Ефимов утверждал, что это простое дело, каждый работник группы должен уметь делать все. Но чтобы подойти к съемке, нужно знать еще и многое другое.
У Ибадуллы оказалось двое учителей, они сменяют друг друга. Ибадулле было приятнее, когда с ним занималась Фатима. Она нетерпеливая, но сдерживается. Однако иной раз, когда Ибадулла не понимает с первого слова, девушка сердится, переходит на узбекский язык и смешно бранит своего ученика.
Ефимов смеется и говорит, что он научится браниться по-узбекски. Ефимов считает, что Ибадулла учится очень быстро и схватывает все сразу.
Фатима тоненькая и, наверное, очень легкая. Ибадулла мог бы без труда поднять ее и нести на руках хотя бы весь день. Когда она сердится, то надувает губы и между ее бровями появляются две славные морщинки.
Она, девушка, не знавшая покрывала, смотрит прямо в глаза чужому мужчине и дерзко говорит ему:
— Это невозможно, это знают все школьники четвертого класса! Почему вы не учились?
Ибадулла не отвечает и не обижается. Иногда он думает: а что если назвать этой девушке все законы и все предписания для женщин, которые она нарушает на каждом шагу? И напомнить о наказаниях, ожидающих мусульманку?.. Странные мысли. К чему?
Она сказала: ислам отрицал все, кроме себя самого, из-за этого народы, исповедовавшие ислам, одичали, отстали от других, остались на задворках человечества.
Она говорит: ислам учил людей жить на коленях, отнял у человека желание сопротивляться насилию и сделал его рабом.
Это кощунства, на них должен ответить камень в руке мусульманина, но Ибадулла не возражает, он не может возненавидеть Фатиму и Ефимова. Он думает другое: Фатима говорит об исламе, как о прошлом. Это легкомыслие молодости, девушка многого не видела и не знает, это понятно. И еще одно понимает Ибадулла: родина ушла от ислама, ислам позади.
Ибадулла все лучше понимал русский язык, в этом помогала великолепно развитая память.
Жизнь в речах его спутников не была связана незыблемыми предписаниями догмы. Они много говорили о борьбе с вечными стихийными силами природы — с засухами пустынь, с горными наводнениями, даже с сухостью самого воздуха. Победы в этой борьбе улучшают жизнь людей, не русских, не узбеков, и не каких-нибудь отдельных людей, а всех вообще, точно мир можно сделать садом и всех пригласить жить в нем.
В мыслях спутников Ибадуллы была особенная связь и особенная уверенность в силе людей и в своей силе. Для них было просто и возможно самое трудное.
Ибадулла слушал.
III
В начале пятого часа дня Ибадулла первым заметил впереди нечто необычное. Это не был мираж. Что-то там темнело и поблескивало на коричневом фоне голой почвы. Оно было живым, а мертвая, сухая игра миража стояла над горизонтом.
Караван ускорил движение. Берега канала понижались, сглаживались, наконец канал исчез, незаметно слившись с плоскостью. Дальше лег водоем.
Какое это было странное место! Среди твердого такыра, на котором не росло ни одного самого тощего пучка травы, лежало небольшое озеро с правильными мягкими берегами, окружавшими темную, тяжелую гладь воды. Неподвижная, на вид густая, как масло, она казалась забытой в пустыне, лишней, никому не нужной.
Но на иссеченном трещинами такыре расходились извилистые червяки троп, они выделялись более светлым тоном почвы, разбитой ногами животных. Дикие звери пустыни знали это место и посещали одинокое озеро.
В нем не было ни одного ростка, но слегка солоноватая вода была пригодна для питья. Вероятно, озеро поддерживалось зимними дождями, в него впадали временные ручейки, иссякавшие с наступлением сухих дней.
Несмотря на присутствие воды, место имело грустный, заброшенный вид. Темное озеро ютилось в самом низком месте плоской котловины. От него во все стороны земля повышалась, образуя широчайшую и плоскую чашу.
— Как это интересно, — вслух подумал Ефимов, — дорога открыта отовсюду, но звери ходят по протоптанным тропам…
«На неизвестной дороге и зверя и человека одинаково стережет опасность», — подумал Ибадулла, развьючивая ослов. Животные вошли в мелкую воду и наслаждались неожиданным вольным водопоем. Это вкуснее горячей воды из резиновых мешков.
С утра было безветренно, стоял палящий зной. Внезапно раскаленный воздух двинулся, и поверхность озера подернулась рябью. Ослы подняли тяжелые головы и насторожили длинные уши. Ветер потянул с запада, и в нем неслись особенные струи, точно холодные потоки воздуха лились самостоятельно, не смешиваясь с горячими. Небо потускнело, солнце сделалось красноватым.
Ефимов вносил в рабочий журнал очередные записи, а Фатима доставала из курджума консервы и сухари. «Молодые люди не знают пустыни», — думал Ибадулла. Ему не понравились ни ветер, ни несвоевременная прохлада. Ветер внезапно упал, вернулся зной.
Нежданная находка радовала. Теперь можно не спеша обследовать участок пустыни, где окончился канал. Место для ночлега наметили у озера.
Опять подул ветер, но не с запада, как вначале, и он был горячим. Уловив прежнее предупреждение, Ибадулла понял: подходил сухой ураган, северо-восточный ветер — теббад.
Как обычно бывает, первый порыв стих, ураган собирал силы, и следовало поспешить, чтобы найти убежище.
В километре или немногим дальше виднелись неправильные возвышения, обещавшие какое-то укрытие. Когда люди приблизились, они с удивлением узнали остатки покинутого поселения. Не было ни одного обожженного кирпича. Но сохранилось много глиняных стен.
Дальние горы вихрили воздушные потоки и метали на запад ураган. Теббад усиливался, рвал сухую голую почву, тянул горячую азиатскую поземку. Как дымом затянуло весь мир. Солнце потемнело, закурились низкие проломанные стены, пыль на них вздымалась струями.
Среди развалин нашлось низкое строение под тяжелым сводом из сырцовых кирпичей. Ослы послушно протиснулись через узкий вход. Внутри был полумрак, из дыр в своде сыпалась пыль.
IV
В Азии все заброшенные человеком строения превращаются в излюбленные приюты ядовитых насекомых и змей.
В развалинах гнездится черный паучок с белыми точками на верхней части брюшка, отвратительный и опасный для жизни каракурт, мохнатая длинноногая фаланга — сольпуга, злобный сухопутный рак — скорпион. Чтобы прогнать их всех, достаточно иметь с собой кошму из овечьей шерсти с ее сильным и характерным запахом.
Овце безопасен ядовитый укус в губы, щеки или язык. Она срезает траву на пастбищах под самый корень и слишком часто гибла бы, если бы не имела этого развитого природой и борьбой организма замечательного свойства. Овца, не замечая укусов, вместе с травой съедает насекомых и кусает змей. Поэтому те, чьим оружием служит яд, так боятся овцы и бегут от одного ее запаха.
Кошмы были расстелены, а ослы привязаны к железному колу, вбитому Ибадуллой. Освободившись от забот, все трое вышли наружу.
Нельзя было сказать, где солнце, так плотно затянулось небо. Соленая пыль неслась со злобным упорством, точно ее выдували громадным мехом. Теббад придавал природе отталкивающий и враждебный вид. Небо сделалось грязножелтым, с зеленоватым оттенком. На него не хотелось смотреть.
Ибадулла подвязал ослам торбы с ячменем. Ефимов скомандовал — спать! Он был рад возможности отдохнуть.
Ибадулла привык к тому, что его спутники быстро засыпали. Хороший знак: у людей нет тревог на сердце. Изредка и он засыпал легко. Но сейчас он лежал на кошме рядом с Ефимовым, а сон не приходил. Он слышал дыхание соседа. На кошмах было мало места, и Фатима спала совсем близко, но девушки не было слышно, точно там никого не было.
Ослы жевали зерно. Иногда они все вдруг прерывали работу челюстей, точно сговорившись. Стало темно, наступила ночь.
Ибадулла закрывал глаза и видел неровную желтую землю, ей не было конца. Когда мертвая земля надоедала, он открывал глаза и смотрел в темноту. Утомленный, он осторожно перевернулся на бок и увидел сон.
Жена, обнимая малюток сыновей, смотрела на него. Ее глаза, большие-большие, были близки. Она говорила, но что — он не мог понять и томился старой тоской. Нет, их больше нет, это он знал даже во сне. Был и отец, такой же, как в годы, когда они вместе рыли кяризы. Потом пришла Фатима, одетая, как жены богатых афганцев. Она топала обутой в сандалию ножкой и сердилась, что он спал тысячу лет. А ее глаза смотрели так, как женщина должна смотреть в глаза мужчины… И опять Ибадулла помнил, что спит, и знал — так не может быть.
V
Когда Ибадулла очнулся, свет уже пробивался из входа и из трещин в своде. Теббад утих.
Ослы изо всех сил натягивали веревки, которыми они были привязаны к железному колу, и топтались, сбившись в кучу.
Ибадулла слышал около своей щеки слабое шуршанье и ощущал особый, тонкий и вместе с тем тяжелый знакомый запах. Не вставая, он повернул голову.
Между ним и Ефимовым была толстая змея. Кобра не боялась запаха овечьей кошмы, она свернулась рядом крутой спиралью, из середины которой торчала серочерная голова с длинным, дрожащим языком. Кобра напряженно поводила головой из стороны в сторону. Как только Ибадулла пошевелился, голова змеи выставилась выше и ее шея начала расширяться в плоский овальный мешок.
Лежа на левом боку, Ибадулла выбросил правую руку и схватил змею за шею под самой головой, как это делали индусы — укротители змей, которых ему случалось много раз видеть в Кабуле, Алигархе, Пешавере…
Ослы шарахнулись в сторону. Ибадулла сжал горло кобры, вскочил и выбежал наружу.
Хвост кобры жгучим ударом хлестнул человека по лицу, и она обвилась вокруг руки. Ибадулла чувствовал страшную силу, с которой змея давила его руку и рвалась и сам давил всей силой мускулов, откидывая голову как можно дальше, чтобы избежать ударов хвоста и предохранить глаза.
Змея ослабела сразу. Распустив кольца, охватившие руку Ибадуллы до плеча, она обвисла, касаясь земли. Из ее разинутой пасти на пальцы вылилась скользкая жидкость. Под пальцами осталось мягкое, бессильное тело…
Ибадулла слышал, как Ефимов откашливался; он проснулся и сейчас выйдет. Ибадулла размахнулся, далеко отбросил мертвую змею и присел, оттирая руки пылью.
Ефимов уже был за его спиной и спросил:
— Что случилось, почему вы так вскочили?
— Ослы беспокоились, я пошел взглянуть, — ответил Ибадулла. — Но ничего нет.
Он поднялся на ноги. Ефимов достал портсигар и, как всегда, предложил Ибадулле, и, как всегда, Ибадулла отказался.
В нескольких местах на берегу озера теснились джейраны, прибежавшие на утренний водопой. Издали они казались совсем маленькими, но все же можно было рассмотреть, как они поднимали и опускали головы. В стороне стоял остророгий козел, сторож и защитник слабых.
Солнце выкатилось из-за горизонта. Из неизмеримой высоты неба упал орел. Он промчался косым полетом над водой, но козел успел подать сигнал тревоги, джейраны прянули и исчезли с волшебной быстротой. Орел поднимался ввысь, и люди провожали его глазами.
— И все-таки он возьмет свое, здесь негде укрыться, — заметил Ефимов.
— Может быть, — ответил Ибадулла, — если козел даст.
— Он дерется с орлами?
— Люди говорят, бывает; козел защищает самок и козлят. И побеждает.
VI
Вчера теббад помешал рассмотреть заброшенное поселение. Сегодня исследователи могли убедиться, что здесь был некогда настоящий город. Заселенное место начиналось вдали от теперешнего озера и охватывало полукружием котловину, сохранившую на своем дне немного воды. Можно было угадать следы улиц и широкое свободное пространство, вероятно служившее площадью. Нашлись и остатки городских стен.
Почему был покинут город? Был ли он уничтожен монголами, или погиб в эпоху феодальных схваток? Вслед за изыскателями придут археологи, определят эпоху, восстановят историю. Однако местность подсказывала, что город был оставлен из-за исчезновения воды. Совершенно очевидно, что в прошлое время вся котловина наполнялась водой, образуя не слишком глубокое, но обширное озеро. Наверное, это был запас воды, пополняемый зимами и питаемый водой из канала.
На берегу Фатима наткнулась на выглядывавший из земли кусок серого мрамора, носившего следы обработки. Путешественники откопали массивную толстую плиту. На ней была высечена арабскими буквами какая-то надпись. Судя по положению надписи, мраморная плита в свое время стояла вертикально.
— Первый раз в жизни жалею, что не знаю старого письма, — с досадой сказала Фатима. — Придется срисовать, а это труднее, чем чертить… я наверняка наделаю ошибок.
— Не нужно, — сказал Ибадулла, — я попробую перевести и запишу все без ошибки.
Тщательно оттирая поверхность доски, он читал:
В триста сорок втором году хиджры,
Вскоре после покорения индусов воинами ислама,
Махмудом Газневи и Мохаммедом Гхори,
Был наказан нечистый город,
Да славится единый
И да будет забыто имя города.
В нем жили ложные мусульмане,
Принявшие ислам для вида.
Мы не могли заставить их отказаться
От ложной веры, да погибнет она.
Они творили намаз под мечом над головой,
Но тут же отказывались от единого.
Иные же не имели никакой веры, проклятые,
Что удивительно и невероятно.
Мы поливали улицы кровью
И мостили головами,
Но тщетно.
Тогда бог потряс землю.
Вечный скрыл реку.
Он послал пустыню.
И сделал их поля пустыней.
Кто не умер, лишился родины и ушел.
Ушел, проклятый, молчит и прячется.
Никто да не принимает его,
Иначе тоже навлечет на себя гнев
Милостивого и милосердного.
Да будет это примером для других.
Повелитель Нах-шеба Сулейман-эд-дин-Хан
приказал написать для памяти людей.
Окончив чтение, Ибадулла устало поднялся. Он испытывал горькое разочарование.
— Вот и разгадка! — вскричал Ефимов. — Землетрясение, именно землетрясение уничтожило реку. Она была, это не ошибка, и она питала не только этот несчастный город, но наполняла обследованное нами русло, кормила много других поселений.
— Так, значит, больше не будет воды? — спросил Ибадулла.
— Почему? Будет! — возразил Ефимов. Указывая на плиту с жестокой надписью, он с увлечением продолжал: — Злобный и темный невежда написал, что бог отнял воду. Мы сильнее его бога, мы сумеем достать воду!
Глава четвертая ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
I
Солнце неподвижно висело в небе и томило природу сухим белым жаром. Все живое пряталось, одни муравьи не страдали от зноя. Не таясь в своих глубоких норках, они вереницами тянулись по собственным большим дорогам, заботливо торопясь туда и обратно с целями, которые не так просто разгадать и самому терпеливому наблюдателю.
На твердом поле аэродрома было много муравьев, они не мешали самолетам, а сами привыкли мириться со случайным разрушением своих подземных гнезд. Им почему-то нравилось жить на аэродроме, и на нем было больше муравьев, чем в полупустыне, окружающей летное поле.
На раскаленной солнцем поверхности земли повсюду возникали и неторопливо перемещались приземистые смерчи. Цепляясь подножием за кустик травы, живой столб останавливался и рассыпался горсточкой пыли.
Ветра не было. Длинный конус, указывающий пилотам направление движения воздуха, вяло обвис на высоком столбе, почти доставая концом матерчатого мешка до трубы радиорупора.
В белом доме помещалась контора аэродрома, там же был и зал для пассажиров и буфет. В большом шкафу с толстой створкой двери делали мороз с помощью электричества и хранили вещи, драгоценные в пустыне, — бутылки с холодным пивом и вкусной шипучей водой. Каждый мог получить, сколько хотел…
Ибадулла вышел на террасу, открытую на летное поле, постоял немного и отправился посмотреть поближе на самолеты, выстроившиеся неподалеку коротким рядом.
Ибадулла не рассказывал своим спутникам о схватке с коброй и сам не вспоминал о ней, событие казалось ему простым, естественным… Он защищал товарищей и себя, Ефимов наверняка поступил бы так же. Но что-то изменилось после знаменательного дня находки мраморной плиты. Ибадулла больше не чувствовал себя случайным попутчиком, о котором забудут через месяц. Ефимов и Фатима — друзья, и он — их друг.
После находки плиты изыскатели провели еще три дня на съемке русла бывшей реки и вышли к предгорному колхозу. Оттуда за одни сутки колхозная автомашина доставила их на железнодорожную станцию, исходный пункт маршрута.
Ефимов решил, что находка погибшего города и открытие тайны исчезновения реки должны отразиться на дальнейшем плане изыскательских работ в этом районе пустыни. Сейчас изыскатели собирались лететь на самолете к большому начальнику, распоряжающемуся всеми работами.
Население станции — десяток семей — обступило разведчиков. Люди, для которых воду привозили в вагонах-цистернах за двести километров, хотели знать со всей точностью, как и когда наполнится иссякшее русло. Они тосковали по прекрасному виду текущей воды, по ранним цветам урюка на еще голых от листьев ветках, по тени сада…
Ибадулла молча дивился, как много и как хорошо знали эти люди о делах своей страны и о многом другом. Ибадулле казалось поразительной их глубокая уверенность в том, что власть пустыни скоро кончится.
— Да, да, — повторяли затерянные в бесплодной степи железнодорожники, — если уж решили уничтожить пустыни, значит их не будет. Ведь об этом мечтает народ! Придет время — люди будут удивляться и спрашивать: что это такое, пустыня?
Арабский язык был непонятен народу, и Ибадулла дважды переводил запись жестоких фраз, высеченных на мраморной плите. Люди слушали его и негодовали:
— Все настоящая правда! Не водой, а нашей кровью поливали землю эмиры и беки. А муллы, эти когти на пальцах эмиров, твердили, что так и нужно поступать для славы бога ислама. Они держали народ за горло. А когда случалась беда, они кричали: этого хочет бог!
— Они и сейчас хотят того же, — сказал бригадир ремонтных рабочих. — Болтают о своем исламе, а мечтают о наживе. Слабоумные, они хотели бы вернуть эмира, как будто можно собрать растасканные шакалами кости дохлого верблюда и нарастить на них новое мясо. А что они делают за границей? — И он рассказал о происках американцев на Востоке, об их союзе с муллами, о подготовке диверсантов, о строительстве авиационных баз для будущей войны с Советским Союзом…
Ибадулла был потрясен. Он нашел минуту и спросил этого удивительного человека:
— Брат, откуда ты так хорошо все знаешь, разве ты был там?
Железнодорожник не мог догадаться о причине вопроса и ответил со всей простотой:
— Там я не был, но какая же тут тайна? Это знают все… Читай газеты.
Железнодорожники рассказали отставшим от новостей изыскателям, что американцы продолжают вести войну в Корее, пытаются подло уничтожать мирный корейский народ, распространяя бациллы страшных болезней.
II
Ни одним движением не выдал Ибадулла того, что он первый раз в жизни поднимается в воздух.
Самолет был маленький, всего для четырех пассажиров. Ибадулла не сумел уловить мгновение, когда машина оторвалась от земли, но в воздухе он испытал неприятную минуту. Он слышал, что самолеты держатся только своим движением, а этот остановился. Сейчас упадет.
Ибадулла посмотрел на Фатиму. Девушка сидела совершенно спокойно и глядела вниз. Наверное, все благополучно…
Вскоре Ибадулла понял свою ошибку — самолет двигался, но из-за большой высоты движение его было почти незаметно. Внизу проплыл кишлак с открытыми дворами, точно дома без крыш; в степи рассыпались неподвижные цветные точки. «Большая отара овец», — догадался Ибадулла.
Арыки в оазисе были точно такие же, какими рисовал их Ефимов на листах съемки — узкие, как черточки карандаша. За последним обсаженным высокими тополями арыком началась пустыня — земля, для которой еще не хватало воды.
Ефимов потянул Ибадуллу за рукав и сказал что-то непонятное из-за шума мотора. Ефимов указывал рукой, и Ибадулла перегнулся в его сторону. Внизу было несколько человек, трое стояли кучкой, а один — в стороне. Ибадулле трудно было понять, что делают там, внизу. Ефимов крикнул почти в ухо:
— Такая же разведочная группа, как и мы!
Глаза Ибадуллы точно открылись! Конечно, вон один держит рейку… Ефимов передал Ибадулле бинокль. Вдали нашлись еще люди. На этот раз Ибадулла сразу понял слова своего руководителя:
— Здесь топчутся сотни нашего брата изыскателей.
Истина. Со всех сторон коммунисты, комсомольцы, русские, узбеки, туркмены, казахи шли в наступление на пустыню…
А теперь внизу были видны решетчатые башенки. Около них работали. Ибадулле не нужно было спрашивать, он понимал. И он думал о своем бывшем друге Шейх-Аталык-Ходже и о других учителях ислама, вспоминал их речи, полные ненависти именно к этим людям, думал о несчастном народе, мыслями которого они хотели владеть. И как часто народ верит им, не замечая их злобы и жадности, не сознавая своего угнетения!
И ведь сам он, Ибадулла, соглашался, считал, что его родной народ в плену у коммунистов и ждет освобождения от власти Москвы. Невозвратимые годы погибли в праздной и глупой надежде на восстановление в Узбекистане власти какого-нибудь эмира, подобного Алим-Хану…
На высоте было прохладно. В кабине самолета гулял свежий воздух. Закрыв глаза, дремала Фатима, девушка с непокрытым лицом.
Счастливая, когда она станет женой, ее муж не будет бояться, что оспа или чума оставят его одиноким бездетным вдовцом.
Ибадулла вспоминал предложение муллы Аталыка, рассказы коммуниста на железнодорожной станции и надпись на колонне хонако Файзабад. Аталык и ревнители ислама — союзники американцев. А если они забросят отраву в Узбекистан, чтобы убить людей на станции, и в родном городе, и Мослима, и Мохаммед-Рахима, и всех, кто нападает на пустыни? И Фатиму, прежде чем она сделается матерью? Ее милое лицо почернеет, опухоль закроет ясные смелые глаза… Нет, этого нельзя допустить!
III
Люди, люди, люди… После пустыни Ибадулле казалось, что здесь собралось особенно много народу. На аэродроме стояли и двигались самолеты, радиорупоры кричали слова команды. Все торопились. Одни собирались улетать, другие, как Ефимов, Фатима и Ибадулла, только что прибыли.
Они сели в автомобиль. По дороге с аэродрома Ибадулла видел много автомобилей с людьми, с грузами. Машины тоже спешили, нетерпеливые, как люди.
Автомобиль широкой дугой объезжал железнодорожную станцию, скрытую за какими-то деревянными строениями. Тянулись подъездные пути. Местами рельсы лежали прямо на земле, виднелись едва присыпанные песком новые шпалы, казавшиеся очень высокими.
Около путей высились горы самых разнообразных вещей: бревна, доски, ящики, штабели камня, бочки, мешки, пачки железных листов, стальные балки, громадные круги тонкой и толстой проволоки, решетчатые колонны из железа, опять мешки, ящики… Всего было так много, что рябило в глазах. Ибадулла не знал названий многих удивительных и странных вещей, которые находились здесь.
На подъездных путях двигались паровозы, тащили за собой или толкали вагоны. Паровозы и вагоны были могучие, громадные, не такие, как в Дели и Пешавере. Ибадулла не мог понять, откуда могло взяться сразу и в одном месте такое богатство и кто мог изготовить такое количество вещей?
За станцией оказалось странное поселение — особенный город, в котором не было ни одного большого дома и все постройки не из сырого глиняного кирпича, а из дерева. Их стены были сложены из ровных брусков или щитов, а крыши — не плоские, а острые, из серых плиток. Нет, здесь были и старые дома с глиняными стенами, но они терялись среди новых. Автомобиль медленно двигался по неровным, еще немощеным улицам. Этот странный город, как видно, только что родился.
Ибадулла едва не изменил себе: ему хотелось говорить, задавать вопросы, но он не знал, что сказать. Пока он собирал слова, глаза уже видели новое.
Вдруг вдали показалась громадная река. На ее берегу обрывался город. Автомобиль остановился на недостроенной улице, и Ефимов взял Ибадуллу за руку:
— Приехали!
Ефимов и Фатима уже стояли у подъезда двухэтажного дома с толстыми стенами под красивой штукатуркой. За большой входной дверью оказалась комната. Ефимов поздоровался с человеком, сидевшим за столом рядом с дверью, ведущей внутрь дома, и все трое прошли в следующую комнату.
Им навстречу, огибая громадный письменный стол, шел какой-то человек и говорил:
— Какие нетерпеливые люди! О-о-о! Товарищ Ефимов, дорогой! Совсем нашел реку или тебе только показалось? Какую телеграмму я от тебя получил! Просто не сплю, тебя жду! — шутил этот человек, здороваясь с Ефимовым.
На нем был очень широкий полотняный костюм, черная тюбетейка на затылке, а лицо, настоящее узбекское, широко улыбалось.
— Салам, товарищ Шаев, салам! — приветствовал его Ефимов, пожимая руку Шаева обеими руками.
А Шаев еще громче смеялся и все говорил без передышки — его рот был полон словами:
— Совсем узбек стал! Слово салам выучил, старшему человеку обе руки подает! Покажись. Ай, ай. И лицом на узбека стал похож. А нос московским остался, нашего загара не принимает. Которая с него шкура слезает, считал, скажи? Ну, как путешествовал? Помнишь, что Пржевальский писал: путешественник по Средней Азии должен мириться с тремя неприятностями: с ощущением нечистоты тела, с плохой водой и с насекомыми, от которых почесываются… Ха-ха! Насекомых мы в кишлаках повывели, а воду ты сам должен достать.
Так же весело Шаев здоровался с Фатимой:
— Ай, ай! Похудела, а красота осталась.
Пришла очередь Ибадуллы, и он заметил, что на веселом лице товарища Шаева сидят весьма внимательные глаза с пристальным взором.
— Мой помощник, — представил Ибадуллу Ефимов.
Шаев пригласил всех сесть и вышел. Через открытую дверь Ибадулла слышал, как он назвал кому-то несколько имен и фамилий. Но внимание Ибадуллы тотчас же отвлеклось другим. На стене висела огромная карта. Она занимала всю стену от пола до потолка. Вот черный многоугольник — это Ташкент. Под ним извилистая синяя лента Сыр-Дарьи. Налево и выше — кусок Аральского моря и многопалая дельта Аму-Дарьи…
Ибадулла подошел к карте и, прикоснувшись пальцем к толстой бумаге, присел на корточки, чтобы лучше видеть низ карты. Во многих местах он нашел тонкие красные нити: сеть орошения, это было ясно. В паутинах оросительных систем прятались рисунки: фруктовые деревья, хлопок, пшеница, виноград, рис. Вот пальмы. Рисунки были понятны. Конечно, так будет, если появится вода.
Ибадулла поднялся. Перед ним был Узбекистан. Он узнавал оазисы. По всему течению Зеравшана — Золотораздавателя, расширяясь и сужаясь, в зеленой краске тянется возделанная земля. Аллакенд, сжатый песками; Каршинский оазис. Между Аллакендом и Карши Ибадулла нашел точку на змеистой линии железной дороги — это знакомая маленькая станция. Вверх от нее, где прошли изыскатели, не было ни одного зеленого пятна почти до самых гор.
Ибадулла отступил, и изображение выпукло встало перед его взором. Карта была особенная, не типографская, а созданная рукой художника, почти картина. Земля родины… Сверху и справа в нее врезались извилистые черные штриховки гор. Отроги казались мягкими, но Ибадулла знал, как остры камни, спрятанные в этих очертаниях. Снизу и слева наступала желтая отмывка бесплодия пустынь, от них веяло зноем и тоской. Но однообразие желтизны нарушалось россыпью красных точек. Кое — где врезались синие черты, они перекрещивались красными, а местами были только красные.
Используя свои новые познания, Ибадулла нашел объяснения знаков: старые оросительные системы обозначались синим, новые — красным. А красные точки в пустыне были новыми колодцами. Как же много их было! А для красных линий Ибадулла заметил и цифру — сто двадцать тысяч километров. Двенадцать тысяч ташей протяженности новых каналов в Узбекистане — по старой мере расстояний! Больше десяти лет потратит человек, чтобы промерить их своими ногами, увидеть своими глазами.
За истекшие после изгнания эмира годы было сделано больше, чем за тысячу лет ислама. Вот и еще одно значение слов Мохаммед-Рахима…
За своей спиной Ибадулла слышал голоса, но не обращал внимания на слова. Увлеченный, он хотел позвать Фатиму. В этот момент постучали по. столу, и он оглянулся.
IV
Придвинув стулья, несколько человек сидели у стола Шаева. Ибадулла нашел свободный стул и тоже сел. На него не обращали внимания.
Лицо Шаева серьезно, в его пальцах толстый карандаш. Это он стучал. Ибадулла понял, что так просто и радушно принявший их человек и есть тот самый большой начальник, который имеет власть решать и приказывать.
— Итак, не безразлично мы должны отнестись к находке группы Ефимова, — продолжал Шаев. — Считаю, что товарищ Ефимов поступил правильно, явившись для личного доклада. Уже аэрофотосъемка подсказывала мысль о существовании в историческом периоде той или иной давности реки в этом районе. Съемка, произведенная группой, делает факт бесспорным. А надпись, указывающая на землетрясение, объясняет все.
— А не думаете ли вы, профессор, что надпись попросту легендарна? — спросил один из присутствующих, русский.
— Нет, — возразил Шаев. — По мнению нашего уважаемого товарища Жаркова, язык надписи чистый, подлинно арабский, без позднейших искажений и примесей персидских слов. Это первое соображение. Кстати, — обратился Шаев к Ефимову, — кто это сумел так списать надпись и сделать отличный перевод?
Ефимов указал на Ибадуллу, и все посмотрели на него.
— О-о! — сказал Шаев. — Какой у вас помощник! Интересно, — он опять изучал Ибадуллу тем же острым взглядом, как в начале. Ибадулла не опустил глаз.
— А у вас не будет ли каких соображений, Семен Александрович? — спросил Шаев одного из русских.
Ибадулла заметил, что перед этим человеком в очках и с остренькой бородкой лежал его список надписи. Наверное, это и был Жарков.
— Я рад встретить знатока старинных надписей, — неожиданно сказал Ибадулле Жарков на чистейшем арабском языке. — А что думает сам Ибадулла о достоверности находки?
— Я уверен в мудрости ученого, знающего неизмеримо больше меня, — ответил Ибадулла по-арабски. — Что может значить мое мнение, какую цену оно может иметь? Я не осмелюсь высказать его.
Семен Александрович и Шаев переглянулись. Этот дочерна загоревший скромный рабочий изыскательской группы выдерживал экзамен с честью. Ефимов не обманулся, доверившись случайному толмачу.
— Отлично, отлично, — сказал Жарков по-русски, — но все же, — и он опять перешел на арабский язык, — хотя скромность и есть лучшее украшение носителя знания, все же скажи нам всем, что ты думаешь сам?
— Нужно верить, — по-русски ответил Ибадулла.
— Но почему? — настаивал Шаев, обращаясь к Ибадулле.
— В надписи правда. В ней выражена мысль ислама.
— Вот именно! — воскликнул Шаев вставая. — Типично исламистский дух злобы и человеконенавистничества. Не каждый наш русский друг понимает это, как товарищ Жарков. Это неподдельно, — продолжал Шаев с увлечением. — Мы вывезем мрамор, лабораторное исследование опровергнет тех, кто сомневается. Копию надписи я сегодня же пошлю моему другу Мохаммед-Рахиму. Кусок жестокого прошлого… А теперь, товарищи, — обратился он к изыскателям, — вы свободны, идите отдыхайте. А мы тут посмотрим, посоветуемся, что следует делать дальше с нашей исчезнувшей рекой.
Ибадулла решился подойти к Шаеву и попросить его передать привет Мохаммед-Рахиму.
— Ты знаешь его? — немного удивился Шаев. — Хорошо, я напишу. Скажи мне, кстати, как ты попал в группу?
— Меня устроил Мослим-Адель.
— Ты знаешь и Мослима? По старой поговорке: назови мне твоих друзей, и я скажу тебе, кто ты. Ты разрешил мое сомнение, — и Шаев весело засмеялся, сделавшись опять простым и добродушным.
…Ночью в гостинице Ибадулла писал Мослиму:
«…и ты, Справедливый, и Мохаммед-Рахим, Мудрый, совершали над моим сердцем и разумом дело отца. Я постигаю трудно постижимое. Ты сказал мне — ищи. И я нахожу».
Ибадулла прервал письмо и задумался. Потом он оглянулся на спящего Ефимова. Лицо молодого русского так загорело, что на белой подушке казалось совсем черным. Ибадулла любил лицо друга и с удовольствием смотрел на него. Фатима была в другом номере гостиницы…
Ибадулла продолжал писать:
«Лишь о себе я думал, беседуя с тобой. Я был погружен в себя, и я забыл о людях. Однако в городе есть злодеи. Они, по слову Мудрого, прячутся среди мертвых призраков, таков их обычай. Они пытаются итти с лицом, обращенным вспять. В вечер моего прихода к тебе я прочел на колонне хонако Файзабад три строчки слов привета и нашел знак, состоящий из пяти черточек, повторенных в пяти рядах. Знай, что это знак тех, кто вступил в союз с американцами. Я не знаю, кто пишет. Но он пишет для человека, который придет, чтобы принести смерть. Это правда, и ты сделай с ней нужное».
Ибадулла достал висевший у него на груди кожаный мешочек и, положив его на стол, продолжал писать:
«Я посылаю тебе талисман, наследие отцов. Веря в истину начертанных в нем слов, я носил его. И сегодня он еще дорог мне, как память. Сохрани его из любви к Рахметулле и его сыну И еще скажу тебе, моя душа трепещет. Я словно вновь прихожу в мир…»
Часть четвертая ВОЛКИ ИСЛАМА
Глава первая ПЕРСИКИ
I
— Очень вредные, очень опасные дела, — рассказывал Садык Исмаилович Исмаилов своему гостю Сафару. — Коммунисты не оставляют ничего в покое и не теряют времени. У нас много новой орошенной земли и все время прибавляется. Сейчас они выдумали новость: проводят временные арыки, чтобы взять под посев ту землю, что прежде занимал арык. Подумай! Совсем сходят с ума! Повсюду ищут новую воду, проводят новые каналы, роют новые колодцы. Только и слышишь разговоры о землях нового орошения, — Исмаилов со злостью упирал на слово «новый». — На все это так много тратят денег, точно и не было войны. Откуда они берут деньги? Подумай, говорят о сибирских реках, которые придут сюда. Безумие! Скоро ничего нельзя будет узнать.
Сафар сидел, мрачно уставившись в угол. Свет в комнату проникал из полуоткрытой двери, окна были затемнены. Стоял полумрак, и было еще по-ночному прохладно.
«Что толку в жалобах?» — думал Сафар, краем уха прислушиваясь к болтовне Исмаилова.
Сафару постоянно приходилось выслушивать рассуждения Исмаилова на излюбленную тему — о вреде орошения новых земель. Ведь на новых местах люди будут жить по-новому. Сейчас Исмаилов только мешал Сафару размышлять о своем: пора нечто совершить в Аллакенде. Прежде чем уходить из этого города, нужно нанести удар.
Посылая сюда Сафара, мулла Шейх-Аталык-Ходжа приказал проверить слухи о ложном ученом Мохаммед-Рахиме, враге, разрушающем ислам своими писаниями. Слухи верны, Мохаммед-Рахим подлежит наказанию.
Исмаилов указывал еще на старика Мослима, своего соседа. Этот старик тоже враг, но с ним Исмаилов пусть расправится сам. Переулок темен, легко выбрать время. У Мослима не хватит силы, чтобы отбить удар, нанесенный даже неопытной рукой. Сафар зарезал бы этого старика просто для развлечения, но…
Там, на службе у муллы, Сафар привык действовать смело. Для него было безделицей отправить на тот свет неисправного должника или человека, на которого указали ему как на коммуниста. В случае скандала хозяева всегда могли выставить свидетелей, готовых подтвердить под требуемой законом клятвой на коране, что в час расправы Сафар находился совсем в другом месте. Но здесь было по-иному…
В своем доме Мохаммед-Рахим был окружен близкими. Правда, он целые дни проводил в рабочем кабинете в здании бывшей медресе, зачастую в полном одиночестве. Но и там, во дворе и в соседних помещениях, было много людей. Еще труднее подойти к видному человеку — Тургунбаеву. Конечно, можно войти и сделать дело, но как потом выйти?
Исмаилов взглянул на ручные часы. Пора отправляться в контору.
— Я говорю, — заканчивал он свою мысль, — что коммунисты все быстрее изменяют жизнь. Уже теперь бывает трудно отличить, где коммунист, где беспартийный. Что же будет дальше?
— Принеси мне персиков, — сказал Сафар.
— Персиков? — переспросил Исмаилов. — При чем тут персики? На базарах их еще нет, а те, что есть, пригодны лишь для русских.
Сафар настойчиво уставился на Исмаилова черными, блестящими в полусумраке глазами, оглядывая круглое бритое лицо своего слишком разговорчивого хозяина. Исмаилов беззвучно пошевелил толстыми губами, прежде чем спросить еще раз:
— Зачем же персики?
— Ты должен принести самых хороших персиков, чтобы их не стыдно было есть самому знатному человеку. Их нужно будет передать Мохаммед-Рахиму и Тургунбаеву.
— Передать?.. — голос Исмаилова дрогнул.
— Да. Передать. Ты все жалуешься на новые обычаи. Разве ты, мусульманин, забыл обычай мусульман? Первые лучшие плоды всегда подносятся высокопоставленным людям. Достань. Не поручай жене. Купи сам или пусть Хамидов купит. Нет! Лучше найди сам, не нужно, чтобы Хамидов. Самых лучших. Уже должны появиться самые настоящие персики.
II
У северной части городской стены, неподалеку от крепости Арка и в нескольких стах метров от здания бывшей подземной тюрьмы-зиндана, стоял маленький домик с плоской крышей. Он прислонялся к полуразрушенному зданию медресе — из тех, что когда-то строились наспех и небрежно, только чтобы удовлетворить неожиданно скопившихся талоба.
При домике был сад, крохотный, но изумительно возделанный. Соседи шутили: не так тщательно ухаживали рабы за бородой проклятого эмира Алим-Хана, как Суфи Османов ухаживает за своим садом.
Деревья сада расположились на откосе и пользовались солнцем круглый день, с восхода и до захода. Проложенный немного выше городской арык легко питал канавки сада. Никто не мешал хозяину во-время и обильно поить деревья, он не ленился рыхлить землю и умел удобрять ее. Ведь если дать одну воду, то плоды будут крупные и сочные, но совершенно без вкуса.
Вечером Садык Исмаилович Исмаилов, вместо того чтобы отправиться домой и отдохнуть после окончания своего директорского трудового дня, оказался перед калиткой в высокой глинобитной стене, ограждавшей сад Суфи Османова.
Вежливо кланяясь, хозяин отступил перед гостем, приглашая его переступить порог. Исмаилов небрежно ответил на приветствие. С высоты своего крупного роста он пренебрежительно смотрел на маленького ростом человека. Человечек был суетлив и явно встревожен.
Суфи Османов приходился дальним родственником Исмаилову и был зависящим от него человеком. С год тому назад жена Суфи была тяжело больна. Правда, ее лечили, как всех, на государственный счет, но разве муж удовлетворится этим? После болезни жену отправили на курорт, а Суфи всего было мало. Люди говорили: «Суфи сошел с ума, у его жены все есть, а он не может угомониться…»
Никто не знал, что Суфи Османов дважды сумел взять в долг у Исмаилова. Как-никак, а родственники. Оба раза Исмаилов много говорил о значении денег, об обязанности должника ценить, понимать, уважать… Тяжелые разговоры, на них отвечаешь одно: да, да, да… Что делать, один не любит свою жену, а другой любит! Это тоже нужно понимать.
Суфи усиленно приглашал уважаемого Садыка Исмаиловича зайти в дом. Тот, не отвечая на приглашение, разглядывал сад. Тут было несколько виноградных лоз, могучих, толщиной с руку. Аккуратнейшим образом подрезанные, обмазанные и подвязанные, они опирались на столбики и спускали громадные грозди крупного, но еще не созревшего винограда. Десяток абрикосовых деревьев уже отдал плоды, ветки были пусты. А вот и они… Невысокие раскидистые деревья с продолговатыми листьями.
— Принеси корзинку, — приказал Исмаилов. — Сними для меня десятка три-четыре. Самых лучших.
Лицо Суфи растянулось довольной улыбкой. Так вот что! А он-то подумал, что Садык явился напомнить о задержанном на добрый месяц очередном взносе в счет долга… Нет, нет, все благополучно. От волнения Суфи едва сам не заговорил о деньгах, но опомнился.
— Многоуважаемый Садык Исмаилович, — затараторил Суфи Османов, радостно вертясь перед гостем, — я готов отдать вам все плоды моего ничтожного сада. Груши уже хороши, найдутся настоящие сливы, но персики, увы… Не подождете ли еще дня два? Хотя бы до завтра? Клянусь богом! На базаре уже появились привозные персики, но разве это персики? Это зеленые плоды, упавшие с дерева, — продолжал Суфи с жаром. — Их покупают одни невежды. Тьфу! А мои персики — настоящие! Но они — мне очень жаль — еще чуть-чуть незрелы. Подождите немного, я сам вам принесу.
— Поторопись, Суфи, мне некогда, — кратко ответил Исмаилов.
Потихоньку ворча и вздыхая, Суфи с тысячами предосторожностей снимал персики и опускал в подвешенную на груди корзинку. Суфи был влюблен в свой сад, гордился выращиваемыми плодами, не позволял даже жене вмешиваться в дела садоводства. Раз он сказал, что сегодня рано снимать персики, значит это так! Пускай Садык пеняет сам на себя, он будет есть недозрелые персики, нахал он и невежда!
Недовольство не помешало Суфи выбирать самые лучшие плоды. Он нарезал виноградных листьев, выстлал ими круглую корзину, переложил плоды листьями, прикрыл сверху и с поклоном вручил важному гостю.
— Я зачту это тебе в долг, Суфи, — сказал Исмаилов, принимая корзинку.
Заперев калитку, Суфи дал полную волю своему негодованию. Он уже трижды отказывал знатокам. Во всяком случае он никому не признается, что его вынудили снять с деревьев недозревшие персики. Поистине, должник есть раб заимодавца. Во всем Аллакенде нет лучших персиков. И приходится снимать их недозрелыми! Садык пользуется своим положением. Тьфу, сын свиньи! И Суфи смачно плюнул. Брань, посланная в пустой след незваному гостю, совершенно не успокоила душу Суфи. После возвращения жены с курорта в семейной жизни что-то стало не так. Суфи втихомолку откладывал деньги от каждой получки, чтобы вернуть долг. Жене он сказал, что подписался на большую сумму займа. Ложь, а лгать он не привык.
Говорят, нет на свете такого мужчины, который может что-либо утаить от жены. Как-то зашел товарищ, заговорили о подписке на заем. Жена назвала сумму займа Суфи и — большую, чем действительно значилось в подписном листе. Товарищ удивился, но ничего не сказал. Еще был случай… Жена подозревает.
А как хотелось бы Суфи просто обнять жену и все рассказать ей. Он ведь и сейчас совсем не жалеет, что так поступил. Но нельзя! Она будет страдать, что это из-за нее, будет упрекать, будет мучиться, что он взял деньги у Садыка… Прежде жена бывала у Амины, а теперь давно не ходит. Жена говорит, что у Садыка под новой шелковой рубашкой и галстуком сердце старого мирзы.
Ах, уж эти деньги! Поскорее бы пришло время, когда денег не будет совсем…
Суфи с грустью забрался под обиженное персиковое дерево и размышлял:
Деньги Садыку нужно отдать, только подлец не признает долга, сделанного на честное слово. А вообще — нужно сдвинуться с места. Что за честь — этот крохотный садик? В новых хозяйствах, на землях нового орошения, вот там большие дела! Такие люди, как он, там, ой-ой, как нужны! Он — только дайте ему развернуться — вырастит такие деревья, что все скажут: это знаменитый садовод Османов из Аллакенда! Да, его будут называть Суфи Аль-Аллакенди, как прежде к имени прославившегося человека прибавляли имя его родины. Конечно, жаль оставить свой садик, но человек должен двигаться вперед и быть решительным. Суфи не удовлетворяла работа на каракулевом заводе.
Начинало темнеть. Суфи потихоньку, как полагается, пустил воду в сад. Он укреплялся в своем решении. И ведь если хорошенько подумать, то жена намекала ему на то, что нужно стать садоводом-профессионалом. Она не говорила прямо, она думала, что Суфи не сможет расстаться с этим садом. Он еще покажет ей, что он мужчина. Он сделает сюрприз! и тогда-то признается во всем, чтобы больше не было тени. Хорошо жить, когда хорошая жена.
III
Мохаммед-Рахим работал весь день. Один за другим в сторону ложились нумерованные листки. Ученый писал мелким, но очень четким почерком. По бумаге тянулись прямые решительные и быстрые строчки. Порой, чувствуя оставшуюся позади неясность, он перечитывал написанное и исправлял.
Час мчался за часом, Мохаммед-Рахим не замечал времени. Вдохновение всецело владело им, освобождая историка от жажды, голода, усталости. Это был итог долгого труда по овладению источниками, ученый был уверен в истинности познанного и испытывал высшее наслаждение творчеством.
Отдавшись истории своего народа, он ушел в прошлое. Образы минувшего окружили его, встали рядом, говорили с ним. Он, свидетель и судья, слушал, иногда обвиняя кого-то, уличал: «Ты лжешь!» — и улыбался иному, шептавшему слова правды.
В веренице лет одни бедствия сменялись другими, смерть носилась по оазисам, а герой-народ был бессмертен. Ученый рассказывал услышанное и увиденное правдиво и просто, ничего не смягчая, никому не льстя. Он любил и был счастлив.
Вечером солнце бросило лучи на высокую стену бывшего медресе и вошло в худжру. Ослепительный свет отразился от бумаги, и теснившие Мохаммед-Рахима образы отошли: глава была окончена.
Ученый поднялся, шатаясь на затекших ногах. Он подождал несколько минут, опираясь на стол, пока восстановилось кровообращение, и прошелся по худжре.
У входа стояла маленькая корзинка, заботливо прикрытая увядшими виноградными листьями. Мохаммед-Рахим вспомнил, что, кажется, еще утром кто-то принес ему подарок. Он нагнулся и приподнял листья. А, первые персики! Феодальный символ, который в наше время превратился просто в милый народный обычай. Кто-нибудь из друзей проявил внимание, а он даже и не спросил у посланного имя друга…
Ученый взял корзинку и поставил ее на стол. Освещенные солнцем плоды стали еще прекраснее.
На правах друга в худжру влетел воробей. Привыкнув не бояться Мохаммед-Рахима, он смело прыгнул на стол, выбрал персик и принялся его расклевывать. Ученый, улыбаясь, смотрел на бойкую птичку. Птицы отлично разбираются в фруктах и умеют найти самый лучший, спелый плод.
Солнце переместилось на край стола. Вернувшись к рукописи, ученый исправил несколько слов. Когда он поднял голову, воробья уже не было.
Мохаммед-Рахим взял надклеванный птичкой персик и с удовольствием съел его: только сейчас он почувствовал голод. В корзинке было штук десять. После шестого персика ученый отставил фрукты в сторону — он мог думать только о своей работе, и ему не терпелось скорее прочесть все, написанное за день.
Вдруг острая боль пронзила тело. Мохаммед-Рахим выпрямился, как ужаленный змеей. Внезапно пот покрыл кожу. На секунду боль стихла. Он чувствовал, как по его лицу катятся холодные капли. И вновь боль повторилась, потрясающая, невыносимая. Мохаммед-Рахим повалился на черный ковер, застилавший пол худжры.
Когда сознание вернулось, он больше не чувствовал мучений, но пошевелиться не мог. Он ничего не видел и не знал, открыты его глаза или нет. Могильная тишина и мрак окружали ученого. Он понял.
Страха не было, но пришла тяжкая, как гора, скорбь. Он умирал, не успев окончить своего труда…
И вновь его обступили образы. Народ пришел проводить своего сына. Труженики с кетменями в руках выпрямили спины. К нему склонились борцы против угнетения, смелые участники и предводители народных восстаний, провозвестники свободы. И благородные ученые, отдавшие жизнь поиску знания…
И те, кто страдал в зинданах, кто умер под ножом палача, был съеден заживо страшными насекомыми в черных ямах эмиров и все же умел бесстрашно любить родину и жить для нее…
Они утешили Мохаммед-Рахима. Он лежал на боку, с рукой, заброшенной под голову, в спокойной позе спящего.
А во дворе бывшей медресе, где в вечерней прохладе играли дети и беседовали взрослые, с высокой акации на каменную плиту упала маленькая мертвая птичка.
IV
В середине дня Тургунбаев принял Садыка Исмаиловича Исмаилова, чтобы побеседовать с ним о работе торговой сети.
Директор докладывал уверенно и точно, без лишних слов. Все нужные цифры он знал наизусть, смотрел спокойно и прямо. Все данные свидетельствовали о благополучии в торговой сети. Тургунбаев знал: магазины работали хорошо. Но была одна тень. Тургунбаеву было известно, что в городе имели место случаи спекулятивной продажи с рук именно тех товаров, которыми торговала руководимая Исмаиловым организация. Никто не был уличен или остановлен с поличным, но слухи были упорными и правдоподобными. Тургунбаев так и спросил Исмаилова:
— А нет ли у вас утечки? Доверяете вы своим работникам?
Директор медленно развел руками и прижал их к груди:
— Не знаю. Не получаю дурных сведений и должен верить своим работникам. Но я занят и не могу уследить за каждым. Я недавно тоже слышал о случае спекуляции. Но ведь негодяи могут приезжать к нам в город и из других мест. Народ разбогател, А мои заявки на некоторые товары Главное управление постоянно режет. Я в курсе всех дел и могу назвать все цифры: сколько я просил и сколько нам занарядили. На ткани высших сортов, особенно на шерстяные, такой спрос, что мы не можем его удовлетворить. Это ненормально, а одна ненормальность может повлечь другую. По мере приближения к коммунизму такие ненормальности изживутся сами собой, а сейчас следует быть бдительным. Я всецело отдаюсь общему руководству, знаю детали, но, конечно, нуждаюсь в помощи и в самой строгой критике.
Ответ Исмаилова производил хорошее впечатление. Тургунбаеву не слишком нравился этот полный, хорошо одетый и уверенный в себе человек, которого он видел уже не в первый раз, но это чувство, основанное не на каких-либо порочащих фактах, а на чем-то не вполне осознанном, рассеялось.
— Очень хорошо, товарищ Исмаилов, — тепло сказал Тургунбаев. — Поможем вам, попробуем организовать общественную проверку, привлечем городской актив, рабочих, представителей интеллигенции. Пусть вплотную посмотрят торговую работу. Возможно, слухи необоснованны, будем надеяться. Не только в этом дело. Товарищи, как свежие люди, кое-что подметят, укажут на недостатки. А вы со своим активом учтете их замечания для пользы дела.
Исмаилов горячо поблагодарил за помощь: у него самого возникала такая же мысль. Но сейчас он считает, что все же общественная проверка должна быть особенно ориентирована на обнаружение преступлений. Для него, Садыка Исмаилова, выше всего честь советской торговли, на которой не должно быть ни пятнышка…
— И моя честь советского работника, — добавил он дрогнувшим голосом. — Прошу, даже требую самой основательной ревизии!
Наблюдая за Исмаиловым, Тургунбаев думал о том, как важно руководителям не отдаваться случайным впечатлениям. Вероятно, этот директор вполне на своем месте.
— Ну что ж, всё, товарищ Исмаилов.
Исмаилов встал и в этот момент в кабинет вошел улыбающийся секретарь Тургунбаева с корзинкой, прикрытой виноградными листьями:
— Вам, товарищ Тургунбаев, прислали из колхоза «Свет Востока». Роскошные персики! — и секретарь снял виноградные листья.
— Действительно, прекрасные, — согласился Тургунбаев.
— Хороший, старый народный обычай, — заметил с улыбкой Исмаилов. — Первые плоды. От такого подарка не принято отказываться. А я и не знал, что «Свет Востока» умеет выращивать такие персики. Улучшают садоводство, все идет вперед. Здесь, в городе, есть один садовод, некий Османов, у него всего пять или шесть деревьев. Вчера я достал у него немного персиков, но эти — лучше.
— Так попробуйте и этих, чтобы сравнить, — предложил Тургунбаев.
Исмаилов из вежливости стал отказываться, а потом достал из кармана безупречно чистый платок, в который секретарь положил ему несколько плодов, и ушел со словами:
— Жена будет гордиться, когда я скажу, что эти персики подарили мне в обкоме.
V
Через некоторое время после ухода Исмаилова Тургунбаев услышал громкие голоса, почти крик за дверью своего кабинета. Без стука, широко распахнув створку, вошел председатель колхоза «Свет Востока» Алиев, за ним показался растерянный секретарь. Алиев разгневанно говорил, не делая остановок на знаках препинания:
— Что делается, я не понимаю! Здравствуй, товарищ Тургунбаев. Встречаю твоего секретаря на лестнице, благодарит от твоего имени за персики. Что делается, я не понимаю? Спрашиваю, он отвечает — я не понимаю. А-а?
— Садись, товарищ Алиев, и успокойся, — пригласил Тургунбаев председателя одного из крупнейших колхозов Аллакендского оазиса.
— Не сяду! — раздраженно отмахнулся Алиев. — Не сяду! Нет, что делают?! Слушай, где персики?
— Вот они, — указал Тургунбаев.
— Ты ел, товарищ Тургунбаев?
— Нет, еще не успел.
— Тогда я сяду, — сказал более спокойно Алиев, — тогда еще все хорошо. Пусть персики там будут. Слушай, товарищ Тургунбаев, этот твой молодой человек, — и Алиев ткнул длинным темным пальцем в стоявшего с растерянным видом секретаря, — сначала меня поблагодарил за персики, потом показал мне бумажку, в которой я его прошу, понимаешь, его, — нажал Алиев на последнее слово, — его прошу передать тебе мой подарок. Понимаешь, почему я рассердился? — опять повысил голос Алиев.
— Тише, Алиев, говори по порядку и не кричи, дело серьезное, — строго заметил Тургунбаев.
— Ты уже понимаешь, это он не понимает, но сейчас он тоже поймет, — погрозил Алиев секретарю. — Слушай, ты, — и Алиев всем телом повернулся в кресле. — Первое слово: я не подхалим и могу прямо написать каждому руководящему работнику обкома, даже товарищу Тургунбаеву, что колхоз посылает ему первые плоды. Чего мне прятаться за твою спину? Второе слово: я вообще не посылаю первых плодов руководству, — что они тут, эмиры или беки? Что это за подхалимство!
Алиев отдышался, вытер обильный пот с лица и продолжал:
— Теперь третье: штамп на бумажке мой, а подпись похожая, да не моя. И еще четвертое: у меня персики в колхозе не такие. Теперь ты понимаешь?
Молодой человек побледнел:
— Я уже съел два персика…
VI
— Я имел вид настоящего колхозника, — самодовольно рассказывал Хамидов. — На мне были сапоги и черный сатиновый халат, подпоясанный цветным платком. На голове — старая тюбетейка, и я наклеил усы и бороду. Сам себя не узнал в зеркале. Нарочно подошел на улице к знакомому и спросил, где базар. Ха-ха! С Мохаммед-Рахимом было совсем просто, я поднялся к нему, сказал салам и поставил корзинку у двери в худжре.
— Хорошо, — сказал Сафар.
— А когда я говорил с секретарем Тургунбаева, — продолжал Хамидов, — пришли еще какие-то люди, он занялся с ними, я ушел.
Трое мужчин расположились в доме Исмаилова на веранде второго этажа. Исмаилов развалился на подстилке из стеганых одеял, Сафар сидел рядом, подвернув под себя ноги, а Хамидов присел к ним, опустившись на пятки. Он оживленно рассказывал вполголоса, подчеркивая слова короткими жестами.
Исмаилов раздумывал, как рассказать о том, что он был у Тургунбаева именно в тот момент, когда появилась корзинка с персиками. Он уже хотел начать, но вместо слов издал чуть слышное предупредительное «ссс!».
Мимо мужчин, как тень, легко скользнула Амина в парандже, с лицом, закрытым волосяным покрывалом чачвана.
Амине казалось, что Сафар живет в доме уже бесконечно давно — так тянулось для нее время. Гость каждый день выходил из дома, но только на три-четыре часа. Сафар называл Амину просто — женщина, и за все время сказал ей, быть может, не больше десяти слов.
Амина всегда молча прислуживала мужу и его гостю, и они молчали при ней. Муж велел, чтобы все было самое лучшее, и дал денег на расходы на стол сверх обычной суммы. Гость любил поесть и ел много, даже больше Садыка. Амина видела, как быстро округлялось его лицо. Сафар много спал и много курил — днем в комнате наверху, а вечером на веранде.
Садык переселил жену и детей в нижний этаж и приказал, чтобы дети забыли дорогу наверх — нельзя мешать гостю.
Амина еще больше похудела и очень устала. Рано утром она спешила на базар за покупками и возвращалась домой почти бегом: ее мучил какой-то безотчетный страх. Дома приходилось беспрерывно стирать и готовить. Прихворнул младший сын.
Когда Амина поднималась наверх, чтобы убрать в комнатах и на веранде, Сафар молча сторонился и не обращал на нее внимания. Хорошо, что он не говорил с ней, Амина не могла себе представить, что он может ей сказать и что она должна ответить, чтобы Садык потом не рассердился. Но молчание делало присутствие гостя еще более гнетущим…
В калитку постучали. Амина поспешно сбросила паранджу и открыла. Незнакомый человек спрашивал товарища Исмаилова, и она позвала мужа. Амина знала, что когда приходят к мужу, она не должна торчать поблизости, поэтому ушла, как только Садык спустился во двор.
Дворик был маленький, и дверь в комнату, где сейчас помещалась Амина с детьми, осталась полуоткрытой. Женщина слышала все слова, которыми обменялись ее муж и посетитель.
— Тургунбаев поручил мне спросить, где персики, которые он вам дал? — спросил незнакомый человек.
Муж не сразу ответил, и посетитель переспросил:
— Персики! Вы меня не понимаете? Я говорю о тех персиках, которые вам дал Тургунбаев сегодня, когда вы у него были.
— Персики… — сказал Садык тихо. — Которые подарил Тургунбаев? — произнес он уже громче. — А! Мы съели их. Отличные персики, — закончил он уже обычным голосом.
— У вас все благополучно? — спросил посетитель.
— Но что же может быть? — вопросом на вопрос ответил Садык. — Я вас не понимаю, объясните.
— У вас никто не болен?
— Нет.
— Хорошо, — сказал посетитель и ушел.
Амина слышала, как муж запер калитку. Но почему он не поднимается наверх?
Женщина выглянула во двор. Садык положил руку на задвижку калитки и не двигался. Амина видела его широкую спину, он стоял и стоял. Женщина испугалась и спряталась. Вдруг Садык тихонько засмеялся. Амина слышала, как он поднялся по лестнице.
«Что же это за персики?» — спрашивала себя Амина. Сегодня утром, когда она пошла убирать наверху, этот страшный Сафар держал в одной руке персик, а в другой какую-то стеклянную трубочку. И он сказал ей: «Женщина, ты придешь позже». Потом забегал Хамидов с небольшим чемоданом.
Через черное покрывало Амине было не так хорошо видно, но Сафар хотел спрятать от Амины то, что было у него в руках, потому-то она и рассмотрела персик. А руки у Сафара были, кажется, в перчатках.
Сейчас приходили от Тургунбаева и спрашивали о персиках. Если бы Садык был директором Плодоовощторга… Но его магазины не торгуют фруктами. «При чем тут торговля, глупая, — возразила себе Амина. — Ведь это Тургунбаев дал ему персики!» Но то, что Садык взял себе подарок Тургунбаева, было для Амины настолько естественным, что об этом она не думала.
…Лабораторное исследование установило, что в доставленной Тургунбаеву корзинке были отравлены только шесть персиков в нижнем ряду и три — во втором ряду сверху. Остальные оказались безвредными.
Наутро поступили сведения о скоропостижной смерти Мохаммед-Рахима. Две нити связались в одну. Отравленные плоды ученому принес человек, оставшийся незамеченным. Его приметы описывались настолько сбивчиво, что нельзя было решить, тот ли это человек, который являлся к секретарю Тургунбаева, прикрывшись поддельной бумажкой, или другой.
Поиск по горячему следу не дал результатов.
Глава вторая КЛЮЧИ РАЯ
I
Веранда в доме Исмаилова освещалась слабой лампочкой. Исмаилов не спеша поднялся по лестнице.
— Кто приходил? — нетерпеливо спросил Хамидов.
Исмаилов не ответил. Он прошел в комнату, зажег там свет и посмотрел на себя в большое зеркало на дверце платяного шкафа. Он был доволен собой, уважал свое лицо и фигуру. Выйдя на веранду, он присел рядом с Сафаром и спросил его:
— Ты уверен, что твой порошок хорошо действует?
— Попробуй сам, если тебе надоела жизнь.
— Приходили от Тургунбаева, — сказал Исмаилов. Он произнес эти полные скрытого смысла слова безразличным голосом. Сафар молчал. Хамидов дернулся и шепнул:
— Зачем? А? Зачем?
По мнению Исмаилова, Сафар слишком много считался с Хассаном. Пусть теперь Сафар увидит, что Хассан совсем не такой большой храбрец и значительный человек, каким кажется.
— Меня спросили, съели ли в моем доме те персики и не болен ли кто-нибудь.
Хамидов кашлянул, чтобы прочистить себе горло:
— И ты не полюбопытствовал, Садык, почему это тебя вдруг спрашивают?
— Ты считаешь меня дураком, Хассан, — возразил Исмаилов своему другу. — Я деловой человек. Меня спросили, и я ответил.
Взвешивая предположения, мужчины надолго замолчали. После продолжительного размышления Сафар спросил:
— Кто видел, что Тургунбаев дал тебе персики?
— Его секретарь, он сам положил мне персики в платок, я не хотел к ним прикасаться.
— Кто-то другой попробовал тургунбаевские персики, — сделал вывод Сафар. — Если бы он сам их съел, его секретарь растерялся бы и не так быстро вспомнил о тебе, Садык. Ведь Тургунбаеву персики дал не Хассан, а секретарь. На нем — тень, его заключили бы в тюрьму.
Опять наступила напряженная пауза, которую никто не хотел нарушить. Сафар спросил:
— Где ты взял персики, у кого? Купил где?
— Взял в саду у Суфи Османова.
— И этот Суфи тебя знает? Плохо.
— Нет, — возразил Исмаилов. — Я не совершил ошибки. Суфи мой родственник и обязан мне. Я давал ему деньги и выручил из беды. Он еще и сегодня не расплатился со мной.
— Хе, — презрительно сказал Сафар. — Ненависть должника сильнее уз родства. И гибель заимодавца — его радость. Поэтому ты ошибся, Садык. У нас есть время, пока Суфи не узнает о покушении на Тургунбаева.
— Этого он не узнает.
— Почему?
— О покушении будут молчать так же, как молчали бы о причине смерти. О таких вещах не следует рассказывать, а коммунисты умеют хранить тайну.
— Однако причину смерти собаки Мохаммед-Рахима не сумеют скрыть, и садовник тебя предаст, — настаивал Сафар.
— Не сможет, даже если захочет, — возразил Исмаилов. И он, тонко скрывая свое торжество, рассказал о сцене, разыгранной им в кабинете Тургунбаева.
— Да, — согласился Сафар. — Ты прав, и все, сделанное тобой, мудро. Даже если этот Суфи догадается, он не сможет ничего сделать тебе. А ты легко докажешь, что он доносит на тебя, чтобы избавиться от долга. Ты его опозоришь, как клеветника. Мы можем думать о другом.
«Этот большой толстый человек, который любит праздно болтать, в деле умен и изворотлив», — решил Сафар.
— Итак, — возобновил разговор Сафар, — нам мало одного врага, как Мохаммед-Рахим. Должны умирать правители городов, и люди должны обсуждать их смерть. Американцы говорят: это расшатывает основы государств.
Исмаилов и Хамидов ничего не ответили, и Сафар задумался. Учителя в американской школе объясняли ему и другим, что яд хорошее, но неверное средство. Его легко пустить в ход, но дальше он слеп и может попасть не тому, кому назначен. Но американцы указывали разные способы войны с помощью яда…
— Откуда берет воду Бохасса? — спросил Сафар.
— Из водоема, — ответил Хамидов, желавший принять участие в разговоре.
— А как туда поступает вода?
— Течет открытым арыком, как везде. Водоем чистят, и он не похож на наши старые хаузы.
— Ты говорил мне, Хассан, и ты говорил, Садык, что в Бохассе живут разные видные коммунисты. Пусть же меч ислама падет на их головы и на головы их жен и детей! — решительно сказал Сафар. — Хассан! Ты пойдешь. Ты опустишь в воду то, что я тебе дам. Этой же ночью! А теперь слушайте меня, правоверные!
И, желая подкрепить дух своих приверженцев, влить новое мужество в их сердца, Сафар прочел Хамидову торжественное напутствие:
— Мудрый и знаменитый мулла Шейх-Аталык-Ходжа и другие учителя ислама учат: спешите совершать дела веры. Кто убьет одного коммуниста, тот войдет в рай. Кто двух лишит жизни — возьмет с собой жену, если захочет. Кто умертвит трех, тот введет всю семью и даже возьмет из ада родителей, если они не были удостоены милостью бога. А воин ислама, уничтоживший более трех коммунистов, будет принят в Эдеме, как хозяин райских садов. Иди, Хассан! Населяй ад нечестивцами. Люди, вы совершаете великое в священном Аллакенде!
II
В пяти или в шести километрах к северу от городской стены Аллакенда с самаркандского шоссе можно заметить довольно высокую глиняную стену. Над ней густо поднимаются кроны деревьев; в их зелени тонет несколько крыш. К этому владению от шоссе под прямым углом отходит усыпанная гравием дорога.
Пройдя между заболоченными рытвинами, по которым бегают длинноногие кулики, посетитель увидит очень длинную служебную постройку и за ней выйдет на мощеный двор, к высокому одноэтажному павильону, имеющему форму буквы «П». Это деревянное строение под штукатуркой. Его внутреннее убранство рассчитано на то, чтобы поразить посетителя роскошью и красотой: стены во всю высоту закрыты зеркалами.
Эту необычайную идею эмир заимствовал со стороны — по впечатлениям, полученным им в старом Петербурге, где он, вассал империи, как-то побывал не то с визитом, не то с поклоном.
Бывший властитель Аллакенда решил не только повторить у себя «пленительные красоты» Эрмитажа, но и «превзойти пышность всероссийских самодержцев». И на зеркала было наложено деревянное кружево, выполненное знаменитыми узбекскими резчиками.
Странное, нелепое сочетание… Внешне скромный павильон внутри напоминает колоссально-увеличенную игрушечную шкатулку, свидетельствуя об отсутствии у хозяина вкуса, особенно если сравнить этот павильон со старыми памятниками зодчества, которыми так богат Аллакенд.
Но сад действительно богат. В нем много фруктовых деревьев, много соблазнов для любителей сочных вкусных плодов аллакендской земли. Пылкая фантазия и страсть эмира не коснулись сада, он или забыл, или не сумел использовать картины Павловска или Царского Села. Деревья растут так, чтобы им было удобно плодоносить, а людям — собирать урожай. Это не парк, а крупное доходное хозяйство.
Ближе к юго-западному углу глиняной стены, окружающей сад, стоит двухэтажный дом, слитый с малой мечетью. Здесь, под непосредственным благословением бога ислама, раньше помещались эмир и его дворец, — дом носил, конечно, звание дворца…
Прямо от южной двери «дворца» несколько ступенек ведут в большой водоем — хауз. Он глубок и наполняется мутной водой из подводящего арыка. Ветер рябит широкую поверхность хауза, гоняет опавшие листья и не дает отстояться растворенной в воде почве. Вода так мутна, что, опустив в нее кисть руки, человек не увидит концов пальцев.
С двух сторон хауз окружен пустырем, с третьей к нему почти вплотную подходит зелень сада. Здесь среди деревьев сохранилась деревянная вышка. На ней когда-то любил отдыхать последний эмир — Сеид-Алим-Хан, погружаясь в размышления о стеснительной власти русских, о посулах англичан, о дворцовых интригах и об источниках увеличения доходов. С вышки хорошо видны Аллакенд и его ближайшие окрестности. Кроме дальних видов, эмир мог развлечься и ближними, наблюдая, как его рабыни купаются в хаузе.
В свое время все это было воспето продажными поэтами, воспитанными в аллакендских медресе. Доходный фруктовый сад именовался Эдемом, достойным мусульманского владыки. Игрушечный павильон, жалкие дома и другие постройки назывались роскошными, перед ними якобы бледнели дворцы Аллахабада, Дели, Агры, Джейпура. Несчастные невольницы, купавшиеся в грязной воде хауза, который служил и для водопоя животных и для всех хозяйственных нужд, прославлялись как жемчужины среди гурий рая.
Велика сила каждодневно повторяемой лжи… И сегодня еще можно встретить человека, который скажет:
— О Бохасса, бывшая летняя резиденция эмира! Великолепие, величие!
Не так ли было и со многими другими сказаниями о величии разных владык, лживо вплетенными в истинную историю народов?
Теперь в зеркальном павильоне поместился филиал городского музея. Там хранятся произведения узбекских мастеров, возвысивших ремесло до подлинного, самобытного искусства.
Неудобные помещения так называемого «дворца» и другие здания приспособлены под квартиры городских работников.
III
Потихоньку брел Хассан Хамидович Хамидов по спящим улицам древнего священного города. Чтобы не выделяться в темноте, он облачился в темносерый костюм.
В кармане Хамидова притаилась толстая пробирка, тщательно укутанная в вату и шелк; пробирка была заткнута пробкой, пробка залита прочной тугоплавкой смолкой. В другом кармане Хамидов припас кожаные перчатки и шило. Хорошо бы иметь и резиновые перчатки, но для этого следовало зайти в аптеку…
Хамидов боялся своей ноши и все время старался получше ее устроить в кармане. Ему все казалось, что он может споткнуться, упасть и раздавить пробирку. Смерть вылезет из своей хрупкой клетки, и он окажется с ней с глазу на глаз. Что делать тогда?
Сафар сказал название страшного порошка. Трудное слово: натибелин, анитрольбин, ниробалин? Хамидов не мог уж теперь припомнить, да и что толку вспоминать.
«Хорошо живется на свете верующим, как Сафар. Им тепло…» размышлял Хамидов. В трудные минуты он испытывал зависть к тем, кто верил в истины, изложенные в коране. Но у него самого от прошлого оставался лишь скудный багаж случайных суеверий. Он огорчался, если приходилось увидеть первый молодой месяц через левое плечо — это была дурная примета, она означала, что до следующей молодой луны самые дорогие дела, денежные, будут неудачны. Поэтому Хамидов, подобно верующему мусульманину в вечера голодного поста Рамазана, подстерегал узенький серпик и умел бросить на него первый взгляд через правое плечо.
Чтобы узнать, ждет ли удача, следует плюнуть сквозь сложенные колечком большой и указательный пальцы. В этом гадании Хамидов достиг совершенства, но сейчас не рисковал. Итти нужно обязательно. Таков приказ, и будет очень неприятно, если при гадании получится отрицательный результат.
Городская крепость Арк высилась тяжелой черной горой. Ночью почти не различались торчащие из покатых стен Арка расщепленные временем концы деревянных балок. Вверху, на широких террасах, среди бывших жилищ эмира и его приближенных — ныне там помещался городской музей — горели неяркие фонари. От их света стены Арка казались еще чернее. Налево от крепости стояло здание обкома. Многие окна в нем были освещены.
— Обсуждают, наверное, покушение на Тургунбаева, — подумал Хамидов. — Посмотрим, что и кто будет обсуждать завтра…
На площади не было ни души. Хамидов опять вспомнил о свертке в кармане и завернул его дополнительно в носовой платок. Он досадовал на свой страх: ведь сегодня, разнося отравленные персики, он ничего не боялся!.. «Ты несешь с собой силу, способную убить тысячи и тысячи человек», — вспомнил он слова Сафара. Чорт бы его побрал, хорошо ему с его верой в рай! Нет, каждый день жизни, когда человек не получил наслаждения, потерян безвозвратно, после смерти будет уже поздно. Проклятие Сафару! Не мог послать Исмаилова порастрясти жир. Садыку больше везет в жизни, чем ему, Хассану… Как видно, такова уж судьба.
Постепенно Хамидов осваивался. Пробираясь по немощеному боковому переулку к северному выезду из города, он шагал более уверенно. Он размышлял о населении бывшей летней резиденции эмира. Хамидов знал в лицо и по имени почти всех живущих там городских работников. Не хотел бы он сейчас быть на их месте!
Хассан Хамидов всегда любил потешиться мечтами. В детстве он усиленно разыскивал волшебную птичью косточку, которая делает невидимым того, кто возьмет ее в рот. Можно пойти в магазин, схватить деньги в кассе и уйти. Юношей он придумывал способы быстро разбогатеть, приобрести хороший дом, автомобиль не скучным трудом, а как-нибудь иначе.
Благодаря удачному содружеству с Садыком Исмаиловым у Хамидова скопились большие деньги, но что в них толку? Развернуться нельзя. И пора сделать перерыв, если не кончить совсем, — ведь нельзя же бесконечно рисковать!
Хамидов был уверен, что он родился или слишком рано, или слишком поздно. Он и сам не мог бы сказать, когда его мечты о личном обогащении переплелись с ненавистью к советской власти. Во время войны он искал в газетах и слухах одного: известий о победах гитлеровских армий. В сорок первом году, ликуя, он подсчитывал ресурсы гитлеровского государства, изучал на картах захваченные территории и негодовал на немцев, не сумевших с такими силами сразу взять Москву и победить одним ударом. Вместе с Исмаиловым Хамидов вспоминал старые стремления германских империалистов на Восток, ныне возрожденные Гитлером. Желая близкого крушения советской власти, приятели уверяли себя в том, что Аллакенд приобретет особое торговое значение на сухом пути в Индию.
Лето тысяча девятьсот сорок второго года Исмаилов и Хамидов провели в нетерпеливом трепете, в ожидании «решающих» побед Гитлера. Более горячий Хамидов сам распускал слухи о выходе гитлеровских войск на каспийское побережье. И он тогда считал себя не лжецом, а пророком!
IV
За проходом в городской стене легла прямая, широкая, хорошо асфальтированная дорога. Из-за горизонта вылезала громадная красная луна. Она желтела, все ярче освещая окрестности. Длинная угольно-черная тень упала от ног Хамидова и, неразлучная, потянулась по пустынной дороге, указывая на Бохассу.
Голая соленая земля блестела под лунными лучами. Тени отдельных деревьев лежали мрачными пятнами. Извилистые выступы берегов магистральных каналов, глиняные стенки на полях и холмы превратились в серые шатры. Звуки шагов Хамидова преувеличенно гулко отдавались в его ушах. Возбужденный, он часто оглядывался, но дорога оставалась пустынной, он был один.
Он шел неровно, то ускоряя, то замедляя шаг. Днем ему приходилось проезжать по этой дороге. Ему, как банковскому работнику, нередко случалось участвовать в разных комиссиях, назначаемых областными организациями для ревизии районных. Недавно Хамидов побывал в колхозе «Свет Востока», где между делом украл на всякий случай несколько бланков правления.
Но пешком ему здесь давно не приходилось ходить, и он с любопытством оглядывался по сторонам.
У Хамидова была любимая книга, где описывалось, как герой нашел в тайных пещерах средиземноморского острова колоссальные богатства. Хамидов соображал, сколько же сокровищ должна хранить земля кругом старого города, в котором тысячу лет копились деньги! Банков и бумажных денег не существовало, все прятали ценности, как умели, в землю. А сколько владельцев погибло в бесконечных смутах, унося с собой тайны кладов! Эх, сделать бы изобретение, какой-нибудь особый прибор…
Справа от дороги появилась смутная масса с черным верхом и выбеленной луной линией стены. Хамидов увлекся и проскочил дальше, чем нужно: арык, питающий Бохассу, подходил к ней с юга, со стороны города.
Хамидов вернулся назад, выбрал удобное место, перелез через кювет и пустился к востоку от дороги. Он помнил, что вводной арык исчезал под южной стеной Бохассы.
Ноги Хамидова уходили по щиколотку в сыпучую и пухлую солончаковую почву. Выпоты солей блестели белоснежным инеем. Наконец широкий канал преградил дорогу. Не тот ли это, что нужен?
Насыпь, образованная выброшенным на берега илом при чистке дна, привела Хамидова обратно к шоссе. Канал уходил под мост. Отсюда Хамидов попытался высмотреть отвод в Бохассу. Только сейчас он понял, что не так-то просто разобраться в разветвлениях водопроводящей сети между городом и Бохассой. Следовало бы заранее изучить место…
Был безошибочный способ — обойти вплотную стены Бохассы. Но Хамидову было трудно решиться на такой шаг, ночь для этого была слишком светлой.
Он сделал еще попытку, начав от другого места шоссе, но опять уперся в широкий и, видимо, глубокий арык. Дальше вода разливалась, образуя болото…
Хамидов пошел вправо и остановился перед новым арыком. Куда в нем течет вода? Он смял кусок бумаги и бросил. Белое пятно осталось на месте, точно течения не было совсем. С берега звучно плюхнула в воду затаившаяся лягушка. От неожиданности Хамидов вздрогнул и выбранился. По воде пошли круги, бумажный комок шелохнулся и поплыл в сторону от Бохассы.
Что же делать? Простое дело в действительности оказалось неожиданно сложным и трудным.
Хамидов решился было пробиться поближе к Бохассе напрямую через арыки. Но берега их круты — туда попадешь и не выберешься. Кроме лягушек, там могли оказаться и змеи, а Хамидов, сильный и ловкий мужчина, не умел плавать…
От злости он собрался выпустить содержимое пробирки в последний, помешавший ему арык. Хамидов надел перчатки, взял шило, чтобы вытащить из пробирки пробку, но опомнился. Так можно отравиться и самому, если пустить яд по всему городу.
Хамидов решил дойти по дороге до въезда в Бохассу, обогнуть кругом стены и найти ввод. Но, дойдя до поворота с шоссе на Бохассу, он, как-то неожиданно для себя самого, запнулся и пошел обратно, к городу!
Но что же сказать Сафару? Хамидов опять запнулся и после некоторых колебаний понял, что сегодня он больше не может. Идя к городу, он строил план своей защиты перед Сафаром. Он скажет, если не придумает ничего лучшего, что попросту не сумел ночью разобраться в путанице загородных арыков. Да, сюда следует прийти днем на разведку, чтобы потом действовать наверняка с наступлением темноты и до восхода луны.
Хамидов сложил пальцы колечком и плюнул. Хотя рука сильно дрожала, гадание удалось. Итак, до завтра, вернее, до вечера, так как уже начиналось утро… Он почувствовал такую усталость, что едва волочил ноги.
V
Сегодня товарищи находили, что Суфи Османов был сильно не в духе. Он работал молча, что отнюдь не входило в его привычки. Вынимая шкурки каракуля из чана, перенося их на стеллаж и аккуратно расправляя, Суфи мысленно беседовал с собой. Один раз он так забылся, что замер, глядя на что-то остановившимся взором.
— Смотрите-ка! Османов прицелился! — крикнул один из рабочих. — Эй, Суфи! Что с тобой? Ты увидел скорпиона? Хватай его. Лови!
Скорпионы водились в городе кое-где на пустырях, под камнями. Недавно Суфи поймал сразу трех неподалеку от мавзолея Исмаила Самани и принес на завод, чтобы позабавить товарищей. В обеденный час скорпионов на общую потеху стравили с богомолами.
В дальних кишлаках еще и сегодня встречаются любители перепелиных боев, но эта старинная забава приходилась Суфи не по душе. Ему было противно ожесточение, с которым славные мирные птички наносят одна другой серьезные раны. Зачем заставлять их драться, скажите, пожалуйста? Тьфу, глупость! И даже совсем нехорошо, перепелки ведь никому не мешают. Иное дело — скорпионы и богомолы. Тут уж ничего не скажешь, пусть одна гадина ест другую! На здоровье! В тот раз самый крупный богомол был похож на Трумэна. Все согласились с Суфи. Было очень весело. Нашлись подходящие имена и для скорпионов.
Сейчас Суфи ничего не ответил товарищу и продолжал работать. По правде говоря, ему очень хотелось поболтать о своем замысле, удивить всех. Но он сдерживался: еще начнут отговаривать. Ведь люди постоянно так — до чего сами не додумаются, то для них кажется плохим.
Пусть решение Суфи было твердым, но ведь в каждом решении есть своя трещинка. Товарищи могут найти эту трещинку, помешают, смутят, Суфи хотел донести свое решение в целости.
В обеденный перерыв он отправился в отдел кадров.
— Салам, — сказал он заведующему. — Дай мне хорошей бумаги, я буду писать важное заявление.
Суфи присел на свободный стол, расставил локти, обмакнул перо, поднял его перед глазами, чтобы убедиться, что кончик чист, и начал писать.
У директора пришлось подождать — не у одного же Османова находится дело к начальнику. Очень серьезная минута, можно еще раздумать, уйти, и все останется, как было. Суфи сидел и смотрел в пол, собирая и расставляя нужные слова…
— Что же, товарищ Османов, — сказал директор, прочитав заявление Суфи. — Дело хорошее. Партия зовет специалистов на усиление сельского хозяйства. Слыхал я о вашем садике. Ваши таланты найдут применение. Придется вас отпустить. Желаю удачи. Поезжайте!
Османов ничего не ответил директору. Следовало поблагодарить — разве Суфи не умеет обращаться с людьми и не знает правил вежливости? Но он сердито молчал. Он ждал, что директор будет возражать, начнет уговаривать остаться на работе. Завод нуждался в людях, недаром на воротах висело большое объявление.
Директор писал резолюцию, а Суфи сидел и все больше и больше злился. Оказывается, его здесь совсем не ценили; его отпускают так просто, точно негодного работника или мальчишку!
На прощание Суфи все же тонко поблагодарил директора. Пусть не думает этот начальник, не умеющий ценить работников, что товарищ Османов какой-нибудь грубый невежа!
Передавая бумагу мастеру, Суфи задорно заявил:
— Сегодня я больше не работаю. И завтра тоже. Читай! Вообще больше не работаю. Сейчас иду оформляться в совхоз. Меня срочно ждут в вербовочной конторе.
О том, что его ждут, Суфи, если сказать правду, выдумал из желания хоть чем-нибудь отомстить директору за его безразличие. Но в вербовочной конторе он и в самом деле сумел себя показать. Суфи со всеми подробностями рассказал, как нужно сажать, прививать, подрезать плодовые деревья, как удобрять почву и поливать. Суфи дал себе волю и выложил все, что было приготовлено для директора.
Редкий человек, искренне увлекающийся своим делом, не сумеет интересно о нем рассказать. Без всякого умысла Суфи сразу расположил к себе уполномоченного по вербовке, более того, покорил его сердце.
Суфи получил бланк договора с тем, чтобы не спеша познакомиться с условиями и подумать о них. Уполномоченный предложил Суфи явиться с трудовой книжкой и справкой с последнего места работы и крепко пожал ему руку:
— Придете завтра утром, мы сразу все оформим, вы получите аванс и… счастливого пути, товарищ Османов!
…Аванс хороший, почти полностью — остаток долга Садыку Исмаилову.
VI
Суфи гордо вышел из конторы и пошел по освещенной стороне улицы, сверх обыкновения не обращая никакого внимания на палящие солнечные лучи. Угрожающая трещинка в его решении бесследно закрылась. Теперь никто и ничто не сможет его разубедить, даже жалость покинуть свой изумительный садик. Смешно! Он будет теперь в большом, богатом хозяйстве разводить громадные сады, сделается, как некоторые другие, знатным человеком, настоящим мичуринцем и уж там-то не напишут сразу на его заявлении обидное «освободить», если он вздумает поехать куда-нибудь в другое место. Не-ет, там его будут уговаривать: товарищ Османов, уважаемый, вы нам нужны, останьтесь, пожалуйста!..
После пережитых волнений Суфи мучила жажда, и он завернул в чайхану. Удобно устроившись на помосте, он наслаждался зеленым чаем и рассказывал случайному соседу, что уезжает на работу в лучший совхоз республики. Чтобы все знали и могли ему позавидовать, Суфи рассуждал громким голосом. Он заметил пожилого человека в белой чалме, который сидел поодаль и явно не обращал на него внимания. Тогда Суфи заговорил еще громче.
Он подробно рассказывал, как можно на корне одного дерева вырастить сразу два разных плода, грушу и яблоко, например! Да, и совершенно без помощи бога… Можно вырастить и три! Наука! А вы слышали о Мичурине? Это вам не старая, никому не нужная, глупая мечеть! И не пророк Магомет, например… А вы слышали, что такое хлорофилл? В коране, например, об этом вы не прочтете!
Соседи улыбались, а ближний подталкивал Суфи локтем, поощряя его продолжать дразнить муллу, который сидел с неподвижным лицом, как глухой. Но Суфи вспомнил, что ему еще нужно попасть на завод, оформить документы и поговорить с товарищами.
Путь Суфи шел мимо конторы, где сидел Садык Исмаилов. Суфи вздумал было забежать и сказать, что завтра он вернет почти весь остаток долга. Садык все же помогал ему, и Суфи готов был простить Садыку досадный случай с персиками.
Но времени уже не оставалось.
На заводе Суфи всем рассказал о великом событии в своей жизни, звал товарищей с собой и говорил, что вербовщик — его друг, что было не совсем хвастовством.
Дома Суфи никак не мог остановиться говорить, он даже первый раз в жизни подавился пловом. А жена? Ох, уж эти женщины! Она, представьте себе, так и сказала: «Я знала, мой Суфи, что ты кончишь этим. Разве такой сад достаточен для тебя!»
Разговоры продолжались до поздней ночи. Все было предусмотрено — и когда приедет жена с детьми, и на кого оставить на время дом и сад… Потом Суфи признался, как взял деньги у Садыка и как скрывал это от жены. Было еще много слов, и жена сказала: «Мой глупый Суфи!» Это совсем не было обидно…
Перед сном жена нашла время сказать:
— Ты не слыхал? Умер Мохаммед-Рахим.
Настроение Суфи сразу померкло.
— Ай, ай, ай, — загоревал он, — такой человек умер, такой человек! Совсем не старый, совсем молодой, какой умный, добрый, ученый. Никто о нем плохо не говорил. Эх, злая судьба!..
— Люди говорят, — продолжала жена, — что он умер из-за того, что поел персиков.
— Базар врет, базар всегда продавал с одной маленькой правдой три большие лжи, — возразил Суфи. — Разве базар не отдавал во время войны Гитлеру и Москву и Баку?.. От вишен может заболеть живот; нельзя сразу есть много абрикосов, а яблоки, груши и персики — можно. Плохо бывает от зеленых, но разве Мохаммед-Рахим стал бы есть зеленые? Но и от зеленых никто не умирал, даже паршивые мальчишки, которые ломают ветки, чтобы украсть твердые, как камень, фрукты.
— Не в том дело, мой добрый Суфи, — возразила жена. — Говорят, что персики были отравлены…
Глава третья С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
I
Каких только имен не носят людские поселения! Хорезм, или, точнее, Шах-Резм, — значит Воинственный. Воинственными были город и государство Хорезм. Они исчезли, побежденные и разрушенные сильнейшими именно в те годы, когда Шах-Резм достиг, казалось, своей наибольшей силы…5 Такие примеры не единичны. Недавно на глазах людей XX века произошли не меньшие крушения. Воинственность — плохая основа государства и зыбкий фундамент для городских стен. Ведь это про судьбу завоевателей сложено мудрое народное изречение: «Торжество насилия и падение идут рука об руку».
Мирно живет под мирным именем город Китаб — Книга. Вблизи него расположился Шахрисябз, или Шехри-сэбз, — Цветущий. Китаб не похож своими улицами и домами на книгу, но Шахрисябз действительно цветет прекраснейшей растительностью и еще более прекрасными памятниками древней архитектуры. Однако много садов и цветов в городе Гузаре, и жители его ничуть не грустнее других, хотя некоторые переводят древнее, непонятное слово Хузар как Гуть-Зар, что значит — Сама Печаль.
Небольшое селение, расположенное в устье широкой горной долины, носило имя Чешма-и-Хафизии, а чуть выше него приютилось второе — Дуаб. Чешма-и-Хафизии — значит Источник Певцов, второе же имя следует разбить на два слова — Ду-Аб — Два ручья, или Двуречье.
Если трудно, даже в большинстве случаев невозможно, восстановить обстоятельства, послужившие основанием для возникновения имен больших городов, то кто же сможет разобраться в отдаленном смысле названий двух маленьких, прижавшихся к горам поселений? Быть может, и вышли когда-то из нижнего поселения певцы, прославившие родину своим искусством, но память о них угасла. А в верхнем — течет один ручей, а не два; он-то и питает поля и сады обоих поселений.
Однако в имени Ду-Аб лежит несомненное воспоминание. Вода приходит и уходит. Был когда-то, наверно, и второй ручей… Будь и теперь два ручья, объединенный колхоз мог бы принять имя Чешма-Шехри-сэбз, то-есть Источник Цветения.
Во времена эмирата население обоих кишлаков никогда не отличалось достатками, и хотя бедность непривлекательна, все же порой каршинские беки обращали внимание на нищих дехкан.
Когда сегодняшние старики еще были детьми, один из каршинских беков, — это не сказка, а действительное событие — взглянув на двух белобородых старшин, которые доставили, ссылаясь на неурожай, менее половины причитающегося по корану налога, с грустью сказал:
— Увы, что делать с этими бедными людьми? — А потом, закрыв лицо рукой, вздохнул: — Уведите, я не могу смотреть на них…
По традиции арабских халифов, благочестивые мусульманские владыки не произносят жестокого слова смертного приговора.
Извещенные о судьбе старшин жители Дуаба и Чешмы немедленно внесли недоимку: ростовщики взяли в залог дочерей дехкан. Это была разумная поспешность, потому что с той же грустью добрый бек мог сказать, что он не в силах смотреть на все население кишлаков.
В законах и в комментариях к ним сказано:
«Какой пастух держит овец, если они не дают ни шерсти, ни молока! Он должен поспешить взять их мясо».
«Настойчивость правителя, облегчающая сбор налогов, никогда не может быть названа жестокостью. Ибо своевременное поступление налогов укрепляет государство».
До революции жители двух маленьких кишлаков привыкли объединяться в пейкалы, традиционные для бедных содружества по совместной обработке земли. Сила бедных — в единстве! Так учили отцы, завещая детям единственное достояние — жизненный опыт.
В каждый пейкал входили восемь-десять хозяйств. Люди честно вносили паи — кто быка, кто осла или лошадь, а кто только руки. Отказа не было и такому. Все хотели жить и были обязаны кормить детей… Пейкал общими силами проводил вспашку и уборку, заботился о воде и всем прочем под начальством выборного пейкал-баши.
Всякий начальник, даже такой скромный, как пейкал-баши, обязан быть спокойным и терпеливым, памятуя старую мудрость трудящихся людей:
«Мир есть самое лучшее из всех решений».
Горяч был пейкал-баши из нижнего кишлака, вот и случилось тому назад лет тридцать пять, что в жаркую пору лета чешминцы напали на дуабцев. Дурная получилась схватка, тяжелый острый кетмень — страшное оружие в руках разъяренного дехканина, уверенного, что его поле засыхает по злой воле перехватившего воду соседа…
Ныне Чешма и Дуаб слились в один колхоз. Членам сельскохозяйственной артели и в голову не придет сражаться из-за воды. Расскажите им, что и теперь за горами люди убивают один другого за очередь на полив воды, они покачают головами, пожалеют несчастных, выразят надежду, что и тем не вечно страдать, но вы увидите, что для колхозчи 6 ваш рассказ почти непонятен, точно вы говорите о событии, случившемся на Луне.
…В доме Шарипа Ишхаева, что стоит вторым от въезда в Чешму, живут гости. Они приехали с попутной автомашиной. Ишхаев, как полагается, предъявил документы своих родственников и друзей председателю колхоза, зарезал барашка, угощал гостей кябабом и пловом.
Старшему гостю, двоюродному брату Шарипа, как о нем было сказано председателю колхоза, лет пятьдесят, что и видно по сухой жилистой фигуре, чуть согнутой в плечах, и по глазам в сеточке мелких морщин. Зовут его Исхаком. Племянникам Ахмаду и Исмаилу лет по тридцати, они сильные мужчины, в цвете лет. Четвертый, Юнус, недавно вышел из юношеского возраста, но уже крепок и, как видно, силой не обижен.
Уборка зерновых хлебов была уже окончена, а коробочки хлопчатника еще не раскрылись, поэтому Ишхаев второй день свободно проводил со своими гостями и родичами. Много ели, много пили. Но за стенами, окружавшими усадьбу Ишхаева, было тихо: ни заунывных звуков двухметрового медного корная, ни песен. Доносился только глухой бой бубна.
Коран запретил мусульманину пить перебродивший сок виноградной лозы, но в нем ничего не сказано о хлебной водке, о курении опиума или гашиша-анаши, зелено-коричневого сока индийской конопли. Мало кто считался в Чешме и Дуабе с указаниями корана, а водкой сельский кооператив торговал слабо. Среди узбеков хранится врожденное предубеждение против пьянства. Два литра купил в сельпо Ишхаев, и то продавец шутил:
— Зачем так много? Ой, Шарип, берегись, сам пьяный будешь, гостей напоишь, головы заболят, пожалеете.
Знал продавец, что сам Ишхаев выпить не прочь.
Ишхаев вышел за ворота своего дома и остановился на улице, безразлично глядя в степь, мимо стены следующего и последнего дома кишлака.
А все же водка действовала на голову. Ишхаеву вспомнился августовский день двадцать второго года, молодость. Конь у него был кровный туркменский, злой жеребец. Красных было всего два эскадрона, может быть три. А у Энвер-паши тысяч пять всадников, как цветами пятнавших степь яркими халатами. Эх, не будь у красных пулеметов… Ишхаеву пришлось быть рядом с Энвером, и чуть не первым увидел он, как поползло с коня вниз пробитое пулей тело паши.
Но ушел Ишхаев и немало еще погулял басмачом, прятался, ускользал и опять был в седле. Только в тридцать втором году успокоился окончательно, сумев скрыться от красных после разгрома Ибрагим-бека. Сначала осел в Карши, потом сюда перебрался, женился. А ниточку все же за собой тянул. И вот его вспомнили…
Все, что сейчас Ишхаев видел перед собой, он знал до мельчайших подробностей. Вправо в степь отходил глубокий овраг. Недавно в колхозе побывали трое изыскателей, и пошли разговоры, что когда-то по долине протекала река. Нет, эту реку люди сами выдумали, глядя на сухое русло. Какие тут реки! Так, лет тысячу рыли степь зимние воды, вот и нарыли.
Медленно ворочал Ишхаев тяжелые, тошные мысли. Если бы умел человек забыть прошлое, не познавать настоящего и не думать о будущем! Но во всем утверждается воля вечного, утешал он себя.
Ишхаев глядел на надоедливо-знакомую границу возделанной земли, начерченную вытянутой ниткой тополей. За ними была степь — скучная, никому не нужная пустыня. Вдали по дороге бежали клубы пыли. В кишлак шли несколько автомашин. Едут посторонние. Ишхаев знал, что все три колхозные автомашины были дома.
Вскоре передняя машина вынырнула из-за стены и прошла мимо. В кузове лежали какие-то большие предметы. На покрывавшем их брезенте сидели двое — узбек с короткой бородой и русский, бритый, в выцветшей фуражке. Ишхаев узнал их — те самые изыскатели, что недавно посетили кишлак.
Автомашина остановилась в другом конце улицы, перед домом председателя колхоза. Одна за другой к ней присоединились еще четыре, нагруженные отесанными столбами и железными брусьями.
А не приехал ли и тот человек, которого ждали его четыре гостя? Здесь никто не откажет подвезти попутчика.
Ишхаев ждал минут пятнадцать, сидя на корточках в тени стены. Нет, еще не приехал. Ему опять было тошно и скучно. В его дни люди были смелее. А эти засели у него, потому что в Карши один его друг, бывший мулла и бывший басмач, как он, побоялся их держать и прислал сюда. На все воля бога… По крайней мере, гости — настоящие мусульмане.
II
Землетрясения по-разному влияют на источники. В одном из больших среднеазиатских городов после разрушительных для зданий толчков стало больше воды. Водоносные слои приняли более выгодное для людей положение.
Ефимов, Фатима и Ибадулла должны были обнаружить следы того старого землетрясения, о котором рассказала мраморная доска в умершем городе.
Ибадулла не забывал профессора Шаева. Этот удивительный человек жил на свете, повидимому, только для того, чтобы добывать воду для родной земли. На своей большой карте Шаев заранее обвел Чешму и Дуаб зеленой пунктирной линией. Провожая сюда изыскателей, Шаев шутил, по своему обычаю:
— Когда найдете свою реку, мы поставим там не доску, а целую мраморную глыбу и напишем на ней настоящие слова о партии, о дружбе народов, расскажем, как искали воду и как ее нашли… Да, да! Мы напишем эти слова по-узбекски, по-русски и по-арабски. А внизу скромно мелким шрифтом три имени…
Ибадулла испытывал искреннее влечение и нестыдную зависть к узбекскому ученому. Шаев был лет на шесть, самое большее на восемь старше его. Но он не терял времени на изучение бесполезных наук в медресе, поэтому знает нужное и умеет действовать. По усвоенным до сих пор Ибадуллой понятиям, такой сановник, как Шаев, распоряжающийся многими людьми и большими деньгами, должен быть гордым, недоступным, с односложной, резкой и повелительной речью, как англичане и высокопоставленные мусульмане. Но профессор Шаев был так же прост, как инженер Ефимов.
Известия о воде приходили к Шаеву со всей страны, и он знал все: сколько сегодня выпало в горах снега и дождя, где кончается каждый ледник, каковы уровни воды в верховьях каждой реки, где вырыли новый колодец, даже такой ничтожный, что за целый день из него едва можно напоить две или три сотни овец. Шаев считал, складывал. Итоги увеличивались.
— Мало, мало воды, — говорил Шаев. — И все же настанет время, Средняя Азия сделается тем раем, мечту о котором подхватил Магомет у кочевника сухой Аравии. Не чудом, а наукой и индустриальной мощью Советского Союза.
Шаев говорил о разработке перспектив, о плане, по которому русский Енисей придет на земли узбеков, туркмен, казахов.
— А пока будем собирать воду. Нам дорог каждый ручеек, каждый колодец. Пусть увеличивается влажность воздуха, пусть пополняются запасы льдов в горах…
Прощаясь, Шаев извинился перед Фатимой и Ефимовым и отвел Ибадуллу в сторону.
— Брат, — сказал он, — ты моложе наших друзей знаниями, учись у них не стесняясь. Но возрастом ты старше их на годы, а драгоценной наукой жизненного опыта, может быть, в несколько раз. — Шаев глядел строго, он взял Ибадуллу за руку. — Ты узбек. Это слово значит, как тебе известно, свободный человек, человек, который сам себе хозяин, благородный человек. Будь и дальше верным другом и береги наших молодых друзей…
III
Дека у камачи небольшая, зато гриф длинный. Струны стальные, по ним водят смычком из конских волос.
Люди сидели в колхозной чайхане, передавая друг другу с вежливыми, изящными поклонами пиалы с теплым зеленым чаем.
Кончив куплет, певец — учитель кишлачной школы — умолкал и повторял мотив на камаче. Струны пели особенным звуком, очень похожим на голос самого певца. Последний звук, извлекаемый смычком, певец сливал с началом следующего куплета.
Председатель колхоза Якуб Афзалиев устроил праздник в честь прибывших в кишлак гостей-изыскателей.
Колхозники расселись под толстым чинаром. В середине на ковре был разложен достархан — угощение из фруктов, конфет, пшеничных лепешек, дынь, арбузов. Всего много, и спешить некуда.
Афзалиев был озабочен: в районе колхоза предстоят большие работы. Изыскатели привезли разные строительные материалы для сооружения буровой вышки, будут бурить и искать воду. Это очень хорошо, от этого теплее на сердце. Райисполком прислал письмо: нужно оказать содействие. Письмо — это форма, он понимает. Сейчас он даст хоть тридцать человек, половину всех работоспособных членов артели, люди не загружены, пусть зарабатывают деньги. Это не времена эмира, когда чиновники заставляли дехкан работать даром. Но такую работу можно было бы сделать и даром… Но если дело продлится до начала уборки хлопка?
Якуб не побоится затянуть уборку. Уборка — это сегодня, а новая вода — завтра. Руководитель должен смотреть в завтрашний день. И председатель колхоза соображал, как лучше организовать сбор хлопка с меньшим числом работников.
Подливая Ефимову свежего чая, Афзалиев призадумался о возможных последствиях находки большой воды. В объединенном колхозе всего шестьдесят один человек, откуда же взять работников для увеличенных угодий?
А учитель все пел и пел. Новый куплет понравился Афзалиеву и отвлек его мысли. Эмин хорошо поет, ничего не скажешь… С песней легче живется, ее не любит только безумец или такой злой человек, кто на весь мир смотрит с ненавистью и никого не любит, даже себя… «К чему заранее беспокоиться? — ободрял себя Афзалиев. — Была бы вода, а машины и люди будут. Ученые не ошибаются: здесь была река, это она прорыла овраг через пустыню».
И Якуб Афзалиев увидел себя большим мирабом, начальником воды. Здесь построят головное сооружение со шлюзами и электростанцией и поручат ему управление. Разве он плохой хозяин? И он будет справедлив, не обидит новые колхозы в бывшей пустыне, не забудет и свой.
Председатель бодро глянул кругом, заметил Шарипа Ишхаева и рядом с ним незнакомого молодого человека.
— Э, Шарип! — крикнул Афзалиев. — Сам пришел, а почему не всех своих гостей привел? Разве у нас мало места и мы бедны на угощение?
— Они устали, отдыхают, — ответил Ишхаев.
— Тогда я не обижаюсь, — согласился Афзалиев. — Ты хороший хозяин, гостя нужно так угостить, чтобы он не встал с места, — и сам принялся угощать изыскателей только что принесенным жирным рассыпчатым пловом. В земле, в обложенной раскаленными камнями яме, доходило главное блюдо — печенный в собственном соку баран.
Ибадулла обернулся на голос Ишхаева и заметил его соседа. Он где-то видел это лицо… Вспомнить не удалось. Слишком многих людей видел Ибадулла за последние четыре месяца, слишком много было новых впечатлений.
IV
Скучные лысые горы теснятся к долине, где пристроились Дуаб и Чешма. Очертания их мягкие, закругленные; камень сглажен, в редких местах, где склоны покруче, торчат белые и серые скалы. Лесов нет, встречаются лишь низкие поросли кустов шиповника и боярышника.
Весной горы зеленые, кусты стоят в белых и голубых ароматных цветах, оплетены вьюнком, который закрывает к ночи свои нежные колокольчики. Растения спешат. Проходит один месяц, и все смазывается коричнево-бурым и серым однообразием увядания. Так будет до первых осенних дождей, когда ненадолго оживет замершая в летнем зное скромная жизнь.
Как челнок ткацкого станка, ходил самолет над долиной и горами. Машина летала выше и ниже, меняла направления. Точно устав, самолет опускался на ровную степь ниже кишлака, пополнял запас бензина и вновь начинал свою однообразную, настойчивую работу.
С высоты рельеф земной поверхности кажется другим, чем с уровня земли. Иначе ложатся тени, по-иному улавливаются и общий вид и его особенности. Направления ветров, их силу и постоянство советские исследователи Средней Азии прочли с самолетов на барханных песках. С самолета изучавшие пустыню нашли остатки некоторых древнейших городов. С воздуха можно было угадать и следы геологических потрясений, погубивших реку, вытекавшую из долины тысячу лет назад.
Под самолетом земля раскачивалась, поворачивалась, ходила кругами. Вначале Ибадулла терялся, будто самолет все время оказывался над новым, еще невиданным местом. Потом он начал запоминать складки, неровности, узнавал их, как черты лица знакомого человека. Осваивались глаза, все сильнее и ярче творило воображение. Ефимов уже видел, как создавался рельеф этой земли.
Когда самолет шел с юга, Ефимов несся вместе с волной. Изгибаясь складками, она катилась, переливая землю, как воду, и гнала ее к северу. Там, далеко, видимые только с самолета, сверкали вершины горных цепей.
Потом самолет описывал полукруг, волны пропадали и находились вновь. А к югу, откуда, как казалось, пришла родившая их буря, лежала плоскость.
Долина Дуаба и Чешмы продолжалась расселиной-руслом. В бинокль можно было рассмотреть темную точку на желтом фоне — озерко среди мертвого безыменного города. Солнце уже почти выпило озерко, и оно превратилось в большую лужу.
Менялось направление полета, и открывались другие движения земной коры. Они сжали складки, пытаясь переместить их, передвинуть, сломать. Местами эта работа была успешной.
Час за часом ходил самолет, и тайны земли открывались мысли человека. Обнимая Ибадуллу за плечи, Ефимов смотрел с ним вместе и проверял свои впечатления ощущениями другого человека. Ибадуллу сменяла Фатима.
Третий день с рассвета и до захода солнца они летали над долиной. Ими владело опьянение движением и работой воображения. Кусок земли под крылом — квадрат со стороной километров в пятьдесят — стал книгой, страницы которой читались и понимались.
Двое сменявшихся летчиков тоже увлеклись чудесной охотой за секретом земли.
Зарождающиеся мысли превращались в убеждения. На планшетах появлялись новые линии, вспыхивали горячие споры. Ибадулла тоже чертил, а порой и спорил. Ему стало легче говорить, он уже хорошо освоился с русским языком. Человек с отличнейшей памятью, он правильно употреблял технические термины. И, как раньше, он уступал Фатиме.
V
Гости Шарипа Ишхаева проводили время в неутомляющей их праздности. Младший, Юнус, часто брал в руки бубен и отбивал ритмы, как будто бы однообразные и однозвучные, но обладающие великой силой очарования. Бубен бил: там, татата-там, там, там, там, та-там… И опять: там, татата-там…
Слушая, люди в такт покачивали головами и беззвучно вторили пальцами. Они бездумно опьянялись музыкой, как их предки многими столетиями. А над их головами носился самолет. Гул мотора то приближался, то затихал вдали.
Старший гость, Исхак, мог не шевелиться часами. Сидя на подвернутых под себя ногах, он едва заметно шевелил губами. Изредка поднимал глаза к небу, и только по этому движению можно было угадать, что он молится. И вдруг, точно очнувшись, начинал рассказывать. Бубен глох. Юнус чуть слышно ударял костяшками пальцев по натянутой ослиной коже, не мешая плавной речи Исхака:
— Жил нищий в великолепном Самарканде. С утра приходил он к южным воротам, открывающим путь в священный Аллакенд. По-разному просят милостыню у прохожих. Этот же всегда тянул руку со словами: «Подайте бедному», и вздыхал: «О, если бы я был правителем Самарканда…» Так он прожил многие годы, и никто не слыхал от него других слов… Тамерлан покорил Самарканд, и ему рассказали о странном нищем. Великий хромец приказал привести его. Нищий был в лохмотьях, черен от солнца и грязи, от пыли и жира. «Вымойте его и облачите в одежды правителя», — приказал победитель мира. Нищий молчал.
Его отвели в баню, умастили благовониями, надели золотой халат, подпоясали драгоценным мечом и посадили на трон. Он молчал.
Все склонились перед ним. Сам великий кивнул головой, а он все молчал.
«Ты — правитель Самарканда. Твое желание исполнилось. Скажи же нам что-либо», — молвил Тимурленг. Нищий молчал.
«Говори же!» — приказал Бич Божий. И правитель Самарканда протянул свою руку в золотом рукаве и сказал: «Подайте бедному нищему…»
«Отрубите дураку голову!» — гневно повелел могучий.
Над кишлаком скользнул самолет. Он прошел низко, и грохот наполнил двор Ишхаева. Рассказчик умолк, и все подняли головы. Исхак продолжал:
— Некоторые говорят, что гнев Тамерлана был справедливым. Другие утверждают, что в словах нищего таилась глубокая мудрость. Кто знает? Передают, что, чувствуя горечь наступающей смерти, властитель мира произнес: «Не зная поражений, я победил всех. Я хотел завоевать весь мир, и немногое еще мне оставалось сделать. Железо и яд были бессильны против меня. И вот я умираю. Что осталось мне? Ложе смерти делает равными всех. И меня и того нищего, кто хотел быть правителем Самарканда. Я исполнил его желание, и я же лишил его жизни. Но что дурного я сделал с ним и с тысячами тысяч других? Ничего, если рассудить. Они умерли немногим раньше, и только. Человек смертен».
Снова прошел самолет над двором Шарипа Ишхаева. Маленький, медленный. Гости Ишхаева видели и не такие самолеты.
Глава четвертая ПОКРЫТЫЕ ПЛАЩОМ
I
Бодро пыхтел смонтированный на грузовом автомобиле дизель силовой установки. Его быстрое «тух-тух-тух» весело разносилось по долине. В клетке вышки, дрожа, вращалась штанга бура.
Километрах в трех с небольшим выше окраины Дуаба долину пересекала складка, как назвал ее Ефимов. Складка чувствовалась и на скатах берегов долины. Обследование с земли ничего не говорило, но у воздушного наблюдателя нашлись серьезные основания для размышлений. Вероятно, именно здесь прошла рваная линия сброса. Тысячелетие сгладило очертания, срезало острые края, засыпало провалы. Десять столетий — ничтожный срок для земной коры. Однако по долине проходили поверхностные воды с их быстрой работой, и надпись на мраморной плите служила драгоценной подсказкой.
Как многие молодые люди, Ефимов искренне считал, что настоящий человек должен обладать выдержкой, уметь обдумывать свои поступки и ничего не делать под влиянием минуты. Его давно влекла мысль о поездке на работу в Среднюю Азию. Он делал нужные шаги, но мало говорил о своих проектах. Лишь за неделю до отъезда Ефимов рассказал о них одному своему старшему по возрасту приятелю.
Тот не слишком долго думал, чтобы осудить намерения Ефимова. Были перечислены непривычный и вредный для северянина климат, тяжелые условия полевой работы в чужой обстановке, незнание языка и главное — отрыв от Москвы. Лишь работа в центральном научном институте обеспечивает настоящее и будущее. Сорвешься, отстанешь, заленишься, говорил друг.
Замечание Ефимова о необходимости для молодого специалиста иметь стаж практической работы было небрежно отвергнуто: «А разве мы здесь, в институте, не ведем практической работы?»
Друзья расстались после довольно холодного рукопожатия. Сейчас Ефимов вспомнил своего друга с долей злорадства: «Хотел бы я посмотреть, что бы он делал на моем месте? Он, с его поговоркой — в сомнении воздерживайся. Нет, брат, в полевой работе, как в бою. Нужно решать и делать, когда на тебя смотрят люди, а не тома чужих трудов, на которых некоторые строят свои научные успехи!»
Чужой климат? Ефимов научился наслаждаться бездонным азиатским небом. Ему уже не мешало злое, давящее солнце. Он полюбил древние памятники и желтую землю. И еще больше он полюбил грандиозный размах человеческого труда советских дней Средней Азии, и не могло быть ничего лучшего, чем его работа.
За право любить он расплатился потом и жаждой, сожженной кожей, дрожью в холодные ночи. Он переживал свойственное многим пришельцам с севера увлечение спокойным, изысканно-вежливым, мудро-гостеприимным народом. Счастливый, он встретил только руки друзей, и это навсегда останется для него щитом от неизбежных в жизни огорчений и обид, которые уже никогда не перейдут в разочарование…
II
Ибадулла стоял у буровой вышки.
— Способнейший человек, — думал Ефимов, глядя на Ибадуллу. Даже издали был понятен интерес, с которым Ибадулла наблюдал за работой. Вот он заговорил с мастером, показывает рукой…
«Спрашивает, — думал Ефимов. — А ведь какой был вначале связанный, необщительный. Теперь не тот стал человек, развернулся и больше не видит во мне чужого. Как приглядывается! Через две недели сам сможет бурить, если понадобится…»
Ефимов томился в ожидании. После проходки первых тридцати метров можно будет перенести вышку на новое место и начать сравнивать керны-образцы извлеченных буром горных пород. Ефимов не позволял себе мечтать, что бур может скоро попасть в водоносный слой. Терпеливое исследование грунтов, установление района сброса, пока не больше…
А вдруг вода здесь, под самыми ногами?! Чтобы не отдаваться праздным мечтам, Ефимов окликнул Ибадуллу:
— Давайте займемся на полчаса!
Пользуясь свободными минутами, они проходили алгебру, геометрию, тригонометрию, начальную физику.
Сообразительность и память Ибадуллы поражали Ефимова. За один час удавалось пройти то, на что в средней школе уходит неделя. С первых же уроков Ефимов убедился, — это было еще в дни обследования сухого русла, — что усвоение отнюдь не было механическим. Ибадулла умел мыслить, а его память была, как чистая книга, в которой написанное однажды оставалось навсегда. Как-то Ефимов сказал своему ученику:
— Память у вас изумительная. Помните, Шаев сказал о знаменитом путешественнике Пржевальском? Говорили, что Пржевальскому было достаточно один раз прочесть книгу, чтобы знать ее наизусть. Вы не пробовали так сделать? Испытать себя?
— Мою память много развивали, — отвечал Ибадулла. Сам он никогда не думал о своих способностях: он думал о годах, бесплодно потраченных на изучение корана и сложной казуистики толкований.
— Каким же способом развивали? — интересовался Ефимов.
Ибадулла неопределенно пожал плечами. Что он мог ответить?
— Это тяжелый способ. Очень тяжелый! Я никому бы не посоветовал. Он развивает память, это правда, — был вынужденный и уклончивый ответ.
— Вы говорите об изучении арабского языка? — догадался, как ему показалось, Ефимов. — Говорят, он очень труден, но почему же вы не советуете им заниматься? Помните у Шаева востоковеда Жаркова?
— У нас арабский учат, чтобы сделаться муллой, — вмешалась Фатима.
— Я не мулла, — улыбнулся Фатиме Ибадулла. Он редко улыбался, что делало его улыбку очень заметной.
— Я знаю, — ответила девушка, — мулла не стал бы искать с нами воду.
Ефимов заметил, что Фатима так смотрела на Ибадуллу, точно хотела еще что-то сказать, но удержалась.
«Странный все же иногда этот Ибадулла, — подумал Ефимов, — что-то в нем есть особенное…»
— Что же, займемся решением многоугольников, — предложил Ефимов. Ибадулла послушно развернул тетрадь у себя на коленях.
III
Ахмад скучал. Он часто вытаскивал свой нож и принимался его точить опытной рукой. Лезвие было острее бритвы бродячего цирюльника, который бреет головы без мыла, ограничиваясь смачиванием водой из ближайшего арыка, и никогда не царапает кожу. Но Ахмаду было все мало. Испытывая нож, он подбрасывал перо и пытался рассечь его на лету.
Ахмад был недоволен, и его недовольство разделял Исмаил. Они делились воспоминаниями о выселении индусов и о налетах на территорию Кашмира, о благочестивой резне «почитателей коровы» в индусских деревнях.
«Долго ли сидеть без дела? Куда девался Сафар?» — с такими вопросами они приставали к Исхаку — старшему в отсутствие Сафара. Исхак терпеливо повторял наказ: ждать возвращения Сафара две недели, потом еще одну неделю. На двадцать второй день можно уйти без Сафара.
Исхаку не было скучно. Он наслаждался случайно выпавшим покоем. К чему спешить? Все будет так, как суждено, что бы ни старался сделать человек…
Запыленный и усталый вернулся с работы Шарип Ишхаев. Вымыв руки и лицо, он вытащил молитвенный коврик и опустился на колени. Это напомнило гостям о часе вечерней молитвы, и все, совершив омовение, приступили к намазу.
Шарип молился долго, уже все поднялись, а он продолжал простираться в ту сторону, где находились священная Мекка, черный камень Каабы и гроб пророка Магомета. Молитвенный коврик Шарипа был весь изношен, местами протерт до дыр. Ворса нигде не оставалось, и нельзя было угадать, что ковер был сплетен из черных и красных шерстяных нитей.
Большой ценностью и значением обладал молитвенный коврик Шарипа Ишхаева. Свидетель благочестия, он будет положен в могилу с телом хозяина и поможет ему войти в рай. Находятся богатые и хитрые мусульмане, готовые заплатить крупные деньги за такой ковер. Его сила так велика, что с ее помощью можно отвести глаза стражам дверей Эдема. И есть люди, которые нарочно заказывают коврики из самой слабой шерсти. Но коврик Шарипа — не такой…
Гости уважали хозяина и за его коврик и за его радушие. Настоящий мусульманин не должен признавать власть, основанную не на законах ислама. Лишь на время правоверный склоняет голову перед неверным владыкой. Бог сказал устами своего пророка в главе корана «Ночная звезда», в 18-м суррате: «Дай неверным дорогу, оставь их на некоторое время в покое». На некоторое время… Только на некоторое время — лишь до дня обещанной пророком победы.
Но еще американцы предупреждали, что их ученики не должны доверять каждому мусульманину. Шарип перебрал по пальцам все население Чешмы и Дуаба, рассказал о каждом человеке. Здесь есть несколько людей, чтущих коран. Но, — Шарип качал головой, — «если сказать им, они выдадут нас».
IV
Закончив моления, Шарип подсел к гостям. Жена не могла помешать им. Хотя женщина, как и все остальные, ходила с открытым лицом, двор Ишхаева был устроен на старый лад и разделялся на две половины: мужскую и женскую.
Шарип рассказывал:
— Мы рыли весь день, ушли глубоко. Рыть стало плохо, попадались камни, били кирками. Этот русский и узбек Ибадулла, да возьмет Эблис их души, умеют заставить работать, чтобы дело шло быстро. И их машина, сверлящая землю, тоже все время крутится. Нас поделили: одни роют, другие отдыхают. Люди стараются. Многие уже говорят, если будет вода, они откажутся от платы. Внизу земля стала сырая. А когда уходили, заметили — в самом глубоком месте набирается вода…
— Думаешь, вода будет? — спросил Юнус.
— Искать воду — есть дело, угодное богу, — ответил Шарип. — Будет хорошо, если они найдут воду.
— Ты сказал, уже сырая земля? — переспросил Ахмад. — Если сырая, значит, вода близко.
— Но они не так ищут, чтобы вырыть колодец, — ответил Шарип. — Девушка Фатима, которая с ними и тоже все знает, рассказывала: тысячу лет тому назад здесь протекала настоящая река. Случилось землетрясение, река провалилась. Они хотят опять достать ее. Говорят, у них такой приказ от власти.
— Бог посылает землетрясение за грехи людей. Если милосердный уничтожил реку, искать ее — грех. Вечный накажет, — сурово и нравоучительно возразил Исхак. — Всемогущий управляет Солнцем, Луной, звездами, ветром и водой. Если он начертал в книге судеб погибель реке, нельзя искать воду на проклятом месте. Бог оставил тебе, Шарип, ручей, и благодари его за это.
— Но если они найдут все же воду и реку, о которой говорит Шарип, — вмешался Исмаил, — не будет ли это знаком, что всемилостивый разрешил реке вернуться на землю? Ведь без воли бога волос не падает с головы человека, а река больше волоса.
— Нет, — ответил Исхак, не соглашаясь с предложенной Исмаилом тонкостью. — Человек не должен и пытаться восстановить уничтоженное богом. Если бог захочет, он опять ударит землю и река воскреснет. Нужно ждать. Неверные не хотят ждать. Мы находимся на вдвойне проклятом месте.
— Сколько этих людей, Шарип, тех, кто приехал в кишлак вместе с русским? — спросил Ахмад, опять играя своим ножом.
— Их пять, вместе с ним.
— Кто они?
— Русский Ефимов, узбекская девушка Фатима, их помощник узбек Ибадулла, буровой мастер и механик-шофер — один таджик, другой казах. Остальные — наши кишлачные люди, которых назначил Якуб Афзалиев.
— А где эти пять человек спят ночью? — спросил Исмаил, следуя за мыслью своего друга Ахмада.
— Они были гостями Якуба. А потом поставили палатку на месте работы у вышки и спят там.
— А кто там есть еще? — возобновил расспросы Ахмад.
— Никого. Утром к ним приходят на работу люди от нас и из Дуаба.
— Это далеко от Дуаба?
— Около получаса ходьбы. А если итти тихо, то и больше, — неуверенно ответил Шарип. — Но чего ты хочешь? — спросил он.
— Чего хочу? Как и все люди — иметь заслуги перед богом, — холодно ответил Ахмад, пряча в ножны острый клинок. — Кто откажется совершить угодное богу? Разве я не прав, мусульмане?
— Но… — голос Шарипа перервался. — Но вы погубите себя и меня. Время спокойное, двадцать лет у нас не было басмачей, на которых могли бы подумать. За двадцать лет здесь не было ни одного убийства и даже ни одной кражи. Вы посторонние. Все падет на вас и на меня.
— Да, — ласково сказал Исхак. — Ты прав, Шарип, ты прав. Гость священен для хозяина и хозяин священен для гостя. Ты можешь быть спокоен. Мы не избавим землю от этих коммунистов. Однакоже… — и Исхак задумался. Он думал, что как ни хорошо здесь жить, но идет уже пятнадцатый день. А дело, предложенное Ахмадом, как раз такое, какое нужно. Быть может, его удастся сделать легко?
Шарип не отрывал глаз от лица Исхака. Ахмад и Исмаил ждали. Юнус весь превратился во внимание. Прошло несколько минут.
— Шарип, — обратился к хозяину Исхак, — ты нам рассказывал, что здесь есть коммунисты и безбожники, которым мы все желаем зла.
— Есть. Афзалиев, учитель Эмин, еще Хадимов, есть и еще…
— Достаточно, — прервал Исхак.
— Афзалиев, Хадимов… — проворчал Исмаил. — Мусульмане не должны иметь фамилий, это печать Эблиса на имени нечистого человека.
— Ты можешь свободно входить в дома этих людей, Шарип? — задал вопрос Исхак.
— Да.
— Ты пойдешь к ним. Ты сумеешь тайно взять их вещи. Нож, тюбетейку, что придется. Если сумеешь, бери халат. Подумай сам, оглядись в их домах. Ты понимаешь меня? Мы оставим их вещи в палатке или около нее. Тогда никто не подумает на нас.
— Зачем так, Исхак, зачем? — возразил Ахмад. — Ты хочешь, чтобы одни коммунисты ответили за других, и ты прав. Но подумай, могут не поверить, что одни коммунисты убили других. Нет, пусть лучше Шарип пойдет в дома дурных мусульман, которые молятся богу, а служат коммунистам. Пусть двоеверные отвечают. Так никто не подумает на нас, никогда.
— Ты прав, — согласился Исхак.
Исмаил достал что-то и, шепча одними губами, подбросил. Все внимательно смотрели, как по твердой и чистой, как пол, земле двора Ишхаева покатился темный, неправильной формы камень. Когда камень гадания, яда-таш, остановился, все сказали:
— Хорошо!
— А что ты загадал, Исмаил?
— Сразу два вопроса. Удастся ли совершить это благое дело и не едет ли к нам Сафар?
— Вот почему так тяжело катился камень. Ты задал ему два вопроса сразу, — заметил Шарип. — Но ответ хороший.
Шарип опять развернул свой коврик и принялся молиться. Ахмад опустился на колени рядом, стараясь опереться на истертую благочестием шерстяную ткань.
Встали на молитву и остальные. Простираясь, они замирали и вновь поднимались, прося благословения на совершение дел, открывающих двери Эдема, где их ждали молчаливые и послушные девы, не похожие на требовательных беспокойных женщин земли.
Память Исхака была полна старых преданий. В сумерках он начал рассказ о прежних владыках, о кровопролитных битвах, о штурмах крепостей. Желания и чувства товарищей Исхака не отличались от желаний и чувств людей, о которых он рассказывал.
V
В бумагах историка Мохаммед-Рахима нашли наброски, относящиеся к событиям, послужившим основой для рассказа Исхака. Мохаммед-Рахим писал:
«Мне никогда не забыть первых впечатлений от посещения Карши. С вокзала я заметил на юге, приблизительно в одном километре, странный холм правильной формы с усеченной вершиной. Я взобрался по крутому откосу, покрытому пятнами ползучей колючки и гладкими плешинами. Наверху оказалась просторная платформа, изрытая неглубокими ямами. Мелкие норы и нора какого-то большого зверя. Ходы в них завалились, следов жизни не было, я никого не потревожил.
«С высокого, как трехэтажный дом, холма я смотрел на рассеченные арыками поля и плотные купы зелени в кишлаках. Я увидел еще один такой же, как этот, холм, и еще один. А к северу, между вокзалом и городом, возвышалась неестественная, чудовищная масса земли, перед которой мой холм был карликом.
«Новые мысли овладевали мной, я был взволнован. Внезапно я заметил камень, торчавший на четверть из плотной земли. Я не смог его вытащить, но разглядел высеченную на нем гирлянду полуовалов, подчеркнутую глубокой бороздой. Характерный и традиционный узбекский рисунок, как на ободке моей тюбетейки. Этот кусок серого узбекского мрамора был раньше, возможно, деталью карниза, венчающего башню. Больше — ни черепка, ни обломка кирпича.
«На севере, километрах в тридцати, я различил отроги гор. Казалось, именно там следовало искать места для крепостей. Но я понимал: горы бесплодны, а ленивая власть хотела сидеть на плодородных полях. Из страха перед народом она стремилась подняться над полями, орошенными Кашка-Дарьей.
«На вал главной крепости я забрался с трудом: круто, откосы тверды и гладки, уцепиться не за что. Наверху я наткнулся на мелкие окопы современного типа — напоминание о недавнем прошлом, о басмачах Энвер-паши или другого вожака байской шайки.
Между первым обводом крепости и вторым паслось стадо, я видел фруктовый сад, два белых дома. Через провал — место бывших ворот — проходил арык. Я преодолел второй вал и забрался в центр крепости, на внутреннее искусственное плато. Отсюда, как на плане, я обозревал систему укрепления.
«Странный вид… Строитель придал валам овальную форму, не создал ни одного входящего или исходящего угла или бастиона. Вся его идея заключалась в том, чтобы как можно выше подняться над плоскостью степи и положиться на поистине несокрушимую толщу валов. Он не думал об активной защите. Да, это годилось лишь против легкой конницы. Крепость могла служить способом устрашения, но защищать ее было невозможно. И все же, когда по земляным валам тянулись кирпичные стены, в середине возвышались тяжелые башни-цитадели, крепость казалась неприступной, а ее владыка — непобедимым. Против своих подданных… Теперь уже мощь крепости не могла меня обмануть.
«Я мысленно подсчитывал объем уложенной земли. Миллионы тонн грунта. Но нигде не было ям, откуда могли бы вынуть такое количество земли. Этого и нельзя было делать, нельзя создавать болота — источники болезней. И я мысленно видел, как день за днем, годами вереницы ослов, верблюдов и лошадей в корзинах издалека тащили землю. Властители соскребали ее с поверхности руками рабов в соперничестве — кто выше поднимется над степью! Чудовищная работа, бессмысленная, как пирамиды Египта.
«Я старался восстановить обстоятельства, при которых погибла крепость.
«Предупреждая о набеге, столбы черного дыма поднялись с выдвинутых к югу малых крепостей. Хан приказал распахнуть ворота из толстых досок, соединенных в несколько слоев гвоздями со шляпками величиной в голову человека. Спасающиеся от набега жители окрестных селений устремились в крепость, теснясь в узких проходах. Всем раздавали оружие — толстые копья с древками из карагача или чинара, кривые мечи, длинные ножи, круглые щиты с медными бляхами на обтянутом кожей дереве, луки со спущенными для сохранения гибкости тетивами, крепкие стрелы с иззубренными наконечниками, смазанными салом.
«Между тем нападавшие уже делали свое дело. До последнего луча дневного света запершиеся в крепости жители с отчаянием смотрели на гибель своего достояния. Над крышами селений поднимался дым, падали деревья, выращенные еще отцами. За валами гарцевали наездники, с бранью вызывая на состязание в силе и ловкости. Гудели тетивы. Вот один на земле. Из тела торчит пестрый оперенный конец стрелы. Нога другого осталась в глубоком башмаке стремени и лошадь волочит вялое тело. Хан приказал наградить метких стрелков…
«Но в толпах врагов мелькают и знакомые лица. Это те, кто не успел или не захотел укрыться в крепости и пристал к врагу. Как видно, не случайно говорит пословица: «Если враг напал на кибитку твоего отца, пристань к нему и грабьте вместе».
«Нет, хозяин не отец рабу. В погоне за светлым призраком свободы человек готов сбросить старое ярмо хотя бы и с риском сменить его на новое…
«Наступила ночь тоски и тревоги. Осажденные видели и светлое пламя пожарищ, и тусклый огонь костров, разложенных из сырых стволов плодовых деревьев. В темноте напавшие казались еще многочисленнее, чем днем. На верхней площадке цитадельной башни, где хранились богатства хана, горели девять факелов. Багрово мерцали длинные огни привезенного из Персии таинственного сока земли. Их было видно на пятнадцать ташей — на сто пятьдесят километров. Подтверждая дневные сигналы дыма, сигналы огня говорили: «Повелитель Карши подвергся нападению. Дружественные правители, союзники, вассалы, вооружайтесь и спешите на помощь, иначе завтра, если будет угодно богу, вас постигнет та же судьба».
«Пламя то поднималось прямо, то раскачивалось, и над людьми носились зловещие тени. Голосили женщины, плакали дети, тревожно ныли верблюды, тоскливо ржали лошади. Чуя чужих, злобно выли тощие желтые собаки.
«В питающем крепость канале не стало воды. Никто не мог помешать врагу отвести воду. Но в глубоких, обложенных камнем хаузах воды хватит на месяцы, — зеленой, гнилой, таящей ришту, но все же утоляющей жажду. Есть ячмень, рис, пшеница, сушеные фрукты. Крепость кажется неприступной.
«Перед полуночью глухие удары таранов в ворота известили о начале штурма. Освещая нападающих, защитники метали зажженные факелы. В толпу врагов плескали горячую смолу, с башен били стрелами и каменными ядрами из пращей. Враг отступил. Но уже с другой стороны звучали крики тревоги, и с третьей, и с четвертой. И опять тараны ударили по воротам. Защитники метались по тесным, неудобным переходам, скользили на внутренних откосах валов. Стараясь быть везде, не различая слов команды, сбитые с толку ложными маневрами нападающих, они не могли угадать направления, откуда наносится главный удар…
«Ни одного угла, ни одного бастиона… Ослепленный мечтой о внешнем, подавляющем воображение величии, строитель высоких стен предал защитников.
«Ползучая пехота лезла отовсюду, и везде защитник оставался в единоборстве с нападающим. Все одинаково вопили боевой клич мусульман: «яр-чар-яр!» — и призывали на помощь одного и того же бога.
«С рассветом началась отвратительная резня побежденных. Уцелевших продали торговцам — ислам не признает за побежденными права на свободу. На рынках понизились цены на рабов.
«Завоеватель разрушил все, сложенное из камня, но кто мог бы разрыть и разметать горы земли! Впоследствии камень от крепостных сооружений пошел на возведение домов во всей округе. Бесполезные же земляные горы простоят еще столетия — неисчерпаемый источник для выделки кирпича…
«Где-то в западном углу крепости мне послышались звуки оживленных детских голосов. Я пошел туда. Неожиданное зрелище в мертвом царстве! В ровной впадине между двумя валами мальчики по всем правилам, со строгим судьей, играли в футбол. Я присоединился к зрителям, которые, как на стадионе, разместились на удобных откосах. Но игрокам откосы мешали. Мяч сам возвращался в игру, на поле вспыхивали споры. Маленькие зрители вмешивались и, как везде, азартно кричали:
— Неправильно! Штрафной! Правильно! Судью долой!
Я опять взобрался на вал. С близкого вокзала донесся протяжный гудок. Отходил скорый поезд Сталинабад — Москва.
«С высоты мне был хорошо виден освещенный заходящим солнцем город Карши, древний Нах-шеб. Он выглядел молодым, хотя был старше крепости. Открытый город, без стен. Его защита — не стены.
«Солнце село, и внезапно стало холодно. А внизу меня встретило неожиданное тепло. Я точно вернулся из чужого холодного мира в мой, теплый.
Валы этой крепости еще и теперь очень высоки. Их построили по приказу хана Кебека, эфемерного владыки Каршинского оазиса, во втором десятилетии четырнадцатого века нашей эры, — лет через сто после завоевания Средней Азии монголами и почти за пятьдесят лет до дней возвышения Тимурленга, известного также под именем Тамерлана и прочими, прозванного народами, как и многие другие властители, бичом божиим…»
Часть пятая ПРАВОЕ ДЕЛО
Глава первая СИЛА СЛАБЫХ
I
Все выше и выше уходили люди, незаметно поднимаясь по широким террасам предгорий. Становилось прохладнее. Вчера в воздухе появился особенный, поразительный для жителя равнины и ни с чем не сравнимый аромат Хималайев — Царства Снегов.
И, однако, до снежных вершин было еще далеко…
Первый и весь второй день своего пути люди провели на широкой, белой от пыли дороге. Они шли и шли по мягким обочинам, опустив головы, смиренные, незаметные, молчаливые и ничтожные, — искатели заработка, потерянные в вереницах таких же бродяг, как они.
Начинались пологие возвышенности. Путники покинули большую дорогу и пошли по тропам, уводившим на подъемы. На пятый день тропинки растворились в лесах и след человека исчез. Но люди продолжали упорное движение и без дорог. Мощная и грозная растительность окружила их. Деревья, как зеленые башни, поднимались на невероятную высоту. Между покрытыми морщинистой корой стволами теснились душные заросли высоких черных папоротников. Их сменяли леса из других, более низких, но тоже громадных деревьев, с корявыми ветвями, покрытыми колкими палочками, похожими на иглы. Среди таких деревьев было легче итти, землю покрывала толща упавших с деревьев мертвых игл, и на ней ничего не росло.
Люди не знали названий деревьев, кустарников и трав. Здесь все было новым для них, этот мир был чужим, созданным для других. Так же как их отцы, деды и прадеды, они владели лишь опытом бедняка, навечно прикованного к неизбежному ежедневному труду. Их глаза привыкли к маленькому куску освещенной солнцем равнины, где находилось поле, к глиняным стенам узких переулков. С той минуты, когда ребенок первый раз встает на ноги, каждый из них изо дня в день ходил по одному и тому же месту, как ходит лошадь, запряженная в водоподъемное колесо. Они дышали знойным зловонным воздухом пыльного поселка, пили мутную воду из арыков, слышали одни и те же звуки. Таков был их мир.
Горы были бесконечно далеки от их мира. Они тянулись по горизонту и были, как облака, такие же недосягаемые, чужие, неведомые. Жители равнины лишь слышали о горах рассказы, похожие на сказки, и сказки, похожие на сны.
Из восьми только один бывал в лесах и горах. Он и вел за собой остальных.
Кроме посоха и скорлупы кокосового ореха, единственного и неотъемлемого имущества странствующего дивоны-дервиша, Эль-Мустафи нес тяжелый заступ, как несет на плече свою винтовку солдат. Бекир был вооружен тяжелой, обоюдоострой киркой на крепкой узловатой рукоятке. У остальных шести было такое же оружие тружеников — заступы, кирки, тяжелые, остро отточенные кетмени. И еще они несли мешки с пищей, чтобы не умереть от голода среди величественной, но дикой и бесплодной природы гималайских лесов. Нести с собой воду не было надобности. Леса предгорий были богаты свежей водой. Среди заросших деревьями скал пробивались свежие ключи, прыгали по камням, звенели на склонах, журчали в долинках.
На кручах белой снежной пылью и радужным дождем сверкали водопады. Они разбивались на блестящих глыбах гранитов, гнейсов и базальтов — прекрасные, радостные, поющие о счастье.
Люди были сосредоточенны и мрачны. Их давили тревога и усталость. Жители жаркой равнины зябли в темной прохладе черного леса. Мрак ночи был страшен. Им мерещились дикие звери, готовые к нападению. Ночные шорохи, вскрики птиц, непонятные звуки тревожили их. В полусне люди жались один к другому, чувствуя свою слабость.
Однако они молчали и не делились своими страхами, — они берегли мужское достоинство. Ведь они решились по своей воле, никто не приказывал им покинуть дом. Ни один из этих людей ни за что не признался бы в постыдном трепете, никогда! Они были свободными людьми, творящими свою волю, и прятали страх в глубине сердец, как нечто недостойное.
Никто из них не стал бы говорить ни о худшем, ни о лучшем: о страхе перед неведомым и смертью, таящемся в сердце каждого человека, или о тайнах любви к женщине и ребенку, вложенной в сердце каждого настоящего мужчины.
Они старались находить слова для шуток, в ответ на шутку звучал смех. На привале кто-нибудь развлекал товарищей забавными историями о нескончаемых похождениях Наср-эд-Дина, ловко дурачившего эмиров, губернаторов, мулл, беков, купцов, ростовщиков, — словом, всех тех, кого не было и не могло быть среди этих восьми человек.
Иной раз они пели. Один выводил простую мелодию, а остальные ждали, когда будет нужно повторить припев. Песнь помогала итти, и песнь отгоняла диких зверей.
Голос человека несравненно слабее голоса зверя. Никто не может так крикнуть, как слон, зарычать, как тигр. Даже слабая птица издает более громкие звуки. И все же в отчетливом голосе человека скрывается великая сила. Старая легенда говорит: для зверя хорошо, что человеческий голос так слаб. Иначе жизнь зверя была бы нестерпимой, — он ни на минуту не смог бы забыть о существовании человека. Единственной защитой этих восьми человек был голос.
Ни одна страна в разнообразном земном мире не богата так дикими животными, как Индустан. Более ста тысяч человек ежегодно убивают звери и змеи Индии и Пакистана. Громадный полуостров плотно населен. Здесь живет почти пятая часть человечества. Звери могли бы потесниться…
Религии и обычаи полуострова, жестокие к людям, всегда покровительствовали зверям. Еще сегодня предрассудки запрещают вдове заключать второй брак, разрешают родителям умертвить новорожденную девочку, допускают оставить без помощи человека, умирающего от голода на улице или дороге у всех на глазах, ставят непроходимую границу между одной группой людей и другой. Такие же предрассудки сделали неприкосновенным зверя. Птицы и обезьяны разоряют сады. Их нельзя отогнать. Нельзя истреблять кабанов, пожирающих посевы. Нужно обойти стороной ядовитую змею. Запрещено убивать крокодила, подстерегающего прохожих у брода.
На зверя нельзя нападать, но сам он нападает. Есть злые звери, есть и добрые.
Однажды путь людей пересекся с дорогой слонов. Серые гиганты, раскачиваясь, прошли по пробитой их круглыми ступнями тропе, делая вид, что не замечают пришельцев. Попадались и другие, более опасные следы.
Мир бредущих в лесах людей был так устроен, что встреча с другим человеком могла оказаться страшнее всякой иной. Можно попасться на глаза сановнику, начальнику, владетельному хану, решившему позабавиться и позабавить своих английских или американских друзей охотой в горных лесах. Какое ему дело до нескольких бедняков, решивших, как они ему объяснят, испытать счастье и намыть несколько щепоток золота в горных речках, если это будет угодно богу.
Богу угодно другое, скажет сагиб, и придется таскать вместе с носильщиками вещи сагиба и выгонять дичь под выстрелы его друзей, без всякой оплаты за потерянное время и силы. Да, совершенно бесплатно!
Такова трудовая повинность, обязательная для всех, кто находится во владениях любого господина. Ей подвергаются и лучшие люди, чем кучка нищих, замысливших искать золото там, где его нет, — так посмеется над ними сагиб.
Приближалась пора дождей, оставался еще месяц. Знатные господа не любят мокнуть в лесах, любители пышных охот уже возвращаются домой. Чем глубже в лес уходили восемь путников, тем смелее звучала их песня.
II
Навстречу людям из густой заросли неожиданно вышел зверь. Он сделал несколько шагов — на мягких лапах с втянутыми когтями и остановился. Люди замерли.
Толстым длинным хвостом зверь ударил себя по боку. Он смотрел на людей круглыми желтыми глазами, и каждый человек видел, что тигр смотрит именно на него.
Все ниже опускалась тяжелая голова. Под полосатой шкурой выпячивались лопатки.
Тигр лег. Как проволочные, торчали его редкие усы. По сторонам закрытой пасти выставлялись концы клыков. Не отрывая от людей взгляда, он собирал свое жилистое тело. По его спине пробегала дрожь, вставала шерсть на хребте. Зверь подтянул под себя передние лапы. Мелкие толчки выдавали нарастающее напряжение задних. Тигр сокращался, как пружина.
Люди не бежали, они сбились в кучку и подняли кирки, заступы и кетмени, чтобы встретить нападение. Они тоже напрягали свои мускулы и волю, зная, что зверь прыгнет и кто-то уже обречен.
Эль-Мустафи выронил заступ и шагнул вперед, прикрывая собой других. Правая рука дервиша спряталась в лохмотьях халата, где был тяжелый пистолет морского образца. Пять шагов сделал дивона и остановился, не доставая оружия.
Человек и зверь как бы окаменели. Тигр так собрал тело, готовое к прыжку, что, казалось, не мог пошевелиться, а человек затаил дыхание. Бойцы, они испытывали один другого взглядом, примеряясь перед схваткой. Вдруг Эль-Мустафи протянул безоружную левую руку и отрывисто крикнул:
— Уходи!
— и-и-и… — отозвалось лесное эхо.
Как кнут, приказание ударило зверя. Тигр вздрогнул и ответил коротким, глухим ревом. Он сказал:
— Нет.
И так же повелительно дивона повторил:
— Уходи!
Тигр смолчал. Люди не могли видеть лица дивоны, они были за его спиной. Но они заметили, как глаза зверя превратились в узкие щели, как раздвинулась пасть и обнажились клыки.
Инстинктивно, не сговариваясь, люди пошли вперед, сокращая расстояние между собой и дивоной. И опять замерли.
Медленно исчезало напряжение в мощном теле полосатого хищника. Он встал, повернулся к людям боком и, не торопясь, пошел в заросли. Отказавшись от боя, он, как воин, «сохранял лицо».
Эль-Мустафи сказал:
— Братья, тигр видел наше единство и не осмелился напасть на нас.
Голос дивоны звучал обычно, как будто совсем ничего не случилось, как будто в зарослях не было страшного зверя. Люди дрожали; опасность удалилась, но они только сейчас начали переживать ее во всей глубине.
Нельзя позволить, чтобы человек осознал себя трусом. И Эль-Мустафи спросил:
— Уж не думаете ли вы, братья, что тигр испугался моего взгляда? Нет, я не владею искусством чаровать зверей. В моей руке было готово оружие. Это вас испугался он, перед вами отступил он, братья!
Называя каждого по имени, дивона восхвалял храбрость товарищей, для каждого находил свое слово. Они соглашались: поистине, никто не испугался и все поступили, как храбрецы. Если бы тигр напал, он был бы уничтожен.
Люди улыбались, подталкивали друг друга локтями, выпячивали костлявые грудные клетки, распрямляли спины. Да, конечно, дивона понимал их лучше, чем они сами. Никто не подумал о бегстве, они сомкнулись, как воины, и враг бежал!
Эль-Мустафи сказал, что цель уже близка. Дальше они пошли смелее, без страха прислушиваясь к смутным шорохам и шопоту жизни, окружавшей их и невидимо следящей за каждым их шагом.
На привале они вспоминали о встрече с тигром и о своей храбрости без самохвальства: каждый, умалчивая о себе, говорил о мужестве соседа. Проникаясь сознанием своего превосходства над силами лесных дебрей, пришельцы из равнин учились гордиться силой своего единства.
III
Высоко в горах лежит исток великой реки полуострова. В широком и диком каменном ущелье вздымается обрыв сползшего с гор ледника. Сверху он усеян вмерзшими камнями, а срез — весь в трещинах, в синевато-зеленых пористых разрывах, изрыт пещерами и гротами, куда под широкие своды, которые ненадежно удерживают проседающие ледяные крыши, никто не решится войти.
Здесь все потрясает человека своей суровостью и сам человек кажется маленьким и случайным.
В ущелье всегда стоит туман и всегда холодно, даже в самые жаркие дни. Неумолчно шумит вода, иногда ее голос заглушается грозными пушечными выстрелами — это рвется теснимое скалами тело ледника.
Вблизи никто не живет, человеку здесь нечего делать. Тут нет ни птицы, ни зверя, ни травинки. Камень, лед, ледяная вода.
В нескольких стах метров ниже, поперек всего ущелья залегла каменная плотина, сложенная самим ледником. Она запирает ущелье и образует озеро. Странное озеро, бурное без бури, рябое без ветра, все в водоворотах. Повсюду вода прорывается через беспорядочно набросанные камни морены и сливается в поток.
Таков исток Инда. С гор в его ложе падают ручьи от других ледников, пробиваются родники глубинных вод. Делая бесчисленные повороты, река бежит общим направлением к югу, проходит по равнинам Западного Пакистана и угасает в широкой дельте, в волнах Индийского океана.
…Далеко внизу под истоком лесные бродяги вышли к реке. Бурная вода бежала, стесненная берегами, покрытыми вековечными лесами.
Много усилий понадобилось природе, чтобы нанести слой почвы на каменные берега. Первые мхи растворяли гранит кислым соком корней. Умирая, они кормили травы. Залетевшие по ветру семена растений пускали чахлые ростки. Из многих одному удавалось удачно завершить поиски опоры и зацепиться белым мохнатым корешком за спасительную трещину скалы.
Люди подошли к реке с востока широким оврагом, по дну которого тек жалкий ручеек — безыменный приток Инда.
Глядя на реку с горы, Эль-Мустафи говорил:
— Река, как народ. Но нет в ней сильных и слабых, бедных и богатых, она собралась из равных капель.
Между двух больших деревьев они построили себе шалаш из ветвей. В котелке, подвешенном над костром, сварили три горсти риса — пищу следовало беречь! Насытившись жидким отваром, люди насладились зеленым чаем, — заваренный на прозрачной воде ручья, он был особенно вкусен, — и почувствовали себя сильными. Руки просили работы.
Высоко над рекой люди принялись рыть узкую канаву вдоль ложа реки. Они просекали почву до самого каменного основания, рубили корни кетменями и кирками, заступами выбрасывали землю. Местами лесной склон был так крут, что выброшенный камень скатывался в воду, хотя до нее было больше километра.
Сказки повествуют о муравьях, способных упорной работой разгрызть хрупкие путы и освободить льва, слона или буйвола. Так и эти восемь пар темных худых рук точили берег Инда. С каждым днем удлинялась щель, просекавшая лес.
Никто из этих работников не мог бы сбить человека с ног ударом кулака или выжать одной рукой гирю в шестнадцать килограммов. Они были слабы, эти люди с плетями сухих мускулов на тонких костях. Но они обладали силой слабых — уменьем работать безустали и без остановки, не делая лишних движений и мастерски пользуясь весом собственного тела и формой орудия.
И еще одним искусством они владели: они умели молчаливо и сильно желать.
День за днем подвигалась работа. Труженики привыкли к лесу, как к своему дому. Так же как в своем глиняном городке, они ходили по одному и тому же месту — от шалаша, где проходила ночь, к все удалявшейся щели и обратно. Наверное, и лесные звери привыкли к безобидным работникам, к тупым ударам стали по корням и шороху выбрасываемой земли.
Работа подвигалась быстро. Глубокая узкая канава становилась рубежом между большей частью леса, висящего над рекой, и меньшей, уходящей на гребень горы. На дне канавы обнажался каменный пол.
Внизу бежал Инд. Стояли душные дни; в лесном безветрии над работниками висели мириады жалящих насекомых. Их укусы становились нестерпимыми, но люди боялись развести спасительные дымные костры, чтобы не обнаружить себя.
IV
Однажды Эль-Мустафи взял молодого Асафа и отправился вместе с ним вверх по оврагу, где стоял шалаш. Овраг пробивал берег Инда широкой расселиной, и по его дну тек слабый ручеек.
Полуголые, только в набедренных повязках, люди шлепали загрубелыми ступнями босых ног по ручью, — это был самый удобный путь, так как непроходимая чаща заполняла овраг.
Через час они добрались до истока. Струйки воды выбивались из-под камней, а дальше лежало свободное от леса пространство. Это было самое высокое место расселины, разрезавшей берег, — ее «седло». От него к югу дно впадины понижалось. На «седле» высилось странное сооружение, удивительное и неожиданное в пустынном, безлюдном месте. Расселину пересекала каменная дамба, в несколько раз превышавшая человеческий рост. Откосы, в которые упирался этот вал, были исковерканы взрывными работами, давшими гранит для постройки. Казалось, что каменная преграда скрывает за собой какую-то тайну.
Люди вскарабкались наверх. Несколько серых и черных змей грелись на раскаленных солнцем камнях, и ни одна не пошевелилась при появлении людей. За валом пустынное ущелье продолжалось к югу. Со стороны Инда вал был покрыт серой цементной штукатуркой, из которой торчали острия неотесанных камней. Обнаженный с другой стороны скат показывал строение насыпи, сложенной из крупных рваных обломков, смешанных с мелким щебнем.
В лесах Индустана встречаются развалины оставленных городов, когда-то возведенных по прихоти одного владыки и заброшенных по капризу другого. В обвалившихся дворцах живут звери и змеи; корни деревьев расширили трещины и повалили башни. Искатели кладов давно обшарили подземелья и выстукали стены. Забытые города никому не нужны.
Но эта стена была совсем молодой. Природа не успела забросать плодородным грунтом ее щели, чтобы вырастить в них траву и кусты. Каменоломни зияли свежими разрывами, и еще никто не вздумал устроить себе гнездо или берлогу в пустотах, оставленных взрывами.
Таков был мощный барраж, сооруженный инженером Никколсом для защиты базы от самого сильного подъема Инда. Его строили рабочие, которых назначил на работу Сеид-Касим-Хан, убитый ростовщик и подрядчик. Здесь люди отрабатывали и свои основные долги и проценты на них, в несколько раз превышавшие капитал. Молодой Асаф побывал тут в числе рабочих-рабов.
Когда двое людей пробирались обратно, вдруг начало темнеть, точно наступал преждевременный вечер. Из-за деревьев не было видно неба, но до слуха донеслись шелестящие удары по листьям на вершинах деревьев. На голые плечи упали первые капли дождя. Тучи, предвестники многонедельных ливней, спускались от Хималайев к раскаленному югу и по дороге роняли избыток влаги на дремучие леса предгорий.
Эль-Мустафи поднял голову к небу и ловил губами капли. Он думал о том, как дождь проникнет в отрытую канаву и будет просачиваться между слоем земли и скалистым основанием, смачивать его, делать скользким. Оползни в горах случаются и без помощи человека, иногда вода сама проникает между скалой и растительным слоем и служит смазкой. Длинная канава, вырытая поперек склона, перехватит воду и направит ее между скалой и слоем почвы. Лес скользнет вниз, как корабль скользит из дока по смазанным салом доскам.
…Еще несколько дней перепадали дожди. Струи протягивались полосами, сквозь них было видно освеженное влагой синее небо. На открытых местах солнце быстро осушало землю. А в лесу почва сырела, и было легче работать.
Люди торопились отдать работе остаток сил, траншея росла, как живая. Работники уже не старались очищать дно и проходили дальше, как только кирки ударяли в скалу. Больше часа приходилось потратить, чтобы пройти по всей линии траншеи, и уже дважды труженики, чтобы сберечь время на переходы, устраивали свое жилище на новом месте.
Все выбились из сил. Никто не чувствовал ночного холода — так глубок был сон. Прекратились беседы. Никто не замечал ничего, кроме земли, которая была перед глазами от утренней зари и до темноты и в которую нужно вонзить кирку, заступ, кетмень.
И во сне глаза людей видели все ту же рыхлую черную землю. В ней кишели насекомые и черви, она была переплетена корнями, которые приходилось рубить и рубить… Руки и ноги сводили судороги, губы спящих издавали невнятные жалобы и стоны.
V
Всю ночь на предгорья падал ливень. Рассвет подкрался незаметно. Дождь точно усилился от солнца, которое, наверное, в свой урочный час поднялось над непроницаемыми тучами. В лесу стоял мутный туман водяных брызг.
Эль-Мустафи проснулся первым, но не разбудил товарищей. Он сидел перед низким отверстием входа в шалаш, слушал, как течет вода по кровле из широких листьев, и думал.
Он был среди близких, знал, что никто не выдаст его под страхом смерти, и с первого дня бросил маску дервиша. Он хотел быть воспитателем своих друзей и сознавал трудность задачи. Он знал, что одно и то же слово имеет различное действие, оно должно быть рассчитано на способность понять, свойственную каждому человеку. Сам Эль-Мустафи был воспитан в мировоззрении ислама и лишь с трудом избавился от предрассудков. Он видел, что одни из его друзей бессознательно пробуют найти какое-то место для бога своих отцов. Другие, отчаявшись сами в истине ислама, будут способны на компромисс, третьи инстинктивно вносили воспитанный исламом фанатизм в строй новых идей. Эль-Мустафи замечал, что и сам он не свободен внутренне так, как ему хотелось бы.
«Да, труден путь человека», — думал он.
Только к полудню труженики начали просыпаться. Опасаясь опоздать, они будили друг друга.
— Не торопитесь, братья, — сказал Эль-Мустафи, — мы кончили нашу работу. Кто хочет, пусть спит. Скоро вы вернетесь к вашим семьям.
В низком шалаше было тесно. Бекир на четвереньках пробрался к выходу, сел рядом с дивоной и сказал:
— Ты говоришь, мы кончили? Брат, когда ты произнес эти слова, мое сердце сжалось и в нем явилось сомнение. Я теряю веру. Не должны ли мы еще работать? Мы сможем и при дожде!
— Не сомневайся, — ответил Эль-Мустафи. — Лес сползет в Инд, река повернется и утопит американцев, как сусликов в норе.
Сапожник Баркатулла занялся приготовлением пищи. В первый же день у входа в шалаш был устроен навес над местом для костра. Плотный ливень прибивал дым к земле, и он наполнял шалаш.
Хорошо, что работа окончена. В такой дождь земля под кетменем превращается в жидкую грязь и много не сделаешь. Лучше лежать, по очереди глотать зеленый чай из общей пиалы и слушать рассказы Эль-Мустафи.
— Я видел в одном городе делегацию советских людей, — говорил Эль-Мустафи. — У них такая же одежда, как у англичан и американцев, но сразу видно, что они другие, хотя у них и кожа такая же, как у врагов.
— Ты говорил с ними? — спросил Асаф. — Повтори все. Такие слова человек слушает весь день и не устает. Ты говорил, что на их землях нет заминдаров и страшных болезней…
— Да, там нет ни заминдаров, ни ростовщиков, ни купцов, продающих родину иностранцам…
В действительности Эль-Мустафи не так много знал о Советской стране, а в том, что он знал, было много и недостоверного и противоречивого. Но он не замечал этого.
Два или три года, проведенные им в исламистском университете-медресе, оформили его ненависть к исламу за утверждение угнетения человека человеком как божественного установления. Занимаясь самообразованием, он сохранил духовную близость к народу и пользовался полученными в медресе знаниями, чтобы носить маску дервиша-дивоны и бороться также и с исламом. Его чувства были до крайности обострены сознанием национального угнетения. За измену родине и за союз с иностранцами он презирал и ненавидел крупных капиталистов и землевладельцев, высшее духовенство и аристократию, но не отрицал общества, построенного на праве частной собственности. Он не принадлежал ни к коммунистам, ни к социалистам. Он был демократом-националистом.
Для себя Эль-Мустафи отверг всякую мысль об устроении личного благосостояния. Во имя борьбы он был готов рисковать жизнью и рисковал ею. Но он твердо держался наивного убеждения, что достаточно изгнать иностранцев из пределов родной земли и поделить между бедняками землю, чтобы все стало хорошо… Советский строй привлекал его именно тем, что он отнял землю у богачей и отдал ее бедным и возвышал национальное достоинство человека. Об этом он и рассказывал своим товарищам.
…Водяная пелена ливня скрывала горы и леса. С каждым часом вспухал невидимый Инд. Стесненная крутыми берегами, река подымалась, начинала заходить в глубокий овраг, вверху которого стоял прикрывавший американскую базу барраж.
Глава вторая СОЮЗНИКИ
I
Трое суток, с перерывами не больше чем на четверть часа, шел дождь. На четвертое утро в однообразном шуме воды послышались новые, тревожные звуки.
В мокрой чаще заговорили испуганные птицы. Прокричала сизоворонка, свистнули дятлы, затарахтел дрозд. Перекличка происходила с минуту и смолкла.
Эль-Мустафи вышел из шалаша. Дождь струился по его полуголому телу, но закаленная кожа не чувствовала холода.
Что-то мелькнуло в струях дождя, и, как падающий парашют, на поляну опустился громадный филин. Высокий, точно пень, он смотрел на человека круглыми светлыми глазами и не видел его. Потревоженная в своем убежище, в темном закоулке дебрей, ночная птица поворачивала голову, прислушивалась. Встрепенувшись, она беспокойно приподнялась и издала пронзительный крик:
— Кооо!..
Лесные птицы ответили. Расправляя мокрые бурые крылья, филин подпрыгнул и исчез.
Эль-Мустафи углубился в лес. Босые ноги скользили и расползались по раскисшей почве. Вся трава под деревьями полегла, как бы указывая направление бегущей по склонам воде. Узкая, расположенная поперек склона выемка наполнилась доверху, и казалось, что теперь вся вода проходит над ней. Однако вот воронка водоворота. Дальше нашлось размытое место, в него вода текла с двух сторон и уходила внутрь.
А сколько невидимых путей нашлось между каменным основанием и наносным слоем почвы, скрепленным корнями?
Эль-Мустафи вслушивался. Ливень так шумел, что все остальные звуки беспощадно подавлялись. Только чувства птиц могли сказать о тончайшей жалобе натянутых корней, которыми деревья, как якорями, держались за трещины скального основания. Одни птицы могли различить мельчайшие шорохи уже начавшихся частичных сдвигов лесного массива по смазанным водой каменным плитам крутого берега.
Эль-Мустафи ждал. Ему казалось, что заливаемый дождем лес стоял особенно зловеще и грозно.
Между деревьями появились высокие тени. Уже не одни птицы тревожились. Опасность улавливали и менее чуткие животные. Олень уводил снизу робких безрогих оленух. Гладко лакированный дождем, он осторожно ступил на гребень выброшенной из канавы земли. Впервые узкое твердое копыто встретило не знакомую опору лесной почвы, а что-то непонятное, похожее на предательский край топкого болота. Олень медлил, но не было другого пути. Прыгнув с места, он легко перемахнул через преграду, и оленухи последовали за своим покровителем.
Эль-Мустафи прижался к стволу дерева. Его темная блестящая кожа сливалась с корой. Он не шевелился.
За оленями пришли дикие свиньи. Они сердито и бесстрашно бросились в воду.
Мрачно и не спеша мирная семья черных медведей выбрала место для переправы. Медведица толкнула в воду медвежонка, вслед переправился старик. Он повернул голову к человеку и помедлил, но не для ссоры, — черный медведь не задирает человека. Он как бы собирался что-то сказать, да раздумал и потащился за своими. Всем своим недовольным видом он горько жаловался на злую судьбу, которая в совершенно неподходящее время выгнала его из любимого, обдуманно выбранного места в сухой пещере.
Эль-Мустафи показалось, что канава начинает расширяться… Снизу из леса больше никто не шел, переселение окончилось. Громадный кусок леса покинут. Когда же это начнется? Скоро, сейчас. Птицы и звери не ошибаются, когда готовится оползень.
Владей они речью, сколько предупреждений сегодня получил бы Эль-Мустафи:
— Что же ты стоишь, человек? Великая опасность грозит этим местам! Разве ты не знаешь, что такое горный оползень, безумный?
II
Ливень стихал. Наступил очередной короткий перерыв. Временно истощив запасы воды, небо очистилось от туч. Насыщенная до предела влагой земля наполняла лесной воздух своим тяжелым дыханием.
Эль-Мустафи вывел товарищей на безопасный высокий гребень. Отсюда было видно далеко, открывался весь противоположный берег и сам Инд, вспученный, мутный, буйный. В глубоком овраге на его южном берегу, где нашли свое первое пристанище упорные работники, уже образовался залив. Часть леса в овраге была затоплена. Высокие деревья по пояс стояли в воде.
Ветра не было, и деревья на склоне берега были неподвижны. В небе все шире расходился синий просвет. Наконец в него хлынули радостные лучи и над Индом вспыхнула великолепная радуга; охватив полнеба, красочный мост перебросился через реку и лег на лес под ногами людей.
В эту минуту, точно под тяжестью радуги, высокие вершины деревьев затряслись в беспорядочной качке. Массив леса разделился. Осталась узкая лента под гребнем, а остальное поползло вниз, к Инду.
Лес падал, как колосья под ураганом. Вверх полетели вывернутые стволы, уже лишенные сучьев, земля, фонтаны грязи. Нельзя было уловить мгновение, когда чудовищная лавина перестала быть лесом и сделалась хаосом. Воздух наполнился влажным гулом, свистом и невыразимым грохотом. Потом ухнул тупой, могучий, нестерпимый для слуха удар. Достигнув русла реки, лавина выбила воду и вздыбилась, остановленная противоположным берегом.
От толчка дрогнули окрестные горы. Сверху оторвались и полетели вниз новые, уже более мелкие лавины. Противоположный берег медлил. Там не было прорытой людьми узенькой щели, которая сумела совершить здесь великое дело. Но потрясение земли было таким мощным, что не могло остаться без последствий и для того берега. Лес зашатался и пополз вниз, опрокидываясь и сокрушая сам себя. В реку рухнул новый оползень. Толчок повторился.
Люди не успели заметить, когда Инда не стало. Его русло заткнула широчайшая и высочайшая перемычка, образованная из земли и леса, — гора перепутанных и переломанных деревьев, ершистая, колючая, черная, как уголь.
Бекир сидел на корточках и плакал, как маленький ребенок. Асаф обнял Эль-Мустафи и прятал голову у него на груди, чтобы не видеть. Баркатулла истерически хохотал, спокойный Хадим с вызовом поднял руки к небу. Другие метались, ломая руки, с несвязными воплями торжества.
А выше запруды Инд поднимался в бешенстве. Мутные воды ринулись в овраг и ударили в мирно стоящий полузатопленный лес таранами тысяч всплывших стволов. Раздался треск ломаемых на корню деревьев.
Эль-Мустафи отбросил Асафа и закричал:
— Опомнитесь, братья! Еще не все сделано. Спешите! Пойдем.
Приказ вожака отрезвил людей. Привыкнув повиноваться, каждый подхватил свой мешок и поднял кирку или кетмень. В последний раз люди взглянули на дело своих рук. Грязная вода бурно топила прибрежные леса. Сжатая высокими горными берегами, река нашла единственный выход в овраге на южном берегу и хлынула туда всей силой.
Река не оставляла в покое и нежданную преграду. В рыхлом теле стихийно появившейся плотины работали бесчисленные струйки. Они вымывали землю между поваленными деревьями, расширяли щели. Препятствие будет снесено. «Но когда?» — думал Эль-Мустафи.
Солнце собрало радугу и скрылось. Вновь пелена дождя затянула страшную картину разрушенья. Дождь звучал иначе, шипение леса сменилось тупыми ударами по обнаженной земле.
III
Теперь люди напали на каменный вал, который запирал седло расселины; для атаки они выбрали тыл барража, сторону, обращенную к югу, к американской базе.
Здесь ничего нельзя было приготовить заблаговременно: кто мог знать, когда американцы захотят посетить свое сооружение? И много лет потребовалось бы для восьми пар рук, чтобы разобрать стену длиной более километра и в несколько раз превосходящую человеческий рост. Ведь ее строили сотни рабочих с помощью сильных американских машин.
Не имея привычки обращаться с камнем, восемь тружеников работали медленно, хотя и спешили. Много времени ушло, пока они сумели в двух местах вытащить несколько камней, выгрести щебень и добраться до середины каменного массива.
В ниши Эль-Мустафи заложил по два длинных и толстых предмета, похожих на колбасы. От каждого из них шел белый шнур с вплетенной красной нитью в знак того, что пропитанные волокна фитилей не боятся влаги и могут гореть даже под водой. Тщательно и осторожно, чтобы не повредить шнуры, люди постарались заполнить камнями взрывные камеры. Концы шнуров легли на верх стены, как те змеи, которых видели Эль-Мустафи и Асаф в день падения первых капель дождя.
Сейчас змеи ушли в норы, чтобы в полусне переждать ненастное время. А по оврагу к каменному валу бежали волны Инда. Под хлещущими бичами дождя они мчались вспухшие, яростные, черно-серые с грязными гребнями, как стада взбесившихся буйволов. Добежав до тяжелого каменного препятствия, они смирялись. Волны пробовали взобраться наверх, скатывались и поворачивали назад, чтобы встретиться с резервными армиями Инда.
Вода неуклонно прибывала и поднялась уже до половины высоты стены. По громадному бурному озеру плыли вывороченные с корнями деревья, кружились в беспорядочных течениях, ударялись в стену и царапали цементную штукатурку.
Люди не видели бешенства воды. Как муравьи, продолжая работу, они старались еще в нескольких местах расшатать сопротивление стены. Пока еще было время хоть что-нибудь сделать, они не могли позволить себе остановиться. Сочилась ли сквозь стену поднимающаяся вода, они не знали, так как ливень не прекращался.
Эль-Мустафи умел обращаться со многими вещами. Порой он казался старым, на самом деле ему было только тридцать пять лет. Прежде чем научиться ходить по пыльным дорогам Индийского полуострова в маске дервиша-дивоны, с традиционными посохом и чашей, он успел пережить многое. Перед второй мировой войной он был матросом на одном из кораблей индийского военного флота. Он проходил курс минного дела под руководством английского офицера. Тогда Эль-Мустафи носил другое имя. И на этом же корабле он встретился с людьми, изменившими сначала его мысли, а потом давшими ему благородную цель жизни.
Эль-Мустафи взобрался на стену и рассчитывал. Оставалось еще три фута, потом вода пойдет верхом. Барраж оказался недостаточным, но американцы не виноваты. Разве они могли предполагать такой оползень? Вода сама упадет вниз, и Инд хлынет по новому руслу. Нужно, чтобы барраж рухнул не раньше, но и не позже. Эль-Мустафи хотел бросить в атаку на американскую базу собранный барражем запас воды сразу, в тот момент, когда первая волна Инда перельется через препятствие.
Заряды были похищены должниками Сеид-Касим-Хана и Шейх-Аталык-Ходжи, работавшими на строительстве американской базы. В глиняном городке должны были быть и еще такие же заряды.
IV
Ливень хлестал, вода прибывала, до нее уже можно было достать рукой. Эль-Мустафи позвал товарищей.
Люди вскарабкались на стену и сели тесной кучкой. Они были так разгорячены работой, что, несмотря на ливень, виднелся пар, поднимающийся от их почти голых тел.
Со дня рождения тела этих людей не имели ни одной унции жира, теперь же они совсем высохли в нечеловеческом труде, поддерживаемом пищей, от которой американец умер бы с голода. Торчали ребра и позвонки, каждый мускул под кожей был виден отдельно. Локти и колени своей остротой напоминали угольник плотника, а обтянутые тонкой кожей лица скалились, как черепа на кладбищах.
Но они были полны жизни, эти черепа с веселыми белыми зубами и громадными глазами, горящими торжеством. Показывая на буйство воды, они пересмеивались и сочиняли шутки. После уже совершенного все остальное казалось им пустяком.
— Ха-ха! Чего не сумеют сделать люди!. Нужно лишь захотеть взяться за дело!
С хозяйским пренебрежением они взглянули на первую волну, хлестнувшую на верх стены. Это была их вода, их собственная, они пустили ее сюда, не спрашивая начальников и мирабов. Захотели и сделали. Вот это жизнь! Только так и стоит жить на этом свете. Жизнь прекрасна. А ну! Возьмемся все вместе, разом! Страшный мулла Шейх-Аталык-Ходжа сделался для них карликом. Пусть трепещут он и все подобные ему!
Они боготворили Эль-Мустафи. Слава ему, старшему брату вторично родившему их для новой жизни!
Шнуры будут гореть минут десять-двенадцать. Эль-Мустафи достал завинченную цинковую баночку от оружейного масла. Восковые спички зажигаются о что угодно, только не под дождем поэтому в баночке нашлась и терка.
Эль-Мустафи лег, пряча под грудью концы запальных шнуров. Товарищи старались прикрыть его от ливня. Вспыхнул слабый огонек, ничтожный, всего на две секунды. Теперь пора уходить…
Два удара послышались почти одновременно. В двух местах поднялись камни и хлестнули фонтанчики воды. Вначале результат показался ничтожным.
В две узкие щели хлынули два потока. Единство преграды было нарушено, воде указали выход. Она продолжала подниматься, начала переливаться через стену, ее поверхность приходила в движение. В местах разрывов образовалось течение. Тронулись плавающие у стены стволы деревьев. Первый ударил с размаха, проскочил, увеличив брешь, и, сброшенный с высоты, покатился в нижнем потоке, размахивая корнями. За ним толпой ринулись другие. Под ударами качнулся и рассыпался кусок барража между брешами.
Как люди, вода осознала свою силу. Каждосекундно наращивая скорость, поток рванулся в широкие ворота. Пролом разрастался.
Всей массой накопленной и прибывающей вновь воды Инд ворвался в незащищенную, больше барражем долину. Попутно река завершала расправу с препятствием. Растасканный по камню барраж, точно приставший к победителю защитник, невидимо тащился по дну.
Вниз покатился вал высотой с трехэтажный дом, таран силой в тысячи тонн, мягкий, как рука женщины, но дробящий, как молот.
Глава третья НАВОДНЕНИЕ
I
В правом верхнем углу конверта была небрежно наклеена почтовая марка с профилем крупного мужского лица под старинным париком. Черный след погасившего марку прямоугольного штемпеля лег рядом, задев только край рамки.
Главный строитель секретной авиационной базы инженер Антони Никколс в юношестве страстно увлекался коллекционированием почтовых марок. Марка в настоящем собрании обязательно должна быть погашена, но ее ценность увеличивается, если штемпель не попортил рисунок… Антони Никколс подарил свою коллекцию младшему брату в день, когда тому исполнилось двенадцать лет.
Конверт был из тонкой прочной бумаги, на нем виднелись отпечатки и других штемпелей — письмо прошло через почты нескольких государств.
Когда Никколсу принесли это письмо, было около часа дня. Сегодня четвертые сутки, как идет дождь, не прерываясь почти ни на минуту. Менялась только его интенсивность. Иногда дождь как будто бы ослабевал и можно было различить отдельные капли, появлялись просветы. Но потом вода опять падала струями, сливавшимися в сплошную стену мутного стекла.
Вода казалась плотной и какой-то особенно тяжелой, более тяжелой, чем вода в Англии. Может быть, из-за того, что ее струи падали совершенно вертикально?
Как и все помещения секретной авиационной базы, квартира главного строителя была высечена в скале. В комнате было так же сухо, как всегда, так же мягко светили защищенные матовым стеклом электрические лампочки. Ни для одного чувства человека дождь не существовал, его слух, зрение, обоняние были свободны. Но ливень оставался в сознании, мешал своей неизбежностью и непрерывностью.
Никколс ждал нового назначения, наблюдал за окончанием мелких недоделок, в сущности бездействовал, но отдыха не было. Он хотел бы уехать отсюда в хорошую погоду. Есть люди, которые не могут акклиматизироваться в чужой стране, даже если случайно и родились в ней…
На авиационной базе все было устроено так, чтобы не быть во власти местных особенностей. Во время войны база будет выпускать самолеты и принимать их круглый год, днем и ночью, вне зависимости от погоды. При устройстве летного поля предусматривался и период дождей. Поверхностный дренаж был решен кюветами такого мягкого профиля, что они были безопасны для колес самолетов. Никколс применил изобретенные им новшества. Он гордился своим званием инженера и не сомневался в долговечности возведенных им сооружений.
II
Письмо пришло с Дальнего Востока. Адрес был написан на машинке. На Дальнем Востоке воевали.
Никколсу не хотелось распечатывать конверт. Он и ждал и боялся писем. Некоторые из знакомых Никколса находились на Дальнем Востоке. Там же был и Ральф Никколс.
Антони Никколс был старше Ральфа на четырнадцать лет. Отец умер давно, и Антони, старший в семье, заменил брату отца. Ральф всегда был таким славным, мягким мальчиком. Но все мальчики вырастают; приходит час, когда они хотят все делать, все решать сами, ни от кого не зависеть. Зачем было Ральфу ехать на войну? Он мог бы оставаться дома, ведь это не настоящая война, это не война за Англию…
Все случилось из-за женитьбы Ральфа. Эйрин — чужая, холодная женщина. Ральф вздумал поехать в Корею ради денег, там летчики могут много заработать. И Эйрин отпустила его. Глупый мальчик, разве любящая женщина добровольно отпустит мужчину на войну, на такую войну?.. Глупый мальчик, он не послушался старшего и уехал.
Не глядя на конверт, Антони Никколс натянул резиновые сапоги, набросил на плечи непромокаемый плащ с капюшоном и вышел.
Если бы Никколс не знал, который час, то выбравшись на летное поле, он не мог бы определить, утро сейчас или вечер. Падал матовый, рассеянный свет, и видимость ограничивалась пятнадцатью или двадцатью шагами.
В тумане видимость бывает еще хуже, иной раз не различишь кисть собственной руки. В Англии Никколс выносил туманы и ненастье, не замечая их.
Во время такого ливня можно и заблудиться, но главный строитель знал наизусть свое летное поле. Он шел по бетонной взлетной дорожке. На ней лежал толстый слой кипящей от дождя воды. Казалось, что вода не успевает подчиняться силе тяжести и застаивается, хотя ничто не препятствовало ей стекать. В упорстве ливня Никколс чувствовал что-то неестественно-злобное. Инженер, человек с трезвой головой, он понимал, что это лишь игра нервов.
Внезапно сделалось светлее, дождь прекратился. Никколс поднял голову. Небо стало опаловым, потом жемчужным. Свод заискрился, прорвался, из синего разрыва в летное поле воткнулись толстые солнечные лучи. Сделалось больно глазам.
Никколс услышал сигнал автомобиля. Большая черная машина недавно произведенного в генералы Джошуа Сэгельсона катилась к Никколсу. Поравнявшись с ним, шофер предупредительно снизил ход до самого тихого, чтобы не забрызгать главного строителя.
Стекло опустилось, и выглянула голова в маленькой чалме. Мулла Шейх-Аталык-Ходжа любезно улыбнулся Никколсу и приветливо махнул рукой. Больше в автомобиле никого не было.
Наблюдая за движением туч, Никколс без особого интереса подумал о развивающейся «дружбе» между Сэгельсоном и муллой. Шейх-Аталык-Ходжа, навещавший прежде лишь своих питомцев, воспитывающихся в специальной школе при базе, ныне бывает частым гостем начальника базы. Американец выдвинул проект расширения базы. Никколсу это было безразлично, его не интересовали дополнительные работы, пусть их производит другой. Мулла заменит убитого Сеид-Касим-Хана. Быть может, его ждет та же участь, если он будет таким же беспощадным. Никколс считал, что взаимоотношения между «азиатами» сложны и ничем нельзя изменить их.
Ливень обрушился с прежней силой. Под непромокаемым плащом парило, и Никколс чувствовал, как его спина делается неприятно влажной от пота. Как много воды на летном поле! В этой стране периоды дождей — опасное время.
Никколс думал о капризах громадных рек Индийского полуострова. С крутых откосов речных берегов сползает размокший грунт. Известны случаи, когда сотни тысяч кубических футов оползней запирали горные долины, запружали русла. Неожиданная плотина прерывает течение. Внизу река мелеет, убывая на глазах. Чем дольше длится обмеление, тем оно опаснее. Местные жители спешат покинуть низкие места и выносят свое имущество подальше от реки. Случайная плотина прорвется, и запас воды покатится вниз, все уничтожая на своем пути.
Значительно выше базы, на южном берегу излучины горного Инда, есть обнаруженная при изысканиях расселина. При чрезвычайно высоком подъеме реки вода могла бы ворваться по этой расселине в долину базы и наделать больших бед. Никколс ставил себе в особую заслугу предпринятое им дальнее обследование долины и сооружение надежного барража в ее седле. Расселина берега прочно заперта в самой высокой точке, река может подниматься, сколько ей вздумается.
Конверт с адресом, написанным на пишущей машинке, попрежнему лежал на письменном столе главного строителя базы.
Никколс снял плащ, сбросил резиновые сапоги и надел домашние туфли. Усевшись в кресло, он разорвал конверт.
…Ральфа больше нет, совсем нет. Перед отъездом Ральфа они поссорились из-за этой женщины, жены Ральфа.
У Антони Никколса не было жены, теперь нет и Ральфа, никого нет. Ральф был таким милым мальчиком. Было легче жить, пока Ральф жил на свете. Антони сам виноват, что отпустил его. Не следовало ссориться, нужно было суметь помимо Ральфа договориться с этой женщиной, не скупиться, отдать ей деньги. Тогда она сказала бы свое слово женщины, которое сильнее всех слов брата, Ральф послушался бы и не уехал. Пусть бы жил с этой холодной, злой женщиной, если не мог иначе. Но он жил бы, а теперь его нет и никогда не будет…
Нет сил сидеть и думать, когда Ральфа больше нет. Они пишут, что его любимый мальчик скончался в госпитале от ран. От тяжелых ран… Он страдал, пока смерть не освободила его.
Все из-за того, что он, старший, поскупился, заупрямился, не захотел отдать свои деньги. Да разве ему, Антони Никколсу, нужны деньги? Зачем ему деньги, зачем, будь они прокляты!
И вдруг перед глазами Антони Никколса встала страшная картина. Трупы, разбитые в щебень города, выжженные поля и опять трупы, трупы, трупы, трупы…
Откуда это? А! Это вспомнился тот отвратительный американский фильм о корейской войне. Он не хотел его смотреть и все же пошел, чтобы увидеть места, где находится Ральф. Это была отвратительная бойня. Он порывался уйти и не мог. Чудовищное зрелище отталкивало и притягивало, как край бездны.
Великий боже! Но Ральф писал, что не принимает участия в военных действиях. Он лгал, лгал, он умер от ран, значит… Ведь у корейцев нет авиации и они не бомбят тылы! Конечно, они так и пишут: «Был ранен в воздухе». В воздухе… Он сразу не понял, читая письмо. Ральф перешел из транспортной авиации в боевую. Да, да. Высокие ставки за вылеты на бомбежку… Он соблазнился, стал убийцей за деньги… Ральф, Ральф, зачем?
Слова письма, точные, неоспоримые, не оставляющие ни одного повода для сомнения и надежды, давили сознание Никколса. Что сделать, чтобы перестать думать?
Антони Никколс открыл ящик стола и взял свой автоматический пистолет. Нет, он боялся смерти. Но что сделать, чтобы не думать?
Туземцы пользуются опиумом. Это друг, он помогает не чувствовать и не знать.
III
Когда коробочки мака делаются большими, как грецкий орех, начинается сбор опиума.
Не отрывая головку и не ломая стебля, сборщик делает на боках коробочки надрезы острым лезвием. Надрезы должны быть длинными и неглубокими; если тонкая стенка коробочки прорезана насквозь, все пропало.
Через некоторое время медленно выходящий из обнаженных капилляров сок образует крохотную, с булавочную головку, смолистую бурую капельку. Ее осторожно отделяют.
Нет ничего красивее цветущих маковых полей. Восточные художники часто искали вдохновения в мирной симфонии их красок. Но лепестки опадают, обнажая голые зеленые коробочки. Начинается тяжелый, однообразный труд сборщика сока. Солнце жжет, маковые головки источают густой, дурманящий запах. Темнеет в глазах, сердце замедляет удары, дает перебои. На висках и на шее вздуваются вены, нестерпимая боль рвет череп. Кажется, что в перегретом и иссушенном солнцем теле закипает кровь. Руки дрожат, их движения делаются неверными. Острое лезвие скользит, разрезает головку мака и впивается в кожу ладони. Кровь не течет, она показывается из ранки и тут же свертывается.
Шатаясь и борясь с обмороком, человек продолжает трудиться. Им повелевает злейший и бдительнейший надсмотрщик, призрак голодной смерти, которая подстерегает жителя Индустана с колыбели и неустанно охотится за ним до могилы.
В Индии плантации мака поистине грандиозны. Их развели англичане. В Индустане нашлось все необходимое для культуры опийного мака: почва неограниченного плодородия, солнце, способное извлечь из этой почвы снабженные опьяняющей силой растения.
И… люди, трудолюбивые, терпеливые, способные ко всему, умеющие делать все — и вырезать из кости фигурку слона величиной с горошину, и выдолбить в горе храм, вмещающий сразу десять тысяч паломников, пришедших на поклонение статуе Будды или Шивы…
Индийский труженик отдает себя за ничтожную плату, и индийский опиум дешево обходится предприимчивому купцу. Вложенный в «дело» капитал в иной удачливый год удваивается. После торговли черными рабами самой выгодной оказалась торговля опиумом. Недаром около ста лет тому назад Англия объявила войну Китаю и пушками добилась права отравлять китайцев продукцией индийских опийных плантаций.
Курильщики, рабы опиума, называют свое любимое снадобье «черным дымом»! Человек, пристрастившийся к курению опиума, не может заставить себя отказаться от страшной привычки, его воля разрушена. И вокруг себя, в своем доме, он отравляет все живое. В дни, когда в доме не чувствуется запаха «черного дыма», напоминающего вареный шоколад, все скучает. Мучимый тоской, хозяин без причин истязает своих домочадцев, кошка бродит, опустив голову, дети вялы, лениво тявкает собака. Наконец зажигается маленькая лампочка, на конце длинной стальной спицы кипит шарик опиума и догорает в чашечке трубки…
Есть разные трубки для курения опиума, их тысячи образцов, начиная от медной или бамбуковой трубки бедняка и кончая драгоценными произведениями ювелирного искусства из золота, слоновой кости, эмали — как трубка последнего китайского императора или владетельного хана…
И есть разные сорта опиума — для бедных, для богатых; но действие «черного дыма» всегда одинаково: он обольщает, навевает сны, уводит от жизни и убивает, — правда, не так быстро, как голод. Голод еще придет и нанесет последний удар, когда курильщик, чтобы иметь опиум, лишится последних крох имущества. А сейчас хозяин курит. Его дом постепенно оживляется. Даже летучие мыши на чердаке, которые весь день висят вниз головой пыльными комочками, удовлетворенно вздрагивают, предвкушая удовольствия ночного полета.
В помещении секретной авиационной базы не было летучих мышей, а инженер Антони Никколс не был опытным курильщиком. Он пробовал опиум раз или два, опасная забава его не увлекла. Но кусок опиума у него нашелся в столе, ведь это лучшее средство против желудочных болей..
IV
Никколс набил свою обыкновенную трубку кусками опиума вместе с табаком и глубоко затянулся.
Черный дым опиума проник в кровь и овладел сознанием инженера. Никколсу послышался рев авиационных моторов, разрывы бомб, грохот зенитных орудий, как в ночи налетов германской авиации на беззащитную в первое время войны Англию.
Но это была не Англия…
Никколс испытывал странное раздвоение сознания. Но необычайное его не смущало. Ему казалось: его разум также бдителен, как всегда. И он знал, что сидит за своим столом, что находится за тысячи миль от полей сражений, но все же он был и там. Никколс видел горы, покрытые зелеными лесами, и слышал орудийный гром. Он не мог быть без людей, они, невидимые, затаились всюду. За каждым деревом, в каждой впадине скрывался человек, и пушка, и пулемет… Никколс всматривался, но не находил ни одного лица, не видел ни одного силуэта.
Звено за звеном шли самолеты, все небо было в самолетах. Никколс узнавал их — так же, как те, для которых он построил эту базу в горах, смотрел, как от плоскостей самолетов отрывались темные сгустки бомб, падали, касались деревьев, исчезали. Красный огонь разливался повсюду, валил дым, такой же черный и такого же запаха, как дым опиума.
Бомбы дробили развалины городов, пыль и щебень поднимались тучами, но нигде не было видно ни одного человека. Никколс понимал: одних убили, а другие спрятались глубоко под землей.
Руки сами собой набивали трубку и поджигали новую порцию смеси опиума и трубочного табака. Он забыл о гибели брата, забыл и о том, что хотел что-то забыть. Но ему стало страшно и противно быть свидетелем чудовищного, бессмысленного истребления. Он сделал незаметное усилие, чтобы достать нить, нашел ее и потянул, — она связывала двух Никколсов: того, кто сидел за столом, и того, кто отправился посмотреть на войну в Корее, — слился воедино, сидел, смотрел на свои руки, возившиеся с трубкой.
Трубка была хорошо обкурена, с прямым мундштуком и серебряным кольцом на соединении.
Никколс забавлялся полной самостоятельностью рук. Они умные, умеют сами все делать. Он, оказывается, никогда не знал рук и теперь удивлялся им, как надежному старому знакомому, в котором внезапно открылся, неожиданный талант.
Никколс захотел посмотреть на свои руки со стороны. Он встал и, оставив руки на столе, отошел в угол комнаты. Там он оглянулся и увидел другого Никколса; этот второй Никколс сидел и курил трубку. Так тоже было очень интересно взглянуть на самого себя без всякого зеркала.
Никколс твердо помнил, что он курит опиум, и понимал, что все чудеса происходят от опиума. Поэтому он спокойно вернулся к столу и опять легко объединил обоих Никколсов в одном. Он нисколько не боялся, — опиум не сумеет его обмануть. Но почему он вздумал курить?..
Думать ему не хотелось, и он заинтересовался чудесными изменениями в окружающей его обстановке. Пол сделался жидким, как вода, и ноги ушли в него до колен. Электрический свет отражался от пола, а ковер изогнулся.
Никколс рассмеялся — вот так опиум! Если здравомыслящий человек от опиума может разделяться на двойников и вновь сливаться, то уж с полом-то может случиться что угодно. Нужно запомнить все и потом рассказать.
Вода холодная и влажная… Никколс опустил руку. Пол был совершенно сухой, хотя и мягкий, потому что рука вошла в него.
Никколсу сделалось очень весело. Он сидел, курил и смеялся.
Он не видел, как сорванная с петель напором воды упала дверь его комнаты и как вместе с волной ворвался генерал Сэгельсон. Генерал закричал:
— Никколс, Никколс! Потоп! Ваш проклятый барраж никуда не годится! Да вы что, пьяны?!
Вместо американца Никколс увидел Ральфа. Мальчик размахивал руками, и с них летели капли крови. Ральф хотел что-то сказать, но его толкнул генерал Сэгельсон. От удара мальчик упал и умер.
Никколс все вспомнил. Он сказал:
— Мой брат убит. Совсем убит, умер от ран…
— Какое мне дело? — завопил Сэгельсон. — Плевать мне на всех ваших братьев! Нашли время сидеть и хныкать. Потоп, говорю я вам! Очнитесь, что делать, чтобы бороться с водой?
Так вот кто убил Ральфа… Руки инженера Никколса сами нашли автоматический пистолет в ящике стола.
По грудь в воде, Никколс топтался по комнате и стрелял в американца. Труп генерала Сэгельсона давно куда-то исчез, кругом плавали непонятные предметы, а Никколс не унимался. Сначала он как следует расправится с убийцей, потом отправится за Ральфом, расскажет, как он хорошо отомстил за него, и больше они никогда не расстанутся. А Эйрин оставит их в покое за деньги…
И Никколс воображал, что стреляет, пока его комната не наполнилась водой до самого потолка.
V
Через трое суток Инд размыл и раздавил оползень. Река вернулась в старое русло. Уцелевшие леса, покрытые сором и грязью, встали из-под воды.
Пройдет несколько месяцев, новой зеленью затянутся сломанные стволы деревьев, буйная растительность скроет следы разрушений и еще сильнее разрастется на оплодотворенной илом каменистой почве. Но долго останутся голыми кручи, обнаженные оползнями.
Теперь не нужно было делать трудный, долгий обход проклятого места, поэтому Эль-Мустафи и его товарищи возвращались ближним путем.
Уходя, наводнение оставило в долине нескоро изгладимые следы: размытые берега, кучи вырванных с корнями обезображенных деревьев, промоины, свежие обвалы… и воронки над норами утопленных грызунов.
На второй день пути под почти беспрерывным дождем люди вышли к устью долины и взобрались на возвышенность, откуда обозревалась база. Было темно из-за дождя, и люди терпеливо дождались просвета. Потом огляделись.
Летное поле было неузнаваемо. Вода унесла даже бетонные взлетные дорожки и изрыла оврагами ровную прежде поверхность. Так поступает наводнение: сначала оно топит, потом роет.
В обрыве горы виднелась линия правильных широких отверстий. Они чернели, как громадные входы в пещеры. В них могли бы пройти целые стада слонов. Наводнение унесло мягкий грунт и обнажило каменную подошву горы. Сейчас, пожалуй, ни один слон не смог бы подняться в пещеры, а людям понадобились бы лестницы.
Вода Инда вылилась из глубоких помещений базы, но откуда-то изнутри бежал живой поток. Он образовывал водопад, а потом превращался в речку и бежал на юг по проложенному Индом новому пути.
— Наша вода, которую нашли и спрятали американцы и англичане, — вслух подумал Бекир.
Он не ошибался. Колодец, устроенный для поглощения артезианской воды, заполнился пробкой из всякого мусора, нанесенного сюда водой, частей изломанного оборудования, мебели, тел утонувших солдат и офицеров гарнизона базы.
Кое-где внизу валялись наполовину ушедшие в размокший грунт, но все еще громадные изломанные самолеты, выброшенные из скалистых ангаров, перевернутые автомобили, баки.
И ни одного человека. Здесь были только хищники, всегда мучимые жадностью и не боящиеся дождей. Несколько рыжих волков трепали что-то неразличимое. Голошеие грифы нашли поживу в долине к досаде шакалов.
На пороге одной из пещер показался коршун. Он вышел откуда-то изнутри, из темноты. Птица вытягивала шею, стараясь отрыгнуть избыток обременившей ее пищи…
Глядя на разрушенную родной рекой с помощью восьми пар человеческих рук крепость врага, Эль-Мустафи думал о слухе, который пройдет по стране. Его будут передавать и потихоньку и полным голосом. Он проникнет в дома богачей и в глиняные хижины нищих. Правда обрастет удивительными подробностями, исказится и все же останется правдой — манящей, сверкающей, незабываемой. Она будет работать в умах людей подобно камню, который, сорвавшись с горы, непрерывно множит свою силу, пока не зашевелится вся каменная осыпь.
Люди пошли своей дорогой.
Часть шестая РАСКРЫТИЕ
Глава первая ВСТРЕЧА
I
Приблизительно в середине расстояния между верхней окраиной кишлака Дуаб и палаткой изыскателей находилась старая крепость. Она была далеко не так величественна, как громадное укрепление, сооруженное ханом Кебеком.
Одно из многих укреплений, рассыпанных по среднеазиатской земле, оно не имело собственного имени, и никто не знал, кто и когда возвел его. Дуабцы и чешминцы называли укрепление просто Кала, то-есть крепость или крепостная стена. К общему названию не прибавлялось второе слово, которое могло бы придать сооружению индивидуальности и подсказать хотя бы частицу предания.
Когда-то эта крепость, рассчитанная на сто пятьдесят или двести воинов, защищала вход в долину Дуаба. Еще сохранились ее полуобвалившиеся стены из сырцовых кирпичей и широкая башня со сбитым верхним ярусом. Скромность строительного материала сохранила остатки крепости. Будь ее сооружения из обожженного кирпича, все давно бы растаскали жители Дуаба и Чешмы для своих надобностей.
Юнус забрался в крепость со стороны гор, через брешь обвала. Он терпеливо приглядывался ко всему, что происходило в долине. Наблюдать было удобно, а руины стен образовали тенистые закоулки, хорошо скрывавшие засаду.
Разведчик дождался часа, когда рывшие землю колхозники собрались кучкой и ушли в Дуаб. Они прошли мимо, и Юнус узнал среди них Шарипа Ишхаева.
Настоящим входом в крепость служила крутая узкая насыпь. Она поднималась с земли параллельно стене и, достигнув уровня пролома на месте бывших ворот, сворачивала к нему под прямым углом.
Юнусу надоело сидеть на одном месте, он уже рассмотрел все, видимое сверху, и его подмывало спуститься по этому своеобразному воздушному мосту. Когда-то, вероятно, по нему могла проехать повозка. Время источило насыпь, сверху она стала, как лезвие иззубренного ножа, и нужна была смелость, чтобы испытать такой неверный путь. Это-то и соблазняло Юнуса. Он примерился, рассчитывая заранее, как и где поставить ногу, и кошкой сбежал вниз.
Довольный собой, он заложил руки за спину и потихоньку, с видом праздношатающегося, побрел к буровой вышке. Не доходя до этого сооружения, Юнус остановился около длинного узкого рва, где сегодня работали люди из кишлаков. Конечно, как и говорил Шарип, это был не колодец, а какой-то узкий прорез с постепенно понижающимся дном. Его отвесные стены были тщательно сглажены лопатами; в конце, в самом глубоком месте, темнела вода.
В эту минуту в выемку попадали солнечные лучи и почти вся она была освещена. Какой-то человек возился внизу с большим фотоаппаратом. Юнуса учили фотографированию в американской школе, и он понимал, что человек внизу делает снимки стенок. Чтобы захватить на пленке большее пространство, человек прижимался спиной к противоположной стенке. Потом он прошел глубже, посмотрел на рейку, торчавшую из воды, и что-то записал в книжку, предварительно взглянув на часы.
Кончив свое дело, человек быстро выбрался из выемки, и Юнус отступил, давая ему дорогу. Оказалось, что это тот самый русский, которого он видел на празднике в колхозной чайхане.
— Салам алейкум, — приветствовал русский Юнуса.
— Ва алейкум ас-салам, — ответил, как полагается, Юнус.
А вода-то поднимается, — заявил русский. — Есть напор, чудесно! Хоть и слабый, за два часа все же на пять сантиметров. Это чего-нибудь да стоит. Ты еще не работал здесь? Приходи завтра, а? На общую пользу. Вода поднялась вот насколько, — и Ефимов показал на пальцах.
Юнус улыбался. Кроме сказанного русским привета, он не понял ни слова, но этот человек был любезен с ним, и следовало улыбаться в ответ по правилам вежливости.
Вблизи русский производил приятное впечатление. Он произносил звучные слова, мягкие и певучие. Лицо русского можно было считать похожим на лицо того американца, который обучал в школе обращению с оружием. Такой же круглый голый подбородок, большой рот и выгоревшие почти добела брови. Но глаза у русского были не голубые, а зеленовато-серые и взгляд другой. Этот русский коммунист не казался Юнусу злым человеком. Он опять что-то спрашивает. Юнус покачал головой и развел ладони в знак того, что не понимает. Тогда Ефимов показал на небо, на солнце, на восток, изобразил, как роют землю, и поманил Юнуса. Юнус понял, что его приглашают прийти утром на работу, и кивнул.
— Я приду, — сказал он четко и громко, как глухому. Ефимов понял и подал ему руку. Решительно, он не так похож на того американца.
Ефимов пошел к палатке, и Юнус двинулся за ним следом. Нужно не спеша все осмотреть и запомнить, чтобы не сделать ночью ни малейшей ошибки. Юнус считал себя разведчиком в дар-уль-харб — стране врага.
Буровые вышки Юнус видал на родине. Там американцы сверлили землю. Но они, как говорили, искали не воду, а нефть.
Машина не работала. Двое людей в русской одежде, но, кажется, не русские, свинчивали трубы. Около вышки в плоском открытом ящике лежали длинные цилиндрические куски, выточенные из камня. Юнус присматривался к двум занятым и не обращавшим на него внимания людям. Один, как видно, сильный, а другой послабее. Русского Юнус оценил раньше: ловкий, но не слишком сильный.
Интересно, есть ли у них оружие, кроме ножей, которые обычно носят на поясе, какое, и где они его держат.
Юнус обошел вокруг палатки. Края парусины были приподняты, и из палатки доносился чей-то тихий голос. Ему хотелось нагнуться, заглянуть внутрь и прислушаться, но это было бы неосторожно. Юнус заметил, как укреплена палатка, сосчитал веревки, привязанные к кольям, вбитым в землю. Если перерезать веревки, парусина упадет…
Юнус размышлял о русском. Он представлял себе всех русских, особенно коммунистов, людьми большого роста, со свирепыми лицами, злыми глазами и рычащими голосами. Такое представление сложилось у него со слов Шейх-Аталык-Ходжи, такими должны были быть враги ислама. В стране врага он не встречал еще ни одного лица, похожего на созданный его воображением образ, но не сомневался, что еще встретит.
Юнус пока не имел заслуг перед богом, подобно Исхаку, Ахмаду, Исмаилу и Сафару, которым он завидовал. Он медлил около палатки, казавшейся маленькой, тесной. Может быть, они не все спят в ней. Как бы это узнать… Юнус хотел найти удобную минуту и заглянуть внутрь.
II
Пригнувшись, из палатки вышел какой-то человек, одетый в поношенный короткий халат и с новой черной тюбетейкой на голове. Он прошел было мимо Юнуса, но вдруг остановился и оглянулся. Люди встретились глазами. У этого узбека была короткая борода и запоминающиеся глаза с желтыми искорками кругом зрачков.
— Что ты здесь делаешь, друг? — спросил Ибадулла, рассматривая Юнуса.
— Мир тебе, — ответил Юнус. — Я пришел… — он хотел сказать, что завтра будет работать, и запнулся. Он где-то видел этого человека с особенными глазами. Юнуса учили, что очень важно помнить, где и когда видел любого человека. — Я пришел посмотреть, как работают, я тоже приду завтра, — закончил Юнус.
— Ты пришел посмотреть? — повторил узбек. — Ты живешь здесь, в Дуабе или в Чешме? — спросил узбек. Юнус видел, что он тоже пытается вспомнить.
— Да, — подтвердил Юнус, — завтра я приду сюда работать. Тебе мир, — и Юнус повернулся, чтобы уйти.
Он пошел медленно и чувствовал, что узбек внимательно смотрит ему вслед. Ему стало немного холодно, точно солнце стало меньше греть. Он услышал быстрые шаги. Узбек догнал его и пошел рядом.
— Подожди, не торопись так, — сказал он, хотя Юнус не спешил. — Пойдем вместе. Как тебя зовут?
Двадцать или тридцать шагов Юнус прошел молча. Нет, сказал он себе, опасность нужно встречать грудью, разве он не воин ислама! Юнус остановился и взглянул узбеку прямо в глаза:
— Меня зовут Абдурахман.
— Абдурахман, говоришь? — переспросил узбек. Он все еще старался вспомнить, а Юнус уже знал, с кем говорит. Узбека звали Ибадуллой, и он бывал в доме Шейх-Аталык-Ходжи. Юнус не сомневался: дважды ему приходилось прислуживать хозяину, когда его гостем был этот человек. Это было, может быть, год тому назад.
Юнус сразу успокоился. Мулла говорил: «Вы можете встретить друзей, не удивляйтесь. У каждого свой подвиг в стране врага. Делайте вид, что не узнаете друг друга. Но если вам будет нужна помощь, произнесите слово тихо, чтобы никто нечистый не услыхал его. Также сложите кольцом пальцы правой руки, что есть знак вечности».
Почему этот Ибадулла не произносит слова и не делает знака? Разве он забыл?
— Нет, ты не Абдурахман. А если и Абдурахман, то не живешь здесь, — настаивал Ибадулла. — Я не знаю твоего имени, но я встречал тебя слишком далеко отсюда, не помню где, однако ты не можешь быть местным жителем.
Юнус не понимал, действительно ли этот человек, друг муллы, не может вспомнить или только лишь испытывает его. Игра забавляла, и он решил продолжать.
— Ты ошибаешься, человек, — уверенно сказал он. — Меня зовут Абдурахман, и я живу здесь, в Чешме.
Ибадулла недоверчиво покачал головой, он сосредоточенно вспоминал. Юнус был вполне доволен. Пусть этот Ибадулла ломает себе голову, потом он поразит его своей выдержкой и уменьем вести себя. А хорошо, что они встретились, этот мусульманин мог погибнуть вместе с коммунистами, что уменьшило бы заслугу. Ибадулла должен сегодня же зайти к Шарипу, встретиться со своими и решить вместе с ними, что делать. Придется показать ему знак и напомнить о слове, чтобы не терять времени.
III
Фатима видела из палатки, как Ибадулла беседовал с каким-то молодым колхозником. Девушка пристроилась на ящике и с утра тщательно составляла описание кернов, образцов породы, извлеченных буром. Работа не спорилась, и вернуться к ней девушка не могла. Она переменила положение и пересела, чтобы лучше видеть Ибадуллу.
Только что произошло большое для Фатимы событие — разговор, которого она давно ждала. Ибадулла, вначале сердивший ее своей отчужденностью, так быстро изменялся, точно в нем было несколько человек. Но он попрежнему оставался непонятным. Что-то было в нем скрытое, недоступное. Что это? Кто он, Ибадулла? Конечно, друг, это она чувствовала. Но кто этот друг?
С него, как со старинной чаши, изо дня в день сходила ржавчина. И спадающая корка обнажала нечто большое, значительное. Вновь Фатима сердилась на Ибадуллу: непонятное раздражало.
Но как потребовать от человека сказать, кто он? Как можно ответить на такой вопрос? Шуткой, молчанием, смехом или обидой…
И вот она спросила, даже почти приказала ответить. Как она осмелилась? Теперь она бы уже не сумела. Час тому назад она сказала: «Говорите же, я хочу».
Он не промолчал, молчаливый Ибадулла.
Он говорил на своем особенном языке, в который врывались случайные арабские и персидские слова. Его фразы были коротки и точны. В них, как вода в камнях, бились чувства человека, который жил, чтобы искать истину, и искал, чтобы жить. Девушка верила каждому его слову.
Она видела изгнанника-отца, умершего вдали от родины со словами проклятия и бесплодного раскаяния в непоправимой ошибке. Она плакала, когда оспа унесла его несчастную семью.
Ибадулла не плакал, его глаза не блестели и голос не дрогнул. Но его сердце плакало, она чувствовала это.
Тяжким гнетом легли своды медресе. Как мог человек выйти из этой ямы злобы и ненависти и не погибнуть! А он сумел. Он смог все вынести и остановиться на краю, перед последней чертой. Девушка пылко возненавидела подлого муллу Аталыка.
Ибадулла рассказывал, и мулла исчез, заслоненный миром человеческих страданий. Как много горя было там, откуда пришел Ибадулла! Его голос точно развертывал странную сказку, и он был так спокоен, будто все происходило не с ним, не на его глазах. Неправда это, страдание жило в нем.
Так вот кто такой Ибадулла!
Как хочется утешить его…
— Что с тобой, Фатима? — спросил Ефимов, и его голос вернул девушку к действительности.
Кажется, она плакала… Фатима вытерла глаза. Ибадулла уходил в сторону Дуаба вместе с каким-то молодым колхозником. Ефимов сел рядом с Фатимой и дружески обнял ее плечо.
— Фатимочка, да что с тобой? — спрашивал Ефимов. — Ты нездорова? Тебя расстроил Ибадулла? Я и не знал, что ты умеешь плакать. Чем ты огорчена? Что тебе сделал Ибадулла?
— Нет, нет, — поспешила возразить девушка. — Мне только очень жалко его. Он рассказывал о себе, вот и все. Он хороший человек, настоящий, правда? Но я не могу тебе передать.
— Я знаю, — ответил Ефимов. — Он храбрец, я видел, как он голыми руками задушил змею.
— И ты не сказал!
— К чему? Ему не было нужно, чтобы я говорил.
— Это правда. Но он сумел задушить что-то, что страшнее всех змей.
— Я тебя не понимаю, Фатимочка.
— Он сам тебе расскажет. Ведь ты его друг, скажи?
— Конечно, друг. Он это знает. Я уверен, что он много знает, Фатимочка, о таких вещах, как жизнь. Больше, чем мы с тобой.
IV
Как мальчишке надоедает затянувшаяся игра в прятки, так и Юнусу наскучила взаимная мистификация.
Он сложил кольцом пальцы правой руки и показал Ибадулле. Потом сказал слово:
— Бог не поместил во внутренности человека двух сердец.
Это была цитата из корана, призывающая к верности и преданности исламу. На нее следовало бы ответить: «Мы сотворили сверх вас семь путей». Семь путей — семь небесных сводов, на которых помещаются ангелы. Упоминание о них говорит о величии бога ислама. Но Ибадулла сказал другое:
— Теперь я узнал тебя. Не знаю твоего имени, не могу вспомнить, хотя мулла Шейх-Аталык и произносил его при мне. Я видел тебя в его доме… Как ты сюда попал и что ты здесь делаешь?
Получалось не так, как учили Юнуса, и он опять ощутил легкую тревогу. Может быть, Ибадулле нужен еще другой знак и другое слово, а этих он не знает? На всякий случай следует отойти подальше.
— Пойдем со мной, — пригласил Юнус. — Я все тебе расскажу.
Он привел Ибадуллу в укромное место между стеной Кала и ведущими в крепость остатками воздушного моста. Там он пальцем прямо на стене изобразил двадцать пять черточек, расположенных в пять рядов. Этот знак, по мнению Юнуса, разрешал все сомнения. Ему казалось, что Ибадулла странно смотрел на него, но, наконец-то, он понял.
— Теперь я убедился, — сказал Ибадулла. — Тебя перебросили сюда американцы.
— Да, — подтвердил Юнус, хотя в голосе Ибадуллы и не было вопроса. — Ты знаешь знак союза, и я могу говорить с тобой обо всем. Ты один здесь?
— А сколько вас? — спросил Ибадулла, не отвечая на вопрос.
— Сейчас четверо. Один ушел в Аллакенд. Если угодно богу, он вернется через день или два.
— Сколько тебе лет? — опять задал вопрос Ибадулла.
«К чему ему мой возраст? — недовольно подумал Юнус. — Он считает меня мальчишкой, вероятно». — И неохотно ответил:
— Я был мальчиком, когда началась большая война, и юношей, когда она окончилась.
— Значит, тебе двадцать два или двадцать три года?
— Наверное, так.
— Садись и расскажи мне, как ты попал в дом муллы и как оказался здесь.
Юнус послушно сел на упавший со стены кусок сухой глины, но начал с возражения:
— Ты задаешь ненужные вопросы. Зачем тебе знать, что я был воспитан в доме муллы Шейх-Аталык-Ходжи? А как я появился здесь? Так же, как и ты. Нас перебросили на самолете. Разве ты иначе попал сюда?
— Мулла взял тебя у отца за долг, или ты его родственник?
Обиженный и разочарованный Юнус не ответил. Какое дело Ибадулле до его происхождения? Кому приятно напоминание о том, что его продали. В школе Бурхан постоянно издевался над ним. Если этот Ибадулла друг самого муллы, то нечего оскорблять человека и показывать свое превосходство. Сейчас они все равны, как воины ислама. Юнус встал и сказал раздраженным голосом:
— У меня нет времени на пустые разговоры. Если хочешь встретить своих, пойдем со мной. Или приходи сам, но до наступления ночи. Мы в нижнем кишлаке, второй дом от въезда на правой стороне и предпоследний, если итти отсюда. Хозяин — Шарип. Но не ночуй здесь вместе с коммунистами, если не придешь к нам. Уйди от них на ночь и устройся так, чтобы на тебя не пало подозрение.
— В чем? — спросил Ибадулла.
«Наконец-то его проняло, он взволновался», — с удовлетворением подумал Юнус и торжественно сказал:
— Судьба бережет тебя. Вознеси благодарение богу за встречу со мной. Ты мог погибнуть вместе с ними. Они осуждены. Не успеет взойти солнце завтрашнего дня, как их души окажутся в аду.
И гнев и жалость были в сердце Ибадуллы. Несчастный раб, проданный и преданный. И он гордится, глупый и слепой, как нож в руке убийцы. Жалкое человеческое существо, бездомное, без родины, обреченное на бессмысленную гибель.
— Ты все знаешь. А мне пора итти, — небрежно бросил Юнус.
— Подожди. Ты никуда не пойдешь. Ты еще можешь спасти жизнь. Сдайся! — приказал Ибадулла.
— Что?! — вскрикнул Юнус. В его руке оказался нож, он держал его в кулаке, острием от себя. — Предатель ислама! — И Юнус бросился на Ибадуллу, целясь нанести смертельный удар снизу, под ребра левой стороны груди.
Глава вторая ПРОСИТЕЛЬНИЦА
I
Тело умершего от яда историка Мохаммед-Рахима запеленали в широкую полосу чистой, не бывшей в употреблении ткани и отнесли на кладбище. Над могилой возвели маленький острый сводик — согону. Сухая земля родины приняла еще одно тело; покинутое жизнью, оно сделается землей… А сам человек остался жить в умах и сердцах людей.
…Громадное раскаленное солнце беспощадно жгло город, одевая его в две краски, видимые утомленным зрением: в белую — освещенных мест и черную — в тени.
Сафар безразлично толкался в рядах на базаре, присматриваясь к вещам, выставленным в ларьках и в витринах магазинов. Присев на корточки около переносной жаровни, он съел несколько палочек шашлыка, поджаренного на углях.
Сафар посетил и зеленый базар, рассматривал фрукты, пробовал виноград. Заботливо выбрав тяжелую, как пушечное ядро, чарджоускую дыню в желтовато-зеленой коже, рассеченной мелкой сеткой, Сафар тут же съел ее с помощью ножа, предложенного продавцом.
Сафар хотел слушать город, поэтому ходил неторопливо и сам ни с кем не заговаривал. Чтобы лучше запомнить и понять слова людей, не следует их смешивать со своими.
Большой двор базарного караван-сарая был полон ослов, оставленных колхозниками, приехавшими в город. Довольные большим обществом, обычно спокойные, ослы здесь гонялись друг за другом, играли, дрались, не обращая внимания на зной. В тени, опустив головы, стояли лошади. Несколько верблюдов лежали на припеке, откинув большие головы с брезгливо отвисшими губами и полузакрытыми глазами, полные безразличия и презрения к окружающей их шумной и глупой мелкоте.
В воротах тесной кучкой стояли люди. Один из них говорил, делая энергичные жесты. Слушатели согласно кивали головами. И здесь говорят все о том же — о смерти Мохаммед-Рахима…
После полудня Сафар зашел в городскую баню. В раздевальне стояла приятная прохлада. Вниз, понижаясь как ступени, одна за другой шли восьмиугольные сводчатые залы с выходами в разные стороны. Свет падал сверху, из отверстий в сводах.
Сафар осторожно ступал по скользким каменным плитам, отшлифованным ступнями многих поколений. Баня существовала несколько столетий. Она стала подземной, так как город давно утопил под собой прочное древнее сооружение.
Отдыхая, Сафар прилег в темной нише. Сквозь плеск воды доносились голоса людей, и он прислушивался к своеобразной перекличке:
— Их следует повесить. Публично, на Регистане, чтобы все видели!
— И подтянуть повыше.
— Правильно!
— Нужно их еще найти!
— Разве никто не арестован?
— Не слышно.
— Говорят, уже нашли следы.
Сафар прислушивался — везде одно и то же… Голоса умолкли. Сафар положил руку под голову и задремал.
II
Возвращаясь к Исмаилову, Сафар нисколько не был смущен общим негодованием. Он отдохнул и после бани чувствовал себя свежим и сильным. Он был даже доволен: удар пришелся в больное место.
О Бохассе еще не говорят, это естественно; слухи о том, что случилось утром, когда люди начали пользоваться водой, еще не распространились.
Исмаилов и Хамидов ждали Сафара. Первыми его словами были:
— Расскажи, Хамидов, как ты поступил с Бохассой?
До последней минуты Хамидов колебался, не зная, скажет ли он правду. Он не поделился своей неудачей с Исмаиловым — не следует преждевременно расходовать слова, при повторениях речь теряет убедительность. И неосмотрительно заранее связывать себя. Хамидов внутренне репетировал встречу с Сафаром, взвешивая выгоды той или иной лжи. Но при виде Сафара он понял, что только правда может быть ему выгодной, и уверенно ответил:
— Под Бохассой много арыков, мне было трудно найти нужный, поэтому живущие там получили лишний день жизни. Я решил действовать наверняка. Сегодня утром я ходил туда, посетил музей, прошелся по окрестностям и все рассмотрел. Я совершу дело сегодня, до восхода луны.
Исмаилов едва заметно улыбнулся, а Сафар ничего не сказал в упрек Хамидову. Судьба может неблагоприятствовать, человеку не удается совершить задуманное, так бывает. Не нужно натягивать струну слишком сильно, эти люди зависели от него, но и он зависел от них. Поэтому Сафар не счел нужным сказать Хассану, что яд в воду он мог бы опустить и днем.
Сафар колебался, он хотел уехать. Задержаться ли еще на один день и не пойти ли вместе с Хассаном ночью в Бохассу? Нет, пора. Он доверял Исмаилову и Хамидову и сказал:
— Сегодня ночью я уйду. Оставайтесь и продолжайте совершать угодные богу дела, мусульмане.
«Наконец-то», — с облегчением подумал Исмаилов. Пребывание опасного гостя несказанно угнетало Садыка Исмаиловича. Однако он имел выдержку и умел не спрашивать Сафара о сроке. Он вел себя мягче с женой, давал ей лишние деньги на хозяйство и подарил материи на два платья, хотя сам считал, что хватило бы еще старых.
Со дня появления Сафара в его доме директор торговой организации начал еще тщательнее выполнять свои служебные обязанности, стал еще требовательнее к подчиненным, под страхом немедленного увольнения запретил ночному сторожу заниматься мелочной торговлей на ступеньках конторы.
Строгий директор издал подробный приказ, требуя усиления внимания к потребителям и повышения трудовой дисциплины. Он обошел все торговые точки, изучал записи в книгах жалоб и предложений, отдал под суд продавца, уличенного в обмере покупателя. Недомер на целых восемь сантиметров в отрезе сукна! Возмутительно! Исмаилов требовал показательного суда.
Более смелый или менее впечатлительный Хамидов тоже согласился, что операции с рынком следует на время прекратить.
— Когда идет поезд в Карши? — осведомился Сафар, не скрывая пункта своего назначения.
Поезд отправлялся в час ночи.
Хассан Хамидов очень устал, все утро он бродил под солнцем, чтобы изучить Бохассу. Зато теперь он уверен в себе и в успехе.
Амина подала обед. Сафар ел жадно и много, как бы стараясь насытиться на несколько дней вперед. После обеда он сделался разговорчивее:
— Ваш город полон дурными людьми, — говорил он со спокойной злобой. — Многие оплакивают Мохаммед-Рахима, душа которого пылает в аду между огненными жерновами. Ваш город не священный, а нечистый, он насыщен коммунистами. Вам, верным, я оставляю запас американского порошка, который убивает. Будет указание, когда пустить его в дело. Не будет указания, действуйте сами применительно к событиям, например, если услышите о начале войны. Опустите порошок в главный канал. Так же поступите с источниками, питающими город, где проходит железная дорога. Сами уезжайте на время в тот же день… Но заблаговременно осмотритесь. Пусть тебе, Хассан, неудача с Бохассой послужит уроком…
III
Мужчины прекращали разговор, когда появлялась обслуживающая их женщина. Они не смотрели на нее, иначе могли бы заметить, что женщина едва держится на ногах. Ее лицо было закрыто волосяной сеткой.
Всю ночь Амину мучила мысль о персиках в руках Сафара и о странном вопросе, заданном приходившим от имени Тургунбаева человеком. Она чувствовала, что от Сафара могло исходить только недоброе. С каждым днем его пребывания в доме увеличивался гнет.
Амина больше не старалась подслушивать разговоры мужчин, но не из опасения быть обнаруженной. Пусть Садык побьет ее за любопытство, это будут не первые побои. Амина боялась услышать что-то страшное. Она отталкивала свои предположения, как бессмысленные. Говорил же ей Садык, что она безмозглая, а Садык — умный человек. «Что ты можешь понимать?» — говорила она себе.
Сегодня утром, покупая на базаре баранину и пряности для плова и супа, Амина слышала разговоры о внезапной смерти Мохаммед-Рахима. Ее бабушка с ненавистью говорила об этом человеке, призывавшем к борьбе с исламом, о друге революции, о коммунисте. А сегодня на базаре многие люди говорили с гневом и грустью о смерти узбекского ученого. Кто-то сказал: «Это политическое дело».
Амина не вслушивалась, она думала о своем. Жизнь очень тяжела. Если у Мохаммед-Рахима были дети, жаль сирот, они остались без отца. Он был не стар, дети, наверное, маленькие. Дети принадлежат женщине больше, чем мужчине, но, может быть, Мохаммед-Рахим любил своих детей. А если он был одинок, то что страшного в смерти?..
И вдруг кто-то сказал в магазине, когда Амина уже выходила из двери:
— Его отравили персиками. Фанатики ненавидели Мохаммед-Рахима!
Вернувшись домой, Амина, как автомат, привычными движениями приготовляла обед, прислуживала мужчинам, убирала посуду. Потом сил не стало.
Младший сын спал. Старший был голоден, но мальчик привык соблюдать тишину и ждать. Чувствуя неладное, он прижался к матери и засунул голову под черное покрывало, которое она нарочно не сняла, сойдя вниз, чтобы никто не видел выражения ее лица. Мальчик старался рассмотреть мать, нашел ее руку, перевернул ладонью вверх и прильнул щекой.
Амина очнулась от скрипа лестницы: кто-то из мужчин спустился во двор и через минуту поднялся обратно. Младший мальчик проснулся и попросил тоненьким жалобным голосом:
— Мама, есть…
Женщина сбросила на пол мешавшую ей паранджу, взяла ребенка, схватила за руку старшего и сказала:
— Пойдем.
IV
Этим утром жена сказала Суфи Османову:
— Мой Суфи, ты можешь узнать любые фрукты, как только их увидишь. И правда, ты знаешь все, что растет в наших садах. Почему бы тебе не пойти к следователю и не взглянуть на отравленные персики?
Мысль об экспертизе сразу воспламенила Суфи. Он представил себе, как он назовет хозяина сада, как туда пойдут, хозяин вспомнит, кому продал… Суфи увидел себя главным человеком, раскрывшим подлых убийц.
Но не прошел Суфи и половины площади перед городской крепостью — Арком, как им овладели сомнения. Вдруг он ошибется? Персики полежали, лишились вида. Они могут быть и привозными. Суфи выставит себя на посмешище.
И Суфи отправился в вербовочную контору, оформил документы, получил аванс и путевку к новому месту работы. На это ушло утро.
От вербовщика Суфи пошел проститься с товарищами. На заводе все говорили об убийстве ученого Мохаммед-Рахима. Рабочие хорошо знали историка как лектора и агитатора, от них Суфи лучше понял значение преступления и серьезность подсказанного ему женой шага.
В начале шестого часа вечера Суфи оказался вблизи городского управления милиции. Недалеко от двери он помедлил. Измучившись, понимая, что уже наступает вечер и дома жена изнывает от волнения, Суфи сказал себе:
— Слушай, будь мужчиной, возьми себя за шиворот.
Просунувшись в неудобное, слишком высокое для него окошко, Суфи покраснел, как слива, но, сознавая, что путь назад отрезан, решительно заявил о желании сделать важное сообщение.
Дальше все получилось просто. Следователь оказался знакомым, он захаживал к Суфи за фруктами, они беседовали о садоводстве. Поэтому, как показалось Суфи, следователь не удивился.
Скоро принесли банку с притертой пробкой; внутри, в какой-то жидкости, были четыре персика. Персики немного окрасили прозрачную жидкость, но были отлично видны и казались совсем, как с дерева.
Суфи осторожно повертел банку и поставил ее на стол.
— Плохо, — сказал он, — напрасно я отнял время у такого занятого серьезным делом человека, как товарищ начальник.
— Но почему плохо и почему напрасно, товарищ Османов? — спросил следователь, следивший за быстрой сменой выражений на живом лице маленького любителя садоводства.
— Почему плохо? Э-эх… Суфи считал, что все знает… Тут не могут быть мои персики, а у кого есть такие же, не знаю. В городе ни у кого нет.
— А почему они не могут быть ваши?
— В этом году я еще не продавал персиков.
— А разве третьего дня у вас не брал персики Садык Исмаилов?
Слова следователя основывались на показаниях по делу покушения на Тургунбаева, чего Суфи не мог знать. Именно тот факт, что его персики могли быть только у Исмаилова, и мешал Суфи узнать их. Он сразу был сбит с толку мыслью о невозможности этого и так озабочен, что не обратил внимания на удивительную осведомленность следователя. Суфи подтвердил:
— Да. Но тут не могут быть мои персики. С чего бы им быть тут?
— Не думайте об этом, товарищ Османов. Помните о смерти нашего Мохаммед-Рахима и смотрите внимательно, помогите нам.
Следователь вызвал кого-то и приказал принести поднос. Персики выложили на него. От острого запаха жидкости у Суфи защипало в носу и глазах, но он ясно увидел на одном из плодов темную выпуклость, похожую на бородавку. Он выпрямился и, вытирая глаза, прошептал:
— Клянусь, этот персик — мой.
V
Амина прокралась по двору. Она дрожала от страха: вдруг ее заметит Садык. Женщина неслышно открыла калитку, пропустила сына и бесшумно закрыла за собой дверь.
Уже вечерело, и узкий тихий переулок был в тени. Двери дома старого Мослима-Аделя были почти рядом. Амине казалось, что ее стука не слышат, а постучать сильнее она боялась. Наконец во дворе раздался громкий голос старшей внучки Мослима:
— Да входите же, дверь не заперта!.. Эй, вот так чудо! Затворница пришла в гости к соседям! — весело встретила Амину молодая женщина. — Входи, входи, по старой поговорке, с гостем в дом входит бог. Но что с тобой, что случилось, женщина? — прервала свою шутливую речь веселая внучка старого учителя, увидев лицо гостьи.
— Скажи, он дома?
— Он наверху.
Как трудно было подниматься по лестнице. Ступени казались бесконечными…
…Теперь у Амины совсем не осталось сил. Если бы пожар охватил город, все равно она не смогла бы пошевелиться. И произнести одно слово было бы мученьем.
Амина смотрела, как Мослим быстро говорил со своим сыном и как тот поспешно ушел. С запиской куда-то убежала внучка.
Амине было все равно. Она рассказала всю правду, кроме того, как с ней обращался муж. Это не нужно, это ее собственный позор и горе, и никто о них не узнает.
Они остались наедине. Мослим сел рядом с Аминой и погладил ее по голове, нежно и долго. Так только отец умеет коснуться головы дочери и больше никто.
Женщина закрыла лицо руками и начала плакать, тихо, так же тихо, как рассказывала. Она умела плакать тихо. А они были близко, ужасные люди, рядом, за этой стеной. Ей казалось, что вдруг над стеной поднимутся страшные лица Садыка и Сафара. О них женщина не могла забыть ни на минуту.
Когда Амина смогла опять видеть, Мослим держал на руках ее младшего сына. Ребенок ловил старика за седую бороду и смеялся. Амина обняла старшего. Ведь она оставила детей внизу, кто-то привел их сюда. Амина чувствовала, как дрожит тело сына, прижавшегося к ней.
— Дети освежают взгляд, — ласково сказал Мослим. — Дети возвышают душу женщины и мужчины, дети дают нам вечную жизнь. У тебя два сына, Амина, в них твое счастье.
— Это его дети. Он отец моих детей, — одними губами шепнула Амина.
Хотя и не было звука слов, но мудрый Мослим понял горькую и страшную жалобу матери.
— Нет, ты ошибаешься. Ты в заблуждении, дитя мое, — уверенно возразил он. — Дети принадлежат народу. Ты дочь народа, народ отец твоих детей, он поможет тебе воспитать их. Они вырастут, будут достойными людьми и твоим утешением. А у того человека, о котором ты думаешь, не было и нет детей!
VI
После обеда мужчины крепко заснули на веранде. Садык Исмаилов был разбужен стуком в калитку. Он сел зевая. Темнело. Хамидов храпел, широко раскинувшись на ватном одеяле. Сафар проснулся и тоже сел. Он потянулся, достал папиросу и закурил.
Внизу Амина, она спросит, кто пришел, откроет дверь и позовет мужа, если понадобится.
Кто там может быть? Исмаилов искоса взглянул на Сафара. Завтра неожиданные посетители уже не будут вызывать невольную тревогу. Вероятно, это принесли телеграмму. В последнее время Исмаилов ввел дежурство по конторе. Следует повышать качество работы, заявил он, и когда приходят телеграммы, необходимо, чтобы он, как директор, немедленно знакомился с их содержанием и с вечера обдумывал необходимые действия и решения.
Потом Исмаилов вспомнил, что через три дня начнет работать обещанная Тургунбаевым комиссия общественности…
Но почему Амина не открывает, где она, еще рано ложиться спать!
На лестнице затопали сразу несколько ног, и Исмаилов увидел верх фуражки военного образца. Он вскочил на ноги.
Рядом с ухом Исмаилова грянул оглушительный выстрел. Садык отпрянул в сторону и оглянулся. Сафар стоял на коленях и вытягивал руку к лестнице. Фуражки там не было, но Сафар выстрелил вторично.
Точно в дыму Исмаилов увидел Сафара, который кошкой прыгнул на стену, ухватился за гребень ее, подтянулся и исчез. С неожиданной ясностью Исмаилов представил себе крышу за этой стеной; на нее можно легко спрыгнуть с гребня стены, пробежать, еще раз спрыгнуть и оказаться во дворе одного из складов его торговой организации. Там только один старый сторож, а дверь — на кривую, тихую улицу!
Исмаилов метнулся вслед Сафару и подпрыгнул, ловя руками верх стены. Он ухватился и повис, пытаясь подняться, но не смог. Он корчился, подгибал колени, дергался, но от этого его тело не делалось легче.
Кто-то схватил его за пояс и сдернул вниз. Исмаилов сполз и, не оглядываясь, пытался вырваться. Ему во что бы то ни стало хотелось еще раз попытаться взобраться на стену. Может быть, он все-таки сумеет!.. Исмаилов опомнился, когда его руки уже были скручены за спиной.
На полу веранды возилась кучка тел.
Внезапно сознание Исмаилова сделалось совершенно ясным. Он наблюдал за борьбой. Глупо. Нет, никогда Хассан не был по-настоящему умным человеком. Он сильный мужчина, но чего он сейчас добьется? Исмаилов безучастно глядел, как Хамидов приподнялся, силясь стряхнуть схвативших его людей, и опять повалился. Борьба окончена…
В отдалении треснул выстрел. «Быть может, Сафар прорвался. Он еще может уйти, такому дикарю-фанатику все нипочем, через десять минут наступит полная темнота», — с жгучей завистью думал Исмаилов. Ему было бы сейчас куда легче, если бы Сафара тоже схватили.
Исмаилов наблюдал, как через стену перебирались люди в военной форме. Один сделал для других лестницу своими плечами. «Так-то легко», — думал Исмаилов. Под его ногами дымилось одеяло от папиросы, брошенной Сафаром. Исмаилов аккуратно затоптал тлеющее место.
Увели Хамидова, одежда на нем была изорвана, а руки связаны. Исмаилов вспомнил о своих руках и пошевелил ими. Судьба…
— Вы будете присутствовать при обыске, гражданин Исмаилов, — сказал кто-то. Исмаилов посмотрел ему в лицо. Он знал его, как почти всех городских работников. Где его фуражка? Наверное, потерял на лестнице, когда стрелял Сафар….
Все погибло… Мечты о будущем, ценности, накопленные с таким трудом, и сама жизнь. Но его золота и драгоценностей они не найдут!..
Неукротимая злоба, подавляя страх, охватила Исмаилова. И чего он ждал?! Не первый день, как он знает о замечательном американском порошке, привезенном Сафаром. Еще сегодня он мог бы бросить все, уехать или улететь на самолете в Самарканд, оттуда подняться по Зеравшану и послать в его воде смерть на население половины проклятой республики!..
Но как они могли узнать? Как?! Конечно, они выследили Сафара…
VII
Прежде чем сторож склада успел поднять тревогу при виде прыгнувшего во двор с крыши человека, Сафар ударил его по голове рукояткой пистолета.
Громадный ключ со звоном упал на каменную плиту мощеного двора и мгновенно оказался в руках Сафара. Он отомкнул замок и вышел на улицу. Нужно запереть ворота, чтобы затруднить преследователей! Когда Сафар поворачивал ключ в замочной скважине, кто-то схватил его сзади за ворот. Сафар рванулся, ткнул в что-то мягкое дулом пистолета, спустил курок и бросился бежать. Через минуту он выскочил на зеленый базар.
Он слышал крики. Конечно, видели, как он бежал. Ему хотелось бежать и бежать, пока хватит сил, но он удержался. Не однажды в американской школе разыгрывали сцены погони и бегства. Сафара учили, что и как следует делать, объясняли на примерах. Бегущий подозрителен; как только ты оторвался от преследователей, иди спокойно. Можно сделать что угодно: убить человека в толпе, бросить бомбу у всех на глазах и уйти. Попадаются только дураки, которые теряются и не знают, что делать, — внушали американские учителя, рассказывая о дерзких преступлениях, совершенных в Америке. В школе устраивались тренировки в возможно приближенной к реальной обстановке.
Сафар свернул в безлюдные и темные, как погреб, проходы между закрытыми ларьками базара. Он сумеет выбраться из города. До линейной станции железной дороги от города около десяти километров. В Карши есть где остановиться; оттуда пора к своим, ждущим в кишлаке Чешма, если он не найдет их в Карши.
В укромном месте за городской стеной, около одной из древних загородных мечетей, Сафар устроил тайник с запасной одеждой, документами и деньгами. Об этом никто не знал, кроме него. Нужно попасть туда, переодеться, сбрить бороду…
Сафар вышел на улицу. В конце ее он окажется у одного из проходов в городской стене, это он знал. Он пошел без спешки, заложив руки за спину, напевая вполголоса, чтобы иметь беззаботный вид.
Луны еще не было. Слабые электрические лампочки на номерах домов давали полосы неверного света.
Сигнал автомобиля заставил Сафара прижаться к стене. В кузове обогнавшего его грузовика было тесно от стоявших во весь рост людей. Сафар узнал форму. Автомобиль показал задний красный фонарик на повороте, и мотор сразу затих.
«У прохода в стене», — сообразил Сафар. Он тут же повернул назад. «Выбрасывают патрули, — думал Сафар. — Но весь город они не сумеют охватить…»
Сафар позволил себе ускорить шаг, он шел навстречу возможным преследователям и быстрота ходьбы не возбуждала подозрений. А кто может опознать его в лицо? Никто. «Сейчас они запирают выходы за стену, — думал Сафар, — а потом начнут обыскивать город и останавливать прохожих…»
Кто-то перегнал Сафара и с насмешкой спросил:
— Эй, друг! На каком гвозде ты висел?
Что он хотел сказать? Сафар с недоумением посмотрел вслед исчезнувшей в темноте фигуре и закинул руку за спину. Халат был разорван от ворота и до пояса. Это сделал тот человек, который хотел схватить его за дверью склада. Очень нехорошо, привлекает внимание…
С внутренней стороны полы нашлись булавки. Сафар стянул с себя халат и ощупью зашпилил прореху. И все же это плохо, нужно не подставлять спину под свет.
Минут через десять-пятнадцать Сафар выбрался к намеченному месту. Он вскарабкался на полуосыпавшуюся городскую стену и оказался на узкой площадке между двумя выщербленными зубцами. В этом месте с улицы города еще можно было подняться на стену, но в стороны по стене прохода не было, так как «боевая дорога», проходившая за зубцами, обвалилась.
Сафар помнил, что снаружи стена возвышается над землей на три или четыре человеческих роста. Поверхность была выпуклой, и беглец рассчитывал соскользнуть, а не упасть.
Лежа на неровной глиняной площадке, Сафар выставил голову в темноту.
Земля не различалась, и поэтому высота казалась внушительной. На минуту Сафар потерял уверенность. Ему показалось, что он ошибся, заблудился, вышел не туда, куда хотел, и висит над бездонной пропастью.
Он прочел про себя короткую молитву и успокоился. Пора решиться. Небо светлело. Скоро взойдет луна.
Если повиснуть на руках, высота падения уменьшится. Напрячь мускулы, чтобы тело пружинило, потом разжать пальцы и положиться на волю милосердного, он не оставит мусульманина в беде.
Сафар повернулся лицом к городу и пополз ногами вперед. Оторвался невидимый ком сухой глины и с шумом ударился внизу, совсем близко. Под ногами ощущалась пустота. Сафар, глядя на блестевшие внизу огоньки в окнах домов, продолжал сползать, запуская пальцы в трещины и нащупывая стену носками сапогов. Память не обманула, стена была выпуклой, а не отвесной, хвала пророку! Теперь, главное, не расцарапать лицо…
— Что ты там делаешь, эй, на стене?! — крикнули снизу.
Сафар поспешно подтянулся назад и распластался на узкой площадке стены. Он слышал голоса:
— Тебе не почудилось?
— Своими глазами видел. Что-то упало, пришел на шум, вижу, торчат ноги.
VIII
Всходила луна. Ночную тишину прорезала трель свистка. С двух сторон ей ответили другие. Снизу в два голоса кричали:
— Эй, слезай. Тебя видели! Чего прячешься?
Сафар свесился в сторону города. Под стеной и здесь оказались преследователи. И отсюда, как видно, его заметили. Через стену начались переговоры:
— На стене человек!
— Да, мы тоже видели!
— Где он?
— Между зубцами.
Сафар слышал, как подъехал автомобиль, слышал движение, которого не понимал. Кто-то приказывал:
— Не лезть! Я не хочу терять людей. Он и так не уйдет.
Ударил сноп сильного света, выхватил зубцы стены. Луна сразу точно погасла. Сафар вжимался в сухую глину неровной площадки. Он видел, как осветились трещины на краю. Это была граница всего, что еще оставалось в его распоряжении.
Тот же голос, который только что приказывал, обратился к нему:
— Ты, на стене! Сдавайся. Ты окружен и тебе не уйти. Сдавайся. С тобой поступят по закону.
Закон неверных коммунистов… Сафар его знал: мулла Шейх-Аталык-Ходжа рассказывал. Сначала его будут пытать и, если он не умрет от пыток, казнят. Сафар безусловно верил в это, ведь он сам поступил бы так же. Не поднимаясь, Сафар вытянул руку с пистолетом и наугад выстрелил вниз. Мгновенно ответная пуля ударила в стену и, разбросав кусочки глины и пыль, с визгом ушла вверх.
— Не стрелять! — раздался приказ. И опять кто-то попытался завязать переговоры:
— Не делай глупостей. Сдавайся.
Новая мысль осенила Сафара. Он закричал:
— Слушайте меня! Я сейчас встану, а вы не стреляйте!
Никто не ответил Сафару, но это его не смутило. Пряча пистолет в рукаве халата, он поднялся. Свет слепил. Сафар закрывался левой рукой, но ничего не мог рассмотреть.
— Где вы? — крикнул он. — Покажитесь, чтобы я видел, кому сдаваться.
Внизу молчали. Сафар тщетно делал пальцами решетку перед глазами, стараясь сообразить, куда разрядить пистолет. Новый сноп света ударил сзади и окончательно ослепил его. Внизу ничего не было, кроме двух беспощадных прожекторов.
— А теперь стреляйте в меня, — громко сказал Сафар. — Вы можете меня убить, я не сдаюсь.
Он подождал, потом лег на спину. Он смотрел в небо и думал: «У меня есть достаточно заслуг перед богом, меня ждет рай. Коммунисты не догадаются помешать мне войти в рай, как хитрые англичане, которые когда-то рубили головы и сжигали тела мусульман».
Всю жизнь Сафар безусловно верил словам служителей ислама, убеждение в их правоте никогда не покидало его. Единственный путь спасения человека… Если не удалось обеспечить себе покойную старость, то разве не высшее благо — умереть воином ислама? Но враги Сафара не принимали последнего боя, и Сафар боялся, что если он вслепую бросится со стены, его схватят и он не сумеет заставить убить себя.
— Одумайся, сдавайся, — соблазнял голос невидимого человека. — Никто не собирается в тебя стрелять. Бросай оружие, и ты будешь под властью закона. И если ты раскаешься, ты можешь ждать милости.
У Сафара была с собой одна пробирка с американским порошком, другие остались в доме Исмаилова. Не боясь содержимого, Сафар концом ножа вытащил пробку и опять встал во весь рост. Он размахивал откупоренной пробиркой, чтобы порошок рассыпался кругом и отравлял дар-уль-харб — страну врага. Больше ничего ему не пришло в голову.
С ним никто не разговаривал, и ему казалось, что он совершенно один. И он сам вдыхал яд.
Глава третья НЕИЗБЕЖНЫЙ ДЕНЬ
I
Повернувшись на каблуке, приемом кулачного бойца Ибадулла отбил удар и поймал запястье противника. Нож вывернулся из пальцев Юнуса и отлетел в сторону. Юнус сунул за пазуху свободную левую руку, но Ибадулла успел уловить опасное движение.
Пытаясь вырвать руки, Юнус дернулся назад и с размаху ударил головой в подбородок Ибадуллы. Оба упали, но Ибадулла не выпустил Юнуса. Несколько минут они молча катались по земле. Юнус тщетно пытался достать зубами до горла Ибадуллы и внезапно обессилел.
Ибадулла приподнялся. Борцы тяжело дышали. Не отрываясь, старший смотрел в глаза младшему. Прошла, быть может, минута.
— Ты не ответил мне, — строго сказал Ибадулла. — Говори. Ты родственник муллы Аталыка или только его слуга?
В ответ Юнус скрипнул зубами.
— Бог ислама не любит изменников, — пробормотал он и опять забился. Ему никак не удавалось освободить руки, но все же он упорно старался дотянуться или до валявшегося на земле ножа, или до выпавшего во время борьбы пистолета. Собрав все силы, он сумел опрокинуть Ибадуллу. Последовала короткая, отчаянная схватка. Ибадулла опять повалил Юнуса и придавил коленом его грудь.
Почувствовав себя окончательно побежденным, Юнус заплакал навзрыд. Он трясся и в отчаянии бился затылком о землю. Ибадулла сильно встряхнул его:
— Ты, ребенок. Перестань хныкать. Отвечай же мне, кто ты?
— Мулла взял меня у отца, — захлебываясь слезами, выговорил он. — Это было во время великого голода в сорок третьем году. Мулла давал отцу в долг рис. Отец забрал целых пятьдесят фунтов риса, настоящего, белого. Не такого черного, с червями, камнями, песком, золой, который продавался из магазинов правительства. У отца не было денег… — спазма сжала горло Юнуса, и он замолчал, прижимая щеку к земле, чтобы не смотреть на Ибадуллу.
— Продолжай, — сурово сказал Ибадулла. — В этом нет позора.
— Зачем тебе знать? — слабым голосом спросил Юнус. — Потом он взял меня и сестру. Это было добрым делом, без помощи муллы мы все умерли бы. Разве ты забыл, что в тот год цена девочки была от десяти анна до одной рупии? Мулла был добр. И отец не лишился земли…
…Да, Ибадулла помнил. Народ скелетов, едва обтянутых кожей. Изможденные, полуголые женщины, сохранившие только никому не нужные медные браслеты на руках и щиколотках ног. Дети в старческих морщинах, с выпяченными ребрами над раздутыми животами, шатающиеся на тонких, как спички, ногах. Стон: «Дай горсточку риса»… На мостовых городов — тела еще живые, но уже объеденные собаками и шакалами. Лица умирающих на дорогах с кишащими червями ранами вместо глаз. На Гугли и других притоках Ганга — лодки с детьми, отправленными для продажи в Калькутту. Оросительные каналы и незасеянные рисовые поля, забитые разлагающимися трупами земледельцев. Стаи ожиревших ленивых собак и шакалов. Тучные, терпеливые грифы рядом с умирающими. Сговор англичан с местными богачами, игравшими на повышении цен. Так было. Тысяча девятьсот сорок третий год. И так может быть в любом наступающем году…
— Убей же меня, — просил Юнус.
— Я не палач, — возразил Ибадулла.
— Убей меня, — молил Юнус. — Возьми мой нож, он острый. Ты хочешь меня выдать, и меня будут пытать. Мулла узнает. Мои отец и мать еще живы, он погубит их.
— Перестань. Никто не будет тебя пытать, и мулла ничего не узнает.
— Он все знает и все может. Ты сделал меня изменником. Убей. Ты победил. Моя жизнь принадлежит тебе. Возьми ее скорее.
— Нет. Ты мой, но я не убью тебя.
— Ты предал ислам.
— Нет. Ислам предал тебя. Ты будешь иметь время понять это. Вставай.
Ибадулла отнял колено и освободил грудь Юнуса.
— Ибадулла, где вы? — раздался голос. — Фатима зовет ужинать, а вы не отвечаете! — И Ефимов показался в закоулке между стеной Кала и остатками моста.
— Что случилось?! — тревожно воскликнул он.
Юнус, которого Ибадулла держал за правую руку, не пошевелился при появлении нового человека. Ибадулла указал Ефимову на валявшиеся нож и пистолет, и тот подобрал их.
— Пойдем с нами, — приказал Ибадулла Юнусу.
II
В сумерках во двор Шарипа Ишхаева вошел кишлачный кузнец Мухэддин. Он весело поздоровался с хозяином и подал руку его гостям. Вслед за Мухэддином ввалился толстый бригадир Курбан. За Курбаном просунулся помощник и друг Мухэддина молотобоец Мурад, громадный мужчина, который всегда ходил так осторожно, точно боялся что-нибудь раздавить.
Затем появился учитель Эмин, а вслед за ним во двор Шарипа солидно вступил и председатель колхоза Якуб Афзалиев.
Все посетители как будто сговорились между собой явиться одновременно. Афзалиев так и сказал:
— О, друзья, не слишком ли много гостей сразу? Но если все остальные пришли к Шарипу для дружеской беседы, то я зашел позвать его и его гостей к нам в гости. Пойдемте! Наши изыскатели будут читать очень интересный доклад, нужно послушать нашим колхозникам и всем другим.
— И я пришел пригласить Шарипа и его гостей на доклад, — сказал Эмин.
— Э-э! Значит, у нас одна мысль. Что ж, Эмин, если ты первым пришел, приглашай, я тебе не помешаю, — добродушно уступил Афзалиев место учителю.
— Зачем доклад? — про себя, но достаточно громко, чтобы все услышали, проворчал Мурад. — Все доклады, некогда отдохнуть, — бормотал он глубоким басом.
— Мы потом придем, — поддержал Мурада его друг, кузнец Мухэддин, удобно устраиваясь рядом с Исхаком. — Мы только сегодня в первый раз выбрали время зайти к Шарипу, послушать его гостей и родственников, почтенных и бывалых людей. И Курбан с тем же пришел.
— Разве изыскатели уже уезжают? — спросил Курбан. — Мне они говорили, что еще долго проживут у нас. Когда воду найдут, пусть тогда и докладывают.
— Еще ничего не сделали, пусть они сначала дело сделают, — сердито прогудел Мурад.
— Правильно, — тут же отозвался Мухэддин. — Когда в наших арыках прибавится воды, тогда и послушаем.
— Нехорошо получается, нехорошо, — укоризненно заметил учитель Эмин. — Они для большого дела трудятся, а им от нас неуважение.
— Зачем неуважение? Зачем так говорить? — тонким примиряющим голосом вступил в разговор Шарип Ишхаев. — Нет никакого неуважения, у них свое дело, у нас — свое. Разве мы даем государству плохой хлопок?
— Верно говорит Шарип! Правильно! — разом воскликнули Мухэддин и Курбан.
— Сказано хорошо, — скрепил Мурад и обратился к Афзалиеву.
— Зачем наставления читаешь? Мы пришли сюда. Хочешь с нами быть, садись. Не хочешь — уходи. А нам не мешай! — грозно закончил молотобоец.
Кузнец Мухэддин, точно старого друга, подтолкнул локтем Исхака и подмигнул на Мурада.
— Сейчас шум будет, — шепнул он.
— Нехорошо, Мурад, — укоризненно молвил Афзалиев. — Я пришел как председатель колхоза, мне люди доверяют.
— Не годится так, Мурад. И других сбиваешь, — вмешался Эмин.
Мурад шагнул к Афзалиеву и остановился, слегка раскачиваясь.
— Чего ты пришел? — грубо спросил молотобоец. — Чего ты кричишь, что ты председатель? Ты председатель днем, а вечером ты для меня никто, если я с тобой не хочу разговаривать. Уходи сам и его бери с собой, — указал Мурад на Эмина.
Гости Шарипа Ишхаева с удовольствием взирали на разгоравшуюся ссору.
— Да-а… — протянул Афзалиев, не двигаясь с места. — Пусть будет твоя правда, Мурад. Не хочешь, не ходи. Никто тебя не неволит. Мы уйдем…
— Иди, иди, пока я тебя не проводил, — пригрозил Мурад.
Афзалиев покачал головой, глядя на Исхака и как бы прося его сочувствия, как у самого старшего из присутствующих посторонних колхозу людей.
В глазах у Ахмада прыгали живчики, он наслаждался развлечением и надеялся на продолжение.
— Сейчас эти двое подерутся, — шепнул он Исмаилу. — Жаль, что нам нельзя вмешиваться. А Мурад один побьет пятерых таких, как этот начальник, мы будем смотреть… — Вопреки своим словам, Ахмад нащупал рукоятку ножа.
— Дай хоть с хозяином проститься, — в последний раз возразил Мураду Афзалиев и подошел к Ишхаеву со словами: — Если вздумаешь, приходи. Твой младший гость уже там сидит, — тут Афзалиев сделал чуть заметную паузу и неожиданно выкрикнул:.— Берись!
Во двор вбежали еще три или четыре человека. Несколько колхозников, ожидавших сигнала в соседнем дворе, перелезли через стену.
Схватка была стремительной и недолгой. Мухэддин схватил Исхака руками и ногами и сковал его, пока другие вязали веревками. Мурад сжал Исмаила и поднял его над землей. Шарип Ишхаев беспомощно упал под тяжестью Якуба Афзалиева. Ахмад успел увернуться от Курбана, ударил ножом учителя Эмина, задел другого колхозника и выскочил из двора на улицу.
Он побежал в сторону Дуаба и был уже в нескольких стах метров, когда кончилась вызванная схваткой сумятица и началась погоня.
III
Преследуемый семью или восемью колхозниками, принимавшими участие в поимке гостей Шарипа Ишхаева, Ахмад беспрепятственно проскочил через Чешму и Дуаб.
Выбежав из Дуаба, он обернулся и выстрелил. Пуля не задела ни одного из преследующих, но внушила им осторожность. Люди остановились, советуясь, что делать. Никому не хотелось рисковать жизнью, необдуманно бросаясь на вооруженного басмача.
Темнело, и колхозники видели только пятно там, где находился преследуемый. Ни у кого не было оружия, кроме ножей, что каждый носит на поясе.
Задыхаясь, прибежал Афзалиев:
— Где он? Упустили?
Председателю колхоза указали место, где был беглец. Видимо, и он соображал, что делать.
— И у него пистолет! — пожаловался Якуб.
Час тому назад Афзалиев связался по телефону с районным центром, и ему обещали немедленно выслать усиленный наряд милиции. Райцентр был не близко, а уж скоро ночь. Несомненно, басмачи хватятся своего недостающего товарища — Юнуса — и насторожатся. Трое решительных людей способны дать сильный отпор, темнота будет им благоприятствовать, и арест превратится в бойню.
Председатель колхоза понял, что он не может терять время и обязан действовать немедленно, на свой риск. Афзалиев организовал оказавшихся под рукой колхозников и разыграл с их помощью сцену, где роли были только намечены в расчете на импровизацию случайных актеров. Но в результате учитель Эмин и второй из участников ранены, а один басмач все же вырвался. За это он, Якуб Афзалиев, отвечает честью!
Афзалиев крикнул:
— Товарищи, бежим, возьмем его!
Но подоспевший молотобоец Мурад схватил Якуба за рукав и дернул назад.
— Стой, — спокойно сказал он, — зачем под пулю лезешь? Себя погубишь, других погубишь, басмач посмеется над нами.
— Он уйдет! — взвизгнул Афзалиев. — Перед народом я отвечаю!
— Куда уйдет? — успокаивал Мурад. — Видишь, он стоит, ждет, не знает, что делать. Подумай хорошо, куда ему уходить? Наши горы голые, леса нет. В степь уйдет, тоже не спрячется.
— Он уходит! — раздался возглас.
Можно было различить, что басмач пошел вверх по долине. К этому моменту почти все население Дуаба и Чешмы сбилось на выходе из кишлака и смешалось с преследователями. Переговариваясь между собой, взволнованные люди тронулись вслед Ахмаду.
В темноте не удавалось различить, оглядывался ли басмач. Но он передвигался шагом и преследователи сохраняли более или менее безопасное расстояние. Некоторые колхозники успели вооружиться охотничьими ружьями и выдвинулись в первый ряд.
Собралось, считая женщин и детей, около ста человек. Повинуясь приказаниям Афзалиева и Мурада, люди расходились вправо и влево, образуя цепь. Человек десять мужчин бегом пустились вперед, огибая басмача на расстоянии, чтобы отрезать ему дорогу.
Вблизи от стен Кала Ахмад опять остановился. Ночь уже вполне наступила, и преследователи невольно уменьшили расстояние между собой и беглецом, чтобы не упустить его из виду.
В тени крепости Ахмад растворился, исчез. Преследователи окружили старое укрепление. Афзалиев и его помощники обежали цепь, убеждаясь, что басмач нигде не прошел дальше. Он был в крепости.
Вдали послышался шум автомобильных моторов. Машины бежали уже по улице Дуаба.
— Уф, наконец-то! — облегченно вздохнул Афзалиев. Бремя ответственности упало с его плеч. Якуб сделал все, что было в его силах, и охотно передаст в надлежащие руки окончание дела…
IV
Ночь невозможно медлила над долиной Дуаба. Обычно утро приходит сразу после вечера, а сегодня почти полная луна еле-еле всползала на небо. Сначала она была красная, потом, забравшись выше, уменьшилась и побелела. Черные тени легли на землю и остановились — такие же вялые и ленивые, как луна.
И стрелки на часах подражали луне. Неподвижные, они не хотели показывать, что время идет. Только секундная прыгала мелкими скачками.
Когда уже совсем не стало надежды на окончание ночи, небо сжалилось и начало бледнеть. Низкая луна потускнела.
Ночью и на рассвете ни милиционеры, ни рассыпавшиеся в их цепи колхозники не уловили никакого движения в крепости.
Конечно, и серые мыши и желтые суслики могли преодолеть кольцо окружения, но для волка или человека это было невозможно, если у него не выросли крылья. Без сомнения, басмач продолжал сидеть в Кала.
Дню только нужно начаться. Сейчас он стремительно оживал. Из верховьев долины пахнуло теплым ветром. По стенам крепости бегала коричневая горлинка. Мелькнули крылышки второй и третьей. Изящные птички посидели на стене и слетели куда-то внутрь. Горлинок сменила стайка серых воробьев. Птицы чувствовали себя в крепости, как дома.
— Видишь? — спросил начальник районной милиции Афзалиева.
— Вижу, — огорченно ответил председатель колхоза. — Неужели он ушел? Нет, он не мог уйти, — сам ответил на свой вопрос Якуб.
Цепь, окружавшая крепость, сделалась ненужной. Милиционеры разбились на две группы и ждали у входов в крепость — под проломом в задней стене и у остатков воздушного моста.
— Так что же ты думаешь, председатель? — спросил начальник.
— Чего думать? — вспыхнул Якуб. — Басмач там сидит. Брать его нужно.
Начальник, большой приятель Афзалиева, усмехнулся и сказал подошедшему с подвязанной рукой учителю Эмину:
— Хочу на время должность сдавать. Вот Якуб принимает.
— Вы решили взять басмача измором? — спросил Эмин, не обращая внимания на шутку.
— Нет, — возразил начальник. — Я думаю, что уже некого брать.
— Вряд ли он ушел, — заметил Эмин.
— Я не говорю, что он ушел, — возразил начальник. — Но почему его не боятся птицы? Скажите, товарищи, может быть, он спрятался? По-моему, там нет таких мест.
— Некуда там спрятаться, — ответил Афзалиев и вдруг хлопнул себя по бедрам. — Верно! — воскликнул он. — Но ведь выстрела там не было?!
— Разве у него нет острого ножа? — возразил начальник, указывая на забинтованную руку учителя.
Охраняемые готовыми открыть огонь милиционерами, начальник районной милиции и Афзалиев вскарабкались к пролому в стене.
Потревоженные появлением людей, шумно вспорхнули воробьи. Якуб поспешно обогнул развалины башни и вскрикнул.
Ахмад лежал ничком в уродливой, неестественной позе. Когда перевернули еще не окоченевшее тело, открылось темное опухшее лицо. На земле под ним уже кишели муравьи.
— Отравился, — сказал кто-то.
— Нет, — уверенно возразил Афзалиев. — Это каракурт. Его укусил каракурт в шею или в голову. Я один раз видел человека, убитого каракуртом. У него было такое же лицо… — И Якуб невольно оглянулся, точно ожидая увидеть небольшого черного паука с белыми точками на волосатом брюшке — каракурты любят развалины…
Через тесный кружок людей пробрался Ибадулла. Он нагнулся, без страха и отвращения вглядываясь в обезображенное черной смертью лицо, как будто искал знакомые черты. Старый шрам на лбу… Нет, он никогда не встречался с этим человеком.
— Ha-днях в Аллакенде, — говорил кому-то начальник районной милиции, — отравили замечательного человека, знатока архивов, ученого-историка Мохаммед-Рахима.
— Что? — перебил Ибадулла. — Мохаммед-Рахим?! Отравлен?! Умер?
— К сожалению, это не слух, — подтвердил начальник. — Три дня тому назад убийцы были арестованы. Диверсию организовал «гость» из-за рубежа, американский воспитанник. Почти одновременно в Карши был арестован человек, давший пристанище диверсантам, возможно, этим самым. Враг проявляет активность.
Ибадулла молчал. Он слушал спокойно, опустив сухие, потускневшие глаза, и казался безразличным, потухшим.
Он проводил милиционеров и колхозников до окраины Дуаба и медленно-медленно вернулся обратно к палатке.
— Тебе тяжело, ты очень огорчен, Ибадулла, — встретила его Фатима. Ей хотелось утешить Ибадуллу, но как, она не знала.
Теплого сочувствия девушки было достаточно. Ибадулла поднял голову.
— Благодарю тебя, — сказал он, положив руку на плечо Фатиме. — Мохаммед-Рахим был светлым, мудрым человеком, для меня он остался живым. Он знал истину. Теперь и я знаю ее! Видишь, как трудно найти истину тому, кто ее потерял или не знал… И я познал родину, Фатима. Она не в земле, по которой ходили отцы, не в памятниках, построенных их руками, и не в кладбищах, с пылью которых на поля разносится их прах. Она живая — в сердце, в мудрости народа, в пути его счастья. Кто вне народа — тот не живет. Он мертв, он, как призрак…
Ибадулла повернулся и указал на горы, вершины которых, уже освещенные восходящим солнцем, едва виднелись на горизонте.
— Они там, Фатима. Оттуда пришли эти призраки-убийцы. Я знаю! Я сам чуть было не стал таким… И там — народ, среди которого и с которым я жил прежде. Я никогда не забуду о нем потому, что знаю его горе, и потому, что я в долгу перед ним. Но теперь я богат и могу возместить мой долг. Люди ждут. Теперь мой путь прям и ясен. Мусульманин ищет заслуг перед исламом, я хочу иметь заслугу перед людьми. Сегодня я поклялся родиной итти прямым путем, и я никогда не изменю клятве!
Вдали у буровой вышки послышались выхлопы мотора: механик заводил дизель — скоро придут колхозники.
Ефимов вылез из шурфа — за ночь вода поднялась еще на двадцать сантиметров и сохраняла этот уровень.
Был час начала работы.
Москва. Май 1952 года
1
Хиджра — бегство Магомета из Мекки в Медину в 622 году нашей эры — начало мусульманского летосчисления.
(обратно)2
Прославление имени бога.
(обратно)3
Главы корана обычно начинаются словом «скажи». Цитирующие коран проповедники начинают с этого слова.
(обратно)4
Чачван — занавеска, фата, закрывающая лицо женщины.
(обратно)5
Под ударом Чингиз-Хана в начале XIII века.
(обратно)6
Колхозчи — колхозник.
(обратно)
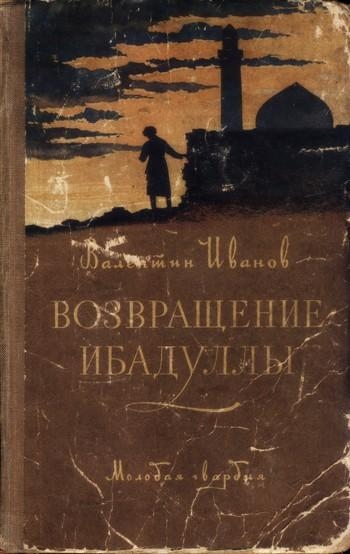

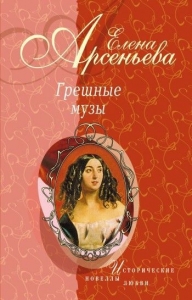
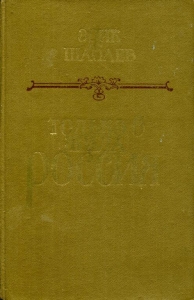

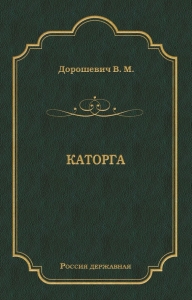
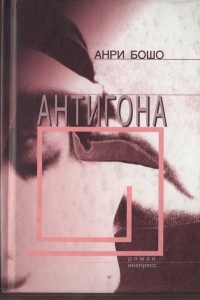
Комментарии к книге «Возвращение Ибадуллы», Валентин Дмитриевич Иванов
Всего 0 комментариев