Айдын Шем Нити судеб человеческих. Часть 2. Красная ртуть
Глава 1
На ослепительных известняках Херсонеса, там, где обломки мраморных колонн высятся словно не догоревшие свечи на застолье гигантов, ночной ливень смыл с раскопанной платформы наслоения желтой глины, и перед взором пораженных археологов предстал белый монолит с кругловатыми алыми вкраплениями - будто огромный пласт овечьего сыра с вдавленными в него каким-то шутником зернами граната.
Начальник группы археологов, наголо стриженный худой мужчина в круглых металлических очках, достав из заднего кармана широких холщовых штанов острый металлический щуп, осторожно потрогал им диковинные ярко-красные образования. Потом, наклонившись к самой поверхности известняковой плиты и позой своей изображая крайнее удивление, он ткнул обратным толстым концом щупа в заполненное красным веществом углубление, из которого выскочила и покатилась по наклонной поверхности белой плиты алая капля, дробясь на неровностях на мелкие шарики, которые и упали куда-то под подошвы сандалий. Археолог еще ближе поднес свои вооруженные очками глаза к горящим красными отражениями солнца лункам.
- Это ртуть! - наконец громко вымолвил он, и молча следящие за его манипуляциями сотрудники тоже вооружившись, кто щупом, кто спичкой, стали ковыряться в заполненных странной алой жидкостью углублениях.
Потом принесли из палаток стеклянные склянки и с трудом собрали в них подвижные, весело избегающие пленения красные шарики. Поддели в стороне слой глины, и кто-то как бы невзначай стукнул по белому уголку - скрытые в толще известняка каверны тоже оказались заполнены красной ртутью.
Всеобщему удивлению не было предела. После того, как на обнажившихся поверхностях не осталось красных капелек, начальник экспедиции приказал всем отнести бутылочки с ртутью в палатки и приступить к обычной плановой работе.
Утром следующего дня первым пришел на раскопки он сам, но на очищенных им от наслоений свежих блоках известняка не увидел ни единой красной крупинки. Не появилась она, эта необычная ртуть, и в последующие дни. Теперь ничто не мешало археологам заниматься своими непосредственными делами.
Только ближе к концу полевых работ археологи были опять взбудоражены: все до одной плотно заткнутые пробками стеклянные бутылочки, в которые они так тщательно собирали красные шарики, оказались пустыми. Это огорчило, но не особенно удивило, ибо известно, что ртуть летуча, а тут еще жаркое крымское лето, да и корковые пробки, которыми были заткнуты склянки, не надежны. И заботы о том, что по возвращении ртуть эту надо будет сдать куда-то, а куда – неизвестно, оказались излишними.
Конечно, в дневнике экспедиции факт обнаружения красного вещества был отмечен, однако ученый совет Экспедиционного отдела не счел необходимым немедленно оповещать об этом какую-нибудь иную службу. Довольный этим решением начальник херсонесской команды, все такой же худой, но отрастивший ежик рыжих волос, уже не слушал следующих докладчиков, а смотрел в окно на серые тучи над серой Невой, вспоминая лазурное море, бирюзовое небо и огромный кусок овечьего сыра с вдавленными в него зернами граната, полыхающими алым пламенем в лучах горячего южного солнца…
Срочное сообщение об обнаружении ранее неизвестной тяжелой жидкой субстанции красного цвета пришло в Москву из другого региона огромной страны.
Глава 2
Кусты арчи, которыми были обсажены все подходы к скромному двухэтажному зданию управления госбезопасности, в это августовское утро были окружены невидимым облаком терпкого и освежающего можжевелового запаха. Вскоре жаркий день раскочегарится, пока еще голубое небо потеряет последние оттенки лазури и станет желтовато-белесым. В знойном воздухе хвойно-смолистые ароматы арчи потеряют свою свежесть, иссохнут, в них появится привкус горящей солярки, и проходящий по вымощенной плиткой дорожке гость или службист будет спешить покинуть двор, который по одну сторону граничит со свободной территорией, а по другую продолжается неизвестно до каких пределов, потому что все скрыто за такими же двухэтажными постройками, огражденными колючей проволокой. В прежние времена, без малого двадцать лет назад, когда Камилл впервые был у этого места, «колючка» окружала весь этот квартал, и люди предпочитали не ходить по тротуару, проходящему вдоль ограды, обнесенной кроме видимых шипов еще и невидимым барьером страха. Тогда, как хорошо помнил Камилл, за колючей проволокой, не сразу заметной среди плотно растущих вечнозеленых кустов, на расстоянии нескольких метров друг от друга стояли молчаливые стражники с карабинами на плечах. Мальчик беспокойно прогуливался по безлюдному тротуару в ожидании отца, порой останавливался возле стражников, чьи головы в зеленых фуражках с лаковыми козырьками, виднелись над редеющими к верхушкам кустами, и тогда раздавалось негромкое: «Проходите! Здесь стоять не разрешено!». Отца в тот раз пропустили через калитку из железных прутьев, после того, как он предъявил повестку стоявшему в будке часовому. Он поцеловал сына и напомнил, как действовать, если его до вечера не выпустят. И ушел. Но спустя два часа вышел. Вышел, чтобы через несколько недель быть завезенным в этот же двор на машине, но уже через ворота, находящиеся где-то на другой улице…
Сегодня заведующий лабораторией московского академического института Камилл Афуз-заде вместе с заместителем начальника урановой экспедиции Войцеховской, немолодой и, по всей видимости, не очень здоровой женщиной, прошли на территорию, предъявив свои паспорта в окошечко сложенной из красного кирпича проходной, сменившей бывшую железную калитку. Прошествовав по аллейке, тоже обсаженной арчой, они вошли в дверь, за которой их встретил голубоглазый старший лейтенант, который, откозыряв посетителям, повел их по длинному коридору. Камилл не мог не думать в эти секунды о том, что когда-то отец его тоже шел по этому коридору, не зная, что его ждет за одной из дверей. Камилл же знал, о чем будет разговор в кабинете, где их уже поджидали гебисты. Именно по представлению хозяина того кабинета, в который их привел старлей, поступил через здание на Лубянке запрос в Академию Наук, который был переправлен с пометкой «срочно» в институт, где работал Камилл.
Энергичный седой мужчина лет пятидесяти с погонами полковника встал из-за стола навстречу вошедшим. Он пожал руки гостям и пригласил их сесть. Другой находящийся в комнате мужчина, спортивного вида брюнет лет сорока в рубашке с короткими рукавами, поднявшись из стоявшего в стороне кресла, только поклонился с вежливой улыбкой.
- Итак, товарищи, - сразу приступил к делу хозяин кабинета, - вы уже знаете, что заставило нас прибегнуть к помощи специалистов Академии Наук.
Произнеся эти слова, он остановил свой взгляд на Камилле. Тот счел целесообразным улыбнуться и согласно кивнуть говорившему. Перенеся свой взгляд на женщину, и не задержав его на ней, седовласый продолжал:
- По сути дела, мне нечего добавить к тому, что написано в документе, который был вам направлен. Напротив, я хотел бы сейчас узнать от вас, имеете ли вы уже какие-либо соображения по поводу прочитанного? Признаюсь, наши внутренние специалисты совершенно обескуражены тем, с чем пришлось столкнуться. Я бы даже сказал, что чем более осведомлен специалист в физических и химических науках, тем более он растерян перед открывшимися фактами.
Женщина пожала плечами, обратив взгляд на своего спутника. Впрочем, они уже обсуждали все те куцые сведения, которые были изложены в «совершенно секретном» документе, вышедшем неделю назад из этого кабинета, и согласились в том, что здесь они встретились с ранее неизвестным, необычным явлением. «Или же, говорил Камилл, эти ученые в погонах что-то сильно напутали».
Внимание присутствующих переключилось сейчас на Камилла, представлявшего здесь столичную науку. Он улыбнулся и не преминул сделать насмешливое замечание:
- Как же это холодные чекистские головы так сразу и растерялись? Явление нужно поначалу изучить, а ведь все основано только на рассказах работников рудника. Что же ваши специалисты не выехали на место?
Хозяин кабинета переглянулся с тем, который сидел в кресле. Непосредственно перед приходом ученых гостей полковник из Ташкента читал полковнику, хозяину кабинета, досье на Елену Александровну Войцеховскую, заместителя начальника Красногорской экспедиции, базирующейся в Ташкенте, но всецело находящейся в юрисдикции высокой московской инстанции, а также досье на присланного Москвой старшего научного сотрудника Афуз-заде Камилла. Товарищ Войцеховская была в целом благонадежным работником, хотя в ее досье имелось немало доносов, в которых она уличалась в критицизме по отношению к местным и высшим властям и даже к советскому строю в целом. Но это было обычным делом – только не годные к позитивной деятельности кретины, завсегдатаи митинговых трибун, не имели сих грехов. Что же касается гражданина Афуз-заде, то, едва получив сообщение о командировании в распоряжение ташкентских органов этого человека, органы срочно ответили телеграммой, в которой сообщались на Лубянку дополнительные сведения относительно него. Этот крымский татарин, член семьи того самого профессора Афуз-заде, и сам на протяжении ряда лет занимался в Узбекистане «антисоветской деятельностью». «Связи К. Афуз-заде с иностранцами не были замечены» - такая констатация успокоила товарищей на Лубянке, которые уже получили из Академии Наук сведения, что означенный старший научный сотрудник единственный специалист, который знает об аллотропических вариациях элементов больше, чем рассказывается в учебниках и в научных статьях. Так что, придется довериться. Но из виду не выпускать и прослеживать все контакты!
И вот опасения ташкентского полковника, очень болезненно относящегося к шуткам по отношению к своей организации, воплощались. Ишь, как он не любит органы госбезопасности! Какие шпильки позволяет себе отпускать! Типичный крымский татарин! Вытурить бы его из священного здания, или, еще лучше, провести бы теми путями, какими проводили почти двадцать лет тому назад его папашу.… Но, оказывается, это уникальный специалист, замены ему нет…. Что ж, послушаем, что еще он скажет.
И хозяин кабинета вежливо ответил этому самоуверенному молодому человеку, который с милой улыбкой оглядывал чекистов и, казалось, читал их мысли:
- Мы ждали вас, высококвалифицированных специалистов. Вы немедленно выедете на место, любая необходимая помощь людьми и оборудованием вам будет обеспечена.
Мужчина в штатском добавил со своего кресла:
- Если вы имеете какие-нибудь соображения, то прошу вас кратко о них рассказать.
Камилл посерьезнел и кратко ответил:
- До сих пор не было обнаружено никаких аллотропических соединений ртути. Теория также не позволяет считать, что такие видоизменения этого металла могут существовать. Но в теорию можно внести поправки, если факты будут подтверждены. Срочно надо выезжать на место. Необходимые на первых порах приборы у меня с собой. То, что требуется от вас, я перечислил в этом списке.
И Камилл положил на стол лист исписанной от руки бумаги.
Полковник пробежал глазами список:
- На мой взгляд, все это мы можем вам предоставить. Я передам ваш список моему помощнику.
Он нажал невидимую кнопку, бесшумно вошел офицер, который без слов взял из рук своего начальника бумагу и немедленно покинул кабинет.
- Когда вы готовы вылететь в Хайдаркан? – спросил полковник, уже более доброжелательно глядя на молодого ученого.
- Надо вылетать немедленно, - ответил Камилл, - но вот Елена Александровна не может лететь, ее надо будет доставить на место в автомобиле.
Полковник вопросительно взглянул на Елену Александровну.
- Сожалею, товарищи, но это действительно так, - она не стала распространяться на эту тему, тем более что-то объяснять или извиняться, и это понравилось хозяину кабинета.
- Что ж, - он бросил взгляд на сидящего в кресле коллегу. – Вертолет готов и можете вылетать. Советую, однако, пообедать в узбекской чайхане.
Он лукаво взглянул на Камилла и спросил:
- Вы, молодой человек, знакомы с узбекской кухней?
Камилл громко рассмеялся, и чекисты не могли сдержать улыбок. Действительно, можно ли предположить, что прежде, чем принять московского гостя офицеры госбезопасности не изучили тщательно досье приглашенных. Только Елена Александровна, которая тоже все поняла, не смолчала, а недовольно произнесла:
- Товарищ Афуз-заде много лет жил в Ташкенте, и это вам известно.
«И эта нас не любит», равнодушно подумал чуткий хозяин кабинета.
- Через два часа, - он взглянул на настенные часы, - ровно в двенадцать, подъезжайте сюда же.
Он обернулся к Камиллу:
- Вас отвезут на аэродром, в помощь вам я назначил лейтенанта Федорова Сергея Николаевича. На месте вам могут представить по вашему требованию еще и других помощников.
Камилл согласно кивнул:
- Все ясно. Буду ровно в двенадцать.
Полковник обратился к женщине:
- Елена Александровна, вы тоже будьте здесь в двенадцать дня, вас будет ждать «уазик». Довезем вас в Хайдаркан со всеми удобствами. Багаж есть?
- Да, конечно, - ответила Войцеховская. – У меня два ящика, у московского гостя ящик с аппаратурой. Все в камере хранения на вокзале.
- Тогда так, - быстро сориентировался полковник. – К двенадцати часам будьте на вокзале. Наш человек найдет вас и привезет сюда. Здесь получите все необходимые документы. Вопросы будут?
Елена Александровна промолчала, Камилл же ответил за двоих:
- Вопросов нет, все ясно.
- Ну, до встречи! Познакомьтесь с узбекскими блюдами! – он улыбнулся и протянул две бумажки - разрешения на выход.
Гости шли по коридору. У выхода голубоглазый старлей взял у них пропуска и опять сверил их физиономии с фотографиями в паспортах. Пока он проделывал эту стандартную процедуру, Камилл пригляделся к нему. «Очень похож на Иванова, тот тоже был старшим лейтенантом», подумал он.
Камилл и Елена Александровна утренним поездом прибыли в Андижан из Ташкента, куда Камилл срочно был командирован из Москвы приказом по Академии Наук. На сборы ему был дан один лишь день. Камилл собрался по спортивному быстро. Возможность побывать в городе своей юности обрадовала его. В аэропорту Ташкента его встретила машина из Красногорской экспедиции и привезла его вместе с его аппаратурой на находящуюся в центре города и еще по прежним временам хорошо известную ему базу этого, якобы, сугубо засекреченного учреждения. После встречи и короткого обмена информацией с заместителем начальника экспедиции Войцеховской, вместе с которой он должен был выехать на место проведения чрезвычайного обследования, Камилл поспешил на улицы города своей студенческой юности.
Он шел по проспекту Навои, отмечая по пути места, с которыми были связаны невинные и всякие другие шалости студенческих времен. Вон в том доме проживала славная девушка Нина, а вот переулок, где еще и сейчас, наверное, живет его бывший знакомый, сын влиятельных родителей, подаривших своему дитяти многокомнатный дом, который немедленно был обращен в скромный вертеп юношеских развлечений для избранных. Хорошие были времена!
Камилл остановился на мосту через реку Анхор. Там внизу располагался большой тенистый парк, который когда-то в его компании назывался «Парком Столетия Парижской Коммуны». Интересно, что ни одна из множества девушек, которых друзья водили в этот парк, не усомнилась в достоверности такой юбилейной даты. Впрочем, неизвестно, кто при этом больше плутовал, - притворщицы-девицы или наивные парни? В парке-то в ночные часы можно было заниматься обоюдосладкими упражнениями!
Камилл ностальгически вздохнул, Что ж, блажен, кто вовремя созрел. Но почему-то захотелось вернуться в пору зеленой юности. Кстати, и сегодня еще название Парка не дотягивало до юбилейной даты. Когда она была, эта коммуна? В 1871-ом? Значит, через четыре года вполне корректным будет дать этому парку придуманное студентами наименование.
Он шел дальше и с удовольствием ловил взгляды встречных девушек. «Осторожнее, приятель, среди этих юных красавиц могут оказаться твои незаконнорожденные дочери!», шутливо предупредил он сам себя. Впрочем, действительно, с полной уверенностью исключать такую возможность он бы не стал…
На поздние свидания спешили, Чтоб юных тел томленье утолить, Дочурки дев, которых мы любили, Иль, может быть, хотели полюбить.Вот и площадь с фонтаном перед великолепным зданием Театра Оперы. Камилл оглянулся на трехэтажную гостиницу, мимо которой ему надо было пройти к фонтану, и опять грустно сжалось сердце. Здесь, в конторе «Интуриста», работала переводчицей его большая любовь… Теперь она в Израиле…
Посидев на обдаваемом брызгами фонтанных струй граните и полюбовавшись зданием Театра, Камилл прошелся по площади и заметил окруженного зеваками художника, сидящего на складном табурете перед полотном, прислоненным к водруженной на гранитный парапет тяжелой каменной мусорной урне. Холст был большой, метр на полтора, наверное. Художник писал картину не торопясь, тщательно ставя мазок к мазку. Мазки были маленькие, не больше зернышка риса. Узбекский парнишка лет четырнадцати сидел за спиной художника на гранитной балюстраде, ревниво не подпуская к художнику сильно любопытствующих и обругивая особенно рьяных критиков, которым явно не нравилась манера письма неизвестно откуда появившегося живописца.
Живописец появился здесь недели две тому назад. Сперва его нынешний опекун был среди критиканствующих «знатоков» – то, что проявлялось на полотне, никак не походило на привычные парадные изображения прелестей хлебного города Ташкента. Поэтому насмотревшийся на фотографически точные картины городов и весей, развешиваемые в различных учреждениях, на плакатные изображения счастливой жизни советского народа в кинотеатрах и других общественных местах, мальчишка был насмешлив, почти издевался. Потом, когда из красочных мазков «а ля Сёра» стал вырисовываться действительно очень профессионально написанный знойный куб огромного здания, в юном городском шалопае стал просыпаться художественный вкус, и теперь он заворожено следил за развитием событий на холсте.
Картина писалась медленно. На холсте из скупых тонких мазков (художник экономил краску) появлялся одетый в марево жаркого августовского дня Театр. Сам художник был в мятых полотняных штанах, в старой "ковбойке", - так почему-то называлась рубашка из "шотландки". Он был не разговорчив, особенно немногословен он был с благополучного вида зеваками, из-за его плеча глядевшими на создаваемую картину и бросающими реплики, свидетельствующие об их весьма поверхностном знакомстве с живописью, и то только по полотнам Шишкина или Герасимова. Но с богемного вида зрителями художник иногда обменивался парой фраз. С мальчишкой же, с тем самым, художник подружился, точнее - узбечонок уже души не чаял и в создаваемом шедевре, и в его авторе. Он отгонял "знатоков", близко подлезших под руку и позволяющих себе критиковать манеру художника угрозами:
- Кет, джаляб, йокал!
Самоотверженность, с которой узбечонок целые дни проводил рядом со своим кумиром, и его готовность быть ему полезным, была достойна удивления.
- Принесите мне лимонаду и булку, у меня нет денег, - безадресно бросал художник. Мальчишка бежал в гастроном и приносил. Иногда деньги ему давал кто-нибудь из стоявших рядом людей, но чаще он тратил свои, неизвестно как добытые.
Он ревниво отнесся и к Камиллу, который долго молча стоял за спиной художника. Камилл, поднаторелый на все чаще появляющихся в столице выставках, обменялся с невесть где получившим образование живописцем несколькими репликами, за что был награжден одобрительным взглядом мастера. Это не осталось незамеченным парнишкой. Когда художник, не оборачиваясь, бросил назад коротко - "Кушать хочу!", Камилл протянул мальчишке три рубля и тот побежал в магазин. Вернувшийся с белым батоном, с куском колбасы и с бутылкой "крем-соды" парнишка поведал Камиллу то, что знал:
- Он из лагеря недавно освободился, живет на Алайском базаре, в сарае. Он говорит, что за картину 500 рублей дадут.
В те годы, когда буханка хлеба стоила шестнадцать копеек, а хорошие мужские туфли можно было купить за двадцать рублей, названная сумма была весьма немалой. Даже билет на самолет из Ташкента в Москву в то время стоил двадцать восемь рублей!
Солнце явно клонилось к вечеру. Камилл почувствовал голод. Старый друг Виктор уже, должно быть, вернулся с работы, надо ему позвонить, он, предупрежденный еще звонком из Москвы, наверное, давно ждет Камилла. Достав из портмоне монету и бросив последний взгляд на художника и на его картину, Камилл пошел к телефонной будке.
- Ты где пропадаешь! – возмущался Виктор. – Я сегодня с полудня дома, жду тебя! И Нона уже давно пришла с базара!
- Виктор, ты уж извини. Я пройдусь еще немного пешком, ты ж понимаешь… Буду у вас максимум часа через два. Привет Ноне!
Несмотря на ожидающее его у друга застолье, сейчас надо было перекусить. В ресторан заходить глупо. Где тут нынче шашлыки?
Камилл принюхался и определил направление, по которому следовало идти. По хорошо знакомому переулку он вышел к углу улицы Карла Маркса, где рядом с павильоном «Мороженое» сейчас жарили шашлыки и готовили замечательный лагман. Съев под кружку довольно прохладного разливного пива несколько палочек шашлыка, довольный и благостный москвич пошел по направлению к скверу, где стояли здания Университета – его alma mater. Вдоль дороги еще можно было видеть следы происшедшего здесь год назад землетрясения – обнесенные деревянной оградой полуразрушенные здания кинотеатра и универмага. От вида этих свидетельств бедствия градус радостной встречи с городом юности слегка снизился. Камилл перешел на другую, не разрушенную сторону улицы и отдался предвечернему очарованию южного города.
Приятно было идти налегке, в полураспахнутой рубашке по «плешке», с которой связано столько воспоминаний. Но эти воспоминания то и дело прерывались, потому что идущие навстречу девушки одаривали его, уверенного в себе молодого мужчину, кокетливыми улыбками, отвлекающими его от давнишнего и приобщающими к текущему. Камилл вспомнил, как впервые, еще в студенческие годы, приехав в Москву, он был очень удивлен равнодушными, проносившимися мимо взглядами шествующих навстречу московских красавиц. А ведь он был видным и вполне нормально упакованным юношей. Только потом, поразмыслив, понаблюдав и сверившись наблюдениями с московскими сверстниками, Камилл понял, что скользящие мимо взгляды северных красавиц есть следствие именно северного климата. И как теперь было приятно бывшему ташкентскому студиозу оказаться в желанной атмосфере взаимного, пусть и мимолетного, внимания и доброты. Не так уж он, видно стар, если юные незнакомые девушки ласково ему улыбаются, что, впрочем, ни в коей мере не свидетельствует об их легкой доступности. Для здешних прелестниц такая реакция на встречных молодых мужчин была элементом их самолюбования, – ты видишь, как я хороша в своем открытом легком платьице, я нравлюсь тебе, я рада, что доставляю тебе удовольствие видеть меня, - и ничего более! Это, если вообще говоря. Однако в частности могло произойти что угодно, и сие уже зависело от способностей мужчины…
Пройдя через сквер, где в цветочном павильоне он выбрал букет покрасивее для Ноны, Камилл сел в троллейбус, который минут за пятнадцать привез его к дому старого товарища студенческих лет. Встреча была трогательной. Нона, жена Виктора, родившая ему двух замечательных мальчишек, расплакалась - не виделись уж более пяти лет.
Пили в тот вечер только домашнее вино, мастерски изготовляемое с давних пор самим Виктором. Поэтому утром похмелья не ощущалось. Позавтракав за дружеским столом, Камилл отправился в Красногорскую экспедицию, откуда вместе с Войцеховской выехал поездом в Андижан.
После беседы с ответственным за подготовленную операцию андижанским полковником Камилл и Елена Александровна хорошо перекусили в чайхане-шашлычной, посидели в парке, пока не приспело время назначенной встречи. Зеленого цвета УАЗ подъехал к ним, когда они стояли, оглядываясь, на ступеньках здания вокзала. Два солдата быстро получили их багаж в камере хранения, погрузили в машину, и вот они уже вновь оказались у прикрытого посадками арчи здания. Тот же старлей проверил их пропуска, проводил в тот же кабинет, где улыбающийся полковник вручил им необходимые для прохождения на территорию закрытого рудника документы, а также предписание всем работникам спецслужб выполнять любое требование членов маленькой команды, должной проводить расследование чрезвычайного происшествия. Войцеховская пересела в другой УАЗ, специально переоборудованный для дальних поездок, а Камилла, вместе с поступившим в его распоряжение лейтенантом Федоровым, та же машина отвезла на спецаэродром, где их ждал вертолет Ми-8, уже под парами.
- Погодите, - сказал лейтенант Федоров встречавшему их возле вертолета офицеру, - давайте я смотаюсь за парой арбузов. В Хайдаркане я бывал, там с этим делом плоховато, - и вопросительно взглянул на Камилла.
«Кажется парень подходящий», подумал Камилл и рассмеялся:
- Чего же два, надо уж, по крайней мере, пяток, ведь не на один день летим….
… Вертолет сделал круг над городом и взял курс к горам на юго-восток. Горы были со всех сторон - Ферганская долина располагается между двумя ветвями хребтов Тянь-Шаня. Почти все эти горы Камилл исходил в свое время с рюкзаком за спиной, летел же над ними так низко впервые. Превосходно были видны глубокие сырые ущелья, освещенные солнечным светом откосы, поляны, на которых паслись овцы, овринги – узкие тропки с мостками на крутых склонах. Можно было заглядывать в скальные теснины, в которые не ступала человеческая нога, зияли трещины в ледниках, скрывающие, быть может, не одну своюжертву. Порой вертолет летел так близко от горной стены, что можно было увидеть головки тюльпанов, сохранившиеся к концу лета только на этих скалах, куда весна приходит в июле.
Перевалили через хребет и у подножия его увидели большой поселок. Вскоре винтокрылая машина приземлилась на посадочной площадке, на причастность которой к славному семейству аэродромов намекал только водруженный на шест возле белого домика большой полосатый сачок для ловли бабочек – флюгер.
Прилетевших встречали люди в форме пограничников, предупредительные, ибо предупрежденные о высоких полномочиях гостей.
- Откуда здесь пограничники? - спросил Камилл у Федорова, с которым за время полета они перешли на «ты». – Разве здесь рядом граница?
- У нас везде граница, - серьезно ответил чекист Федоров.
- Как это, как это? – растерялся Камилл, но потом улыбнулся: - Вся страна как погранзастава, что ли?
Лейтенант, не заметив сарказма или же проигнорировав его, так же серьезно ответил:
- Да, органы безопасности везде и всегда в дозоре.
Между тем багаж был перенесен в машину, и к Федорову подошел старшина:
- Где будете жить, у нас на заставе или отвезти вас в гостиницу? – спросил он.
Федоров обернулся к Камиллу:
- Что скажешь?
- А откуда ближе к руднику? – ответил тот. – Тебе видней, решай сам.
- На рудник нас машина возить будет, так что не важно, откуда ближе. Но в гостинице мы будем сами по себе, ни побудки, ни отбоя. Так что…
- Значит, едем в гостиницу, - заключил Камилл.
С личными вещи и арбузами командированные остались в фойе гостиницы, дирекция которой была уже уведомлена о приезде высоких гостей. Сегодня рабочий день уже был на исходе, а назавтра машина и два солдата поступали на все время в распоряжение Камилла.
Камилл и Сергей были поселены в единственном на всю гостиницу двухкомнатном «люксе», который отличался от других номеров только тем, что при нем были туалет и душ. Конечно, в первую очередь ребята приняли душ, потом надо было прошвырнуться по поселку, чего-нибудь перекусить. Камилл, увидев, что Сергей опять облачается в офицерскую форму, предложил ему свои запасные джинсы и рубашку.
- Жарко ведь в форме, как ты выдерживаешь?
- Конечно, жарко, - засмеялся Сергей, - да ведь мы привычные. Я взял с собой гражданскую одежду, но здесь можно нарваться на хамство или еще что похуже, а к офицерам особое отношение. На рудниках тут все больше бывшие заключенные работают, и по набору идут в основном всякие деклассированные элементы. Кто полезет под землю, где даже не уголь, а ртуть добывают?
- Заработки, наверное, здесь хорошие, нет?
- Вот за большими деньгами сюда всякая шантрапа и едет. Это люди, ничего не умеющие делать, приезжают по рабочему набору на неквалифицированную работу. Месячный заработок на рудниках здесь раза в три больше, чем жалованье у полковника в городе. А с моей зарплатой и сравнивать нечего.
…Ребята нашли на пыльной улице шашлычную, отказались от подозрительно мутного пива и, завернув в газету приличные свежие лепешки со снятыми с шампуров кусочками баранины, вернулись в свой «люкс», где под струями воды в душе их поджидал большой полосатый арбуз.
Наутро приехала усталая и сонная Елена Александровна, одновременно прибыл и второй УАЗ с аппаратурой и прочими вещами.
Другого номера с душем и туалетом в гостинице не было, чем все были очень огорчены.
- Что ж делать, - примирительно сказала Войцеховская. - Только, мальчики, душ я буду принимать в вашем номере.
Оставив женщину отдыхать и отдав ей ключ от «люкса», ребята отправились на ознакомление с местом, где произошло че-пе.
На рудниках Хайдаркана добывалась чрезвычайно ценная руда – киноварь. Почему-то территориально принадлежащий Киргизии поселок Хайдаркан находился по линии госбезопасности в юрисдикции андижанского Управления.
- Я бы понял, если бы Хайдаркан контролировал Ташкент, - Камилл обратился с этим вопросом к своему лейтенанту. – Но почему именно областное управление МГБ Узбекистана организует экспедицию специалистов на рудник, находящийся в соседней республике – это мне не понятно.
- Да и я не знаю, почему это так, - признался Сергей. – Может быть, дело в том, что когда-то в начале века Хайдаркан находился в Кокандском ханстве, а Коканд сейчас входит в Андижанскую область.
- Похоже, что именно в этом дело, - произнес, поразмыслив, Камилл. – Больше никаких связей я не вижу. Впрочем, это никак не относится к нашему заданию, - резонно заключил он.
Во время первого, рекогносцировочного, посещения рудника Камилл в присутствии Федорова выслушал все, что знал директор шахты по поводу вдруг объявившейся в штреках ртути красного цвета.
- Она возникает неожиданно, пятна ее располагаются по нижней плоскости штрека, иногда капают сверху. Один рабочий рассказал, что как раз, когда он снял шлем и вытирал с лица пот, ему на голову капнула эта тяжелая красная жидкость. Он пришел ко мне после тщательной помывки в душевой, но я все равно отправил его в медицинскую часть. Сейчас он там, под наблюдением врачей. Хотите повидаться с ним?
Камилл подумал, и ответил, что да, желательно бы. Его не столько интересовало состояние здоровья этого рабочего, которое вряд ли заметно пошатнулось, сколь ценно было свидетельство человека, непосредственно видевшего красный жидкий металл.
Небольшая больница при руднике произвела на московского гостя вполне благоприятное впечатление. Вынужденный по приказанию начальства находиться под присмотром врачей рабочий, когда к нему явились с допросом, играл в шашки с соседом по четырехместной чистой и светлой палате. Он охотно рассказывал о том, как однажды среди обломков отбитой породы вдруг стали просачиваться капли красной жидкости, соединившиеся в небольшие лужицы.
- А назавтра такие же лужицы я с товарищами увидел и в отработанном штреке, где уже несколько месяцев отбойных работ не проводилось.
- Ты расскажи, как на тебя упала эта ртуть сверху, - велел директор, стоявший у изголовья рабочего, которого дежурный врач почему-то заставил лечь на кровать.
- Ну да, - с готовностью подхватил рабочий, - в нашем забое красные капли стали просачиваться и со стен, и сверху…
Камилл хотел спросить, а не является ли эта, якобы, красная ртуть кругловатыми камешками киновари, которая, как известно, имеет ярко-красную окраску, но быстро осознал, что этим вопросом он обидит мужчину.
- Почему вы думаете, что это ртуть, а не какая-то другая жидкость? – несколько иначе сформулировал он свое сомнение.
- Да что мы ртуть, что ли, распознать не можем? – воскликнул рудокоп. – Она выпукло лежит среди камней, вроде бы как неподвижная, но настороженная какая-то. Чувствуется, какая она тяжелая. Если ее колыхнуть, то так, как утекает ртуть, ни одна другая жидкость не утекает. У нас глаз наметан! А уж как эта капля меня по макушке долбанула! Это вам не капля воды!
Два дня ходили Афуз-заде и Федоров в сопровождении работника рудника по штрекам, на третий день с ними ходил выписанный из больницы долбанутый по черепку тяжелой каплей мужик, потом еще и освобожденные от смены двое других, видевших красную жидкость и доложивших о ней начальству в письменном виде. И нигде не было даже следов этой противоестественной жидкости красного цвета. Вечером в пятницу по указанию начальника местного КГБ все трое рабочих, сообщивших о появлении красной ртути, были задержаны и препровождены в камеру при том же КГБ.
Так была ли она, эта ртуть, вообще? И как это – многие века нигде по земле такую не видели и вдруг объявилась? С чего бы это?
Известный своей проницательностью и обширными знаниями мэтр Франсуа Рабле утверждал, что «в железном веке среди людей расплодилось зло, и тогда земля начала родить крапиву, чертополох, терновник и прочее тому подобное». Так растительный мир бунтовал когда-то против человеческого бесчинства - бунтовал против зла, бунтовал из-за попрания справедливости, во имя добра.
И очень даже может быть, что странная, цвета крови тяжелая жидкость тоже есть порождение земных стихий, их ответ на расплодившееся зло.
Ведь времена сейчас очень нехорошие, пострашнее тех, о которых говорил Рабле.
В субботу трое командированных обсуждали создавшееся положение, решали, сообщать ли им уже своим начальникам о неудаче с поисками необычного вещества или погодить. Окончательного решения так и не приняли.
В воскресенье работа на шахте велась в сокращенном режиме, и накануне Камилл договорился, что он еще раз пройдет по некоторым штрекам. Служебная машина подвезла его к шахте, а лейтенант Федоров поехал на заставу, чтобы по спецсвязи поговорить со своим руководством – у них с этим делом строго.
Полчаса прождав напрасно рабочего, который должен был его сопровождать, Камилл решил спуститься вниз сам. Он переоделся в робу, напялил на голову каску с фонарем, дежурный лифтер вызвал клеть и опустил столичного гостя в недра горы, посоветовав идти только по магистральным выработкам, не заходя в боковые коридоры.
Пройдя через большую подземную залу, тускло освещенную протянутой поверху гирляндой электрических лампочек, Камилл пошел дальше, по направлению к тому ныне отработанному забою, где по свидетельству шахтеров появилась однажды красная ртуть. Надо было пройти около трехсот шагов, и Камилл не мог не думать, что он находится один внутри огромной горы, отделенный от дневного света и сверху и с боков двумястами метров скальных пород.
Он шел не торопясь, решаясь даже недалеко заходить в отходящие в стороны узкие и низкие ответвления - нигде не было того, что он искал. Так он дошел до конца главного штрека и остановился, осмысливая дальнейший план операции: возвращаться ли в Москву с докладом о ложной тревоге или поверить шахтерам, утверждавшим, что видели эту ртуть, и добиться продления командировки до положительного исхода поисков.
Вдруг в замкнутой подземной полости, где стоял Камилл, возник гул, постепенно перешедший в легкий звон, который проник во все частички тела человека, оказавшегося будто бы внутри огромного звучащего колокола. Камилл инстинктивно зажал уши ладонями, но это нисколько не помогло. Перед его крепко зажмуренными глазами появились искорки, медленно, будто снежинки, разлетающиеся в стороны, по телу побежали вызывающие зуд волны. Менее чем через минуту все смолкло. Камилл медленно отнял от головы руки и открыл глаза. И не сразу до его сознания дошло, что перед ним среди обломков породы, отражая свет яркой лампы, закрепленной на его шахтерской каске, алеют пятна, которых не было здесь до возникновения загадочных звуковых эффектов.
Первым побуждением Камилла было коснуться этих алых образований. Он наклонился и протянул, было, пальцы к отбрасывающей красные отблески большой округлой капле, но вдруг ему показалось, что капля сама испускает свет. Он отпрянул и удивленно огляделся. Действительно, оказавшиеся в тени его «шахтерского света» красные пятна весьма интенсивно светились. Все вроде бы было как прежде, - и затхлый воздух непроветриваемого штрека, и вновь все объявшая абсолютная тишина, - но недобро горели ровным светом кровавые пятна.
- Ну, хорошо, пусть красная, - вслух произнес потрясенный Камилл. – Но почему она светится?
В этот момент как дополнение к цепочке странных событий погасла лампочка на каске, и он оказался в полной темноте. Красные, размером с чайное блюдце, маленькие лужицы виднелись там и тут. Они не освещали пространство штрека, а только усугубляли ощущение инфернальности, подчеркивая таинственность ситуации.
И от этих виднеющихся на полу штрека и алеющих даже кое-где на стенах красных сгущений мрак казался еще более плотным, осязаемым, конкретным - ведь темнота, в которой ничего не видно, абстрактна, она как бы и не существует.
Но Камилл уже овладел собой. Он, как его давеча инструктировал вручивший каску с лампой шахтер, «пошурудил» на прикрепленных к поясу аккумуляторах, и лампа естественным образом зажглась: вот она причина многих необъяснимых явлений - несовершенство техники. Потом Камилл снял с плеч рюкзак и достал из него стакан из толстого стекла с завинчивающейся металлической крышкой. Набрать ртуть в сосуд оказалось нелегкой задачей, Камиллу пришлось просто двумя ладонями черпать тяжелую жидкость из лужиц.
Обратный путь внутри горы наш исследователь неизведанного преодолел будто бы на крыльях, душа пела от счастья – еще бы! Добравшись до лифта, он нажал большую желтую кнопку, и сверху шумно опустилась большая клеть с дежурным лифтером.
- Ну, как? – спросил лифтер, как и многие осведомленный о чрезвычайном событии на шахте.
В ответ Камилл с широкой улыбкой на лице молча протянул рабочему наполненный ртутью сосуд, который он, оказывается, так и нес в руках…
Территория шахтоуправления была сегодня малолюдна. Камилл вышел за ворота и обрадовался, увидев старую «Победу» и курящего возле нее мужчину с перевешивающимся через затянутый ремень брюк животом.
- Срочно! Гони в погранотряд! – подбежал к нему Камилл.
- Э-э-э…, - затянул мужчина, явно не имея намерения сдвигаться с места.
Камилл впихнул ему в руку две ассигнации.
- Так бы и сказал! – мужчина затоптал папиросу и распахнул дверцу автомобиля:
- Садись! – и сам проворно плюхнулся на кресло водителя. Только пыль заклубилась над мелкой щебенкой …
У ворот с часовым Камилл выпрыгнул из машины, крикнув водителю, что ждать не надо. Часовой посмотрел на предъявленный пропуск и нажал кнопку, после чего другой часовой за решетчатым забором открыл дверь в проходной.
Когда Камилл почти что вбежал в комнату связистов, хмурый лейтенант Федоров взглянул на него без явных эмоций. Он сидел в ожидании указаний от своего областного начальства, которое сейчас, наверное, связывалось с более высокими инстанциями, чтобы решить, как действовать дальше.
- Вот! – не находя других слов запыхавшийся Камилл поставил перед Сергеем тяжелый стакан. Сквозь толстое стекло явственно краснело содержимое, но Сергей недоверчиво посмотрел на Камилла и начал осторожно откручивать крышку. Улыбающийся Камилл смотрел на товарища с видом победителя, будто бы он и сотворил эту, будь она неладна, красную ртуть. Сергей снял крышку, взглянул на тяжело подрагивающую кроваво-красную поверхность, затем взял лежащий рядом карандаш и ткнул им в эту чертову жидкую структуру. И вдруг бросился к рации и крикнул оператору, чтобы тот срочно возобновил связь.
- Что там у тебя? – послышался по громкой связи голос полковника.
- Отбой, товарищ полковник! Ртуть передо мной! Камилл, то есть товарищ Афуз-заде доставил. Так точно! Слушаюсь! – и сел расслабленно улыбаясь.
- Звони в местную Че-Ку, пусть освобождают рабочих! – воскликнул Камилл. – Нет, подожди, свяжи меня с директором рудника!
Лейтенант взглянул на Камилла и стал крутить диск телефона. Трубка ответила, и Сергей попросил к телефону директора. Потом обернулся к Камиллу и произнес, прикрыв ладонью микрофон:
- Заместитель…
- Давай заместителя! Как его? Никифоров? - Камилл взял трубку.
- Товарищ Никифоров, срочно поезжайте в управление госбезопасности и заберите всех троих задержанных позавчера рабочих, сами развезите их по домам. Да, чекистам указание уже дали. И еще. Премировать всех троих из спецфонда и объявить благодарность. Все, исполняйте! Я перезвоню через два часа, доложите!
Сергей с удивлением глядел на отдающего распоряжение Камилла и произнес с уважением:
- Ну, ты даешь! – и оба облегченно рассмеялись.
- Они нас считают за большое начальство, - сказал Камилл. - Я думаю, что премию ребятам дадут.
- А мы и есть большое начальство, - заметил Сергей. – Твое предписание кем подписано? Вот! Ответственным работником Совета Министров! И напечатано на бланке с золотым тиснением. Только из-за такого бланка все перед тобой должны стоять навытяжку. Так что все в норме!
Сделав все необходимые телефонные звонки, ученый и чекист, обнявшись за плечи, вышли, довольные, во двор.
- Что сказал полковник? – спросил Камилл.
- Сказал, чтобы действовали по первоначальному плану. А что? Ртуть обнаружена, все подтвердилось. Полный порядок!
- Теперь ее опять нужно обнаружить, чтобы заполнить емкости, - заметил Камилл. – Но в любом случае образец у нас есть.
И он потряс сумку, в которой лежал тяжелый стакан.
Погранотрядовский «газик» отвез их в гостиницу, где они сначала утешили Елену Александровну сообщением об удаче, а потом дали ей полюбоваться этой самой ртутью.
- Противоестественное это вещество, - хмуро произнесла женщина, опытный геолог, с тревогой в душе разглядывая блестящую алую поверхность открытого сосуда.
Камилл мог бы добавить к этому краткому высказыванию свои соображения. Он решил не говорить своим товарищам о предшествовавших появлению ртути загадочных звуковых явлениях, но и как специалист по аллотропическим состояниям он мог бы привести не одно суждение по поводу если и не невозможности, то исключительности создающих окраску этого жидкого металла атомных структур. Однако он смолчал, тем более, что мозг сверлила «ненаучная» мысль, которой он не мог себе позволить поделиться с другим человеком:
« Красной ртути не бывает. Ее кто-то противоестественно сварганил и подсунул нам, людям…».
Легкое дуновение качнуло за открытым окном ветки с пыльной листвой.
На следующий день трое спецкомандированных вместе с директором рудника и его заместителем добрались до того штрека, где давеча Камилл добыл образец красной ртути. Красные лужицы если и не увеличились в размерах, то, во всяком случае, и не уменьшились. Вызванным рабочим было дано задание остаться в штреке и наполнить емкости, которые будут сейчас им доставлены.
Из своего Института Камилл прихватил канистры и коробки из замечательной пластмассы, называемой у нас фторопластом, а заграницей именуемой тефлоном. И сейчас, имея в виду некоторый свой интерес, он вызвался сам привести всю эту посуду в штрек.
- Дайте мне одного рабочего в подмогу, - только попросил он.
Директор и его заместитель отправились по своим делам, Елена Александровна тоже куда-то заторопилась, а лейтенант Федоров поехал на заставу, чтобы по телефону доложить своему начальству о ходе выполнения задания.
По заказу Камилла в мастерских рудника были изготовлены два ящика из двухдюймовых досок длиной в метр и по полметра в ширину и высоту. Один из них подсобные рабочие загрузили пластмассовыми емкостями с обычной и красной ртутью, а также с образцами киновари и окружающих пород, и еще камеры с пробами рудничного воздуха. Пространство между емкостями заложили деревянными брусками и пористой резиной. В другой ящик Камилл уложил личные вещи – чтобы добираться налегке, как вскользь сказал он товарищам по работе. Там же, среди личных вещей и привезенной из Москвы аппаратуры, он поместил завернутую в рюкзак другую небольшую канистру с красной ртутью, которую он не собирался никому предъявлять.
Один литр ртути весил почти пуд. Плотность киновари была не намного меньше, поэтому первый ящик весил около двухсот килограмм, и его четверо рабочих с трудом погрузили в кузов машины, тщательно закрепив у самой кабины. Рядом установили второй, более легкий, ящик. Оба ящика были с помощью трафаретов украшены всевозможными знаками, вроде «не кантовать», «беречь от дождя» и все такое прочее. Люди должны были ехать во второй машине, в которой были кресла, столики и даже лежанка.
Утром оба «уазика» прибыли к гостинице, и трое членов экспедиции вместе с шоферами отправились на местный рынок, чтобы подкрепиться в чайхане перед дальней дорогой. Камилл увидел, что Елена Александровна и один из шоферов зашли в подсобное помещение к чайханщику Алиму, с которым приезжие успели хорошо познакомиться, и вышли оттуда с эмалированным ведром, под крышкой которого было явно не пусто. В ответ на вопрошающий взгляд, направленный на нее, женщина улыбнулась:
- Это баранина для шашлыков. Приглашаю вас на пикник.
- Хорошая идея! Вино за нами! – обрадовался Камилл.
Купили несколько бутылок хорошо знакомого Камиллу белого вина «Ак мусаллас», купили свежих лепешек. К дальней дороге путники были готовы.
На пикник и на ночевку остановились в урочище Арсланбоб, где Камилл когда-то бывал, и с которым у него были связаны славные воспоминания. Только Елена Александровна и поняла, наблюдая рассеянную улыбку на лице Камилла, бродящего по склону среди огромных камней, что тот ушел в мысли о прошлом…
Торопиться не было нужды, никто из членов маленькой команды, включая водителей машин, не стал бы докладывать начальству о том, что они устроили себе небольшой отдых. Отправились в путь после того, как вдоволь побродили в реликтовых ореховых рощах, не раз искупались в устроенных по течению небольших горных ручьев запрудах. Подгадали время выезда так, чтобы следующую ночевку устроить в горах Чимгана, откуда уже выехав с утра можно было спокойно достигнуть города Ташкента к полудню.
В Ташкенте ящики сгрузили в вотчине Елены Александровны, откуда через два дня они должны были быть доставлены в аэропорт. Билеты на самолет для багажа и для Камилла товарищ Войцеховская поручила приобрести своему помощнику. А до того Камилл мог погостить у своего друга Виктора, съездить к родственникам и побродить по городу своей юности. Лейтенант Федоров один на двух машинах возвращался в город Андижан.
Камилл вновь с удовольствием прошел по тому же пути, что и неделю назад, вспоминая веселую жизнь студенческой поры. На Театральной площади он увидел покрытые брезентом машины, в которых сидели солдаты с карабинами. Со стороны улицы Советской вдоль здания Издательства шла нестройная колонна людей, чьи внешности показались Камиллу родными, хотя ни одного знакомого лица он среди них не заприметил. Не было сомнения, что это его земляки, крымские татары, шли по общему делу в направлении… Куда же они идут? Ну, да, конечно! - по направлению к новому зданию це-ка республиканской Компартии! Едва Камилл это понял, как по чьей-то команде солдаты высыпали из машин и бросились на мирно шествующих татар. Натренированные на избиении людей солдаты сбивали с ног женщин и мужчин, некоторых хватали и забрасывали в подъехавшие непосредственно к месту экзекуции грузовики. Татары мужественно отбивались, что еще сильнее разъярило карателей. Кровь бросилась к голове Камилла, - и где она, эта красная ртуть, где всяческие московские заботы? - он ринулся к своим на подмогу. В этот момент он увидел, как солдат, намотав на руку косу молодой женщины, волочет ее к машине. Молниеносно перепрыгнув через цветочные посадки, Камилл подбежал к радостно ржущему солдату. Тот едва успел оглянуться на дико орущего человека, как получил профессиональный удар ребром ладони по шее и отпал. Камилл поднял лежащую на земле женщину и, увидев открывшуюся в здании Издательства дверь, - улица и Театральная площадь были плотно блокированы солдатами, - бросился туда, крепко держа спасенную за руку. Вслед за ним в ту же большую дверь шмыгнуло еще несколько татар.
- Бак анову руска, – услышал Камилл, - Зекиены кутарды! (Смотри, этот русский спас Зекие!).
Камилл и подумать не мог, что это сказано о нем. Он по московской своей привычке обратился к молодой женщине по-русски:
- Как себя чувствуешь? Не покалечили тебя?
Женщина посмотрела на свои окровавленные колени, кожа на которых была ободрана, когда солдат волок ее по земле.
- Да нет, ничего, - ответила она своему спасителю.
«Ничего себе ничего!», подумал Камилл.
К нему подошел небольшого роста мужчина, снимая с себя рубаху.
- Ну, ты влепил ему! На, переоденься. Твоя полосатая очень запоминается – и добавил, взглянув на спешно набирающего номер на телефоне за стеклянной перегородкой швейцара: - Отсюда надо выбираться.
Не возражая земляку, Камилл натянул на себя простую белую рубашку. Женщина, приветственно махнув ему рукой, уже выскочила на улицу вместе с другим татарином.
- Айды, чык! (ну, выходи!) - надевший его полосатку мужчина сделал знак рукой в направлении двери, и Камилл улыбнувшись ему, вышел.
Процессия крымских татар была частью разогнана, частью людей задержали. Камилл спокойно повернул направо, в сторону гостиницы. Там стояли, заградив путь, машины, вокруг которых толпились солдаты. Тогда Камилл перешел дорогу по направлению к фасаду Театра. У парапета он увидел молча сидящего прямо на земле художника. Рядом с ним стоял мальчишка, он держал в руках подрамник, с которого свисали лоскутья недописанной картины. Мальчик беззвучно плакал, пытаясь притянуть друг к другу клинья разорванного полотна. Камилл подумал, что солдат или пырнул полотно штыком карабина, или саданул по нему той маленькой лопаткой, которая торчала у всех доблестных воинов на поясе за спиной…
Когда Камилл дошел до угла здания Театра, кто-то грубо схватил его сзади за плечо. Он резко обернулся, и сейчас же двое военных жестко взяли его под локотки. Один из них был офицер в чине капитана, а в другом Камилл узнал того, который тащил женщину за волосы. «Однако ты быстро очухался, сволочь!», зло подумал Камилл.
- Это он, товарищ капитан! Я его узнал! – кричал солдат, которого он шандарахнул по шее. – У-у, татарская морда!
- Отставить! – осадил капитан своего подчиненного, и обратился к Камиллу: - Предъявите документы.
- Он это! Он напал на меня и чуть не убил! – кипятился солдат.
- Я вас в первый раз вижу. Чего вам от меня нужно? – возмутился Камилл, а сам подумал, что солдатик этот не без способностей к розыскной работе.
- Покажь документы! – кричал на него солдат.
- Предъявите документы, - спокойно потребовал капитан.
- Я не военнослужащий и документы вам предъявлять не обязан, - возразил Камилл. – Позвольте мне идти по своим делам.
- Нет, ты пойдешь туда, куда мы тебя поведем! – и капитана не надолго хватило. Еще бы, иметь власть над безоружным гражданином и не применить силу!
Военные грубо тащили Камилла к стоящим у гостиницы машинам.
- Отпустите, я сам пойду! Слышите, … вашу мать! Я сам пойду! – возмутился Камилл.
Протест задержанного был произнесен на понятном этим товарищам языке, и Камилла отпустили, толкнув при этом в спину:
- Давай, шагай!
Возле машины, в кузове которой сидело несколько человек задержанных, стоял милиционер с погонами подполковника. Кагебешники, должно быть, уже отъехали от места происшествия, забрав с собой тех, кто им был нужен.
- Вот, - кричал шандарахнутый Камиллом солдат, - еще одного поймали!
Подполковник, быстро оглядев Камилла, признал в нем по каким-то признакам приезжего из Центра. Он вежливо козырнул и произнес:
- Предъявите, пожалуйста, документы, - и добавил извинительно: - В этом квартале города сложилось чрезвычайная ситуация.
Камилл достал из заднего кармана брюк паспорт, вынул из него пропуск, выданный ему в Андижанском управлении госбезопасности, и протянул паспорт вместе с командировочным удостоверением от своего института подполковнику. Тот, заглянув на вторую страницу, прочел в соответствующих графах, что перед ним татарин, родившийся в Крыму.
- Он тоже из них, из Москвы прибыл, - произнес он, уже не удостаивая Камилла взглядом, и дал указание капитану: - В отделение его, а оттуда сразу звоните в госбезопасность.
- Ну, гад! – возмутился капитан, пожалев, наверное, что не позволил шандарахнутому выместить на этом татарине свою обиду там, вдали от начальства.
Камилла подтолкнули к кузову, откуда ему с готовностью подали руку его земляки, несколько удивленные тем, что взяли этого русского. Внизу носился солдат, прося соизволения разделаться с врагом советской власти, напавшим на него, находящегося при исполнении…
- Привет! – улыбаясь произнес Камилл, когда оказался в крытом брезентом кузове.
- Привет! Давай сюда! – ребята усадили его на деревянную скамью.
Один из мужчин пригляделся и произнес вполголоса по-татарски:
- Зекиени кутарган бу адамдыр. Аман яндырды солдатны энсесине… (Это человек, спасший Зекие. Здорово он врезал по шее солдату …)
На него зашикали: молчи, мол, дело серьезное. И Камилл оказался в центре всеобщего молчаливого восхищения.
- Зекие качып олдымы? – спросил он. (Зекие смогла убежать?)
Все были поражены.
- Ты татарин? – этот вопрос вырвался, казалось, из всех десяти глоток.
Какие могут быть вопросы! И в кузове началась такое веселье, что снизу заглянули милиционеры:
- Эй, чего расшумелись, курвы!
Привезли их в расположенное за Анхором отделение милиции и сразу сунули всех в одну тесную камеру. На Камилла набросились с расспросами, и скоро нашлись те, кто знал о нем по рассказам, и он сам с удовольствием услышал о людях, знакомых ему еще с тех времен, когда он верховодил здесь.
- Сейчас здесь крымскими татарами занимается майор Сувалов – такая сволочь! – говорили ему.
И вдруг дверь камеры открылась, и Камиллу велели выходить.
- С вещами? – спросил он под общий смех.
- Выходи, … твою мать, - раздалось в ответ. Камилл пожал всем руки и вышел. В дежурке его ждал чернявый лейтенант КГБ, грубый и явно глупый. Камилл вспомнил Сергея, с которым еще час как расстался, и подумал, не мешало бы тому поглядеть, как обращаются его коллеги с Камиллом.
На комитетской «Волге» его доставили в здание республиканской госбезопасности. Повели по коридорам и ввели в кабинет.
- Задержанный Афуз-заде доставлен! – отрапортовал грубый лейтенант.
За столом сидел человек в штатском, листающий изъятый у Камилла паспорт.
- Садитесь, - произнес, не поднимая головы, человек за столом.
Когда задержанный сел, человек счел нужным представиться, и Камилл обратил внимание на уже слышанное сегодня имя – кажется, «Сувалов».
- Зачем прибыли в Ташкент, - Сувалов отложил Камилловы документы и теперь смотрел ему в глаза.
- Там все написано, - Камилл движением головы указал на лежащее на столе командировочное удостоверение от Института с направлением в Красногорскую экспедицию.
- Это мы еще выясним, что написано и кем написано, - со значением заметил чекист. – А сейчас, будьте добры, отвечайте на вопросы.
- Ответьте раньше вы мне, по какому поводу я задержан, - возвысил голос Камилл.
- Вы принимали активное участие в антисоветском митинге и жестоко избили военнослужащего, - строго произнес Сувалов. – За такое преступление вас ожидает очень серьезное наказание.
- Чушь полная! Я случайно оказался на Театральной площади, причем уже после произошедших там каких-то событий. Об избиении вашими людьми мирного шествия мне рассказали только в отделении милиции. А то, что я избил кого-то – неумная провокационная выдумка. Чего это вы так зверствуете, а?
- А у нас другие сведения, - чекист игнорировал наглый вопрос задержанного. – По нашим сведениям вы приехали в Ташкент для организации антисоветского митинга, на котором призывали обманутых вами людей нападать на солдат. Кстати, избитый вами несчастный молодой парень госпитализирован, и находиться сейчас в очень тяжелом состоянии.
- Вы сами или ваши осведомители занимаетесь мерзкой провокацией, - спокойно отвечал Камилл чекисту.
- Как вы смеете! Вы знаете, где вы находитесь? – вскочил со стула комитетчик.
- Успокойтесь, майор Сувалов. Вам известно, что я не салажонок какой. Знаю, где я нахожусь, не впервой.
- Нам про вас все известно, гражданин Афуз-заде! – продолжал бесноваться чекист. – С Москвой теперь вам придется распрощаться, место ваше на Колыме!
- Уймитесь, офицер, - спокойно произнес Камилл и это спокойствие крымского татарина, уличенного в преступлениях, выводило Сувалова из себя, а Камилл добавил: – И советую вам не лезть в вопросы, которые не вашего ума дело.
-- Значит так, - чекист взял себя в руки. – Ваш отказ отвечать на вопросы я расцениваю как косвенное признание вашего участия в организации антисоветского митинга. Ваши организаторские способности Комитету государственной безопасности хорошо известны.
- Так помнят меня еще здесь? - ехидно улыбнулся Камилл. - Кстати, ни одного разумного вопроса вы мне не задали, майор, все угрозы какие-то, в воспоминания, вот, ударились.
- Отвечайте, зачем прибыли в Ташкент, - комитетчик продолжил тем, с чего начал.
- В Ташкенте я проездом, - ответ Камилла был краток.
- Проездом и решили организовать митинг? – сверлил глазами сидящего перед ним крымского татарина чекист.
- Нет, времени у меня на это не было, да здесь и без меня появилось много моих земляков, кто может организовать разные полезные мероприятия получше меня.
- Так кто, значит, организовал этот митинг? – уцепился, было, чекист.
- Я не знаю, я только за час до моего задержания прибыл в Ташкент, - отвечал невозмутимо Камилл.
- У нас другие сведения! - опять начал чекист.
- Кстати, в Ташкент я прибыл сегодня утром с сотрудниками КГБ, вместе с которыми выполнял ответственное правительственное задание, - продолжал Камилл, в кармане которого лежало подписанное высокой инстанцией предписание, но его он не хотел пока что предъявлять этому гебисту из зловредных соображений - пусть чекисты сами обнаружат его, когда будут обыскивать, а он посмотрит на их реакцию. Потом, после некоторой паузы, добавил: - Можете позвонить в дирекцию Красногорской экспедиции. Возможно, что офицер Федоров еще там, но суть задания он вам вряд ли раскроет, не доросли вы еще до той степени доверия.
Сувалов, с ненавистью и вместе с тем озадаченно глядя на Камилла, нажал скрытую под столешницей кнопку. Вошел сержант.
- Выведите задержанного, - приказал он.
Офицер Сувалов не стал звонить в дирекцию Красногорской экспедиции, он позвонил в Первый отдел этого учреждения - резидентуру КГБ в каждой организации. Там быстро разобрались в ситуации и соединили Сувалова с еще находящейся на рабочем месте Войцеховской. Получив полное разъяснение от заместителя начальника, которая подтвердила тот факт, что Афуз-заде прибыл в Ташкент утром и покинул здание Экспедиции в таком-то часу, Сувалов понял, что он оплошал. Этот ненавистный ему представитель непокорного властям народа, действительно, выполнял особо секретную государственную работу. Вопрос об избиении задержанным гражданином солдата, исполнявшего свой долг перед Родиной, также приходилось снимать, несмотря на письменные показания этого солдата. Теперь впору было ставить вопрос об ответственности армейского капитана, который произвел задержание товарища Афуз-заде, прибывшего в республику по заданию высоких союзных инстанций. А солдата того теперь, пожалуй, отправят дослуживать свой срок на Камчатку.
Сувалов взглянул на часы. Можно, конечно, прямо сейчас выпустить этого татарина на свободу. Но он так нагло вел себя нынче, и за ним столько всего числилось за прошлое десятилетие, что не мог офицер, поставленный высшим начальством доглядывать за всеми крымскими татарами в республике Узбекистан, отказать себе в удовольствии продержать его хотя бы одну ночь в «подвалах ГПУ». Он будет, возможно, после этого жаловаться в центральные инстанции, но Сувалов знал, что сможет отвести эти жалобы от своего родного КГБ, направив их на органы милиции.
Ночь в камере с земляками прошла исключительно эффективно. Камилл многое узнал из того, от чего был отдален в последние годы.
На следующий день после того, как дежурный разнес какой-то мерзкий напиток, называемый чаем, для Камилла опять прозвучала команда «на выход». Не торопясь Камилл обошел всех новых знакомых, пожимая руки и диктуя свой московский адрес и телефон тем, кому еще не успел этого сделать.
- На выход, … твою мать! – с обычной злостью поторопил тюремщик, и Камилл покинул камеру. Привели его в тот же кабинет, что и вчера.
- Садитесь, - произнес давешний офицер почти что миролюбиво. Камилл молча сел, и уже сидя осмотрел, нагнувшись, ножки стула, – привинчены к полу или нет? Оказалось, что не привинчены. Камилл не собирался бить чекиста стулом, просто он подумал вечером, как там, в кабинетах дело обстоит со стульями – просто из любопытства. Офицер Сувалов сделал вид, что не заметил движений сидящего перед ним задержанного татарина.
- Извиняемся, - произнес он. – Вот, подпишите обязательство о не разглашении, и я вас отпускаю.
- Ничего подписывать я не буду, - спокойно ответил Камилл.
Этот отказ не удивил чекиста. Как известно, эти татары никогда не подписывают никаких бумаг, считая такое действие сотрудничеством с КГБ.
- Что ж, мы рассчитываем на вашу порядочность. Вот вам пропуск на выход, - и Сувалов протянул Камиллу узкий листок бумаги. Тот не протянул встречно руки, и офицер, чуть помедлив, положил листок на зеленое сукно стола. Тогда Камилл поднялся со стула, взял пропуск и молча направился к двери. Вслед ему раздался несколько обиженный голос чекиста:
- Я, между прочим, не Сувалов, а Сивалов. И не майор, а подполковник.
- А шел бы ты на фуй, подполковник! – четко произнес Камилл.
Чекист растерялся и почувствовал, что кровь отлила от его лица, что он бледнеет. Он растерялся не от тех слов, что услышал, нет! Эти наглые татары не раз посылали его в места более укромные. А растерялся он оттого, что почувствовал страх. Он всегда краснел, когда злился, когда же испытывал страх, то бледнел. Чего это он нынче испугался? Того ли, что этот москвич был вне его юрисдикции? И обретя самообладание, он произнес каким-то ставшим вдруг противным голосом:
- Ай-ай-ай! А еще столичный научный работник…
Но столичный научный работник уже вышел из кабинета и топал по коридорному паркету. Хозяин же кабинета какое-то время смотрел безразличным взглядом в окно, потом натянуто рассмеялся и вслух произнес:
- Хе, хе! Вот гавнюк, проверяет ножки стула… Дешевая демонстрация! – и как-то сразу полегчало подполковнику в штатском.
Камилл, покинув кагебешную кутузку, разъяренно шагал по улицам, ругая и кляня и органы, и советскую власть, и коммунистическую партию. Парадоксально! Хотя он сам вмешался в драку, и от него пострадал представитель власти, которая вполне обоснованно заключила его под арест и выпустила по ошибке, он не считал себя виновным, а полагал обиженным. Впрочем, парадокс – это то, что только при поверхностном рассмотрении кажется неверным. Не является ли естественным правом человека защищаться, когда его волокут по земле за волосы? А в общенародной борьбе, которую ведут крымские татары, нападение на любого твоего соратника есть нападение на тебя! Если бы солдат вел задержанную им женщину цивилизовано, как, кстати, предписано их же советскими законами, то не вздумал бы Камилл отбивать свою землячку с применением силы. И злился он не потому, что его хоть и не надолго, но засадили под арест, а потому, что власти все более наглели, все более зверски издевались над его народом.
Так или иначе, задуманная им прежде поездка в расположенный недалеко от Ташкента городок к родственникам, сорвалась. Времени оставалось на то, чтобы прогуляться еще раз по городу и, явившись под вечер к другу, основательно напиться.
Он позвонил из автомата Виктору на работу.
- Витя, я в Ташкенте. Улетаю завтра, а сегодня буду у тебя. Пить будем водку.
Виктор возражений не имел.
…ТУ-104 вырулил на полосу и теперь разогревал мотор. В длинном и узком как кишка салоне духота была неимоверная. Точнее - такая, какая всегда бывает при посадке пассажиров в этот воздушный лайнер в жаркой Азии. Наконец, включили охлаждающую вентиляцию, и в расположенных над головой пассажиров тубусах заверещало, затем тонкая струйка холодного воздуха стала чуть-чуть, самую малость, освежать перегретые черепа расплавившихся в своих креслах людей. И все же еще до взлета поступающие откуда-то волны прохлады довели атмосферу в салоне до кондиции, и растрепанные пассажиры стали приводить себя в порядок. Но вот двигатели взревели, самолет задрожал и вдруг устремился вперед на огромной скорости, вздрагивая всем корпусом от любой неровности на выглаженной бетонной дорожке. И внезапно эта громадина, одно из чудес двадцатого века, перестала трястись, все еще оглушительные звуки двигателей приобрели другую тональность - лайнер был в воздухе. Узбекская земля с все нарастающей скоростью удалялась, и Камилл не знал, доведется ли ступить на нее когда-нибудь еще.
Он любил эту землю, он давно полюбил страну Узбекистан и ее людей. Столько неимоверных тягот было здесь пережито, столько было здесь узнано и понято! В сравнительно недавние годы десятки тысяч невинных жертв навсегда легли в эту землю, которая, однако, не была виновна в трагедии, разыгравшейся на ней. Она, узбекская земля, была добра и щедра к изгоям - это выжившие вопреки планам Империи крымские татары узнали на следующее за сорок четвертым годом лето. Узбекская земля стала давать несчастным переселенцам обильные урожаи на их огородах, куда вода приходила из оросительных арыков, система которых многие поколения тому назад была создана аборигенами этой страны. Из этой земли замешивали крымские татары саманную смесь, забивали ее в деревянные формы, переносили на выровненную площадку и вываливали для просушки на солнце грязевые кубики, которые уже через несколько дней готовы были для возведения стен домов - домов из чужой земли на чужой земле. Домов, в которых не одно десятилетие жили, любили, рожали аборигены Крымского полуострова, в которых ни на миг не замирала мысль об отнятой и поруганной Родине. Домов, в которых горе превращалось в решимость. Домов из чужой земли и на чужой земле, в которых крымчане созрели для борьбы, и которые они, в конце концов, покинут, одержав победу! Низкий тебе поклон, земля Узбекистана, ты дала нам приют и стала нам дорогой благодаря большому сердцу твоего народа!
Такие или похожие мысли и чувства нахлынули на молодого мужчину, и слезы наполнили его глаза. Он отвернулся от своего соседа к иллюминатору, чтобы его слабость не была замечена. Вскоре стюардесса прошла по салону, предлагая прохладительные напитки. Утолив жажду, Камилл, который, признаться, был сильно не выспавшимся после долгого застолья с друзьями, задремал. И некрепкий сон перенес его мысли в прошлое, в те дни, когда вооруженные солдаты увезли его отца в кузове грузовика в застенки ЧеКа…
Глава 3
...Тогда, в середине сентября Одна Тысяча Девятьсот Сорок Девятого года, недели за две до ареста отца, Камилл получил свой первый паспорт. Это была не книжица с жесткой обложкой и со многими страницами, а сложенный вдвое лист гербовой бумаги. Такой “временный паспорт” давали всем неблагонадежным гражданам. По сути, это был сертификат гражданина второго сорта. Да Бог с ними, с этими градациями в Империи Торжествующего Бесправия! Дело было в том, что в паспорте, выданном Камиллу в районном отделе милиции, в графе национальность было вписано не “крымский татарин”, а просто “татарин”. Просто “татарин” - это свободный человек. Он, как и русский человек, имея на руках паспорт, даже такой временный, может разъезжать почти по всей огромной стране, заехать даже в Москву, даже в Крым может приехать и там устроиться жить и работать. А вот “крымский татарин” не может покинуть границы административного района, отделом внутренних дел которого выдан временный паспорт. «Права» крымского татарина были выписаны двухдюймовыми буквами Указа на большом плакате, прибитом на стене спецкомендатуры, куда в строго определенное число каждого месяца должен приходить каждый переселенец для регистрации.
Когда через две недели после ареста отца Камилл пришел в комендатуру отмечаться, комендант увидел, что к нему пришел, по сути дела, свободный гражданин. Камилл и не знал, что с этим, пусть и второсортным паспортом на руках он мог добраться на попутных машинах до железнодорожной станции, купить билет и сесть в любой поезд, без опаски предъявлять паспорт любому проверяющему и таким образом приехать в Крым, поступить там на работу или на учебу в ФЗУ.
Комендант ужаснулся, обматерил юношу и, вызвав конвойного, велел отвести злоумышленника в камеру предварительного заключения. Потрясенный Камилл не успел понять, что произошло, как за ним со скрежетом закрылась дверь.
Комендант знал, что Камилл - сын врага советской власти, недавно арестованного прибывшими из Ташкента офицерами, и поэтому немедленно позвонил начальнику районного отдела госбезопасности…
Оказавшись в темной и сырой камере, Камилл огляделся. Половину маленького помещения занимали двухэтажные нары, на которых могли разместиться человек двадцать. Зарешеченное окно было забрано с наружной стороны досками, и, несмотря на солнечный день, проникающего света не хватило бы для чтения. Когда глаза юноши привыкли к мраку, он увидел, что с верхних нар его внимательно изучает какой-то человек. По лохматой голове и истрепанной одежде Камилл догадался, что его сокамерник чужак - забредший откуда-то в «славный город Чинабад» бродяга или даже урка, освобожденный по недавней амнистии.
- Эй, - нетвердым голосом окликнул новоприбывшего абориген тюремных нар. - Эй, махра найдется?
Камилл быстро соображал. Даже если сокамерник опытный урка, нельзя проявлять мягкости и тем более страха. В любом случае нужно вести себя смело и нагло.
- Закрой хлебало! - проговорил он сквозь зубы, пытаясь придать голосу жестокость.
Среди “золотой молодежи” славного «города Чинабада» с наступлением осени стало с некоторых пор обычным собираться по вечерам на полянке возле школы, чтобы потанцевать под аккордеон. Камилл присутствовал на этих вечерних ассамблеях в качестве младшего по возрасту, но перспективного кадра. Заводилой был восемнадцатилетний Юрка, закончивший в местной школе семь классов и за отсутствием класса восьмого бездельничающий уже второй год. Мать Юрки работала не на последней должности в потребкооперации и воровала по крупному, а значит водила “дружбу” с районными начальниками. Юрка считался главарем “золотой молодежи”, которая, надо сказать, вела себя законопослушно, и только в используемом жаргоне и в исполняемых хором под аккордеон закадычного юркиного дружка песнях проявлялся тот особый вид фрондерства, когда героизации подвергались воры, грабители и прочие правонарушители. Юрка покровительствовал тем из младших, которые чем-то ему нравились. В числе последних был и Камилл, который привнес в не очень богатый репертуар азиатского захолустья блатные песенки, заученные им в пестрые годы оккупационного отрочества. И всему этому обществу казалось, что они очень крутые парни. Здесь они учились ботать по фене, преподавателем этого блатного жаргона был один из завсегдатаев компании, который «наблатыкался» от старшего брата, отсидевшего срок. Вот и представился Камиллу случай применить на практике эти уроки.
Сокамерник его оказался, к счастью, не бандитом, не уркой, а профессиональным бродягой, которого дилетантская злобность новоприбывшего хоть и не испугала, но и не насмешила. Он мягко спрыгнул с нар.
- Ты чего? - тон бродяги был миролюбив.
Камилл медлил с ответом, с удивлением вглядываясь в соседа по камере. Отвислые щеки, маленький нос и густые темные волосы.
- Я тебя знаю, - наконец произнес он.
Конечно же, его соседом оказался тот самый толстогубый субъект с пыльной шевелюрой, который пять лет тому назад на полустанке под Саратовом утверждал, что татары провели немцев в Крым по узкому Перекопскому перешейку.
Толстогубый сел на нижние нары, и лениво соображал, где он мог встречаться прежде с этим парнишкой.
- А-а, ты в Астрахани в камышах жил, в лодке, - произнес он, решив, что узнал парня. – Куда дружок твой длинный делся?
Камилл задумался, потом ответил:
- Не-е. Я тебя в Саратове видел. С тобой еще белобрысый один был, молодой, и еще другой, в тельняшке.
- А-а, Матрос! Он помер. А тот молодой, Серый, у него отец объявился, офицер. Он бродяжничать бросил, живет в Латвии. А ты здесь как?
Камилл решил не вступать в подробный разговор с этим бродягой.
- Не твое дело, - ответил он.
Бродяга был неприятно удивлен. По такому поводу в их среде не принято было отшивать собрата. Рассказывать с большими приукрашиваниями о произошедших событиях было одним из приятнейших времяпрепровождений несчастных отщепенцев, промышляющих мелким воровством, жульничеством, тасканием овощей с огородов. Поначалу он и Камилла принял за члена большого семейства профессиональных шатунов,но быстро понял, что его новый сосед просто местный шалопай, угодивший в каталажку за какое-нибудь хулиганство.
Камилл лег на шершавые доски нар, вытянув ноги и положив затылок на запрокинутые за голову руки.
- На ночь дают камышовую циновку и ватную подушку, - бродяге очень хотелось поговорить.
Камилл опять смолчал. Он думал о братишке и маме. С братишкой, положим, все будет в порядке - если проголодается, то зайдет к соседям. Он обычно делает это очень серьезно, садится за стол и требует принести поесть. Если еда ему не по вкусу, то он сразу же объявляет об этом и соседи, будь то женщина или мужчина, скрывая от этого серьезного человечка улыбку, приносят ему что-нибудь другое, хотя бы печенье с чаем. Иногда бывает и так, что, встав из-за домашнего стола, на который подано блюдо, которое ему не по нраву, он заявляет, что у тети Фатимы или у дяди Сейдамета сегодня пельмени или пирог, так что…, и степенно удаляется в другие гости.
Но для мамы, если Камилл до ее прихода домой не вернется, случившееся будет еще одним потрясением. Юноша взволнованно вскочил с нар - что же делать, что придумать?! Первым порывом было стучать в дверь и кричать, требовать, чтобы его выпустили. Но он усилием воли удержал себя от такого бессмысленного поступка, который, к тому же, очень порадует его врагов – коменданта и всех других офицеров. Добрый бродяга с пониманием глядел на парня и готов уже был сказать «Бесполезно! Не надо!», если бы тот бросился бы к дверям. Когда же Камилл сел на нары, обхватив голову руками, бродяга сел рядом, но не очень близко, и произнес:
- Меня зовут Сашкой. А тебя?
Камилл ответил, не поднимая головы:
- Я Камилл, - и опять замолчал.
- Ух, ты! - с деланным восхищением промолвил Сашка. - У меня еще не было знакомых с таким именем. Ты, что ли, немец?
В Средней Азии, по всем республикам, расселили еще в первые месяцы сорок первого года немцев, выселенных из разных регионов России, так что бродяжка, видно, встречался с ними. Камилл же, вызвав в памяти те минуты, когда он из узенького окошечка скотоперевозного вагона слушал разглагольствования этого типа о крымских татарах, которых нечего жалеть, ответил:
- Крымский татарин я.
Сашка и не помнил о своих давних рассуждениях по поводу татар, показавших немцам дорогу в Крым, - это он тогда услышал случайно инструкцию, которую читал начальник станции своим подчиненным, а об узости перешейка Перекоп додумал сам, чтобы не ударить в грязь лицом перед возражавшим ему салагой Серегой. Нынче он уже с год бродяжничал в Узбекистане, и не раз ему выносили тарелку супа татары, порой начинающие расспрашивать его, откуда, мол, узнав же, что с юга России, радовались человеку из тех краев, где вода в реках прозрачная круглый год и солнце не столь горячее.
Между тем маленький братишка Камилла несколько раз заходил в дом, двери которого здесь не принято было запирать, и, убедившись, что брата все еще нет, брал конфетку или яблоко и опять шел на полянку или под деревья, где его ждали приятели. Однако солнце уже ушло за крону растущего за домом большого дерева, стали возвращаться с работы тетеньки и дяденьки из соседних хижин, а брата все еще не было. Малыш пошел к сараю, и с трудом оттянув цепляющуюся за косяк дверь, заглянул внутрь – велосипед брата был на месте. Озадаченный ребенок вернулся к дому, зашел в комнату, огляделся. Потом вышел в сени, помыл в тазике ноги, после чего осторожно прошествовал на пяточках до лежанки и уселся на ней, молчаливый и озабоченный. Брат никогда не исчезал таким вот образом, не предупредив его. В сознании трехлетнего ребенка многочасовое отсутствие старшего брата соединилось со странным недавним уходом отца. Противопоказанная для маленького человечка тревога заполняла его душу, он осознавал, что то, что происходит, не должно происходить, что это происходит вопреки законам той мирной жизни, в которую погружены все окружающие его люди, начиная с живущих в домах, которые он видит со своего крыльца, и кончая теми молодыми и старыми дяденьками в чайхане, которую он втайне от родителей посещает несколько раз на неделе, и еще включая тех детишек, которые высыпают во двор перед школой сразу после звуков колокольчика, и которые тоже любят его. В сознании мальчика еще не было понимания того, что в мире существует зло, но зарождалась обида на кого-то безликого, голосом похожего на людей в одинаковой одежде, которые увели его папу. Он не запомнил лиц тех чекистов, он запомнил только интонации их речи, недобрые интонации.
Мама вернулась, как обычно, в восьмом часу. Ничего не подозревающая женщина вошла в дом, увидела молчаливо сидящего на кушетке младшего сына и, поприветствовав его, спросила:
- А где брат? – и, не дождавшись ответа, пошла к рукомойнику.
Вернувшись с полотенцем в руках в комнату, она увидела все так же молча сидевшего малыша, что было ему не свойственно.
- Что случилось? Где Камилл? – женщина выбежала во двор и так же, как это сделал несколько часов назад малыш, заглянула в сарай. Велосипед стоял, прислоненный к деревянной перегородке. Женщина вернулась в дом и стала теребить младшенького:
- Где брат? Когда он ушел?
Малыш заплакал в голос. Мать взяла его на руки.
- Сыночек, когда брат твой ушел? Что он сказал? – малыш перестал громко плакать и только отрицательно качал головой.
- Он днем был дома? Кто к нам приходил? – никогда еще старший сын, особенно внимательный к маме и к брату после ареста отца, не задавал ей такой загадки.
- Его с утра нет, - только и мог сказать малыш, - я покушал печенье и попил водичку.
Женщина с сыном на руках пошла к живущей в том же доме соседке Фатима-апа. Но та тоже вернулась поздно и ничего не могла сказать.
Перед стоящим неподалеку соседним домиком ремонтировали велосипед двое мальчиков, один из которых, одноклассник Камилла, был, обычно, участником всех его мероприятий.
- Митя, где Камилл? – спросила женщина.
Митя выпрямился и посмотрел на нее.
- Я его сегодня после школы целый день не видел, - он тоже был озадачен.
Тут только женщина вспомнила, что нынче то памятное число месяца, когда спецпереселенцы обязаны ходить регистрироваться в комендатуру. Она сама была там утром, и, уходя из дому, напомнила собирающемуся в школу сыну, чтобы тот не забыл сходить и отметиться. Сомнений не было – ее Камилл арестован. Несчастная мать забежала в свое жилище, достала небольшие свои денежные сбережения, и быстро дойдя до дома, в котором обитала семья крымских татар, оставила у них сына и предала им деньги с просьбой, чтобы в случае, если ее задержат, позаботились в первое время о малыше, сообщив о случившемся ее сестре, проживающей в Ташкентской области. И побежала к уже знакомому зданию, где находилась местная тюрьма. Вслед за ней, оставаясь на некотором расстоянии, пошел сосед Сейдамет, чтобы помочь несчастной матери в случае необходимости.
Через час она вернулась. Дежурный милиционер нагрубил ей, прямо таки радостно сообщив, что «ее бандит сидит под надежным запором».
- Хватит ему того, чего тут дадут, - недоброжелательно отвечал дежурный, в ответ на вопрос, а нельзя ли принести ребенку чего-нибудь поесть.
Женщина забрала малыша, выслушав успокоительные речи соседей. Она вернулась в дом, вскипятила воду для чая и покормила маленького сыночка – единственного, кто оставался теперь у нее. Она вспомнила недавние угрозы полковника Шаахмедова, грозившего старшему сыну колонией. Что ж, чекист выполняет свою угрозу. Может быть, Камилл сказал в школе чего-нибудь по поводу ареста отца, а племянница полковника, обучающаяся в том же классе, и донесла до своего дядюшки. Ах, Аллах, за что посылаешь Ты нам такие испытания!
Несчастная мать, не в силах больше сдерживаться, упала на постель и зарыдала, уткнув лицо в подушку, дабы заглушить звуки - чтоб враг не слышал, не торжествовал. Маленький мальчик сидел у изголовья мамы и молча гладил ее по волосам.
Камилл рано в своей жизни понял, что если в этой стране и есть справедливость, то она не для крымских татар. Впрочем, он видел, что также и в отношении к коренному населению Узбекистана не только нет справедливости, но творятся невообразимые жестокости. Никак не мог он забыть, как прошлой осенью в ближнем кишлаке, где он во дворе у своего приятеля помогал собирать виноград, ему пришлось стать свидетелем увода с соседнего двора коровы за недоимки. Милиционер тащил сопротивляющуюся скотину за привязанную к рогам веревку, женщина с воем бежала за коровой, пытаясь ухватить ее за хвост. Ей ставил подножку пузатый мужчина с потертым портфелем в руках, и она падала и вставала, падала и вставала. Женщина кричала «Вой-дат!», мужчина с портфелем ругался «Кет, джеляп!». Трое детишек, от двух до шести лет, катались с плачем в пыли у ворот, порываясь бежать за матерью, в чем им мешала старая соседка. Во дворе стоял и безучастно глядел на происходящее молодой узбек с младенцем на руках. Старший, мальчонка лет шести, вырвался и догнал мать, попал сразу под удар сапога районного чиновника, взвизгнул и растянулся в колее. Мать оставила корову и бросилась к сыну, продолжая голосить и призывать на помощь то Аллаха, то людей. У Аллаха, как известно, свой взгляд на дела, творимые на земле. А что касается людей, то они выходили из своих дворов и глядели на творимый государством реквизиционный акт, сочувствовали, восклицали «Вой, Худаи!», что означало «Ох, Господи!». Так что надежда, что Господь все же предпримет конкретные меры по конкретному случаю все же, по-видимому, была.
Но чтобы творить лихо в отношении узбеков или русских властям все же нужен был повод. Ну, например, если будучи владельцем коровы не внес в закрома Родины сливочного маслица, или как зарегистрированный держатель кур не сдал государству яйца, или не отдал три четверти веса овцы тому же государству – тогда подвергнешься положенной каре. То, что беспородная коровенка дает в день полтора литра молока, что куры подохли от чумы, что овца весила половину того веса, что требовала власть - это уже твои трудности, а непомерный налог вынь да положь.
Крымские же татары находились как бы вне закона, над ними можно было творить беззаконие только по причине того, что они были крымскими татарами. И творили до поры до времени, пока крымчане не объединились и не стали давать должный отпор своим врагам…
Камилл твердо знал, что его заперли в местную каталажку по произволу, за чужую ошибку. Он не знал, выпустят ли его после того, как насытятся своей безнаказанностью, или же увезут куда-то надолго. В этой ситуации его более всего беспокоила судьба матери и маленького братика. Неужели он не сможет выполнить наказ отца быть опорой матери? За себя он не боялся - живут и выживают в лагерях, где, между прочим, своих, татарских парней, в настоящее время не мало. Может и с отцом доведется встретиться! Но как тяжело будет матери…
Он застонал от горя. Его сосед по камере заворочался на верхних нарах, но не стал прерывать свой отдых. Он, бедолага, в этот вечер впервые утолил свой голод - поел тюремных харчей за двоих, потому что Камиллу кусок не шел в горло.
Так в тяжелых мыслях промаялся парень большую часть ночи, заснув только под утро.
Назавтра было воскресенье – нерабочий день. Малыш еще спал, когда мама уже вернулась с базара с продуктами. Обычно закупки делал Камилл, ставший большим специалистом по общению с чинабадскими торговцами. Мама на этот раз купила фунт мяса, что семья позволяла себе очень нечасто. Женщина решила приготовить для помещенного под стражу сына татар-аш, то есть пельмени. Но когда она, оставив младшего дома, пришла с кастрюлькой политых сметаной пельменей в тюрьму, дежурный, уже другой, ответил ей, что принимать передачи для заключенного Афуз-заде начальство запретило.
У дома ее поджидал Шодмон-ота – самый видный аксакал в округе, преданный друг домуллы Афуз-заде. Подобрав спереди полы тонкого стеганого халата за поясной платок, он нервно ходил по тропе, откуда видны были подходы к дому, и молил Аллаха, чтобы женщина не наговорила энкаведешникам лишнего и не попала бы и сама под замок. Увидев ее, он воскликнул «Худага шукур! Благодарение Богу!», и быстро пошел ей навстречу.
- Да, да! Я уже знаю, - Шодмон-ота взял сумку с не принятой едой из рук женщины, начавшей говорить, но не сумевшей произнести из-за слез более трех слов. Они вошли в дом, куда за ними вбежал игравший во дворе малыш. Шодмон-ота погладил его по головке и вручил красного сахарного петушка.
- Не взяли еду, - сквозь слезы говорила женщина. – Может быть, его уже увезли в область.
- Не беспокойтесь, он здесь, и я знаю, что его никуда не повезут, скоро выпустят, - говорил Шодмон-ота, и ему можно было верить.
Шодмон-ота был почтенный и уважаемый всеми человек. Нет, он не относился к числу дореволюционных богатеев, но, по-видимому, его уважали и прежние хозяева этих земель. Вообще говоря, в отношениях между людьми в разных регионах Узбекистана было много такого, что было непонятно пришельцам, и что им никто не собирался разъяснять. Даже милицейский и чекистский полковники, встретившись с Шодмон-ота на улице поселка, спешили продемонстрировать свое к нему показное уважение, хотя среди жителей округи все знали, что почтенный аксакал, если сам, возможно, и не брал в руки оружие, но был в свое время открытым сторонником «басмачей». А может быть, потому и считались все с этим почтенным человеком, что был он не рядовым воином в освободительной армии, а крупным полевым командиром. Ведь всем же в Узбекистане было ведомо, что знаменитый на всю страну дважды герой труда председатель колхоза-миллионера Туракулов был когда-то известным курбаши!
В ментальности коренного населения чужакам не разобраться, как бы они к этому не стремились. Я ведь уже рассказывал об истории с Тракайским замком в Литве. Нет? Так прослушайте эту историю. В шестидесятых годах власти Литвы начали восстанавливать исторические памятники в республике. Москве это почему-то не понравилось, и областные руководители, занимавшиеся этим крамольным делом, были сняты со своих должностей. Назначили новых руководителей, но по прошествии некоторого времени и эти стали тихонечко продолжать дело своих предшественников. И этих сняли, поставили новых, хорошо проинструктированных и усиленно кивавших во время инструктажа головой. Опять прошло какое-то время, и те, которые кивали головой, без излишней суеты продолжили восстановительные работы. Московские власти, в конце концов, махнули рукой на неисправимых литовцев. В результате гости Литвы могли лицезреть восстановленные храмы и замки, такие, например, как, Тракайский замок…
Итак, Шодмон-ота, крепкий мужчина лет шестидесяти, был знаком всем, и уважаем всеми, хотя среди уважающих немало, надо думать, было тех, кто его не столько любил, сколько боялся. Именно из-за окладистой белой бороды почитали его старцем, а он еще мог бы вскочить на коня, и на всем скаку достав из-за спины винтовку, метко поразить убегающего врага, или же столь же метко отстреливаться от преследующих его конников. Ему было около тридцати пяти лет, когда он не единожды ездил в Бухару для встреч и бесед с прославленным младотурком Энвером-пашой, так что умел он пользоваться не только огнестрельным оружием, но и владел словом и калямом.
Шодмон-ота по своим каналам узнал, что парень задержан из-за какой-то неверной записи в документе, который ему выдали в милиции, и что его не позже понедельника выпустят.
- А еду для твоего молодого джигита у тебя, дочка, возьмут, - уверенно говорил аксакал, - ты через час, не раньше, подойди опять к тюрьме, к дежурному... Вах, Аллах, когда избавишь Ты нас от власти этих шайтанов!
Из этого восклицания старого узбека следовало, что, в конце концов, Аллах избавит народ от этих шайтанов, только, вот, когда это произойдет – не вполне было ясно.
Камилл был освобожден не в понедельник, а только в пятницу. Никто не властен был спросить с Шаахмедова, почему это за ошибку писаря должен быть наказан тот, кому был вручен документ с ошибочной записью. Поэтому полковник решил потешить себя этой маленькой злой игрой - он никого не любил, этот полковник, но к семье репрессированного профессора, оказавшейся в его власти, питал особую неприязнь, ибо чувствовал, - нет, не чувствовал, а знал, - что сам профессор превосходил его по всем своим качествам, жена его была воистину красавица, сын тоже, видите ли, отличник. А он, чекист, и не просто какой-то там Ахмедов, а с приставкой Ша, что свидетельствует о почтенных корнях, он неизвестно сколько еще лет должен довольствоваться показным уважением в этом захолустье и наводить страх всего на сотню-другую людей, потому что большему числу жителей он неизвестен.
Юноша и его мама были бы довольны, если знали бы наперед, что полковник через несколько лет покинет это захолустье, но покинет в наручниках, чтобы быть осужденным за безмерное взяточничество и помереть вскоре в тюрьме.
Камилл вечером того же дня, когда освободился из-под запоров местной кутузки, пришел на поляну возле школы, где собиралась «золотая молодежь». Встречен он был, конечно, как герой! Когда восторги утихли, и недавний узник был удостоен права сидеть не на земле, как большинство, а на единственной скамье, где восседали самые влиятельные персоны, он попросил внимания.
- Тихо! - унял беспорядочные разговоры Юрка.
- Братцы, - начал многозначительным шепотом Камилл, - в тюряге вместе со мной сидел один мужик, Сашкой зовут. На него ничего нет, но мильтоны держат его уже две недели, хавать не дают, собираются, как он говорит, навешать на него чужие кражи, а то и убийство. Я думаю, братцы, может на еду ему сообразим. Еще он курева просил.
У местных ментов, действительно, была наметка повесить на бродягу совершенное в отдаленном сельсовете ограбление продуктового склада, так как истинные грабители явно были гастролерами, и искать их следовало поди уже за тысячу километров от границ района, а выслужиться перед областным начальством очень хотелось. Однако беседы с Сашкой показали, что этот несмелый и неумелый мужичок никак не подходит на роль грабителя, и когда Юркина мамаша по настоянию сына спросила начальника милиции о сидящем у него на нарах бродяге, тот в сердцах воскликнул:
- Забирай его себе!
Сашку выпустили, и он до весны проработал грузчиком в магазине, а потом, попрощавшись с Камиллом и Юркой, своими благодетелями, отправился в свои бесконечные путешествия.
Ничто не удерживало семью Афуз-заде в Чинабаде, где в школе не было класса выше седьмого, где работники госбезопасности пугали людей карами за общение с семьей врага советской власти, где лишившейся мужа женщине грозило остаться без работы. В столичной области Узбекистана в вполне приличном городке проживала тетя Камилла. К весне от нее пришел вызов, и полковник Ша не препятствовал выезду этой враждебной советской власти семьи из Чинабада.
В один из апрельских дней Камилл купил на рынке три фунта хлопкового масла, четыре фунта баранины, семь фунтов риса, а также пять фунтов моркови и лука квантум сатис – что означает на латыни «сколько нужно». В заимствованном по этому случаю у соседей-узбеков большом казане был задействован замечательный плов, на который были приглашены все друзья семьи. На следующий день женщина с двумя сыновьями покидала Чинабад.
Может быть, надо пояснить, почему здесь фигурирует такая экзотическая мера, как фунт. Дело в том, что в базарных лавках среди гирь чаще можно было встретить не килограммовые или полукилограммовые гири, а оставшиеся с прежних времен чугунные шарики с ручками весом в один кадак или кратные ему. Кадак – это и есть узбекское название фунта. Все расчеты при готовке любой еды узбеки вели на языке фунтов, обменивались продуктами в фунтах, и только обоюдные расчеты с государством производились в метрической мере - в килограммах. Кстати, объем большой пиалы был таков, что заполняющий ее «с горкой» рис имел массу ровно один кадак.
Побывать бы нынче, уже в новые времена, в древнем Чинабаде и поглядеть, осталось ли там что-либо от той прежней жизни…
Итак, маме, Камиллу и малышу, не перестававшему ранить сердца взрослых вопросом «А когда приедет папа?», предстоял неблизкий путь. «Мы едем к папе?» - спрашивал теперь малыш, и получал от всех утвердительный ответ. И он бегал по всей округе и радостно кричал, что он едет к папе, что они опять будут все вместе.
- Не огорчайтесь, я скоро вернусь, мы все вернемся вместе с папой! – так успокаивал он сидящих в чайхане дяденек, и они, обо всем ведающие, говорили ему, чтобы он не задерживался там, чтобы возвращался поскорее. И дарили малышу конфеты на дорогу, денежки на гостинцы.
По месту выбытия в тамошнюю комендатуру соответствующие сведения были отправлены спецпочтой, разрешение на выезд из Чинабадского района для семьи спецпереселенцев было выписано. Комендант вручил его женщине, после ареста мужа ставшей главой семейства, и предупредил, что в случае промедления с выездом более трех дней разрешение будет аннулировано, а если будет задержка с явкой в комендатуру того города, то «по закону вы будете считаться совершившими побег, и будете подвергнуты аресту». Кроме того, в качестве надзирающих комендант назначил двух молодых татарок Урмус и Ремзие, которым наказал довезти отъезжающую семью антисоветчика Афуз-заде до железнодорожной станции и тотчас возвращаться для доклада.
Широкая общественность Чинабада так и осталась в неведении в отношении того, находились ли эти две молодки по какой-то причине давно уже на крючке у коменданта, или они согласились стать надзирающими единовременно, ради возможности побывать в Хакулабаде, поселке с железнодорожной станцией, бывшем в сравнении с захолустным Чинабадом крупным экономическим и культурным центром. Девушки прибежали в дом заканчивающей дорожные сборы семьи и весело заверещали, что с машиной они договорились на хлопковой базе, что заплатить шоферу придется немного, что лучше всего выезжать после полудня во вторник, потому что поезд подойдет только в двенадцать ночи. Камилл благодарно улыбался девушкам, мама же весьма сухо отвечала, что после полудня во вторник она будет готова выехать.
Однако в понедельник утром пришел Шодмон-ота с известием, что на завтрашний день он нанял арбу с навесом, которая подъедет к дому пораньше, пока еще прохладно, арбакеш сам погрузит всю поклажу, и через два часа они будут в Хакулабаде, где он, Шодмон-ота, встретит их в доме своей сестры, они там отдохнут, а вечером пойдут к поезду. Мама с благодарностью приняла предложенную старым узбеком помощь, а Камилл встрепенулся:
- Пойду предупрежу Урмус-апте!
- Не надо, - жестко произнесла мама, - иди на базар за продуктами для плова.
Камилл был удивлен реакцией мамы.
- Почему, мама?
Лицо мамы оставалось холодным.
- Ты представляешь меня в роли надзирателя? – спросила она.
Камилл не ответил, взял большую сумку и в раздумье отправился за покупками. И в самом деле, он не представлял себе кого-нибудь из близких к их семье людей выполняющими задание коменданта. И сам он не согласился бы на подобную роль! Да, еще многому надо ему учиться у своей мамы, унаследовавшей бескомпромиссность и смелость представителей своего рода!
Уже с раннего утра все были полностью готовы к отъезду. Камилл то и дело выглядывал за угол дома, на дорогу, откуда должна была подъехать арба. И соседи поглядывали в сторону дома, перед которым были выставлены тюки отъезжающей семьи. И вот послышался скрип колес узбекской большеколесной двуколки, предназначенной для поездок по непредсказуемости сельских дорог с их рытвинами и буграми. Колеса были действительно очень большими, в рост взрослого человека. Зато такая арба не чувствовала малых неровностей дороги, а большие преодолевала с легкостью. Платформа ее располагалась тоже высоко, что было хорошо и летом на глубокой лессовой пыли азиатских коммуникаций, и в их вязкой грязи в зимнюю или в другую дождливую пору. А на этой арбе, присланной старым узбеком, еще возвышался сооруженный из толстых ивовых прутьев навес, на который был наброшен большой шелковый палас.
- Будем ехать под шелковым шатром, как в сказках! – воскликнул восхищенный Камилл.
- Как в сказке, сочиненной Шодмон-ота, - заметила мама, утирая выступившие на глазах слезы.
Соседи собрались вокруг отъезжающей семьи, последовали прочувствованные возгласы, объятия, слезы, рукопожатия. Маленький братишка подбегал то к одной, то к другой женщине и успокаивал:
- Мы скоро вернемся! Вот только найдем папу и сразу вернемся все вместе!
Когда в полдень Урмус и Ремзие пришли к опустевшему дому, соседка Фатима-апа сообщила им, что семья еще утром уехала на арбе.
- Ой, надо бежать и уведомить коменданта! – встрепенулась Ремзие.
- Не надо, - таким же тоном, как давеча мама Камилла, произнесла Урмус. – Иди лучше скажи шоферу, что поездка отменяется.
…Вечером после обильного ужина в доме хакулабадовской сестры белобородого Шодмона родственники его, молодые ребята, подняв на плечи тюки, проводили своих гостей до вокзала и посадили в поезд, который уже следующим днем доставил женщину и ее сыновей в городок неподалеку от Ташкента.
Глава 4
Половина крымскотатарского народа не пережила страшные сорок четвертый и сорок пятый годы. Для выживших жизнь продолжалась, приобретя двойную значимость – надо было брать на себя то, что теперь не совершат погибшие от голода и болезней. После тяжелейшей поры выживания начинались годы восстановления сил, годы наращивания мяса на костях, годы единения перед враждебной властью. И куда не забросила бы судьба крымчанина, в каком окружении он не оказался бы - его связывали с земляками невидимые нити общей судьбы, судьбы, которая теперь вела всех аборигенов Крыма на неизбежную битву с коммунистическими властями за свои национальные права. И каждый крымский татарин, будь он невольником на хлопковой плантации, счетоводом в районной конторе, рабочим на стройке или на заводе – ненавидел советскую власть и знал, что впереди будет борьба.
Даже запуганные москвичи-крымчане ночами плакали в подушку, скрывая, может быть, свои слезы от «рускоязычных» супругов, и ждали, когда же их страдающие в Азии соплеменники поднимутся с колен и потребуют восстановления своих прав.
Крымчане не обособлялись, не рвали своих связей с другими людьми, и хотя более всего были обременены своими национальными заботами, но вместе с тем и ситуация во всей стране, изнывавшей под игом Партии коммунистов, не была им безразлична. Крымские татары отличались своими успехами в общественной жизни, в труде, в учебе, но не о «строительстве коммунизма» была их забота – они стремились вырваться вперед, возвыситься для того, чтобы голос их был услышан, и свою назревающую борьбу мыслили как этап борьбы всего советского народа против коммунистического режима.
Таким всегда был и таким остался менталитет аборигенов Крыма.
В южном городе Мелитополе нелегко жила в своем доме Валентина Степановна, бывшая Хатидже-оджапче. Хоть и проживала она в нескольких часах езды от Крыма, но не решалась посетить родной свой Полуостров, и не только из опасения быть кем-то узнанной, – вероятность этого была очень мала, - а по причине боли душевной. Каково увидеть родные города и села опустошенными, заселенными пришлыми носителями других обычаев, других житейских норм – пьянства и матерщины! Именно так, ибо учительница понимала, что заселен был опустевший Крым не носителями русской культуры, а теми, кто не нашел самого себя на своей родной земле – всякими человеками, типа носящихся по пустошам иссохших шаров «перекати-поле». Приехать и увидеть обезображенную родину – это было выше ее сил! И без того жизнь ее была полна горечи - ведь не было вокруг на тысячи километров ни одной близкой души, ни одного единоплеменника, с кем Хатидже-оджапче могла бы вместе поплакать над горестной судьбой! А Валентина Степановна не могла позволить себе близко общаться ни с кем из соседей, потому что раскрылась бы ее тайна. Слава Аллаху, что вернулась к ней ее младшая дочь, ее Сафие!
Сразу после ее возвращения Хатидже пыталась называть девочку Соней, дабы подчеркнуть, что не покушается на ее идентичность самой себе. Однако это очень обидело девочку.
- Теперь, значит, ты мне не мама? Теперь, значит, я трижды сирота? Потеряла я двух мам и одного папу! - эти слова прорывались сквозь рыдания несчастной.
К детским рыданиям присоединились рыдания Хатидже, и много слез пролили вместе две женщины, старая и молодая, пока успокоились. Впредь таких, претендующих на деликатность, но по сути жестоких поступков со стороны Хатидже не было.
Сафие «в прежней жизни» успела проучиться в школе до конца первой четверти второго класса, и с той поры прошло четыре года. После прихода немцев ходить в школу она не могла – хорошо уже и то, что никто не донес, что в семье татарской учительницы вдруг появилась «племянница». Во время недолгого пребывания в узбекском кишлаке девочка, естественно, школу также не посещала, ибо русскоязычная школа находилась в районном центре, и до нее нужно было идти пешком не менее двух часов. Но все эти нелегкие годы грамотности ее обучала Хатидже, а другими предметами, такими, как математика, с младшей сестренкой занималась Айше. Теперь здесь, в Мелитополе, решался вопрос – идти ли тринадцатилетней девочке в четвертый класс, как того хотела, боясь недостаточности своих знаний, сама Сафие, или же рискнуть и поступить в пятый, на чем настаивала еще прежде Айше, да и Хатидже-оджапче придерживалась того же мнения.
- Ты будешь чувствовать себя стесненно среди младших тебя на два или даже три года детей, - не очень уверенно говорила девочке Хатидже, понимая, что скачок из второго класса в пятый довольно таки дерзок. – Конечно, год или два потеряли многие детишки, но ты потеряла четыре года…
Умница Сафие однажды сама сосредоточенно продумала ситуацию и решила идти в пятый класс. И не пожалела: уже вторую четверть она закончила на одни пятерки!
Прежде, в Симферополе в годы войны, Сафие хотя и понимала разговор мамы Хатидже с Айше, понимала и обращенные к ней татарские слова, однако отвечала она в основном по-русски. За год пребывания в узбекском кишлаке она вдруг стала разговаривать с совершенно незнающей русского языка тетушкой Холида по-татарски – это, как говорят очень умные преподаватели иностранных языков, застрявшие в пассиве слова перешли по необходимости в актив. Теперь она все чаще отвечала маме Хатидже на татарском, а вскоре все беседы в доме уже шли на этом языке.
Не надо думать, что Хатидже вовсе уж избегала встреч и бесед с соседями - нет. Но эти встречи и беседы были короткими и происходили на улице, на базаре или в магазине. И все равно Хатидже испытывала дефицит общения с людьми. Она, когда девочка находилась в школе, часто плакала, сетуя на свою личную судьбу и печалясь о судьбе своих соплеменников. Часто она пела грустные татарские песни, и однажды пришедшая из школы Сафие заслушалась замечательным голосом мамы, и после этого почти каждый вечер они вместе исполняли на два голоса песни степного и горного Крыма – и те, и другие изумительно мелодичные и наполненные глубоким философским смыслом.
Летом Айше после учебной практики пробыла две недели в Мелитополе, и все в этой маленькой семье были счастливы. Хатидже расспрашивала дочь о ее друге Исмате, о сложившихся между ними отношениях и пришла к выводу, что это, кажется, серьезно. «Пусть будет, как повелит Аллах! Айше уже взрослая девушка» - думала она.
Казанская подруга Хатидже, которая опекала Айше, еще год назад при помощи своего бывшего ученика, работающего ныне в органах внутренних дел, смогла получить для Айше паспорт как для своей племянницы. Дело в том, что родная сестра тети Галии жила в приграничном городке и пропала в войну без вести. Она была, как и Галия Измайловна, незамужней и бездетной, но без специального расследования, проводить которое не было оснований, это обстоятельство обнаружить было нельзя. Безусловно, был послан официальный запрос в тот городок, куда уже раньше обращалась с запросами о своей сестре Галия Измайловна, и пришедший ответ был такой же: весь архив сгорел в первый же день войны. Айше была признана племянницей тети Галии, ей выдали паспорт с фамилией ее мнимой матери – что поделаешь, приходилось ради выживания идти на подобные подлоги! Так что Айше уже стала свободным человеком, не спецпереселенкой, и могла свободно перемещаться по всей стране.
Это было в конце сорок шестого года, когда Айше получила от Гульчехры письмо, в котором та сообщала, что Исмата отправили на Фархад-строй, откуда мало кто возвращается.
Айше много раз перечитывала концовку письма: «Мне сказали, что были случаи, когда мужчину из Фархад-строя удавалось вытащить матери или жене. Нужно для этого достать справку о болезни или беременности», – писала Гульчехра, давая понять, что только Айше может попытаться спасти молодого мужчину.
Айше осознавала, что судьба человека в ее руках. Пусть даже ей не удастся освободить Исмата, но, не предприняв такой попытки, она не могла бы дальше жить. Айше обо всем рассказала подругам по комнате, и девушки приняли безрассудное решение доучиться до лета и отправиться спасать парня своими силами.
- Моя цель - освободить его, вытащить его из этой “трудовой армии”. Я не уверена, что хочу выйти за него замуж. Но ведь кроме любовных отношений мужчины и женщины есть и дружеские отношения, есть понятие человеческого участия в судьбе, особенно если другу грозит гибель! - взволновано говорила Айше своим подругам, и те понимали ее волнение.
- Может быть, достать справку о том, что у Айше родился ребенок? – спросила Ифет, мама которой работала медсестрой в Шамордане.
Девушки переглянулись, задумались, потом псковитянка Аня неуверенно заметила, что, не имея свидетельства о браке, воспользоваться фальшивой справкой о рождении ребенка вряд ли удастся. Девушки опять подумали и пришли к мнению, что Аня, пожалуй, права. Тем не менее, никто не усомнился в необходимости ехать выручать Исмата.
Если они посоветовались бы с кем-то из старших мужчин, - с братом или с отцом, - то услышали бы обоснованные доводы безнадежности задуманного ими дела. Но возможности получить совет у близкого взрослого человека у них не было, а были у них, студенток, оканчивающих второй курс техникума, две недели каникул, после которых начиналась производственная практика.
Девушки получили стипендию за летние месяцы, а еще достали из-под матрацев денежки, сэкономленные за год и предназначенные для удовлетворения скромных девичьих желаний. Подсчитали возможные затраты и подзаняли еще немножко - благо, что за предстоящую производственную практику должны были заплатить какие-то деньги. Ехать в Узбекистан вознамерились трое - Айше, псковитянка Аня и Ифет из Шемордана. Билеты взяли до Коканда, где Айше должна была на вокзале дожидаться Ифет и Аню, которым предстояло отправиться вдвоем в колхоз, встретиться там с Гульчехрой и разузнать подробности об Исмате...
Когда девушки, наученные своей многострадальной подругой, появились у правления колхоза и уселись на лавочке под старым тутовником, конторские женщины, сразу же углядевшие в окно редких здесь посторонних, вышли во двор.
Мило улыбаясь, золотокудрая Аня обратилась к женщинам, молча, поджав губы, глядящим на незваных гостей:
- Можно мы у вас здесь немного отдохнем?
Лица женщин сразу потеплели, они подошли к девушкам и, как принято между узбечками, обняв вставших на ноги гостий, произнесли слова приветствия:
- Келинг! Исанмысыз!
Потом, едва подбирая русские слова, стали приглашать гостий:
- Иди чай ичамиз. Каердан пришел? Куда иди?
Девушкам все было понятно. Они приняли приглашение попить чаю и готовы были рассказать заранее выученную легенду, что они приехали к родителям, которые работают на строительстве моста, и вот вышли с утра пораньше прогуляться по окрестностям - километрах в трех, действительно, интернациональная бригада строителей возводила новый мост через реку.
Только Гульчехра заподозрила, что девушки оказались в этих краях не случайно - она помнила, как “случайно” забредший в колхоз косарь увел Айше с сестренкой. Когда, попив за конторским столиком чай с парвардой - мучнистыми узбекскими конфетами - девочки, попрощавшись, уже выходили из конторы, Аня сделала глазами знак Гульчехре, приглашая ее за собой. Молодая женщина громко засмеялась, довольная своей проницательностью.
- Нет, ничего, просто так! - ответила она на безмолвный вопрос своих сослуживиц, вопрошающе посмотревших на нее. – Я провожу гостей.
Следуя за девушками за угол дома, она уже знала, о чем будет секретный разговор.
- Мы приехали по поручению Айше, - начала Ифет на татарском языке, который был для узбечки понятнее русского.
- Я догадалась! - Гульчехра опять радостно засмеялась. - Как у нее дела, где она сейчас?
- Она далеко, в России, - поторопилась ответить Ифет, а Гульчехра поняла, что Айше где-то не очень далеко. Она хотела высказаться по этому поводу, что, мол, ей можно довериться, но Ифет сразу перешла к главному.
- Где Исмат, как мы можем его найти? - жесткие нотки в голосе вопрошающей исключали возможность отвлеченной болтовни. Гульчехра тотчас посерьезнела:
- Исмата отправили на Фархад-строй. Оттуда редко возвращаются.
- Это как тюрьма? - спросила Ифет.
- Говорят, что они свободные люди, но живут за колючей проволокой, их охраняют солдаты с винтовками. Жены и матери получают разрешение на свидание, а некоторым с большим трудом удается забрать своего мужчину на два-три дня и пожить с ним в соседнем кишлаке. Нужно заплатить большие деньги, чтобы получить разрешение на такой краткий отпуск.
Какое-то время все трое шли молча. Ни у кого из них не было больших денег. Вдруг Гульчехра что-то неразборчиво воскликнула и остановилась.
- Подождите меня здесь! - понизив голос произнесла она. - Нет, лучше пройдите вон туда к кустам и присядьте, чтобы не бросаться людям в глаза. Холида-хон, когда осталась одна и заболела, однажды дала мне свое золотое кольцо с рубином. Она просила меня передать его Исмату или Айше - бедняжка верила, что Айше вернется к ее сыну. Старинное кольцо, теперь такого не купишь. Я сейчас его принесу.
- Гульчехра, осторожней, чтобы никто не догадался, что мы тут от Айше, - предупредила Ифет.
- Буду осторожной, я же понимаю. В кишлаке сейчас одни старушки, всех остальных погнали на хлопковые поля.
Гульчехра ушла, а девушки быстро прошли к кустарнику и притаились в его низкой тени. Минут через двадцать Гульчехра вернулась с довольно большим цветастым узлом в руках. Из-за ворота платья она достала что-то завернутое в белую марлю, развернула и показала девушкам потускневшее золотое кольцо с ярким, однако, темно-красным камнем размером с вишню.
- Я не знаю, сколько оно может стоить, - сказала Гульчехра, - но мне известно, что такие кольца у нас в Узбекистане ценятся. За это кольцо могут Исмата отпустить на несколько дней. Найдете, с кем там договариваться?
- Найдем, найдем! Спасибо тебе! Какая ты хорошая! - девушки стали обниматься и, как у них положено, обливались при этом слезами.
- И вот еще, - Гульчехра протянула гостьям узел. - Здесь шелковый мужской халат и чистая рубаха со штанами. Это тоже покойная Холида-хон велела сыну передать... А вот это какие-то документы, какая-то солдатская книжка.
Наконец, после очередной серии объятий и поцелуев, девушки распрощались со своей новой знакомой, ставшей за полчаса такой близкой и надежной, и поторопились в город к Айше.
Долгий летний день приближался к вечеру, когда Ифет и Аня вошли в зал ожидания вокзала, где на деревянной скамье волнуясь от неведения сидела Айше. Увидев входящих подруг, она стремглав бросилась к ним:
- Ну, как? Что удалось разузнать?
- Почти ничего нового, дело обстоит так, как ты рассказывала, - отвечала Аня. - Давай выйдем на улицу.
- И зайдем куда-нибудь, чтобы перекусить, - добавила Ифет.
- Идем в чайхану, а вы по пути рассказывайте, - Айше повела подруг в уже известную ей чайхану у городского парка.
Аня достала кольцо, оставленное несчастной матерью Исмата и передала его Айше.
- Вот, Холида-хан перед смертью дала это кольцо с камнем Гульчехре, велев отдать его Исмату или тебе.
Взяв кольцо, Айше приложила его к губам и заплакала. Девушки не стали успокаивать подругу и дали ей выплакаться. Потом Ифет сказала главное:
- Гульчехра считает, что за это кольцо твоему Исмату могут дать отпуск на несколько дней. Так что можно будет ему побыть на свободе в соседнем кишлаке.
Айше остановилась и несколько секунд молча постигала, какой великолепный шанс даровала им судьба.
- Это же спасение! - вскликнула она. - За несколько дней можно хоть на Камчатку убежать!
Девушки радостно смеялись, будто бы дело уже сделано. Наконец, трезвая Аня строго произнесла.
- Все трудности впереди. Рано радоваться. Будем действовать осторожно.
Посерьезнев, девушки пошли в чайхану. Заказав большой чайник чая, они достали из рюкзачка сухари, кусочки сахара и скромно перекусили.
- Мне надо переодеться в узбекское платье, - объявила подругам Айше.
Девушки пошли по парковой аллее, в поисках укромного места, где Айше могла бы переодеться. В этот предвечерний час в парке никого не было. Девушки увидели круглую эстрадную сцену. Айше вошла в грязный уголок за кулисами и, стараясь не испачкаться, переоделась. Из-за кулис вышла типичная узбечка в узорчатом шелковом платье и в безрукавке. Из-под цветастой тюбетейки ниспадали две толстые косы.
- Можно бы заплести сорок косичек, но можно и так оставить, - сказала Айше, оправляя ворот платья.
Подруги ее были восхищены.
- Как красиво! Что же ты нам прежде не показывала этот наряд? – с некоторой завистью промолвила Ифет.
Айше кокетливо повертелась перед подружками. Потом озабоченным голосом напомнила:
- Мы так и не узнали, как добираться до Фархад-строя...
Вернулись на вокзальную площадь. Найдя взглядом надежного пожилого мужчину, Айше подошла и спросила по-узбекски:
- Ака-джан, Фарход-стройгя къандай етиб бормак мумкин? Дяденька, как можно добраться до Фархад-строя?
Мужчина оглядел девушку и приветливо ответил:
- Ленинабодгаджа поездман бориш керак. У ердан сораб биларсиниз, машиналаркатнаб туради. До Ленинабада надо ехать поездом. Там спросите, туда машины ходят.
- Рахмат, ака-джан! Спасибо, ака-джан!
Девушки поспешили к кассе, узнать, когда будет ближайший поезд до Ленинабада.
Рано утром три подружки сошли с поезда на Ленинабадском вокзале. Ленинабад - так ныне назывался один из древнейших городов Центральной Азии Ходжент - находился в соседней Таджикской республике, но именно оттуда был самый короткий путь до Фархад-строя.
- Соат ба вакту Сталинобод нуу бис дакика! - объявило вокзальное радио, что означало, что сейчас четверть девятого утра по Сталинабадскому времени. Девушки сразу же обратились к дежурному на перроне и узнали у него, откуда можно доехать до Фархад-строя. Дежурный посоветовал им выйти на шоссе и добираться на попутке.
Три девушки, одна в узбекском одеянии, две другие в простеньких цветастых платьицах из набивного искусственного шелка, с соломенными шляпками на головах, встав у края дороги поднимали руки навстречу идущим машинам. Каждая машина останавливалась, и шофер, улыбаясь, высовывался из дверцы кабины. Но только пятая или шестая машина держала путь к Главному управлению строительства Фархадской ГЭС, и девушки забрались в открытый кузов, в котором стояло несколько деревянных ящиков с какими-то инструментами. У кабины поперек кузова была приделана широкая доска, на которой сидели два белобородых старика и одна женщина в парандже. Наши девушки потеснили их, а никогда прежде не видевшие паранджу Аня и Ифет почему-то с опаской посматривали на таинственную спутницу, лица которой за густым черным чачваном нельзя было разглядеть. Машина тронулась. Аксакалы безучастно перебирали четки, женщина в парандже то и дело поворачивала черный плотный балахон то в одну, то в другую сторону, с видимым интересом вглядываясь в окружающий горный ландшафт.
- Какая любопытная старушка, - вполголоса произнесла Аня.
Машина въехала в сень нависающей над дорогой горы. И, по-видимому, из-за внезапно набежавшей тени женщина откинула чачван, и изумленным взглядам Ани и Ифет предстало юное личико красивой узбечки. Девушки рассмеялись, и к их смеху присоединила свой веселый заливчатый смех скинувшая тяжелую паранджу узбечка...
Шофер остановил машину возле разукрашенного плакатами двухэтажного здания с беленными известкой колоннами у входа. Это было Главное управление стройки. Девушки не без труда выбрались из кузова и, помахав на прощание рукой вновь надевшей паранджу молодой женщине, вошли в здание.
Охранник у дверей спросил, по какому делу пожаловали, и Айше на узбекском языке спросила, где дают разрешение на свидание с присланными из колхозов строителями.
- Вон в том окошечке узнай, на каком участке работает твой человек, - ответил охранник.
Айше постучала в закрытое фанерой окно, и когда оно отворилось, обратилась с вопросом, стараясь говорить певуче, по-деревенски:
- Пожалуйста, тетушка, скажите, где мне найти Исмата Исматова, его год назад прислали сюда из колхоза имени Карла Маркса...
Пожилая узбечка, одетая в зеленый френч, прекратила разговор на высоких тонах со стоящим рядом с ее столом рыжим бородатым мужчиной в заношенной клетчатой рубашке, и, затянувшись дымящейся в левой руке папиросой, переспросила фамилию.
- Исматов Исмат... Кокандский район... Год назад, говоришь?
- Исмат Исматов, фронтовик он. Да, год назад уехал на стройку, - так же певуче говорила Айше, и не заметила она, как мужчина с окладистой рыжей бородой испуганно вперился в нее взглядом.
- Какой, значит, год? - женщина с тоской поглядела на заполненные амбарными книгами шкафы и тяжело поднялась, было, из-за стола.
Ее рыжий собеседник вдруг будто взбесился.
- Ты сначала закончи мое дело, - кричал он. – Я так весь день здесь потеряю, а меня народ ждет! Я к Ахмаджанову пойду жаловаться!
- Ох, и надоели вы мне все! – в свою очередь заорала женщина. – Жди, когда освобожусь, позову! - это она крикнула Айше, и окошко захлопнулось.
Вот гад! – в сердцах произнесла Аня. – Придется ждать, пока они там не прекратят свою драку.
Мужчина за закрытым окошком продолжал что-то кричать. Вслушивающиеся девушки все же разобрали то, что касалось их дела:
- А этого Исматова можешь не искать, я его как облупленного знаю, он с пятого участка, - кричал мужской голос. - Не теряй на это время! Давай, вызывай с объекта мне двух помощников, я за инструментом заеду на склад и этих девиц прихвачу на обратном пути.
- Ты что разорался! А кто мне этих двух помощников назад привезет? – отвечала ему женщина. - Мне же прораб все тут разнесет!
- Не дашь мне сейчас же двоих мужиков, я тебе еще раньше здесь все разнесу! – орал рыжебородый.
Наконец, за окошком наступила тишина, свидетельствующая о достигнутом согласии. Выглянул рыжебородый скандалист, внимательно оглядел девушек и совершенно спокойным голосом произнес:
- Подождите меня, я сейчас выйду и все объясню.
Женщина начала куда-то звонить, а из-за отворившихся дверей вышел рыжебородый и велел девчатам идти за ним на улицу. Там он еще раз внимательно оглядел молчащую троицу и, улыбнувшись, произнес:
- Вон там, в торце длинного здания, столовая. Идите туда, перекусите, никуда не отлучайтесь. Я к вам приду и отвезу вас к Исматову.
Он посмотрел на Айше и со значением повторил:
- Только никуда не отлучайтесь.
- Нет, дяденька, мы будем ждать только вас, - насмешливо проговорила Аня, на что рыжебородый спокойно ответил:
- Вот и хорошо! – и вернулся в контору.
Дядька хорошо говорил по-русски, хотя и с заметным акцентом. По этому поводу Ифет заметила:
- Он из наших, из волжских татар. У нас рыжих много! - и девушки отправились к столовой.
Путешественницы заказали по тарелке лагмана и чайник чая. Только они закончили свою трапезу, как вошел рыжебородый.
- Подкрепились? – он как-то подозрительно оглянулся. В столовой в этот час посетителей не было и это, по всей видимости, пришлось по душе бородатому. Он сел на четвертую табуретку у шаткого деревянного столика и, как это он уже не раз делал, молча обследовал взглядом каждую девицу. У нетерпеливой Ани уже вертелось на языке язвительное замечание, но мужчина начал говорить:
- Я догадываюсь, что к Исматову приехала ты? – он остановил взгляд на Айше, и продолжал, не ожидая ответа:
- Вы, конечно, близкие подруги и доверяете друг другу. Дело в том, что Исмат мой друг, он жив и здоров. Но у него сейчас другое имя, и не дай вам бог назвать его Исматом! Это погубит его! Хотите подробностей?
Девушки смотрели на этого странного человека с опаской и с явным недоверием. Рыжебородый с пониманием отнесся к сомнениям своих слушательниц.
- Хорошо, рассказываю подробнее. Исмат совершил поступок, за который…, - тут мужчина остановился на полуслове, потом решил смягчить то, что в действительности произошло. – В общем, его могли наказать, и он с моей помощью взял себе имя другого человека…
Ох, уж эти девицы! Не напугать бы их, не то в истерику могут впасть, кто их знает.
- Он взял себе имя другого человека, который как раз покинул стройку. Понимаете? Я его друг и мне удалось его спасти. Тут десятки тысяч людей и начальство не заметило подмены.
Для девушек кое-что стало проясняться. Мужчина продолжал:
- Поэтому я сделал так, чтобы эта женщина-контролер не стала выяснять, где сейчас Исмат Исматов. Это было бы очень плохо для вас. И для Исмата, - добавил он.
Девушки быстро соображали. Что ж, вполне возможная ситуация.
- Его можно увидеть? – спросила тревожно Айше.
- Конечно! – улыбнулся рыжий бородач, - вы сегодня же его увидите! Он сам вам расскажет подробности, но не ошибитесь, не назовите его Исматом! Его имя теперь Адилджан. Запомнили? Адилджан Адилов.
Аня, у которой неприязнь к бородачу сменилась восхищением, обратилась требовательно к Айше:
- Ты запомнила? Ну, повтори!
- Адилджан, Адилов Адилджан, - как-то вяло проговорила Айше. Было понятно, что этот рассказ, показавшийся ее подругам очень романтичным, напугал ее.
- Значит так, - продолжил мужчина. – Я сейчас поеду на пятый участок, а вы будете добираться сами. Тут машины ходят, а если нет, то и пешком за час дойти можно. Я должен найти Исмата, то есть Адилджана, и подготовить его. Он никого не ждал, между прочим…
Тут Айше будто бы проснулась.
- Скажите ему… Да, как вас зовут? Исмаил? Скажите ему, дядя Исмаил, что приехала Айше, приехала из России. Хочу забрать его отсюда. Так и скажите, подготовьте его!
- Ого! – рассмеялся Исмаил. – Смело! И вполне возможно, если не суетиться и не вызывать подозрений. Хорошо, я ему как надо все растолкую.
А про себя рыжий Исмаил подумал, откуда это у узбечки такая правильная русская речь? Что-то и тут нечисто! И он опять рассмеялся.
Под палящими солнечными лучами девушки зашагали по пыльной дороге на задуманное дело.
…Когда Исмат, пораженный пулей в лоб, падал на землю, настигла его и вторая пуля, ранив навылет в левое предплечье. Их еще просвистело несколько, - ну, совсем как на фронте, на ночной рекогносцировке! - но он уже лежал без сознания, и подбежавшие охранники не стали стрелять в безжизненное тело, их вполне удовлетворила кровавая рана в середине лба. Немедленно побежали за начальником участка, тот быстро пришел, предварительно сообщив о случившемся по телефону в Главное управление. Рабочим приказали работать, как работали, и не сметь подходить к месту чрезвычайного происшествия – этот приказ был подтвержден предупреждающими выстрелами в воздух. Через час приехало человек пять высших руководителей стройки - случая убийства работника охраны на строительстве канала никогда прежде не было. Труп охранника с рассеченным черепом отправили на медицинском автобусе в морг госпиталя, а труп преступника главный начальник велел выставить на всеобщее устрашение. Тело Исмата двое рабочих забросили в кузов грузовика, отвезли в лагерь и скинули на землю у входа в барак, и сразу же грузовик вернулся на стройку.
В этот час в лагере кроме двух-трех охранников, отдыхающих в отсутствии оберегаемого контингента, оставались с десяток тяжелобольных «трудармейцев» и еще дежурные по кухне и по уборке территории. Руководил дежурными ловкий человек по имени Исмаил, а по кличке «Ферганец». Исмаил, действительно, имел когда-то в городе Фергане артель по изготовлению всяческой обуви – известно, что на втором месте после пищи человек нуждается в обуви. Артель процветала, с городским руководством был полный контакт. Но вот сменился начальник НКВД – прислали из Ташкента грубого, не уважающего местные обычаи полковника, который и говорил-то на ином наречии: вместо нежного «келеяпты» у него звучало «кевопты», вместо «нима дединг?» звучало «нима девопсан?», что соответственно переводилось, как «он идет» и «что ты сказал?». Новый милицейский главарь стал приглашать к себе для беседы всех крупных артельщиков города и предъявлял им такие требования, что у тех глаза на лоб лезли. Но все они, пошарив в карманах, доставали требуемую мзду. Исмаил же, неглупый, в общем-то, человек, понадеялся на свою дружбу с райкомовскими работниками и осмелился сказать, что прежний, мол, главный городской милиционер брал в три раза меньше. В другой раз пригласил его ташкентский полковник, пришел к нему Исмаил с чуточку увеличенной по сравнению с прежней мздой. В третий раз полковник приглашать непослушного артельщика не стал, а произвел его арест. Если спросить, - а за что! – так было за что и под расстрел подвести! Тут вступились все же за Исмаила другие городские боссы, спасли от тюрьмы, но в назидание другим все же настоял милицейский начальник на отправке Исмаила на великую стройку простым землекопом. Исмаил уже через неделю стал здесь на пятом участке заведующим хозяйством – хоть не велика должность, но все же не кетменем махать. А еще через пару месяцев организовал он здесь мастерскую по изготовлению всего, что выгодно изготавливать, и стал необходимым для местного начальства человеком. Однако сам Исмаил решил не светиться, он продолжал работать завхозом пятого участка, артелью же управлял в свободное от официальной должности время через других лиц. Артель его заимела свои филиалы в ближайшем городе Беговате и в других населенных пунктах, так что возвращаться в Фергану ему не было нужды. Он давно уже освободился от почетного титула трудармейца, купил дом в одном из районных центров и привез туда свое семейство. На работу ездил на собственной машине, старом «виллисе», иногда оставался ночевать в домике, расположенном в зоне.
Исмаил увидел, как въехал на территорию лагеря в неурочный час грузовик, как сбросили у входа в туберкулезный барак неподвижное тело.
- Эй, этот труп должен лежать здесь, слышишь? – крикнул ему охранник.
Когда машина уехала, оробевший от ранее невиданной им сцены «Ферганец» подошел к лежащему неподвижно телу, узрел с ужасом рану во лбу и окровавленный рукав, и поспешил, было, уйти от трупа. Но внезапно труп застонал. Исмаил оглянулся по сторонам и наклонился к вдруг открывшему глаза раненому человеку. Тот повел взглядом по небу, и вновь глаза его закрылись. Исмаил пощупал его запястье и нащупал нормальный пульс. «Ферганец» быстро соображал. Как раз в этом бараке он нынче обнаружил умершего, по-видимому, утром больного, и как раз сейчас собирался сообщить об этом заурядном случае охране. Он вновь оглянулся, убедился, что за ним никто не может наблюдать и, подняв раненого, понес его к нарам, где лежал настоящий труп, уже окоченевший.
Исмат открыл глаза:
- Где я? Чего ты от меня хочешь? – проговорил он.
- Здорово тебя саданули по лбу, если ты не узнаешь свой родной барак, - проговорил Исмаил, в то же время оттаскивая в сторону труп. – Ложись на место этого несчастного. Кто тебя так?
- В меня, кажется, стреляли, - проговорил Исмат.
- Так что же, пуля попала в лоб и отскочила? - Исмаил был удивлен. – Железный у тебя череп! Как же это случилось, счастливчик?
Исмат провел рукой по лбу, нащупал рану и поморщился от боли.
- Я ничего не помню, - он, действительно, не помнил.
- Видно сбоку стреляли, из берданки, - Исмаил тоже осмотрел рану. – Да, легкая пуля была, срикошетила. Но черепок у тебя крепкий! Как тебя зовут? Исматов? Подожди-ка…
Исмаил пошарил рукой и достал из-под набитой опилками подушки завернутые в платок бумажки.
- Так! Значит, ты теперь будешь Адиловым Адилджаном, прибыл сюда из райцентра Балыкчи. Ты все понял? Соображать можешь? Ты там что-то натворил, в тебя стреляли и решили, что ты мертв. Теперь будешь жить под другим именем, а бедняга Адилов будет похоронен вроде бы как ты. По моему, это тебе выгодно, а?
Исмаил понимал, что если спасаемый им человек окажется слабаком и выдаст себя, то серьезно пострадает и он. Но таков уж был по своей авантюрной натуре этот «Ферганец», любил он острые ситуации. А что может быть острей, чем дать жизнь человеку?
- Ну, что молчишь? – наклонился он к Исмату.
Исмат, действительно, обладатель, как выяснилось, железного лба, приходил в себя после шока от срикошетившей при косом попадании пули.
- Спасибо, я все понял, - он сделал попытку встать.
- Э, нет! Ты не все понял! Вставать тебе не надо! Ты снимай эту рубаху, в ней дыра от пули. Наденешь рубаху этого бедняги, а твою я натяну на него. Слушай дальше. Ты, еле двигая языком, скажешь, что Исматов утром напал на тебя, Адилова, с ножом, поранил тебя в голову и в плечо.
«Ферганец» заглянул в тумбочку Адилова и достал оттуда нож.
- Сейчас придется потерпеть, - сказал он, глядя в глаза Исмата. – Я разрежу ножом твои раны на лбу и на плече. Стерпишь?
- Я фронтовик, - произнес понявший намерения этого человека Исмат. – стерплю, режь!
- А я, вот, на войне не был, но тоже стерпел бы, чтобы остаться живым! – и Исмаил резанул Исмата по лбу наискосок поверх пулевой раны. Исмат крякнул, кровь залила его лицо.
- Это еще не все, - прошептал «Ферганец», нервно стиснув зубы. – Давай руку.
Пуля прошла через мышцы, не задев кости. Исмаил быстро сунул острый кончик ножа в маленькое пулевое отверстие и рванул лезвие, будто бы разрезал баранью тушу. Исмат испустил короткий крик, но уже через полминуты пришел в себя. Исмаил же был бледен, руки его дрожали. Он присел на нары.
- Мясник из меня не получился бы, - произнес он.
- Спасибо, - сказал Исмат, глядя на своего спасителя. – Спасибо. Я вижу, как тебе трудно.
Исмаил бросил окровавленный нож на пол и встал, произнеся едва слышно:
- И это еще не все. Дай, Аллах, мне силы докончить начатое дело.
Он поднял с лежанки труп Адилова и донес его до выхода из барака. Положив свою ношу на землю, он вышел наружу и вскоре вернулся с большим кованым гвоздем в одной руке и с булыжником в другой. Он приставил гвоздь ко лбу трупа и, мысленно попросив у него прощения, ударил булыжником по головке гвоздя. Такую же операцию он проделал на предплечье покойника и затем заставил себя расковырять раны ножом. Осматривать нанесенные им трупу раны он уже не имел сил, но надеялся, что несчастного отправят в общую могилу, не подвергая судебно-медицинской экспертизе, которая вряд ли будет проведена – раздувать происшествие не было ни в чьих интересах. Потом Исмаил выглянул из предосторожности за дверь, вынес труп и уложил его там, куда был сброшен недавно Исмат…
Как уже было сказано, больных и даже умирающих от болезней рабочих содержали здесь же в бараке. Другое дело пострадавший от разбойного нападения взбесившегося убийцы раненый трудармеец Адилов. В тот же вечер, еще до возвращения других обитателей барака, его вызванные Исмаилом санитары отвезли в госпиталь, где лечили охранников лагеря, и поместили в приличной палате, рассчитанной на десятерых пациентов, но нынче почти пустующей. К нему, как к жертве врага советской власти, отнеслись чуть ли не как к герою, отменно кормили и даже залечили туберкулезные очаги в легких. Исмат испытывал чувство жалости к человеку, чье имя он теперь носил, но ни капли раскаяния не было у него в душе по поводу убитого им охранника-садиста. «Ферганец» не раз посещал его, и Исмат каждый раз находил возможность тихо высказать ему свою благодарность, что было приятно Исмаилу. После того, как «Адилова» подлечили, его, опять же стараниями Исмаила, перевели в другой барак и назначили учетчиком в бригаде новоприбывших «строителей коммунизма».
…Девушки уже минут пять топали по пыли, обсуждая неожиданно возникшие обстоятельства, когда сзади затарахтел мотор машины. Дряхлая полуторка, гремя пустыми металлическими флягами, догоняла их. Аня выскочила навстречу машине и замахала рукой. Грузовичок остановился.
- Куда тебя черт несет, мать твою так! - русый парень в синей майке высунулся из кабины.
- Довези до пятого участка! - обрадовавшись встретившемуся соплеменнику закричала Аня.
- Садись в кабину, коза! - с притворной грубостью ответил шофер. - Девки твои пусть в кузов лезут.
Айше и Ифет, помогая друг другу, влезли в кузов и сели на корточки у борта.
- Ой, их там флягами не побьет? - озабоченно глянула на подруг Аня, забираясь в кабину.
- Не побьет, ехать-то десять минут.
- По такой дороге? Ты уж не гони машину.
- Ладно, довезу в целости. Ты откедова взялась в этих краях? Как зовут-то?
- Да вот, приехала к тетке в Коканд, а эта вот узбечка, соседка теткина, к жениху сюда собралась, так и я с ними.
- На экскурсию, значит приехала. А то давай, оставайся на стройке! Работа найдется, в общежитии койку дадут. Здесь вольнонаемным хорошие деньги платят.
- Так я же в техникуме учусь! Чего это мне вдруг тут оставаться?
- А чё? Жениха тебе найдем.
Так в светской беседе доехали до серого одноэтажного здания.
- Тут ваш пятый участок. А мне до седьмого. Эх, жаль с такой красивой девушкой расставаться. Дай адресок, что ли?
- Давай записывай или так запоминай! - Аня назвала веселому парню свой адрес на почту до востребования. К тому времени подруги ее уже стояли возле машины. Поблагодарив шофера, девушки пошли к серому зданию.
Аня и Ифет остались снаружи в тени нависшего над входом козырька. Айше вошла и оказалась в начале обшарпанного длинного коридора. Толкнув ближайшую дверь, она оказалась в невзрачной комнате, в которой стояло четыре письменных стола. За двумя из них сидели мужчины одетые в потертые солдатские гимнастерки, в таких же галифе, но в белых спортивных тапочках без шнурков на голу ногу.
- Салам, ака-джан, - смиренно обратилась Айше к тому, который выглядел поначальственней.
- Ха, нима гап? (Ну, в чем дело?) - отозвался неласково начальник охраны, догадываясь, что девушка будет просить о свидании.
- Адилов Адилджан, мой жених, уже год здесь. Разрешите повидать его.
- А документы у тебя есть?
- Конечно есть, ака-джан! - Айше достала справку, которую год назад, работая в конторе, написала сама себе. Справка заменяла колхозникам паспорта, и, рассмотрев ее, начальник нисколько не засомневался в том, что девушка приехала из колхоза проведать своего жениха. Через год работы такое свидание было разрешено, но дело было в том, чтобы выманить у девушки какую-нибудь мзду.
- А как ты докажешь, что Адилов Адилджан твой жених?
- Вой! А зачем бы я ехала бы в такую даль к чужому человеку?
- Да, зачем бы... - начальничек почесал затылок. - А может быть ты попросишь для твоего Адилджана и отпуск на несколько дней?
- А можно, ака-джан? - встрепенулась Айше.
- Вот этого нельзя! - обрадовался начальничек. - Руководство стройки строго запретило!
- Ну, хоть тут повидаться, - печально ответила Айше, но девушка поняла, что начальничек очень хочет, чтобы она понастойчивей просила отпуск для своего жениха. Но и начальничек не огорчился смирением молодой невесты. Он знал, что после свидания обязательно последует и другая просьба.
- Хоп! Эй, Эргаш, - позвал начальничек через окно охранника, - В обеденный перерыв пойдешь во второй отряд, приведешь сюда учетчика Адилова! А ты подожди на улице, когда придет твой жених, я тебя позову.
Айше присоединилась к подругам, присевшим на земляном пороге. Время тянулось медленно, было жарко и очень хотелось пить. Через полчаса вышел давешний начальничек и подозрительно уставился на двух других девушек.
- А эти кто такие?
- Они со мной, у нас в колхозе работают, на ферме, - торопливо стала объяснять Айше.
- На ферме? - оглядывая не по-здешнему одетых девушек, начальник недовольно прищурился. - В колхозе, говоришь? А по нашему они знают?
- Нет, откуда им знать! Их после учебы к нам на практику направили, на лето, - нашлась что сказать Айше.
- А, на практику... - это казалось правдоподобным, и подозрения начальничка стали развеваться. - Чего это они в нелегкий путь с тобой отправились?
- На великую стройку хотят посмотреть! - вдруг ставшим звонким голосом ответила Айше.
- Да, понятно, на великую стройку, - начальничек успокоился. - Ну, заходи, сейчас приведут твоего Адилова.
Айше поспешила за ним, дав знак девушкам, чтобы оставались на месте и не привлекали к себе излишнего внимания.
Айше вошла в комнату для свиданий, повторяя про себя «Адилджан, Адилджан…». В комнате кроме стола в окружении четырех табуреток и деревянной полки с фарфоровым чайником с двумя пиалами по соседству больше ничего не было. У окна стоял, отвернувшись, загорелый до черноты мужчина в серого цвета панталонах чуть ниже колен, в такого же цвета узбекского покроя рубахе. Мужчина обернулся, и Айше увидела изможденное лицо человека, которого можно было принять за старшего брата Исмата. Глаза Исмата смотрели на девушку растерянно и тревожно. Он молчал.
- Ис… Адил-ака, салам алейкум! Как поживаете, Адилджан-ака? - Айше подошла поближе. Исмат все также тревожно глядел на девушку, стараясь уловить ее реакцию на его изменившуюся внешность, на его измученный вид. Пораженный сообщением Исмаила, что к нему приехала его невеста, он сперва даже не хотел идти на свидание - какой мужчина захочет увидеть жалость к себе в глазах женщины? Но потом осознал, что отказаться от встречи с девушкой, прибывшей к нему издалека, есть худший вид трусости. Что же, нет его вины в том, что трудармейская жизнь превратила здорового молодого мужчину в изможденного раба.
- Здравствуй, Айше... Очень рад тебя видеть… Но зачем ты проделала такой большой путь ради этой встречи? Из таких далеких мест приехала...
Когда Исмат произнес слова о далеких местах, девушка, сдвинув брови, подала ему знак. Исмат слабо улыбнулся, он знал уже, что она здесь назвалась узбечкой из колхоза.
Охранник, приведший Исмата, направился к двери.
- Ну, поговорите. У вас в распоряжении десять минут, - и вышел.
Оставшись наедине, Айше и Исмат молча глядели друг другу в глаза. Исмат истолковал растерянность и молчание девушки однозначно. Айше же в это время быстро обдумывала дальнейшие свои действия.
- Подожди, Исмат! - девушка произнесла это по-русски. Она легко коснулась руки мужчины и быстро вышла из комнаты. От ее прикосновения Исмата как будто встряхнуло, он ослабел и присел на одну из табуреток. Но вместе с тем этим прикосновением в него проникла какая-то внешняя сила, в одно мгновение как бы пробудившая его от тяжелого безнадежного сна. Он другим взглядом видел теперь эту убогую комнату, как-то уже по-другому виделся ему котлован за окном, у него появилось ощущение, что он туда больше не вернется. И он с ожиданием чего-то волшебного глядел на дверь, за которую вышла Айше.
Айше, стараясь выглядеть как можно спокойней, вошла в соседнюю комнату:
- Ака-джан, гап бор. Чыкынг. (Есть разговор. Выйдите.)
Начальничек, кинув довольный взгляд на сослуживца, который одобрительно кивнул, вышел за девушкой в коридор.
- Ака-джан, Адилджан очень похудел. Разрешите отпуск на два дня, я его подкормлю в соседнем кишлаке.
- Э-э, нет! Этого я разрешить не могу! Можешь приготовить ему еду и принести сюда. Отпустить не могу!
- Ака-джан, - Айше доверительно приблизилась к начальничку. - Вот у меня кольцо, доставшееся мне от бабушки. Это вам подарок за вашу доброту. Прошу вас, отпустите Исма…, отпустите Адилова хотя бы до завтрашнего вечера!
Начальничек, не обратив внимания на оговорку, с деланным безразличием взял протянутое девушкой кольцо с камнем, и сразу понял, что цена ему много больше, чем обычно он берет за предоставление рабочим краткого отпуска. Он быстро сообразил, что своему сослуживцу, всегда имеющему долю от получаемой мзды, он даст пару червонцев из своего кармана, а кольцо, конечно же, утаит.
- Ну, хорошо. Отпускаю до завтрашнего вечера. В кишлаке, который вон там виднеется, спросишь Карима, он дает за небольшую плату ночлег. И плов приготовит. - Карим этот был ему свояком и подрабатывал на отпущенных на краткий отдых трудармейцах.
- Спасибо, ака-джан! Буду Аллаха молить за ваше благополучие! Спасибо большое!
- Ну, пойдем к твоему жениху, - начальничек убрал в карман кольцо и впереди Айше пошел в соседнюю комнату.
- Ну, палван (богатырь), иди в барак и смени рабочую одежду. Отпуск тебе даю до завтрашнего вечера!
Исмат оглянулся на Айше:
- Спасибо, хозяин. Спасибо, сестренка. А может не надо?
- Надо, надо! - испугалась Айше. - Поскорее возвращайтесь!
Исмат спешно ушел, еще раз оглянувшись на так внезапно появившуюся вновь в его жизни девушку.
Айше вышла к своим подругам и сообщила, что сейчас явится Исмат, и они отправятся с ним в кишлак.
- Никаких расспросов сейчас не нужно. И не удивляйтесь тому, что он плохо выглядит, - в голосе Айше появилась жесткость. Подруги чувствовали напряженность момента и молчали.
Через полчаса Исмат появился на крыльце. Увидев кроме Айше еще двух девушек, он был удивлен, но постарался скрыть смущение. Он переоделся в много раз стиранные белые узбекские панталоны и рубаху, на ногах были невероятно стоптанные башмаки, и Айше упрекнула себя, что не позаботилась купить для него хоть какую-нибудь обувь. То ли за прошедшие полчаса Исмат взбодрился, то ли глаза Айше привыкли к его нынешнему виду, но он сейчас уже не казался ей таким безнадежно поникшим.
- Это мои подруги Ифет и Аня. Идем, по пути я все объясню.
Девушкам Исмат в целом понравился, хотя они были несколько шокированы его нарядом, чего Исмат, надо сказать, и опасался.
Ведя бессодержательный разговор о погоде и всем таком прочем, они удалились по пыльной дороге на полкилометра от стройки, и тогда Айше попросила всех остановиться в тени серого от зноя и пыли дерева.
- Исмат, тебе назад дороги нет. Мы приехали, чтобы увезти тебя отсюда, - вымолвив эти две фразы, Айше замолчала, ожидая реакции Исмата.
Исмат недоуменно смотрел на девушек. “Какие они легкомысленные”, подумал он. Вслух же сказал:
- Да, я бы не хотел туда возвращаться. Но это невозможно.
- Почему это невозможно? - Айше говорила твердо и уверенно. - Мы предприняли это далекое путешествие не для того, чтобы накормить тебя пловом.
- Девушки, это несерьезно! Куда я пойду?
- У нас было время все продумать, - перебила его Аня. - Уж мы с Ифет не стали бы ехать в такую даль только для того, чтобы повидаться с вами. Мы приехали, чтобы спасти вас, чтобы спасти тебя, Исмат, и ты не имеешь право проявлять трусость.
- А вы знаете, что побеги со стройки иногда происходят, и тогда на человека объявляется всесоюзный розыск? Да нам даже из Узбекистана не выехать!
- Если ты будешь думать, что спастись нельзя, то опасность попасться в руки властей возрастет. Надо верить в удачу! - пылко произнесла Айше.
- Айше, я здесь стал другим человеком. Я потерял веру в жизнь. Я потерял надежду на счастье.
- А это не счастье, что такая девушка примчалась спасать тебя! - возмущенно воскликнула Ифет.
- Да, такая девушка... А, знаешь ли, Айше, что у меня был туберкулез в активной форме?
- Ничего, выучусь на врача и буду всю жизнь тебя лечить, - ответила Айше.
Подруги внимательно поглядели на Айше и рассмеялись:
- Это уже почти, что предложение сердца и руки! - заметила Ифет.
Айше восприняла эту реплику спокойно и оставила ее без ответа, но Исмат смутился.
- Айша-хан, - сказал он по-узбекски, - я простой колхозник, у меня нет никакой специальности...
- Тебе еще нет и тридцати лет! - вспылила Айше. - Если ты боишься бежать из этой тюрьмы, то, значит, ты слаб и нерешителен. Тем более мы не можем оставить тебя здесь! Все! Ты знаешь эту местность лучше нас, сообрази, как нам надежней скрыться.
- Если нас поймают, то наказанию подвергнут всех... - начал было Исмат, но, увидев ярость в глазах Айше, осекся и поспешил сказать: - Нам надо идти в сторону гор...
С этими словами молодой мужчина огляделся вокруг и, убедившись, что никто их не может видеть, быстро спустился с дорожной насыпи. Девушки молча последовали за ним. Дрожащие в знойном мареве серые приземистые дома недальнего кишлака остались слева, а беглецы шли по руслу высохшего то ли арыка, то ли природного ручья в направлении деревьев, окаймляющих плантации хлопка. Там их уже не смогли бы заметить с дороги, там они могли бы остановиться и детальнее обговорить план дальнейших действий.
Почти не обмениваясь словами они прошли минут двадцать по тропе, идущей под корявыми тутовыми деревцами и остановились у небольшого арыка с мутной водой. Умывшись и тем самым немного освежившись, молодые люди уселись в тени.
- Значит так, - начал Исмат. - К вечеру мы вдоль малолюдных сейчас хлопковых полей дойдем до арчовой рощи у подножия Кураминских гор. Там заночуем, а утром выйдем на дорогу, по которой в одну сторону можно дойти до большого города Ташкента и там затеряться, идя же в другую сторону можно оказаться в Киргизии. Там, в городе Ош, у меня живет друг, мы вместе были на фронте. По дороге есть милицейские посты, но их мы можем обойти стороной.
И немного подумав, добавил:
- В Ташкенте много народа, никто не обратит на нас внимания. А в Оше нас сразу заметят.
- Надо идти в Ташкент и сразу на вокзал, - сказала Ифет.
- Да, именно так! - поддержала ее Айше.
- Ну, а что потом? - невесело засмеялся Исмат. - Куда вы меня привезете?
- Приедем в Казань, там устроишься рабочим на завод! - воскликнула Айше. - Рабочие везде требуются, дадут место в общежитии, а там уже видно будет.
- В таких штанах и в такой обуви меня на завод пустят? - вновь попытался пошутить Исмат.
- Штаны? Вот тебе штаны! - под довольный смех подруг Айше достала из рюкзачка купленные загодя штаны из простой хлопчатобумажной ткани, но такие, какие носят мужчины за пределами Узбекистана. – Жаль, что обуви нет, я не знаю твоего размера.
Растерявшийся от очередной неожиданности Исмат взял брюки, встряхнул их и оглянулся, ища взглядом кустик, за которым можно было переодеться.
- Не торопись! - Аня в свою очередь достала из своего рюкзака полученный от Гульчехры узел с одеждой. - Вот, это тоже тебе.
Исмат развернул узел и удивленно ахнул.
- А это богатство у вас откуда?
И был удивлен тем, что девушки вдруг замолкли, посерьезнели лицами.
- Это велела тебе передать перед смертью твоя мама, - тихо произнесла Айше.
- Мама… - Исмат бережно поднес последний подарок матери к глазам и что-то стал шептать. Потом поднял голову и посмотрел на Айше:
- Так вы, значит, в моем кишлаке побывали? Когда мама скончалась?
- Девочки были в кишлаке. Они встретились с Гульчехрой, никто кроме нее об этом посещении не узнал. Гульчехра и рассказала про тетушку Холида-хан.
Исмат сидел молча. Сейчас, когда у него появилась надежда на жизнь, в памяти его промелькнули события последнего года. Смерть матери, оставшейся в одиночестве, особенно сильно ранила его душу. Ифет, понимающая, о чем он думает, произнесла слова, должные утешить молодого мужчину:
- Гульчехра рассказала, что мама ваша умерла легко. Похоронили ее как положено. Дом ваш закрыли на замок до вашего возвращения.
- Но возвращаться туда тебе нельзя! - воскликнула испугавшаяся Аня.
- Нет, нет! Сейчас возвращаться нельзя! - тоже испугалась Айше.
Исмат поглядел на девушек.
- Конечно, показываться там мне нельзя. Это очевидно!
Что же, подумал он, девушки его за истеричного недоумка, что ли, принимают? Надо взять себя в руки.
Все помолчали. Потом Айше сказала:
- Исмат, сейчас ты лучше надень свою национальную одежду. Вроде бы как веселый молодой бездельник со знакомыми девушками на прогулку вышел.
Исмат взял узел с одеждой и отошел за кусты шиповника. Через несколько минут он вышел оттуда в чистой белой одежде, в новом шелковом халате, перевязанным по талии цветным шелковым платком, на боку в кожаном чехле традиционный узбекский нож - и впрямь молодой богатый бездельник. Только вот обувь была ниже всякой критики. Посмотрев на его ужасные башмаки, все весело рассмеялись.
- Ну, ничего! Что-нибудь придумаем! - заключила Аня. - Немного денег у нас еще есть.
- И у меня деньги есть, - сказал Исмат,- Нам же здесь хоть и мало, но платили. А тратить не на что было. Так что на первое время хватит.
- Сейчас главное, чтобы это первое время получить, - произнесла, посерьезнев, Айше. - Ну, что теперь?
- Теперь в путь, вон к тем синеющим вдали горам!
Глава 5
Анатолий Аронович имел немалый жизненный и педагогический опыт, все примечал, сравнивал, запоминал. Мальчик приехал из небольшого поселка, где в школе, по всей вероятности, едва набиралось полкласса с обучением на русском языке.
- Сколько в твоем классе было учеников? – спросил он, рассматривая школьные документы Камилла.
- Восемь учеников, - отвечал Камилл. Его только что секретарь школьной канцелярии направила к куратору одного из классов, перед которым он сейчас и сидел.
- Да, конечно, быть отличником в такой маленькой группе легко, - усмехнулся Анатолий Аронович, куратор.
Он помедлил, потом добавил милостиво:
- Ну, хорошо, я тебя принимаю в мой класс, - и заключил, вроде бы как идя на не очень желаемую уступку: - Посмотрим, как ты будешь учиться у нас. Расписание уроков знаешь?
- Да, конечно! – Камилл был невообразимо счастлив. Анатолий Аронович поглядел на его лицо и умилился про себя, вслух же не преминул заметить:
- В нашей школе учиться не каждому под силу. Посмотрим, как у тебя получится…
Камилл до той поры знавший ужасную школу оккупационных лет, а потом проучившийся пять лет в узбекском захолустье, был на вершине счастья. Он прошелся по этажам, заглядывал в классы, несколько удивленный тем, что парты в этих классах выглядели такими же, а то и более ветхими, как и в чинабадской школе. Но когда он увидел просторный актовый зал со сценой, радость вновь заполнила его душу! А еще внизу его поразил спортзал с гимнастическими снарядами – это было как в кино!
Шла последняя четверть учебного года, и учителя отнеслись к новому ученику, появившемуся в эту ответственную пору, с некоторой настороженностью. Однако ученик бодро отвечал на вопросы, внимательно слушал объяснения, и вскоре педагоги успокоились, поверив, что с этим вряд ли возникнут трудности с аттестацией.
Однако был один человек в школе, который, напротив, резко ухудшил свое отношение к новому семикласснику по истечении нескольких дней после его появления. И этим человеком был директор школы Ефим Яковлевич. Товарищ директор узнал о том, что отец нового ученика отбывает двадцатипятилетний срок в лагерях. Подумать только – двадцать пять лет! Ну, о таком здесь еще не слыхивали! Наверное, очень уж страшный преступник папаша этого новенького - и какой черт занес его сюда?
А узнал эту страшную новость директор школы на заседании райкома партии, куда он был приглашен. Секретарь райкома не то, чтобы велел Ефиму Яковлевичу установить над учеником Афуз-заде специальное наблюдение, но вроде как бы намекал, что надо держать ухо востро.
«Ах, какая неприятность! Нет, чтобы пошел этот сын врага народа в соседнюю школу имени Горького, приперся, видите ли, в школу имени Сталина. А нет ли в этом выборе злостного умысла?», – мучился Ефим Яковлевич
Несмотря на то, что директор счел своим долгом распространить информацию о страшном контрреволюционном родстве Камилла среди своих педагогов, в целом отношение к новому ученику в школе имени Сталина было вполне лояльное. Не исключено, что некоторые учителя, такие, как математик Бетя Моисеевна, например, именно по этой самой причине с добрым вниманием отнеслись к несколько скованному по первой поре юноше. Но, впрочем, очень скоро этот юноша показал, что он вполне независим как от добрых, так и враждебных намерений окружающих. Былая его скованность улетучилась вслед за тем, как он завоевал среди соучеников авторитет своими отличными ответами на уроках и готовностью поддержать любую акцию, затеваемую в классе или в школе без оглядки на школьные правила, сковывающие инициативу. В общем, Камилл очень скоро акклиматизировался и не испытывал никаких комплексов.
Правда, одно событие тех дней оказалось способным осложнить в будущем его школьную жизнь. Странно, но преподавание «Конституции СССР» в седьмом классе было поручено учителю химии Владиславу Владиславовичу. На экзамене он влепил Камиллу тройку по этой самой «Сталинской Конституции». Вполне возможно, что сделал он это по указанию Ефима Яковлевича. Но, может быть, директор школы был не причастен к этому злонамеренному занижению оценки, ибо предположить, что этот появившийся на исходе учебного года парнишка может стать одним из школьных лидеров, стать претендентом на школьную медаль, не приходила в голову ни Ефиму Яковлевичу, ни Владику - так называли своего химика ученики. Но Владик не любил всех этих узбеков, корейцев и прочих татар, не различая, кстати, среди них крымских. Не любил их не по расовым соображениям, а только из-за того, что они были носителями другой культуры, точнее, по его мнению, недокультуры. Учитель этот был культурологическим расистом, так сказать. Для Владика был невыносим его коллега Владимир Николаевич Цой, кореец, преподаватель русского языка и литературы, получивший образование в Ташкентском пединституте в те годы, когда в нем преподавали корифеи, эвакуировавшиеся во время войны из Москвы и Ленинграда. Случай корейца Цоя разрушал мировоззрение Владика. Уж занимались бы эти корейцы математикой, как Ким, завуч школы, хороший, говорят, математик. А то влезают, понимаешь, в великую русскую литературу.
Итак, все предметы за седьмой класс, кроме Конституции СССР, Камилл сдал на пять. После экзаменов на заключительном классном собрании уже восьмиклассников Анатолий Аронович только крякнул, подойдя к фамилии нового ученика, которого одноклассники уже приняли за своего надежного товарища - опору в неравной схватке со школьными заданиями.
Лето прожили в снимаемом родственниками двухкомнатном домике. Мама, приобретшая в бытность в Чинабаде опыт работы в бухгалтерии, нашла место в одном из здешних учреждений, и к осени женщина и двое ее сыновей уже сами арендовали дом-времянку у одной украинской семьи, оказавшейся когда-то в Узбекистане совершенно не по своей воле.
Отношение к спецпереселенцам в городке было терпимое, а точнее – привычное. Здесь очень много было корейцев, нынче уже «прощенных», но тоже ведь недавних лишенцев. Так что, когда появились новые переселенцы, то это никого не удивило. Если бы не начавшаяся в сорок восьмом году активная антитатарская пропаганда, вызванная именно этим безразличием, то вообще бы не было бы косых взглядов и разговоров за спиной.
В каникулы Камилл работал в соседнем фруктовом совхозе, чтобы заработать деньги для семьи. Но его, как и его сотоварищей из таких же несостоятельных семей, бессовестные совхозные учетчики вместе с бухгалтерскими работниками жестоко обманули при расчете, так что заработанных денег хватило только на покупку школьного портфеля и еще хорошей готовальни, которая потом долго служила ему еще и в годы обучения в Университете.
Жизнь продолжалась.
Первого сентября Камилл явился в сильно изменивший свой состав восьмой класс, куратором которого оставался Анатолий Аронович. Это был довольно крупный мужчина с зачесанными набок густыми каштановыми волосами, с глазами человека грустного и проницательного. Да, он был грустен и в известной мере проницателен, ну и, конечно, он был умным, но не настолько, чтобы не считать себя мудрым. Поистине мудрым был в этой неординарной школе только один, пожалуй, человек - математик и завуч Виктор Петрович Ким, непрошибаемый, непроницаемый, с улыбкой всезнающего Будды на широком узкоглазом лице. Виктор Петрович был признанным третейским судьей во всех коллизиях, возникавших в педагогическом коллективе, его авторитет против своего желания признавал даже Ефим Яковлевич, директор. Ефим, так директора называли за глаза почти все в школе, был амбициозный, невысокого, даже малого, роста мужчина, беспринципный и опасный. Многие боялись этого человека, который иногда проходил по школе, заполняя все ее пространство, иногда же прошмыгивал незаметно, как ящерка - необычное свойство. Не боялись его только Анатолий Аронович, что-то особливое знавший о нем, завуч Ким, который, однако, никогда не конфликтовал с ним, литератор Владимир Николаевич, философски относящийся к миру и ко всем его обитателям. А что касается неосторожного и вспыльчивого физика по фамилии Цхай, любимца всех старшеклассников-отличников, то его директор и сам остерегался – против могущего назвать вещи своими именами физика Василия Семеновича были бесполезны устные и письменные доносы. Другие педагоги или избегали общения с директором, как супруги-немцы Губерты, или робели перед ним, как молодые учительницы. Дружила с Ефимом Яковлевичем одна лишь литераторша Александра Николаевна, если можно назвать приметой дружбы уединенные беседы, во время которых литераторша говорила, а директор слушал и запоминал.
Что касается учеников, то старшеклассники директора не боялись и не уважали, ну а сорванцам из младших классов положено робеть, по крайней мере, перед директором и завучем, иначе школа не сможет существовать.
Ефиму Яковлевичу малый рост компенсировала большая голова, но при том он был не столько умным, сколько шустрым, из породы тех, кому хитрость заменяет ум. Жил он с женой и маленьким сынишкой тут же при школе, в двухкомнатной квартирке с отдельным входом со стороны спортивной площадки. Жена, унаследовавшая от своих прабабок прекрасные, всегда печальные глаза, была на голову выше мужа. Она нигде не работала, занимаясь воспитанием сынишки, который был вылитой копией своего папаши, отличаясь, может статься по причине возраста, еще большей шустростью. Младшеклассники, которые занимались во вторую смену, на переменах играли с трехлетним малышом, гонявшим по школьному двору на трехколесном велосипеде. Старшие же классы, не любившие своего директора, были подчеркнуто равнодушны к мальчишке, которого именовали не иначе, как «Ефимом Яковлевичем», в то время как директора называли между собой только по имени.
С началом нового учебного года Камилл сразу, без какой-либо раскачки, захватил лидерство в классе. Бывший первый ученик Алексей отошел на второй план, рядом же с Камиллом стал гордый Рафаил, перешедший из другой школы и уже раньше получивший в городке, в котором любили обсуждать такие вопросы, известность как умница и отличник. Надо признать, что в целом по всем предметам первенство Камилла, обладавшего даром импровизации не только на уроках литературы, но и на математике, было признано всеми. Но Рафик был замечательным шахматистом, поэтому Камилл, совсем недавно обучившийся этой игре, относился к своему товарищу с искренним восхищением, переходившим в добрую зависть.
На первых порах появились, было, у Камилла трудности с литературой. Но причиной этих трудностей стала вовсе не слабая подготовленность его по этому предмету – отнюдь! Прочитавший немало случайных книг в чинабадском захолустье Камилл за лето не только проштудировал всю русскую классику из списка, который был рекомендован школьной программой, но и добрался до тех полок районной библиотеки, где стояли не потрепанные тома античных и средневековых авторов, имена которых давно тревожили юношу. Возникшие трудности его были связаны с высокой гражданской позицией преподавателя литературы Александры Николаевны, слишком близко к сердцу принявшей опасения директора Ефима Яковлевича в отношении «сына врага народа». Дабы не быть уличенной в благодушии к выходцу из семьи классового врага, Александра Николаевна несколько раз пыталась высмеять его, с неумными предисловиями ставила высказываемые им воззрения на обсуждение класса, ожидая, поддержки со стороны других учеников. Но ученики, товарищи Камилла, с удивлением осознали грубую предвзятость преподавателя, и очередная ее попытка ошельмовать Камилла закончилась демонстративным осмеянием ее самой. Бедняжка Александра должна бы предвидеть такой результат, так как она еще прежде приобрела среди старшеклассников одиозную славу очень недалекого и малопрофессионального преподавателя. До ее появления в школе имени Вождя прежние старшие классы уже познали вкус к литературе на занятиях ныне возвратившейся в Ленинград старенькой Нины Дмитриевны, а также у ее преемника Владимира Николаевича. Они не могли выносить сорокапятиминутных мук на уроках Александры Николаевны, не умеющей складно изложить даже то, что было отпечатано на страницах учебника, лежащего на парте перед каждым учеником. «Ландыши, лютики, ласки любовные…» - часто мурлыкала себе под нос эта громоздкая пятидесятилетняя женщина, демонстрируя этим, по-видимому, знание великой русской литературы и глубокое понимание аллитераций.
Как раз на первое полугодие обучения Камилла в восьмом классе пришелся открытый бунт в девятых и десятых против Александры Николаевны, после которого она была педагогическим советом отстранена от ведения предмета в старших классах и, оскорбленная, ушла в другую школу.
Камилл, прежде не задумывавшийся всерьез над выбором будущей профессии, прочел летом предназначенную для школьников книгу о сверхнизких температурах, о сверхтекучести и сверхпроводимости. С той поры он навсегда заинтересовался физикой. Любимым его учителем был Василий Семенович Цхай, который физику знал не как преподаватель, а как научный работник – глубоко, в деталях. Симпатии учителя и ученика были взаимными. Именно Василий Семенович и Бетя Моисеевна, преподававшая ему математику в восьмом классе, были активными защитниками Камилла впоследствии, когда директор школы не раз пытался на педсоветах поднять вопрос о «несоветском» поведении ученика Афуз-заде.
Но надо признаться, что ученик Афуз-заде был весьма дерзким парнишкой, и чаще, чем хотелось бы по доброму относившимся к нему учителям, давал достаточные основания для возмущения тех, которые испытывали к нему противоположные чувства.
В непростом классе, в который по воле судьбы и Анатолия Ароновича попал Камилл, царила диктатура элиты. Но здешние отличники ничего общего не имели с просиживающими штаны за учебниками ради высокой отметки – это были юноши, любящие знание, а не оценки. Приоритетными дисциплинами были литература, математика и физика, что было, главным образом, заслугой преподавателей этих предметов. Надо признать, что диктатура интеллекта, установленная в классе, была трудно переносима, как и всякая диктатура - слабаки выбивались из сил, недосыпали, чтобы хоть в какой-то степени соответствовать. Конечно, диктаторы были милостивы, во время урока находили хитрые возможности подсказывать, на переменках давали списывать, но самолюбие слабаков от того страдало еще больше.
Кстати о школьных переменках. О, эти школьные переменки! Кто не будет до глубокой старости помнить их!
Вот вам один рассказ о том, как проводили шалопаи из школы номер двенадцать предоставляемые им для цивилизованного отдыха перерывы между уроками.
В том году, когда Камилл был восьмиклассником, по идее Широбыни из девятого «Б», в миру Юры Широбокова, лучшего пианиста школы, они вдвоем сотворили однажды во время перемены такую шутку. Зашли в юркин класс и там Камилл надел на себя синий халат лаборанта так, чтобы Юра, то есть Широбыня, мог связать рукава у него за спиной. Затем Широбыня затолкнул в рот связанного восьмиклассника его же чистый платок, но затолкнул не глубоко, а просто дал ему этот платок держать в зубах. Конечно же, какой-то веревкой были связаны и ноги «пленника». Все это они проделали на большой перемене в день дежурства Петьки, который вне зависимости ни от чего всегда в это время перепрыгивает через школьный забор во двор своего дома, и пока большинство учеников толпятся в буфете или гоняют мяч на спортплощадке, принимает качественную домашнюю пищу. Теперь связанного Камилла с кляпом во рту Юрка должен был затащить в шкаф для одежды, и во время урока истории, который в этом классе ведет сам директор, на которого и был ориентирован сей акт, несчастный пленник вдруг начнет подавать признаки жизни, ворочаться, взывать мычанием о помощи. Все, конечно, вскакивают с парт, бросаются к шкафу – и вот вам такой спектакль!
Свидетелем манипуляций Юрки с Камиллом оказался неожиданно вошедший в класс Амет, добродушный троечник, отголодавший в Голодной степи с сорок четвертого года по год сорок седьмой, и потому переросток, которому, однако, не угрожал призыв в армию, ибо крымские татары, как неблагонадежная нация, считались невоеннообязанными. Амет-то и помог затащить связанного Камилла в шкаф, после чего он и Юрка быстро выскочили в коридор.
Вскоре прозвенел звонок, ни о чем не подозревавшие ученики расселись по партам, все, кроме длинного Боба, который всегда стоял у косяка открытых дверей и ожидал появления в коридоре идущего в их класс учителя – такое у Бобби было хобби.
- Ефим! – сдавленно выкрикнул Боб и прыжком уселся на свое место.
Директор-историк вошел неспешной походкой, как всегда проницательно оглядел поднявшихся с мест учеников.
- Садитесь.
Педагог начал листать журнал, класс замер в ожидании, - кто станет нынче жертвой учебного процесса?
И вдруг в шкафу что-то заворочалось, раздались какие-то неопределенные звуки. Девчонки взвизгнули, Ефим хищно окинул класс многозначительным взглядом, - я завсегда, мол, ждал от вас чего-нибудь подобного, - и произнес:
- Смирнов, посмотри, что это там такое! – Смирнов был старостой класса.
Только староста открыл дверцу шкафа, как оттуда вывалился самый ненавистный директору ученик, сын врага народа.
- Ага, Афуз-заде! – безмерная радость была на лице директора. – Ну, больше я терпеть твои выходки не намерен! Это твоя последняя проделка!
Камилл мычал и вращал глазами. Девочки прекратили истерический смех, а красавица Светлана воскликнула:
- Ефим Яковлевич! Он же связан! А во рту кляп! Его спасать надо, а не наказывать!
Наивная Светлана было искренна в своем сочувствии к несчастной жертве. Тут раздались и другие голоса:
- Бедняга! Кто это его так? И почему в нашем классе?
- Кто у вас сегодня дежурный? – отвел свой взгляд от все еще связанного восьмиклассника Ефим.
Ребята между тем вытащили платок изо рта Камилла, развязали ему ноги, сняли с него халат.
- Я дежурный, - хмуро отвечал Петька.
- Что здесь произошло? Ты где был? – ярость директора временно переключилась на дежурного.
- Я… Я ходил тряпку смочить, - нашелся тот.
- А где второй дежурный? – ярился директор, - почему дежурите по одному?
Тут подал голос дерзкий Юрка, влиятельный, как хорошо знал директор, среди старшеклассников человек:
- У нас в классе, Ефим Яковлевич, всего пятнадцать учеников. Если дежурить попарно, то каждому практически придется дежурить раз в неделю, а мы этого не вынесем, это тяжело. У нас в классе всего пятнадцать человек, - с нажимом повторил он.
В этой повторной сентенции о малочисленности класса содержался открытый упрек в адрес директора. Дело было в том, что первого сентября десять учеников девятого «А» класса демонстративно перешли в соперничающую с двенадцатой школой имени Сталина школу номер семь имени Горького, в знак протеста против некоей недобропорядочной акции, проведенной Ефимом Яковлевичем.
Директор презрел сей выпад в свой адрес и опять обратился к Камиллу, которого суетливо, но намеренно не результативно освобождали от пут.
- Почему ты не на уроке?
Быстро осознав, что глупее вопроса быть не могло, директор поспешно добавил:
- Кто тебя засунул в шкаф?
- Отвечай, когда тебя спрашивает сам товарищ директор! – Юрка ради сценической полноты долбанул Камилла по затылку.
- Ой! – вскрикнул несчастный узник. – Это семиклассники! Я шел по коридору, они налетели, стукнули и связали. Я, кажется, сознание потерял…
- А оно у тебя было? – басом произнес переросток Амет под общий хохот.
- Я их поймаю! – воскликнул Камилл. – Ефим Яковлевич, они, эти семиклассники, совсем обнаглели!
- Житья от них нет, - произнес все тем же басом Амет под общие одобрительные возгласы.
- Дылды противные! Смотрите, что с малышом сделали! – возмущались, сдерживая смех, девочки, а в малыше было метр восемьдесят росту.
Осенью сгорела частично школа-семилетка возле сахарного завода, и седьмой класс из этой школы перевели сюда. Тамошние ученики по суждению двенадцатой были грубы и неинтеллигентны, а двенадцатая школа имени Сталина считала себя элитой города, хотя это мнение оспаривала седьмая школа имени Горького. Так или иначе, второй седьмой класс, расположившийся на первом этаже, был как гвоздь в ботинке для всех старшеклассников, которым был неприятен кондовый стиль поведения пришельцев. Ну а «погорельцы», как их здесь именовали, ни в чем, естественно, уступать чванливым хозяевам не желали а, напротив, всячески их задирали, тем более что половину «погорельцев» составляли, действительно, «дылды-переростки». Пока что серьезных столкновений не было, но директор опасался, что этого не долго ждать. Эти опасения руководства школы Камилл хорошо знал, поэтому заныл:
- Ефим Яковлевич, выстройте этих семиклассников в шеренгу по одному, я опознаю хулиганов! Этого нельзя так оставлять! – ясно было, что во избежание продолжения конфликта, о котором могут узнать в районном отделе образования, директор такое опознание проводить не будет.
Ефиму Яковлевичу, у которого все же оставались сильные сомнения в правдивости представленной Камиллом и девятиклассниками версии, показалось разумным не раздувать это событие.
На всякий случай, чтобы обезопасить себя от возможных последствий, директор обернулся к выходящему из класса Камиллу:
- Афуз-заде, тебе к врачу не нужно?
Камилл остановился, ощупал себя, глядя в потолок, и расслабленно вымолвил:
- Не, я перетерплю. Не могу позволить себе пропускать уроки.
Всем опять стало очень весело, улыбнулся и Ефим:
- Ну, иди в свой класс, скажешь, что я тебя задержал.
А у Камилла был как раз пустой урок.
Однажды, уже в мае другого года, Генка Бывалов, учившийся классом старше, после уроков отозвал Камилла в сторону.
- Ты знаешь, что Айдер Шакиров в тюрьме? – спросил он.
- Как в тюрьме! За что? – Камилл был ошарашен этой новостью.
Айдер окончил школу в прошлом году и твердо решил пойти по стопам старшего брата, еще до войны получившего диплом Крымского медицинского института. Однако год был пятьдесят первый, жестокий в отношении крымских татар и других спецпереселенцев. В те годы разрешение на учебу в институте молодым представителям неблагонадежных этносов советская власть, как правило, не давала, совершенно справедливо полагая, что получивший образование крымский татарин или чеченец - это бомба замедленного действия для режима. Едва ли один из десяти получивших школьный аттестат крымских татар имел возможность стать студентом - это могло случиться в том случае, если юноша или девушка оканчивали школу с блестящими успехами, становившимися известными населению города или поселка. Тогда, чтобы избежать нежелательных разговоров среди этого населения, разрешение на поступление в вуз лишенцу предоставлялось.
Замечу, что в некоторых районах нередки были случаи, когда спецпереселенцу, закончившему семь классов, не давали возможности продолжать учебу даже в следующей ступени средней школы - просто изгоняли, выдав на руки документы о семиклассном образовании.
Айдер не получил разрешения на поступление в институт, хотя еще с осени загодя обращался с прошениями в соответствующие инстанции. После получения им «аттестата зрелости» среди знакомых был распространен слух, что парень поступил на работу в один из ближних совхозов. На самом же деле он подал тайно документы в Ташкентский медицинский институт и, скрыв, не знаю уж как, свое крымскотатарское происхождение, успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на первый курс. Об этом знали только его близкие родственники, даже школьные товарищи были уверены, что их одноклассник вкалывает в совхозе. Айдер раз в месяц тайно, в ночное время, приезжал домой, наедался домашней пищи, брал с собой припасы и также тайно в следующую ночь возвращался в Ташкент, благо, что городок стоял на шоссе всего в двадцати пяти километрах от узбекской столицы.
Благополучно преодолев экзаменационную сессию в конце первого семестра, он целых две недели пробыл дома, прячась в дальних комнатах от случайно заходивших соседей. И в начале второго семестра каратели вышли на след юноши…
Говорили, что существует специальная группа из сотрудников органов безопасности, которая дотошно проверяла всех студентов-первокурсников - не скрывается ли под честной маской славянина или неизбежного в Узбекистане узбека лукавый кавказец или коварный крымчанин. Видно группа эта была немногочисленна, а может халтурно работала, потому что очередь до первокурсника Шакирова дошла только в начале февраля. Но сколько бы веревочке не виться… В конце концов, преступник был разоблачен и схвачен. А коль был схвачен, то и был посажен в Таштюрьму – я там бывал.
Никто не сообщил родственникам Айдера о его аресте. После того, как прошло более месяца, а студент дома не появлялся, брат его поехал (несанкционированно, конечно, тоже рискуя свободой!) в Ташкент, пришел в общежитие - товарищи пропавшего студента могли только сказать, что Айдера уже давно никто не видел. Пошел доктор Шакиров в деканат института - и там ничего не знали о студенте Шакирове, который почему-то перестал посещать занятия. Доктор вернулся в свой городок и официально запросил комендатуру о своем брате. Вскоре ему сообщили, что Айдер Шакиров находится под арестом за злостное нарушение режима спецпоселения. Комендант намекнул, что и спецпереселенец доктор Шакиров, брат преступника, может быть привлечен к ответственности за сообщничество или хотя бы за недонесение.
Очень недешево обошлось доктору Шакирову, не пренебрегавшему частной медицинской практикой, освобождение младшего брата еще до передачи его дела в суд…
А тогда, в мае, получив от Гены, отец которого тоже был врачом и общался с Шакировым, информацию об аресте Айдера, Камилл договорился с Аметом из десятого «Б», что вечером они пойдут к брату своего бывшего однокашника и разузнают, что и как произошло. Когда они нажали на кнопку звонка, калитку им открыл сам Айдер, который только два дня, как был освобожден. Голова молодого парня была совершенно седая.
Не хотелось бы об этом говорить, но был в школе один человек, который радовался аресту Айдера. Еще больше был бы он рад, если бы в подобную ситуацию попал бы Камилл. Айдер Шакиров был в меру непокорным, но в силу слабой успеваемости смирным, а в общем - безобидным юношей. А этот Афуз-заде… Директор подозревал, что у Афуз-заде даже нет чувства неполноценности, которое приличествовало бы ему как представителю наказанной нации и как сыну врага народа. Это, пожалуй, больше всего возмущало Ефима! Быть ссыльным и держать себя на равных! – вот откуда вся непотребность! Всяк сверчок знай свой шесток, а иначе никакого порядка не будет!
…Айдер восстановился в качестве студента первого курса медицинского института осенью пятьдесят третьего года.
…Учащиеся школ в те далекие годы уважали тех, кто отличался успехами в учебе, активностью в спорте и в школьных делах, таких любили и выбирали руководителями классных и общешкольных комсомольских и ученических организаций. Например, Камилла еще до того, как он был принят в комсомол, избрали председателем ученического комитета школы имени Сталина, как не пытался помешать этому Ефим и некоторые его эмиссары из седьмых классов. Но противодействие этой «мелюзги» только подогрело решимость старшеклассников, которых политическая сторона этого дела мало волновала. Потому городской комитет комсомола и пошел на то, чтобы принять этого Афуз-заде «в ряды передового отряда советской молодежи» - было ненормальным, чтобы председатель школьного учкома не был комсомольцем. Камиллу было сказано, чтобы он подал повторно заявление с просьбой принять его в эти самые ряды, что он и сделал – известно было, что не-комсомольцев в высшие учебные заведения обычно не принимают.
- Ну что ж, - сказала мама, узнав, что Камилл получил комсомольский билет. – Что ж, комсомол это не партия.
Глава 6
...Вечером начальник охраны пятого участка Фархад-строя на своем стареньком мотоцикле завернул в кишлак к свояку, у которого должен был провести краткий отпуск Адилов. Свояк обрадовался приходу гостя, но сказал, что за весь день в кишлак не приходил ни один посторонний человек. Значит, побег! Начальник рванул на мотоцикле назад, в контору, откуда позвонил в оперативную часть стройки и сообщил, что отпущенный до вечера с прибывшими к нему родственниками трудармеец Адилов к назначенному часу не вернулся. Тотчас по всем постам милиции и автоинспекции были разосланы сведения о группе из одного мужчины и трех женщин с их описаниями. Такая же информация была передана стукачам по всей округе...
Между тем наступил вечер. Беглецов сумерки застали уже в предгорьях. Надо было устраиваться на ночлег. На всех была одна заткнутая пробкой бутылка воды, которой девушки запаслись в конторе участка. Огонь разводить было нельзя из соображений безопасности. Сделав из бутылки по несколько глотков, путники прикорнули на жесткой траве под деревом. Усталость взяла свое, и девушки скоро заснули, Исмат же сидел и думал, правильно ли он поступил, согласившись на побег и тем самым, подвергнув риску не только себя, но и наивных девушек. Он придумывал, что сказать в случае поимки, чтобы выгородить своих бесстрашных спутниц. Конечно же, он скажет, что увел их с собой под угрозой в качестве заложниц...
Летом на юге ночи темные, но короткие. Когда стало светлеть, подул холодный ветерок, и девушки проснулись одна за другой. Надо было продолжать путь.
...Три веселые подружки и парень шли через ореховые и арчовые рощи. Пили воду из родников, закусывали сухарями, находили съедобные ягоды, прошлогодние орехи. К вечеру вышли к выстланной щебенкой дороге.
- Это, наверное, та дорога, которая ведет через перевал в сторону Ташкента через город Алмалык, - заметил Исмат. - Здесь надо быть начеку, можно напороться на милицейский патруль.
По решению Исмата беглецы пошли в сторону Алмалыка. Когда стали приближаться сумерки и беглецы уже присматривали место для ночлега, вдруг снизу из-за поворота дороги выскочила машина и, обдав не успевших забежать в лес путников пылью, затормозила. Путники попытались, было, спрятаться в окружающих зарослях, но машина дала задний ход и остановилась неподалеку от беглецов, уже отдалившихся от обочины шагов на пять. Из кабины выглянул веселый человек.
- Эй, бедолаги! Куда на ночь глядя идете? Отсюда до жилья не скоро доберетесь!
- А куда нам деваться? - ответила Аня, за что Айше укоризненно шикнула на нее.
- Что же, нам убегать от них, что ли? - вполголоса произнесла Аня. - Если убежим, то навлечем подозрение.
- Давайте к нам, сейчас остановимся на ужин! - машина, которая оказалась крытым брезентом студебеккером, медленно подала назад. - Лезьте в кузов!
Слышавший приглашение водителя человек, сидевший в кузове, спрыгнул на дорогу и опустил высокий задний борт студебеккера.
Девушки с безмолвным вопросом смотрели на Исмата.
- Принимаем приглашение, - вполголоса вымолвил Исмат, - хоть поедим по-человечески.
Девушки облегченно засмеялись и побежали к машине. Кузов был уставлен ящиками, на них сидели двое мужчин и девушка, все в одинаковых защитного цвета штанах и рубашках.
- Привет! - Аня первая поднялась в машину и уже втягивала в нее подруг. - Вы геологи, наверное, да?
- Геологи. А вы чего по ночам в горах шляетесь? - поинтересовался один из парней.
- Долго рассказывать, - Аня уже уселась, рассаживались и остальные. Машина громко зафырчала и двинулась.
- Через полчасика будет привал. Куда это вы идете? Может нам по пути? - спросил тот, который выпрыгивал из машины.
- Да нам далеко идти, - продолжала за всех говорить Аня, в то время как Исмат и Айше раздумывали, продолжать ли им играть роль плохо знающих русский язык колхозников. - Мы сейчас тоже собирались устраиваться на ночлег.
- Хорош ночлег в горах без палатки и спальных мешков! - подал реплику один из геологов.
Беглецы сочли правильным смолчать.
Тем временем машина замедлила ход, затормозила и, взревев, въехала на малой скорости на небольшую площадку слева от дороги. Сидящие в кузове геологи стали копаться в вещах, а в это время к заднему борту подошла красивая светловолосая женщина лет тридцати пяти, одетая, как и остальные, в штаны и рубашку из плотной ткани, которая, как догадались наши путники, сидела в кабине рядом с водителем.
- Ну, отдохнем и поужинаем, - она сильной рукой открыла замки и опустила борт. - Выходите!
По ее голосу можно было догадаться, что она здесь старшая. Все сошли с машины. Геологи стащили рюкзаки, стали расстилать в сторонке брезент. Женщина подошла к стоявшим кучкой несколько оробелым беглецам и внимательно их оглядела.
- Странная у вас привычка ночами гулять по горам, - произнесла она. - И компания у вас необычная.
- Да вот... – начала, было, Аня и не нашлась, чем продолжить.
Женщина подождала, все также оглядывая чудную четверку - две девушки в городской одежде и молодые узбек и узбечка.
- Ну, хорошо, - наконец произнесла она, не дождавшись внятного ответа. - Давайте, помогайте моим ребятам.
Беглецы неуверенно подошли к геологам, суетящимся на полянке под деревом, и стали им подсоблять. Рядом оказалось кострище - видно, стоянка была выбрана не на случайном месте - и скоро затрещали в веселом пламени сухие ветки.
Рассевшись на брезенте, геологи доставали из рюкзаков жестяные банки со сгущенкой и тушеным мясом.
- Эй, парень, не сиди без дела! На, открой банку, - окликнула Исмата чернобровая девушка-геолог, которую звали Любой. Тот вытащил из висящего на боку кожаного чехла нож с инкрустированной костяной ручкой и начал, было, вскрывать тушенку.
- Нет, таким ножом лучше нарежь хлеба, - другой геолог придвинул к Исмату белые кирпичики.
- Дайте мне консервный нож, я открою банки, - сказала Айше, и все хозяева застолья удивленно на нее воззрились.
- Первый раз вижу узбечку, без акцента говорящую по-русски, - высказал общее удивление шофер.
- А чего тут удивляться? - заявила Аня. - Вот эта девушка вообще русского языка не знает, - Аня показала на Ифет.
- Правда? - с наивным удивлением спросила девушка-геолог.
- Правда, - ответила Ифет, и все весело рассмеялись.
- Есть любители крабов? - парень вывалил из рюкзака несколько банок с непонятной надписью “снатка”.
- Это у нас любит только Елена Александровна, - засмеялась девушка Люба. - Дай, я открою.
Старшая женщина, которую именно и звали Еленой Александровной, молча присматривалась, пытаясь разгадать, что за гости сегодня за ее угощением. Но расспрашивать встреченных на горной дороге в десятках километров от жилья путников не сочла своевременным. Однако она обратилась к Исмату:
- Ты тоже по-русски говоришь?
- Конечно, - ответил Исмат, - я три года на фронте был, в окопах.
Но в его говоре отчетливо проявлялся характерный акцент, в то время, как девушка в узбекской одежде говорила чисто.
Началась трапеза. Гости сперва стеснялись, но после нескольких дружеских подначек со стороны геологов дружно принялись уплетать вкусную снедь. Обстановка стала непринужденной, и теперь уже не показался неделикатным вопрос, заданный шофером:
- Ну, рассказывайте, откуда и куда идете. Должен я знать, кого подобрал на дороге в горах? И чего это вы стали от машины убегать?
Гости растерянно переглядывались, не зная, что сказать. Наконец, Исмат решился.
- Вот она, - он указал кивком головы на Айше, - моя... невеста. Она приехала с подругами меня навестить, и мы заблудились. Пошли погулять по горам и заблудились. А от вас мы не убегали...
Исмат пытался улыбнуться, неловко пожал плечами, что, дескать, вот так как-то вышло, пошли прогуляться и заблудились. Он оглядел лица молчащих геологов и понял, что они не верят его простому рассказу. Елена Александровна глядела на ноги Исмата в любопытного вида башмаках. Следуя направлению ее взгляда, все перевели глаза на башмаки молодого мужчины. Удивительный обычай, говорили взгляды недоверчивых геологов, встречать невесту и ее подруг хоть и в новом халате, но в такой ужасного вида обуви. Но времена были тяжелые, может статься, не на что было купить молодому жениху хотя бы традиционные узбекские “кавоши”.
- Володя, разведи немного, - произнесла Елена Александровна давно ожидаемые ее подчиненными слова.
- Сей момент! - у Володи уже, оказывается, все было наготове: и фляжка со спиртом была под рукой, и родниковая вода уже набрана в бутылку. Появились эмалированные кружки, и вот уже Володя разливал заветное питие. Елена Александровна протянула кружку Исмату:
- Не откажешься, фронтовик?
- Не откажусь, - Исмат хоть и не любил спиртного, но ситуация была такова, что надо было выпить.
Ане и Ифет тоже поднесли кружечки, когда же подошла очередь Айше, то Володя вопросительно посмотрел на свою начальницу.
- А ты, красавица, тоже выпьешь? - никогда не видывала Елена Александровна узбечек, соглашающихся хотя бы только пригубить водки или вина.
- Лучше не надо, - ответила Айше, которая, действительно, никогда не пила водки.
- А по-узбекски ты тоже так хорошо говоришь, как и по-русски? - спросил шофер.
- Да, но водки я не пью! - с вызовом ответила Айше. Ее стала раздражать не высказываемая открыто подозрительность геологов. Но вместе с тем она понимала, что присутствие их странной группы на исходе дня вдали от жилья на горной дороге, да еще их экипировка, не похожая на экипировку туристов, не могла не вызывать недоумения.
Елена Александровна вполголоса велела своим геологам не лезть в чужие дела и не задавать вопросов гостям.
- Ну, выпьем за здоровье присутствующих, и чтобы удача нам всем сопутствовала! - Елена Александровна залпом осушила кружку, ее примеру последовали все, кроме Айше.
- Может выпьешь, а? - уже начинающий согреваться Володя с участием обратился к так неразумно обделяющей себя девушке.
- Володя, не приставай! Кто не хочет, тот не пьет.
- И кто хочет тоже не пьет, - меланхолично заметил шофер.
- Ага. Ну, давайте закусывайте, - поспешила откликнуться Елена Александровна, понимая, к кому обращена реплика шофера.
Трапеза продолжалась еще с полчаса, всем было весело, парни рассказывали анекдоты, девушки звонко смеялись. Когда пришло время убирать недоеденное и скатывать брезент, Елена Александровна подошла к Исмату:
- Ну, фронтовик, что делать будете? Мы едем дальше. Оставить вас на ночь в горах? Имей в виду, здесь медведи водятся.
Исмат молчал, глядя в глаза женщине, и, наконец, произнес:
- Возьмите нас с собой.
- А куда? Тебе все равно, куда ехать?
- Вывезите нас отсюда, а потом мы уйдем.
- Не хочешь говорить, откуда вы и куда - не говори. Но знай, на дороге через час езды будет контрольный пост. У вас все в порядке с документами?
Исмат испугался. Что предпринять? Отказ от приглашения ехать с геологами однозначно укажет на то, что им не хочется встречаться с милицией. Исмат лихорадочно обдумывал сложившуюся ситуацию. Наблюдая за ним, Елена Александровна медленно произнесла:
- В прошлом году милиция останавливала все машины, искали беглецов с Фархад-строя...
Исмат решил открыться этой женщине: если она захочет их сдать, то она расскажет милиционерам о встретившихся на горной дороге подозрительных людях, если же она захочет помочь беглецам, то она это тем более сделает, если узнает правду.
- Я убежал с канала. Фархад-строй - это ад. Там меня ждала гибель, оттуда здоровых не выпускают. Айше моя невеста. Она с подругами взялась мне помочь.
- Я так и думала, - спокойно произнесла Елена Александровна. - Не бойся. Я вас не выдам. Садитесь в машину. А перед постом я вас спрячу.
Потом начальница громко скомандовала:
- Эй, по коням! - и по знаку Исмата не спускавшие с него взгляда девушки тоже полезли в кузов.
Исмат шепнул своим спутницам, что все в порядке. Теперь им оставалось ждать дальнейшего развития событий.
Студебеккер с тяжелым урчанием преодолевал долгий крутой подъем. Через некоторое время машина остановилась. Шофер и Елена Александровна вышли из кабины и о чем-то переговаривались. Один из мужчин-геологов перевесясь из-за борта спросил:
- Что-то случилось?
Начальница подошла к борту машины и коротко скомандовала:
- Выходите все. Сергей, включи освещение.
Все озадаченно спустились на землю. В кузове зажглась тусклая лампочка, притороченная к креплению брезентового покрытия. Беглецы тревожно переглядывались. Айше бросала взгляды в темноту, окаймлявшую освещенную фарами грузовика дорогу.
- Значит так, - твердым голосом начала говорить начальница. - Всех четверых переодеть в нашу одежду. Володя и Иван Павлович, выдвиньте два сундука для образцов, положите в них по спальному мешку. Вот этот молодой человек и вот эта девушка спрячутся в ящиках. Остальные во время досмотра на шлагбауме молчат. Говорить буду я. Тебя и тебя, - Елена Александровна указала на Аню и Ифет, - я впишу в список отряда. Все. Вопросы будут?
- Вопросов нет, - ответил за всех пожилой геофизик Иван Павлович. Он и Володя сняли с больших ящиков с запирающимися тяжелыми крышками завалившие их тюки с палатками и другую поклажу, подготовили их для того, чтобы в них можно было довольно удобно лежать. К тому времени Исмат и девушки, чуть отойдя в тень машины, быстро переодевались. Исмат подошел к ящику, в котором должен был спрятаться, и заглянул в него.
- Не беспокойся, - улыбнулся ему Иван Павлович, - не задохнетесь. Вот, видишь, по бокам косые вырезы. Я иногда в таком сундуке часами сплю. Правда, ноги до конца не вытянешь, но ничего, потерпеть можно.
Когда Айше и Исмат залезали в свои сундуки и над ними захлопнулись тяжелые крышки, Ифет охнула. Все несколько нервно засмеялись. Ифет потянулась к сундуку и тревожно спросила:
- Айше, как ты там?
- Ой, как удобно! Я, пожалуй, здесь посплю.
Напряжение у окружающих спало, и раздался общий негромкий смех.
- Только не храпи, - шутливо предостерег ее шофер, и все опять засмеялись. - А ты как устроился, парень?
- Я тоже немного посплю, - раздался из сундука голос Исмата. Очередной всплеск веселья прервала начальница.
- По машинам! Всем сохранять спокойствие и хладнокровие!
Студебеккер взревел и тронулся в путь.
Минут через двадцать машина остановилась, и запертые в ящиках беглецы напряженно вслушивались в происходящий разговор.
- Какой еще такой досмотр груза, - резко говорила Елена Александровна. - Я начальник отряда Красногорской экспедиции. Наш груз засекречен. А ну, позовите своего командира!
- Я тут командир, - ответствовал капитан госбезопасности, который с утра выполнял задание по контролю едущих в обе стороны машин.
- Я такого командира здесь первый раз вижу, - парировала Елена Александровна, которая уже много раз проезжала этот пост, и которую хорошо знали здесь и милиция, и чекисты. - Свяжите меня по рации с вашим начальством.
Капитан привык к тому, чтобы с ним разговаривали подобострастно. Он был новичок в этих горах и не знал, что есть на трассе неприкасаемые, какой была как раз Красногорская экспедиция, с сорок третьего года под патронажем органов внутренних дел разыскивающая на Тян-Шане месторождения стратегически важного сырья.
- Сержант Говоров и сержант Николаев, высадите всех пассажиров! - скомандовал капитан. - Вас прошу выйти из кабины, машина будет отведена на площадку досмотра.
- Офицер, не ищите приключений на свою голову. Вот мои личные документы, вот путевой лист и документы на провоз аппаратуры. Видите гриф секретно?
Капитан посмотрел на жестко разговаривающую с ним женщину, что его несколько удивило, и протянул руку, чтобы взять из рук Елены Александровны бумаги.
- Нет! Читайте из моих рук!
Тем временем один из сержантов пытался открыть борт машины. Володя оттолкнул его:
- Убери лапы, козел!
- Я те дам козла! - сержант сорвал с плеч автомат. - Сейчас всех из машины повыкидываю!
- Ты оружием не балуй! Под трибунал захотел, мальчишка? - осадил его Иван Павлович.
Елена Александровна вышла из кабины и, увидев разгорающийся у борта машины конфликт, крикнула своим людям:
- Если допустите посторонних к грузу, то будете отвечать по суду! - и обратилась к офицеру. - Я требую, чтобы вы связались со своим начальством. За последствия конфликта вся ответственность ляжет на вас! Нарушать режим секретности можно только с разрешения союзного министерства!
Молодцу-капитану очень хотелось применить силу и наказать зарвавшихся геологов, которые, видимо, забыли, кого в этой стране все должны бояться. Но на всякий случай он пошел к рации, находившейся в его машине. Елена Александровна слышала, как он переговаривался со своим руководством:
-... Да, говорит, что какая-то Красногорская экспедиция. Да. Понял. Да, есть такая. Да. Слушаюсь!
Офицер вернулся к студебеккеру и козырнул Елене Александровне.
- Проезжайте, товарищ Войцеховская! Все в порядке! Отставить досмотр! - это он крикнул своим дотошным сержантам, которым не терпелось распотрошить этих строптивых геологов.
- Ну, что? Съел? - ехидно бросил Володя тому, который срывал с плеча автомат. - Не кашляй и остерегайся поноса!
Елена Александровна резко отвернулась от офицера и, не сказав в ответ ни слова, села в кабину, громко захлопнув дверцу.
Первые минуты после того, как машина отъехала от контрольного поста, все молчали, и только когда девушка Люба произнесла:
- Ну, если бы этот урод до меня дотронулся...- все грохнули неудержимым смехом.
Елена Александровна, видно, услышала этот смех сквозь рев мотора и велела водителю остановить машину.
- Чего веселитесь? Вытаскивайте овечек из ящиков, если они там еще не задохнулись.
Айше и Исмат лежали, затаившись, в своих ящиках и слышали все разговоры, происходившие снаружи. Когда машина отъехала, то стало ясно, что опасность миновала, но они продолжали тихо лежать в своих убежищах и готовы были, если нужно, пролежать молча еще много часов. Когда сундуки открыли и оттуда появились растерянные физиономии парня и девушки, очередной приступ веселья огласил молчащие ночные горы. Смеялась и Елена Александровна. Только она сама знала, что в случае обнаружения в ее машине беглецов не только крушение карьеры угрожало ей, но светила и тюрьма - жесткие обязательства брали на себя она и ее коллеги, когда начинали свою засекреченную работу по программе, находящейся под контролем самого Лаврентия Берии...
К полуночи машина прибыла на промежуточную базу экспедиции. Несмотря на поздний час во всех сборных домиках, а было их четыре, в окнах горел свет. Новоприбывших встретили бурной радостью. Разогрели еду, напоили чаем, предложили и кое-чего погорячее - прибывшие ни от чего не отказывались. Однако Елена Александровна попросила отпустить их поскорее на отдых, так как поутру предстояло ехать дальше, к месту работ. Кому не хватило места на полках в домиках, те расположились в кузовах стоящих здесь машин, благо, что спальных мешков было в избытке. Вскоре движок, вырабатывающий электроэнергию, остановили и на базе воцарились тишина и темнота.
Утром все обитатели базы уселись за длинным сколоченным из досок столом, дежурные разнесли миски с пшенной кашей, все пили, обжигаясь, чай из алюминиевых кружек, закусывая его твердым сахаром.
Елена Александровна отозвала в сторону Исмата и троих его спутниц:
- Хотите лето поработать у меня? Тебя, Исмат, возьму в рабочие, а ты, Айше, будешь поваром, – она поняла, что главными действующими лицами являются эти двое, но обернулась и к подругам Айше: - А вы, девочки, если хотите, тоже можете остаться.
Без раздумья Исмат и Айше приняли это предложение. У Исмата нынче были на руках привезенные ему девушками его солдатская книжка и справки о ранениях. Документы были истинные, на Исматова, а бежал со «стройки коммунизма» человек по фамилии Адилджанов. Елена Александровна, узнавшая об этом, была очень довольна, ибо при этих обстоятельствах Исмат мог практически полностью легализоваться.
Правда, Аня и Ифет напомнили подруге, что у них скоро начинается производственная практика, но Айше решила, что сейчас же напишет директору техникума просьбу о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам. На том и порешили.
Через несколько часов с базы отправлялась машина в Ташкент, которая отвезет Аню и Ифет. Группа же Елены Александровны уже загружала в свой студебеккер необходимое оборудование. Девушки со слезами обнялись с Айше и Исматом, тепло распрощались с Еленой Александровной и ее сотрудниками. И студебеккер, набирая скорость, запылил по грунтовой дороге, зигзагом поднимающейся вверх. Аня и Ифет стояли с заплаканными глазами и смотрели вослед машине, пока она не скрылась за последним видимым поворотом.
Глава 7
Рассказывают, что в столице социалистического государства Москве царил беспросветный гнет школьного руководства и местных отделов народного образования, в свою очередь находившихся под неусыпным контролем райкомов партии. Именно поэтому, наверное, страна так долго не могла сбросить иго коммунистических властей, что столичные школы выпускали запуганных бледных юношей и девушек, в то время как загорелая дерзкая молодежь обитала вдали от Кремля и от Старой площади, и вследствие этой удаленности ее влияние на ситуацию в стране было минимально. В провинции же даже в жестокие сталинские годы если и не процветало, то не увядало полностью свободомыслие. На уроках литературы, например, читали Чаадаева и Герцена, причем любимые учителя расставляли акценты весьма смело – это были те педагоги, которым небезразлична была судьба их страны.
Ученики двенадцатой школы имени Вождя народов, которой пытался руководить директор Ефим Яковлевич, были способные ребята, также и в спортивных соревнованиях держали в городке первое место. Но безобразники были отъявленные, о чем можно судить по достоверным фактам, приведенным мной в одной из предыдущих глав. И если бы такие неблаговидные поступки этих будущих строителей коммунизма были бы редкими частностями! Отнюдь! Изощренные выпады против своеволия и глупости директора и некоторых других учителей являлись обычным явлением в стенах этой школы! Часто в таких целях использовалась общешкольная стенная газета, редактором которой был большой выдумщик Юра Широбоков, а в редколлегии состоял политически неблагонадежный Камилл. Газеты, как общешкольную, так и классные, проверяли перед вывешиванием педагоги, но они то ли второпях, то ли сознательно пропускали порой некоторые острые выпады ученической общественности против педагогического коллектива и школьных властей. Вообще средства массовой информации – головная боль для любой администрации, и даже цензура не всегда спасает общество от не нужных (с точки зрения администрации) потрясений. Стенные газеты в то описываемое мной время являли собой главный источник инакомыслия.
И еще немалую опасность, с точки зрения Ефима и малого числа его единомышленников, среди которых была возвращенная им в школу литераторша Александра Николаевна, представляли школьные концерты. Самодеятельность в школе была на высоте, и тут уж никакая цензура не могла оградить от ехидного скетча или бьющих прямо в цель реплик – все шло, так сказать, «в прямом эфире». А школьные комсомольские собрания? Нет, не было на этих собраниях полного засилья дирекции и партийного комитета. Дерзкие старшеклассники держали себя в значительной мере независимо, много самостоятельности себе позволяли и в организационных, и в идеологических вопросах.
И не только в этом городке вблизи Ташкента, но и в большинстве далеких от Москвы регионах молодежь в начале пятидесятых годов была именно такой – вольнолюбивой и смелой. Между прочим, именно человек из Ставрополья, да еще другой, с Урала, расшевелили в свое время застоявшееся общественно-политическое болото. Но, конечно, в те давние годы, о которых наше повествование, перспектива больших изменений в Советском Союзе не только была сомнительна, но и мечтать о таких изменениях позволяли себе очень уж большие фантазеры.
Отношения ученика Афуз-заде и директора школы имени Сталина давно уже стали в высшей степени неприязненными. Афуз-заде в самом начале учебного года даже собирался демонстративно перейти в ту самую школу имени Горького, в которую уже становилось традицией уходить из школы имени Вождя в знак протеста. Но его тогда завел в свой кабинет завуч Ким и без обиняков сказал, что ученики и учителя седьмой школы с нетерпением ждут повторения прошлогоднего скандала с перебежкой к ним лучших учеников выпускного класса из двенадцатой школы.
- Вместе с тобой еще несколько десятиклассников покинут нашу школу, - говорил Виктор Петрович. – А ведь не один год мы соперничали с ней, с горьковской школой, одерживали победы в спартакиадах и на олимпиадах. Ты сам был участником этих сражений, Камилл. Что же теперь? Пусть все достается нашим соперникам?
Виктор затронул самые чувствительные струны камилловой души. Парень и сам неоднократно задумывался над тем, что он идет в стан давних противников, которые, впрочем, всегда относились к нему с уважением и примут его с радостью. Но Камилл знал также, что между собой горьковцы будут злорадствовать и тайно торжествовать победу. Эта была бы их победа над Ефимом Яковлевичем, а не над Камиллом, но все же…
- А Ефим Яковлевич теперь не будет придира…, не будет слишком строг к тебе, - добавил завуч.
И подумал Камилл, что такого математика, как Виктор и такого физика, как Василий Семенович в его тамошней школьной жизни не будет.
- Я остаюсь, - сказал он кратко, и вышел взволнованный из кабинета завуча.
Да, всем видных явных враждебных действий против Камилла директор более не предпринимал, но начал интриговать против него на другом уровне…
Однажды в мерзкий для всех спецпереселенцев день месяца Камилл посетил спецкомендатуру, поставил свою подпись в журнале, тем самым удостоверяя советскую власть в том, что поднадзорный Афуз-заде, ученик десятого класса школы имени И. В. Сталина, помнит о своей второсортности по коммунистическому «табелю». Но, наверное, точнее будет говорить о третьесортности, так как второсортными были все другие «нацмены» при первосортном «старшем брате» - великом русском народе. Для сомневающихся в своей второсортности узбеков, казахов и прочих молдаван во всех столицах этих союзных республик висели огромные плакаты с неизменным текстом: «Слава великому русскому народу!». Третьесортные же граждане своей социалистической родины, такие, как крымские татары, а еще калмыки, чеченцы и прочие карачаевцы, находились под гласным жандармским надзором, не имели права пересекать границы определенного им для проживания административного района, должны были каждый месяц проходить регистрацию в спецкомендатуре.
Итак, Камилл расписался в контрольном журнале, который раскрыл перед ним комендант, старший лейтенант Иванов, жизнерадостный, несмотря на свою недобрую работу, двадцативосьмилетний мужчина. Иванов почему-то в этот раз внимательно разглядывал юношу, который, как и большинство приходящих в эту комнату людей, старался не смотреть в жандармские глаза.
Причину этого внимания Камилл узнал вечером, когда вернувшаяся с работы мама рассказала ему следующее:
Иванова на днях посетил, оказывается, Ефим Яковлевич и озадаченно известил его, что, судя по всему, будет очень трудно помешать спецпереселенцу и члену семьи врага народа Камиллу Афуз-заде получить школьную медаль.
- Я пытался снизить ему оценку по поведению, но его неожиданно для меня выбрали в школьный комсомольский комитет, и все прежние его грехи тем самым оказались покрытыми. Теперь же он будет осторожен, а ведь все происходит на глазах всей школы, так что, сами понимаете, руки у меня связаны! – Ефим Яковлевич не сомневался в понятливости собеседника.
Директор школы беседовал с представителем госбезопасности в совершенной уверенности, что найдет полное взаимопонимание. Ефим Яковлевич был не чужой в органах человек. В войну по комсомольской путевке он попал на работу в СМЕРШ (карательная организация «Смерть шпионам»), но не был оставлен в органах, так как по незнанию женился на красавице Лоре, отец и мать которой были расстреляны в тридцать седьмом. Кто бы мог подумать, что Лорочка жила когда-то в Биробиджане и что в Ташкент ее привезла тетя только в начале войны! А ведь ему она говорила, что осталась сиротой в младенчестве еще в гражданскую! Как он мог ей поверить! Но она красива и он любит свою Лорочку, тем более что прошлое уже не исправишь – так успокаивал себя Ефим Яковлевич. Он, посетивший после окончания войны эвакуировавшуюся в Ташкент родную маму, привез в Киев, не спросившись начальства, молодую жену, статную, на голову его выше, с длинной каштановой косой. Через месяц его демобилизовали. Ну, да ладно, тянул бы сейчас лямку где-нибудь в особом отделе размещенной черт знает в какой глуши дивизии. Ох, только бы быть уверенным, что Лорочка вышла за него по любви, а не по совету тетки, узнавшей, что проворный молодой сын ее соседки является сотрудником госбезопасности, и, следовательно, это замужество покроет неблагополучную биографию племянницы…
Старший лейтенант Иванов был человеком проницательным. Он догадался, что бдительный директор школы имени Сталина имел когда-то отношение к органам, в которых он сам имеет честь служить. Поэтому, выслушав директора, он не разыграл возмущение необоснованным доносом, не прогнал незваного посетителя, а сухо ответил:
- Если мальчик учится на отлично, то он должен получить медаль.
- Да, но отец его осужден советским судом как враг народа! – воскликнул директор.
- Вам известны слова товарища Сталина, что сын за отца не отвечает? – чекист строго посмотрел прямо в глаза Ефима Яковлевича.
Ефим несколько растерялся.
- Да, но…
- Если у вас есть возражения, я готов вас выслушать, – офицер госбезопасности не сводил холодного взгляда голубых глаз с растерявшегося Ефима.
- Нет, нет! Какие могут быть возражения! Я только хотел…
- Что вы хотели?
- Нет, нет! Все понятно. До свидания! – и Ефим поспешно покинул здание.
- Вот сволочь! – вслух произнес Иванов, достал из портсигара папиросу и нервно закурил. Почему-то ему всегда были неприятны встречи с непрофессионалами, которые, тем не менее, носом землю роют, желая кому-то напакостить. Если усердствует службист, то это его прямой долг. Если привлеченный к заданию секретный сотрудник проявляет рвение, даже сверх меры, то это тоже надо принимать как должное. Но когда вот так, тем более в отношении к еще даже не вступившему в самостоятельную жизнь молодому человеку…
С той поры комендант Иванов, который отнюдь не был, вообще говоря, сочувственно настроен к крымским татарам, делами которых его обязали заниматься, заинтересовался этим юношей из десятого класса. И когда пришла на очередную регистрацию в комендатуру мама Камилла, он сказал ей:
- Директор школы номер двенадцать приходил ко мне жаловаться, что ваш сын отличник и претендует на медаль.
Женщина, не ожидающая от работника МГБ ничего хорошего, только устало пожала плечами:
- Ну и что?
- Я объяснил ему, что никаких препятствий к получению вашим сыном награды за отличную учебу не имеется.
- Спасибо, - с той же усталой безучастностью ответила женщина.
Однако по дороге домой ее охватило вдруг волнение. Она знала, что сын ее уже известен в городе как один из лучших учеников, разговоры ее знакомых на эту тему всегда вызывали в ней чувство гордости. Тем не менее, о медали, которую может получить ее сын, она никогда особенно не задумывалась, разговоры на эту тему пролетали мимо ее сознания. «Какие награды могут быть для нас, для членов семьи Афуз-заде», думала она, сознавая положение отверженности, в котором всегда обитают семьи политзаключенных. Хорошо еще, что не посадили ее саму, не отправили в колонию детей. Какие там медали! И вдруг этот разговор с комендантом Ивановым заставил ее пристальнее задуматься о возможности получения сыном высшего школьного знака отличия. Нет, ей не нужно было быть обласканной этой властью, она хорошо знала облик тех, кого эта власть приближала к себе. Не приведи Аллах! Но, может быть, медаль облегчит жизнь мальчика, позволит ему свободно выбрать себе специальность? Ее сослуживицы много говорят о льготах, которые, якобы, имеют медалисты…
Мама вечером рассказала Камиллу о поступке школьного директора, и на следующий день Камилл удалил Ефима Яковлевича с общешкольного комсомольского собрания. Точнее, пытался удалить, но после некоторых демонстративных заявлений милостиво позволил директору остаться! Хе-хе!
Вот как это было.
Камилл, как член комсомольского бюро и как председатель школьного ученического комитета должен был вести сентябрьское собрание, первое в начавшемся учебном году, так как накануне попал в больницу с приступом острого аппендицита секретарь школьной организации Дима Балыкин. Директор школы сидел в переднем ряду и недовольно смотрел, как за стол президиума собрания поднялся этот Афуз-заде и предложил членам бюро занять места за столом и, кроме того, выбрать рабочий президиум из двух человек.
- Из трех человек, - послышался вдруг голос Ефима Яковлевича. В другое время он, ожидающий обычного приглашения за стол президиума в качестве одного из обязательно выбранных, смолчал бы. Но сейчас ему хотелось вмешаться, чтобы подчеркнуть неправильное ведение собрания этим Афуз-заде.
Камилл вскользь глянул на директора и безадресно произнес, что согласно принятой в прошлом году в школе процедуре рабочий президиум избирается из двух человек, но он готов поставить на голосование другие предложения.
- Предлагаю избрать трех человек, - раздраженно повторил с места Ефим.
У Камилла, который помнил о вчерашнем посещении директором коменданта Иванова, закипало в душе возмущение, но он опять же безадресно произнес:
- Предлагают только члены комсомола, - и оглянул зал. Его товарищи, члены бюро, между тем рассаживались рядом с ним.
Директор чувствовал себя уязвленным. Он поднялся с места и, повернувшись лицом к аудитории, произнес:
- Коммунисты школы на партийном собрании избирают рабочий президиум из трех человек. Я предлагаю и вам следовать примеру ваших старших товарищей.
Камилл был возмущен и он принял вызов. Едва сдерживаясь, он повторил:
- Товарищи, предлагают только обладатели комсомольских билетов!
Потом, старательно сохраняя иезуитскую мягкость в голосе, обратился к директору:
- Ефим Яковлевич, а вас комсомольское бюро на собрание, между прочим, не приглашало, – и, увидев разъяренное лицо директора, обратился к сидящим за столом товарищам:
- Предлагаю общим голосованием решить вопрос о возможности присутствия Ефима Яковлевича на нашем собрании. Не возражаете?
Товарищи Камилла были ошеломлены его действиями, но так как в бюро были все свои, лучшие ребята, то никто не возражал против порядка ведения собрания Камиллом, тем более что тот действовал по уставу, который предусматривал присутствие не-комсомольцев только по решению бюро или всего собрания.
Не приходилось сомневаться, что зал подавляющим большинством проголосовал бы против присутствия директора – ведь это так ново! Ситуация становилась для Ефима крайне нежелательной. Одно дело, если предложение удалиться исходит от одного наглого ученика, и другое, если за изгнание директора голосует весь коллектив – это катастрофа! К счастью для директора, сообразительная молодая учительница географии, член комсомола, сидела возле дверей. Она тихо выскользнула в коридор и сразу же вошла в зал:
- Ефим Яковлевич, вас срочно вызывают к телефону! – звонким голосом произнесла она.
Директор понял, что он получил шанс, хотя и не знал, что этот шанс дарован ему искусственно.
- Вопрос снимается, - с облегчением произнес Саша, член бюро, когда Ефим покинул собрание, и зал ответил коротким коллективным смешком. И только один девичий голос прошипел:
- Какой позор!
- Итак, какие будут предложения, - продолжил Камилл, и собрание пошло по накатанному пути.
Но у Ефима Яковлевича не хватило ума не возвращаться в актовый зал. По прошествии десяти минут он вернулся, обратил внимание на то, что его место в первом ряду уже занято, и под взглядами всей аудитории сел на свободное место возле двери. Хотел ли он этим продемонстрировать, так или иначе, свое, якобы, владение ситуацией?
Камилл и тут не оставил директора в покое. Он приостановил свою речь и долгим взглядом уставился на Ефима. Потом, обращаясь к залу, произнес умиротворяюще приторным тоном:
- Товарищи комсомольцы, я думаю, вы не будете возражать против возращения Ефима Яковлевича на наше собрание?
Возражений не было. Все ученики как один, следуя направлению взгляда Камилла, повернули головы к засмиревшему директору, в очередной раз шокированному дерзостью ведущего собрание десятиклассника.
- Ефим Яковлевич, пройдите в первый ряд, - раздался из зала чуть ли не плачущий голос какой-то активистки-семиклассницы.
Уж лучше бы эта дура в сложившейся ситуации смолчала! Директор пробормотал что-то вроде того, что ему удобнее у дверей – на этот раз у него хватило сообразительности не пробираться в первый ряд и не поднимать уже занявшего его прежнее место ученика.
Авторитет Камилла среди комсомольцев семиклассников и восьмиклассников троекратно возрос. В своей же среде он и без того был признанным лидером в шалостях и в учебе. Злоба же директора на ученика Афуз-заде уже давно переплескивала через край, поэтому больше ее не стало.
Дисциплина на уроках в классе, где учился Камилл, была, в целом, нормальная. Абсолютная тишина и всеобщее напряженное внимание были обычны, вообще-то говоря, только на уроках математики и физики. В целом ситуация сильно зависела от личности учителя. Например, когда литературу в классе вел Владимир Николаевич, класс внимал ему, боясь пропустить хотя бы слово. Когда Владимира сменила вновь, к несчастью десятого «Б», возвращенная в школу Александра, то обстановка резко изменилась. На уроках Ефима Яковлевича висела в классе враждебная к педагогу тишина. Свободно чувствовали себя ученики на уроках недавно появившейся в школе доброй химички, насмешливая атмосфера была на уроках всегда нарядно разодетой молодой географички. На уроках немецкого языка, которые сменяя друг друга из-за частых болезней вели великолепные супруги Рейнгольд Андреевич и Мария Ивановна, обстановка в классе была уважительная, ибо возраст и благородный облик этой пары, высланной в Среднюю Азию из Поволжья, действовал даже на самых неромантичных представителей классного плебса. Впрочем, плебс не имел здесь право голоса, ибо властвовали в этом классе лучшие. Лучшие в учебе, но не в поведении – увы!
Камилл все три года, проведенные в школе номер двенадцать, сидел за одной партой со славным парнем Игорем. Вне школы он мало встречался с ним, потому, наверное, что проживал Игорек где-то далеко от школы, а может быть и потому, что Игорь был известным огушатником, то есть любителем гонять голубей. По этой причине и успехи у него были скромные, хотя парнишка был весьма умный и из культурной семьи. Все учителя относились с симпатией к сидящей за второй партой слева от дверей паре. Оба высокие, под метр восемьдесят, стройные, гибкие, но один кареглазый брюнет, другой голубоглазый и русоволосый.
В школьной жизни - ну, скажем, в издании газеты, в художественной самодеятельности, в комсомольском или в ученическом комитетах - Игорь участия практически не принимал. Однако свободное от гона голубей время проводил в гимнастическом зале, почему и был любимцем учителя физкультуры Петра Евдокимовича.
О, Евдокимыч был уникальной личностью! Боевой капитан, прошедший всю войну в артиллерии, он был и хорошим гимнастом, и великолепным боксером. Кроме того, несмотря на свой небольшой рост, капитан замечательно играл в баскетбол, - эти виды спорта, а также легкая атлетика были коронными видами в школе номер двенадцать, и всеми этими секциями руководил он, Евдокимыч.
Игорь крутил «солнце» на перекладине, а Камилл, зато, пробегал стометровку с рекордным временем. И оба были непревзойденными баскетболистами! Так что, отсидев уроки плечом к плечу за одной партой, они потом «трудились» в спортзале или на школьном стадионе.
И вот представьте себе, как на уроке, например, литературы Игорь, сидящий справа, протянув свою длинную руку, щупает сидящего на передней парте слева долговязого Гендлера за бок. Нервный Гендлер подскакивает, а в этот самый момент Камилл, сидящий за его спиной, быстро подсовывает под приподнявшийся зад бедного парня чернильницу, и приземлившийся, было, Гендлер вновь подпрыгивает над партой под изумленным взглядом педагога. При этом Игорь, уже привалившийся к спинке парты, отрешенно смотрит на доску, Камилл сосредоточенно углублен в лежащую перед ним книгу. А справа от Гендлера сидит, тоже предусмотрительно отодвинувшись и даже отвалившись вбок к стене, удивленно взирающий на подпрыгивающего соседа Гришка Липецкий, самый веселый парнишка в классе, по перемигиванию которого с задней партой и начинается, обычно, вся описанная процедура. Этот фокус проделывался довольно часто, как-то раз даже на уроке Ефима Яковлевича. Ученик Гендлер, при всей своей, скажем так, своеобразности, еще с преподанных ему в младших классах уроков знал, что ябедничать дурно, поэтому ни разу не раскрыл учителям тайну своих прыжков.
Право, не в оправдание этих жестоких юношей, а токмо исторической истины ради, должен я известить моего читателя, что числился за учеником Гендлером некий малый грех, который, однако, был нетерпим среди его одноклассников в те достославные времена, о которых мое повествование. Грех этот был тесно увязан со слабостью Александры Яковлевны, не устоявшей перед искушением мздоимством. Ученик Гендлер появился в классе только в сентябре последнего года обучения. Был этот юноша вовсе не без способностей, уж в хорошистах мог бы обитать спокойненько. Но у него был очень любвеобильный папаша, к тому же работавший в сфере материального снабжения. Когда Гендлер стал получать пятерки за сочинения, умещающиеся на полуторах тетрадных страниц, то чуткие одноклассники распознали нечестность. Это открытие не способствовало росту авторитета литераторши и рейтинга ее любимчика.
Однажды в десятом классе, ближе к концу первой четверти, Анатолий Аронович велел Камиллу остаться после уроков.
- Камилл, - начал классный руководитель, который обычно называл учеников по фамилии, - Камилл, ты помнишь, что у тебя тройка по Конституции СССР?
- Да, Анатолий Аронович, я собираюсь ее пересдавать.
- Пересдавать? Для пересдачи экзамена за седьмой класс претенденту на медаль нужно получить разрешение в Министерстве просвещения!
- Так сложно? Я немедленно напишу туда письмо!
- Как у тебя все просто получается! Обратиться в Министерство с письмом должен директор школы, а не ученик. Понимаешь?
- Понимаю. Мне надо пойти к Ефиму Яковлевичу?
- А ты уверен, что он тебе даст такое письмо?
- Но он же обязан! – воскликнул Камилл.
- Да, обязан… Теперь слушай меня. Послезавтра будет педсовет по итогам первой четверти. У тебя итоги неплохие, а?
- Вроде бы даже отличные…
- Значит так: напиши сейчас заявление на имя директора школы с просьбой разрешить пересдачу экзамена за седьмой класс по Конституции СССР. Прямо сейчас садись и пиши, какая может быть редколлегия! Подождут, не начнут без тебя! То-то! Судьба его решается, а он… Пиши, я тебе буду диктовать, вы же сами ничего не умеете.
Камилл послушно достал тетрадку, вырвал из ее серединки лист и обмакнул перо в чернильницу. Пока он писал, Анатолий Аронович, с умыслом диктовавший мало применяемые в быту бюрократические слова, заглядывал на появляющийся на бумаге текст, надеясь уличить своего ученика в орфографической ошибке.
- Теперь поставь роспись, - произнес он под конец.
Камилл провел рукой по уложенной на готовый текст розовой промокашке и протянул его своему учителю. Анатолий Аронович пробежал написанное глазами, хмыкнул и, сложив лист пополам, спрятал его в свой портфель.
- Теперь можешь идти на свою редколлегию, писатель! И если там опять по моему адресу пройдетесь, я разнесу всю вашу газету к чертовой матери!
На следующий день проводилось собрание педагогического коллектива, в самом начале которого Анатолий Аронович передал заявление Камилла с просьбой о пересдаче экзамена директору, сопроводив это действие словами:
- Ефим Яковлевич, мой ученик Афуз-заде просит разрешить ему пересдачу экзамена по Конституции за седьмой класс. Я, как и все педагоги, считаю, что такое разрешение он безотлагательно должен получить, не так ли, коллеги?
Раздались голоса, подтверждающие точку зрения классного руководителя.
Директор был раздосадован таким гласным обращением к нему по поводу просьбы ненавистного ученика.
- Почему этот Афуз-заде вручает свое заявление классному руководителю? – возмутился он. – Это заявление он должен сам принести директору, он, что, не знает?
- Не знает, по-видимому, - смиренно отвечал Анатолий Аронович.
- Вот он, ваш отличник! Пусть придет со своим заявлением ко мне.
- Но я обещал сам передать вам его письменную просьбу? – спокойно настаивал Анатолий Аронович. - Неверно было бы ставить под удар мой авторитет классного руководителя. Давайте сейчас на педагогическом совете решим этот вопрос и дадим парню письмо в Министерство.
- Да, конечно, время идет! Зачем тянуть с этим вопросом! Это наш лучший ученик! – поддержали классного руководителя присутствующие педагоги, и только завуч Ким молчал, с непроницаемым как всегда лицом взирая на коллег. Виктор Петрович душой был всецело на стороне ученика Афуз-заде, но с Ефимом Яковлевичем его связывали некоторые непростые отношения, о которых догадывались немногие, и хитрый математик не хотел выступать против директорской воли.
- Хорошо, я попрошу секретаря подготовить такое письмо, - отвечал директор, желая этой фразой поставить точку в этом вопросе и перейти к другим делам.
Но Анатолий Аронович, как всем было известно, всегда доводил начатое дело до конца. Он сразу после этих слов директора открыл дверь кабинета и попросил войти секретаршу школы.
- Ефим Яковлевич велел подготовить сейчас же письмо в Министерство с просьбой разрешить Афуз-заде пересдать экзамен по Конституции СССР, - поспешно произнес он, предупреждая вмешательство Ефима. Тот хотел что-то сказать, но сказать было нечего, кроме замечания в адрес перехватившего инициативу классного руководителя:
- Анатолий Аронович, вы нарушаете регламент и мешаете нашей работе!
- Я же несу ответственность за моих учеников, - спокойно отвечал классный руководитель десятого «Б», усаживаясь на свое место поближе к дверям, после того, как все понимающая секретарша быстро вышла из кабинета.
Директор, с нескрываемым чувством досады, продолжил работу педсовета. Минут через десять секретарша через приоткрытую дверь передала отпечатанное письмо в руки Анатолия Ароновича. Во время рабочей паузы в работе коллектива учителей, Анатолий Аронович подошел к столу директора:
- Ефим Яковлевич, вот письмо. Подпишите, пожалуйста, я сам отправлю сегодня же.
Ефим недобро поглядел на своего педагога:
- Дайте мне, я потом подпишу и передам секретарю, она все сделает. Что это вы, Анатолий Аронович, право, так суетитесь с этим своим Афуз-заде?
Но Анатолий был тверд в своем намерении сейчас же покончить с этим делом.
- Ефим Яковлевич, я прошу вас сейчас же подписать письмо. Я настаиваю как классный руководитель.
Ефим понял, что его дальнейшее сопротивление вполне законному требованию куратора выпускного класса приобретает скандальный оттенок, и что теперь, даже отказав сейчас дать в руки Анатолия Ароновича требуемое письмо, он не сможет затормозить это дело. Он молча взял протянутую ему бумагу, с демонстративным безразличием подписал ее и передал классному руководителю:
- У вас, по-видимому, много свободного времени, чтобы этими пустяками самому заниматься, - и перешел с деланным спокойствием к следующему вопросу повестки дня. Анатолий же Аронович, удовлетворенно произнеся пару неразборчивых слов, сложил листок пополам и спрятал его во внутренний карман пиджака. Педагоги с деланным безучастием молча наблюдали за развернувшейся дуэлью.
На следующий день Анатолий Аронович опять велел Камиллу остаться в классе после уроков.
- Вот письмо в Министерство. Его можно отправить по почте, но лучше тебе самому отвезти его в Ташкент, - он достал отпечатанное на машинке ходатайство с подписью директора школы под фиолетовой печатью.
До Ташкента было всего двадцать пять километров - на попутной машине можно доехать до трамвайного кольца за полчаса.
- Спасибо, Анатолий Аронович, - поблагодарил Камилл своего классного руководителя, не ведая, чего стоило тому получить эту подписанную директором бумажку.
- Береги это письмо, мне его удалось добыть с трудом! - Анатолий Аронович не стал вдаваться в подробности проведенной им операции и объяснил своему ученику, как, приехав в Ташкент, добраться до Министерства просвещения.
Не знал классный руководитель, что его лучшему ученику советская власть не разрешает преодолеть расстояние между их городком и Ташкентом, что за самовольный выезд из городка этого юноши, гордости школы имени Сталина, ему грозит арест и двадцатилетняя каторга!
Камилл радостно показал вечером маме письмо в Министерство. Вместе они решили, что рисковать в этом деле не стоит и надо ехать в Ташкент с официальным разрешением коменданта на руках.
На следующий день ко времени окончания уроков в школе мама отпросилась ненадолго с работы и встретилась с Камиллом у здания, где располагалась спецкомендатура. Им повезло, что комендатура была открыта, а комендант был в своем кабинете. Сразу при входе в комендатуру мать и сын были, как всегда, ошеломлены словами «20 лет каторжных работ» - к этому ни один татарин не мог привыкнуть! Но эти слова не оскорбляли крымских татар, они их объединяли, мобилизовали…
Жить, работать, учиться среди других свободных людей, чего-то достигать, в чем-то терпеть неудачу, влюбляться или стать объектом обожания свободного человека, драться или мириться со свободными людьми, выигрывать в конкуренции или оказаться в проигрыше, – короче говоря, жить по внешним признакам почти так, как живут все вокруг тебя. И вдруг, - это всегда было «вдруг!» – раз в месяц входить в это помещение, где тебя встречает плакат, на котором аршинными буквами выведено слово «КАТОРГА», обращенное к тебе… Но это слово, должное по задумке советской власти тебя унизить, напротив, возвышало тебя в твоих глазах. «Вы, - думалось тебе, - вы, которые можете поехать куда хотите, жить там, где вам угодно, вы, сами того не ведая, узурпировали мои права! Да, за поездку в Ташкент, который находиться менее чем в трех десятках километров от школы, в которой вы учитесь вместе со мной, мне грозят двадцать лет каторги. Но эта высокая доля – быть нелюбимым этой злой и несправедливой властью! Позорно обожать и возвеличивать власть, которая уничтожила лучших граждан страны, чтобы вскормить на сухой хлебной корочке вас, рабов, разрушающих храмы! Вы любите эту власть, отобравшую у нас наше исконное, мы же ее ненавидим, а вас жалеем, как жалеют тех, кто унижен, ибо нет большего унижения, чем жить за счет отобранного у других!».
Не прав ты был, разумеется, в своем высокомерном отношении к запуганным обывателям, лижущим руку с плетью! И оправданием тебе служит только то, что твоя обида не была направлена ни на кого конкретного, она была безлична. Даже на таких, как Ефим, эта твоя высокая обида не распространялась, - к ефимам возникала обычная, человеческая обида, смешанная, может быть, с недоумением.
Юноши и девушки, которых власть надеялась примирить с их положением изгоев, не только не соглашались нести печать бесправия, а, напротив, оказались самыми дерзкими и мятежными. Причем дерзость их совмещалась с успехами в учебе, с активностью в жизни. Именно это поколение создало вскоре нелегальные национальные организации, которые первыми в коммунистической империи начали борьбу против насаждаемых режимом порядков.
Итак, мать и сын постучались в дверь, за которой был кабинет старшего лейтенанта госбезопасности Иванова. Чтобы получить разрешение для поездки в Ташкент требовались веские основания, и коменданту было предъявлено письмо в Министерство за подписью директора школы.
- Руководство школы посоветовало Камиллу лично доставить письмо в Министерство, - говорила мама, - очень прошу вас разрешить ему поездку в Ташкент, он в тот же день вернется.
Комендант посмотрел на юношу.
- По таким вопросам, молодой человек, вам нужно приходить самому. Вы уже вполне самостоятельны, незачем маму беспокоить, - назидательно произнес он, и посетители поняли, что шанс получить разрешение имеется.
То ли Иванову импонировал способный юноша, то ли ему очень не понравился директор школы, приходивший с доносом на своего ученика, но он, действительно, был благорасположен. И достав отпечатанный типографским способом специальный бланк, он вписал в него имя и фамилию спецпереселенца, которому дозволялось посетить столичный град Ташкент.
- Когда вы собираетесь поехать в Министерство? – спросил комендант.
Камилл почему-то смутился, - наверное, из-за неожидаемого от человека в форме офицера госбезопасности доброго отношения. Он даже не мог сразу сориентироваться в днях недели, в которые школьное расписание позволяло пропустить уроки.
- Завтра, завтра же и поеду, - ответил он, после некоторого замешательства.
Комендант поставил дату и вручил бланк юноше.
- По возвращении верните разрешение в течение трех дней, - и встал, давая понять, что аудиенция окончена.
Искренне поблагодарив Иванова, мать и сын покинули комендатуру.
Назавтра первые четыре урока пропускать было не желательно, тем более что времени отпроситься уже не оставалось. Но последними двумя уроками были узбекский язык и физкультура. Узбекским языком в свою бытность в Чинабаде Камилл вполне хорошо овладел, поэтому учитель был доброжелателен к нему и разрешил пропустить урок. Ну и Евдокимыч, конечно, возражений не имел. Отнеся домой портфель и прихватив еще с утра заготовленный бабушкой кулек с вареными яйцами и помидорами, Камилл вышел на шоссе, ведущее в Ташкент. Уже вторая машина остановилась перед стоящим с поднятой рукой юношей, и минут через тридцать Камилл, заплатив шоферу совсем небольшую сумму денег за проезд, уже шел по направлению к стоящему на остановке трамваю. Трамваев, между прочим, он не видел с той поры, когда они перестали ходить в его родном городе, оккупированном германскими войсками.
Как ему наказывал Анатолий Аронович, юноша вышел у театра имени Алишера Навои, чтобы пересесть на другой трамвай, который довез его до Министерства просвещения Узбекской ССР. Здание Министерства стояло прямо у остановки, и Камилл сразу нашел его по прибитой у входа красивой вывеске. Отворив тяжелые створы дверей, Камилл вошел в просторный холл, где дежурный спросил его, по какому он делу. Камилл показал ему письмо, и дежурный велел передать его в экспедицию, куда поступают все письма. Но Анатолий Аронович предупредил своего ученика, чтобы тот не отдавал письмо никому, а сам добился приема в том кабинете, в котором ему сразу же отпечатают и дадут прямо в руки разрешение на пересдачу. Поэтому, прошествовав, якобы, в экспедицию, Камилл быстро поднялся на второй этаж и, поискав, нашел комнату с трафаретом секретариат. Сидевшие там тетеньки были внимательны к юноше, но объяснили ему, что прием посетителей происходит только до двух часов. Так что надо молодому человеку придти в другой день и зайти в комнату такую-то на третьем этаже. Огорченный Камилл все же поднялся на третий этаж, но двери нужной комнаты были закрыты. Сунулся, было, упорный парень в соседнюю комнату, но там ему сказали, что, во-первых, этими вопросами занимаются в другом кабинете, а, во-вторых, приемные часы с утра. Еще, наверное, полчаса бродил Камилл по коридорам Министерства, возвращаясь, то и дело, к заветной двери, и в один из подходов увидел, что дверь приоткрыта. Не стучась, парень вбежал в комнату, где за одним из столов сидела пожилая женщина в очках.
- Приема нет, - предупредила женщина вопрос посетителя.
Камилл сказал, что он приехал издалека, что у него срочное дело, вот письмо.
- Сдайте письмо в экспедицию, - кратко ответила женщина, и опять занялась своим делом. Настырный Камилл не стал объяснять ей, что для него, находящегося под гласным административным надзором, посещение Ташкента является большой проблемой, он просто сказал, что ему надо получить очень важное для него разрешение, что он вынужден сегодня вечером выехать из Ташкента. Женщина, не отрываясь от своего дела, отвечала, что этим вопросом занимается Василиса Николаевна, которая сейчас отсутствует и будет только завтра утром. Камилл понял, что сегодня он своего дела никак завершить не сумеет.
Выйдя на улицу, юноша постарался успокоить себя. Что ж, придется приехать вновь на следующей неделе. Комендант, вроде бы, доброжелателен, выпишет другое разрешение. И Камилл решил прогуляться по столичному городу.
Он, между прочим, прежде уже трижды посещал Ташкент, но это были своеобразные посещения. Дело в том, что учительница химии Маргарита Алексеевна была большой любительницей музыкальной классики и взяла на себя организацию коллективных поездок учеников в недавно построенный Театр оперы и балета, носящий имя великого поэта Алишера Навои. Она заранее, по заявке, покупала билеты на вечерние спектакли, а ученики через своих классных руководителей приобретали эти билеты. И в назначенный вечер около двух десятков старшеклассников веселой компанией в кузове заказанного заранее грузовика ехали в Ташкент и выгружались из машины прямо у широких ступеней театра. Шофер грузовика дремал в кабине, пока любители искусства слушали оперу или смотрели балет, а во время длительных антрактов ходили по великолепным залам прекрасного здания театра, восхищаясь неподражаемыми картинами, выполненными узбекскими мастерами в технике резьбы по ганчу, то есть по особому виду алебастра. После спектакля ученики ехали от здания театра по ночному Ташкенту домой, так что знакомство со столицей Узбекистана было весьма ограниченным.
Во время первого посещения театра ученики слушали оперу «Евгений Онегин». Большинство учеников с восьмого по десятый класс впервые слушали эту оперу, хотя отдельные партии, часто исполняемые по радио, слышали, надо полагать, все. Что касается Камилла, недавно только выбравшегося из далекой страны журчащих арыков и цветущих садов, где не ходят поезда, и откуда до ближайшего театра три дня скачи, не доскачешь, то он оказался к тому времени изощренным меломаном, прослушавшим не раз многие шедевры оперного искусства. Как такое оказалось возможным?
В первый свой день рождения в пристоличном городке Камилл попросил маму купить ему детекторный приемник с наушниками. Он протянул по двору, где они снимали у украинской семьи двухкомнатную времянку с верандой, провод длиной метров в двадцать, который оказался вполне мощной антенной для примитивного приемника, работающего на токе, индуцируемом радиоволной в этом проводе. По ночам он ловил далекие станции в коротковолновом диапазоне, несущие ту информацию о происходящих в стране Советов событиях, которая не звучала в передачах ташкентского и московского радио. Но вскоре его внимание полностью переключилось на отлично звучащие в наушниках музыкальные произведения разных жанров, передаваемые из московских залов и студий и ретранслируемые ташкентской студией. Как раз в тот год музыкальная общественность Москвы отмечала юбилей Большого театра, и почти каждый вечер в эфир шли передачи русских и зарубежных опер. Это было упоительно для, как выяснилось, музыкального юноши! Причем Камилл имел возможность убедиться, что звучание в наушниках намного совершенней, чем в громкоговорителях радиосети. И еще одним неоспоримым преимуществом обладали наушники: в них Камилл, никого не беспокоя, слушал музыку в постели до поздней ночи, когда мама, бабушка и братишка уже давно спали. Он надевал наушники в половине одиннадцатого по местному времени, когда в Москве была половина восьмого, и снимал их далеко за полночь - в зависимости от длительности оперного спектакля. Поскольку в течение года оперы часто повторялись, он уже знал, что при трансляции «Искателей жемчуга» он заснет раньше, чем если бы он начал слушать «Бориса Годунова», ну и так далее. Тогда же он стал убежденным приверженцем Лемешева, хотя впоследствии оценил великолепную чистоту голоса Козловского. Удивительно, но наушники передавали все нюансы звучания голосов солистов, позволяли слышать звучание каждого инструмента в оркестре. Может быть, такой эффект достигался благодаря тому, что слушал юноша музыкальные передачи в ночной тишине, да еще таким образом, что никакой посторонний звук не мог проникнуть в его уши, прикрытые пластинами наушников.
Так или иначе, Камилл на обратном пути весьма квалифицированно обсуждал прослушанную оперу с учительницей, и ребята то и дело восхищенно восклицали «Во дает!», имея ввиду вдруг проявившуюся эрудицию своего товарища в этой довольно далекой от большинства из них области.
Во время первой поездки в Ташкент Камилл предостерег своих друзей, что если они не заслонят его своими спинами, то его могут ссадить с машины во время проезда шлагбаума. Услышавшая эти слова ученица седьмого класса комсомольская активистка Лилиана, преждевременно созревшая красотка, стала громко возмущаться тем, что взяли в поездку спецпереселенца, которому нельзя выезжать за пределы городка.
- Конечно, Камилла очень жалко. Но мы же должны уважать законы своей советской страны!
Большинство учеников что-то неопределенное знали об ограниченных правах своих соучеников крымскотатарской национальности и сейчас они впервые столкнулись с этим вопросом так близко. И не нашлось, пожалуй, среди разместившихся в кузове никого, кроме этой девицы, кто в ответ на предостережение Камилла не возмутился бы тем, что их школьный товарищ может быть наказан за эту поездку. Генка Бывалов грубо прервал Лилиану:
- Молчи, сука! - и обратился к ребятам: - Посадите Камилла у кабины.
Камилл пробрался в глубину кузова, подталкиваемый в спину тумаками:
- Давай, лезь!
Лилиана поняла, что ее никто не поддерживает, но все же добавила:
- Если был бы здесь Разыков, он бы этого безобразия не допустил!
Генка, который был известен тем, что мало говорил, но много делал, ответил на это еще грубей:
- Ты, сука, еще раз вякнешь, выкину тебя из машины!
Эту не принятую в обхождении с девицами грубость сейчас все приняли как должное. Лилиана испуганно затихла, и потом всю дорогу не вымолвила ни слова. Между прочим, когда после возвращения из Ташкента ученики сошли с машины возле своей школы, Камилл заметил, что Гена Бывалов отвел семиклассницу Лилиану в сторону и что-то ей говорил. Во всяком случае, в дальнейшем Лилиана не осмеливалась выступать с подобными заявлениями.
Разыков, о котором упомянула эта политически сознательная девица, был младшим братом третьего секретаря горкома партии и учился в девятом классе, занимая в тот год пост секретаря школьной комсомольской организации. Еще он был известен тем, что на всех школьных вечерах из года в год читал своим низким басом стихотворение Маяковского:
Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету! К любым чертям с матерями катись Любая бумажка. Но эту!Он делал шаг вперед и вынимал из кармана ладонь со сложенными пальцами, якобы держа в руках красный советский паспорт.
«Засунул бы ты его себе в жопу!», - каждый раз думал политически некорректный Камилл.
В один из последующих дней Разыков подошел к Камиллу:
- Я знаю, что ты ездил в Ташкент. Если бы я тогда там был, я бы тебе разрешил.
Он широко по-доброму улыбался, всем видом демонстрируя свой либерализм.
- Хибал я твое разрешение! - ответил Камилл. – Ишь, начальник какой нашелся. Тебе-то какое дело?
Камилл никогда не церемонился с подобными «благожелателями», он готов был дать отпор любому, кто посмеет говорить с ним свысока. Разыков был возмущен, по глупости своей хотел вынести «персональное дело комсомольца Афуз-заде», на школьное комсомольское бюро. Но обсуждение факта «неразрешенного выезда ученика школы имени И. В. Сталина спецпереселенца Афуз-заде вместе с классом на культмассовое мероприятие» уже состоялось в горкоме партии, где все же решили не будоражить школьную общественность такими проблемами. Кстати, инициатором этого обсуждения был третий секретарь, получивший донос Лилианы через своего младшего братца. И совместно с городскими органами безопасности, которые тоже были уведомлены о случившемся, было решено не препятствовать и в дальнейшем поездкам Афуз-заде в Ташкент совместно со школьным коллективом - возбуждение школьной общественности по случаю дискриминационного задержания одного из лучших учеников было признано нецелесообразным. И по факту грубого ответа Афуз-заде секретарю школьной комсомольской организации было рекомендовано шума не поднимать. Но при этом школьным сексотам, более ответственным, чем семиклассница Лилиана, было дано указание наблюдать во время последующих поездок за этим Афуз-заде, а то, неровен час, останется в Ташкенте, станет «невозвращенцем».
Может быть, не все знают, что означает слово "сексот"? Представьте себе, я тоже долго не знал происхождения этого слова. Оно было самым страшным ругательством в годы моего довоенного детства, и произносили мы его как "сиксот". Так противнее звучит, правда? А происхождение у этого ругательного слова вполне легитимное - это сокращение от "секретный сотрудник".
…Камилл осмотрелся. Налево шла просторная улица, обсаженная тополями, справа, совсем близко, был какой-то парк. Камилл пошел направо, и, перейдя дорогу, оказался в роскошном сквере. Посреди широких аллей цвели высокие красные канны, обсаженные по краям где желтыми, где синими, низко растущими цветами. Вдоль аллей стояли длинные скамьи с выгнутыми спинками, над которыми нависали густые, уже сильно пожелтевшие, каждая в своем неповторимом оттенке, кроны чинар, платанов, каштанов. Справа за темно-зелеными кустами давно отцветшей сирени виднелся деревянный павильон с остроконечной крышей, с резными кружевными капителями колонн. Камилл подошел ближе. На открытой веранде сидели за столиками молодые парни и девушки, на столиках стояли бутылки с сухим узбекским вином, с безалкогольной «крем-содой», печенье было в вазочках, пирожные были на блюдечках. Молодые люди были веселы и беззаботны, и Камилл подумал, что когда он станет ташкентским студентом, он тоже будет приходить с друзьями в этот павильон. Он не знал, что эти молодые люди были, действительно, студентами Университета, строения которого стояли здесь же рядом, с другой стороны сквера. Как раз сейчас закончились лекции, поэтому филологи и историки вместе с физиками и математиками, и, конечно же, с самыми беззаботными шалопаями - геологами, праздновали окончание учебного дня, не задумываясь о дне завтрашнем, когда с утра их вновь ожидают тишина аудиторий и теснота лабораторий. Увы, есть среди студентов мрачные одиночки или скромные маменькины сыночки и папенькины дочки, которые после лекций отправляются в домашнюю скукоту или бытовую суету. Но существует и цвет студенчества всех времен и народов, который украшает печальную нашу планету, и который, как сказано, и песни поет, и горькую пьет, и еще кое-чем занимается…
Поглядев оценивающе на студентов и выпив стакан газировки, Камилл продолжил осмотр так понравившегося ему маленького живописного парка. И тут он увидел возвышающуюся в центре сквера посреди прекрасной цветочной клумбы огромную статую Сталина. Вождь держал одну руку за пазухой, другая безжизненно свисала вниз. Голова его была чуть наклонена, взгляд устремлен на гуляющих по аллеям людей, которые вовсе и не замечали наблюдающего за ними гранитного истукана – привыкли. Камилл вспомнил, что гипсовая статуя Сталина, стоящая на центральной площадке в парке его городка, совсем иная. Там тоже одна рука Вождя свисает вниз, но другая воздета ввысь, а взгляд у Учителя орлиный и тоже устремлен в выси поднебесные…
Камилл прошел до конца аллеи и на противоположной стороне сквера, через дорогу, перед ним предстали солидного вида, тяжеловесные трехэтажные здания старой постройки. Подойдя ближе, он прочел: Средне-Азиатский Государственный Университет имени В. И. Ленина. Как это здорово, возликовал Камилл, что Университет, студентом которого он собирается быть, стоит рядом с этим чудесным цветочным островом, где его ждут не дождутся столики на открытой веранде и широкие, с гнутыми спинками, скамейки в аллеях!
Так, в состоянии неясной эйфории он дошел до Театра, там сел на уже знакомый трамвай и доехал до шоссе Ташкент – Самарканд, на котором стоял его городок. В кабине полуторки, в познавательной беседе с шофером об окружающей местности он доехал до дому.
На следующий день после уроков он пришел в комендатуру. Комендант был озадачен неудачей своего поднадзорного.
- Вот что, - сказал Иванов, – дать вновь разрешение я не могу, потому что ваша оказавшаяся неудачной поездка уже зафиксирована. А так часто у нас разрешения не выдаются. Вы поезжайте самовольно. Если вас поймают, то приведут ко мне, а я уже решу вопрос с минимальным ущербом.
Камилл принял сказанное к сведению.
- Но лучше не попадайся, - продолжал комендант, перейдя на «ты». – Обойди контрольный шлагбаум по берегу Кара-Кульдюка, но ни в коем случае не по железной дороге. А там, через пару километров, выходи на шоссе и голосуй.
Камилл, очень довольный общением с Ивановым, пошел домой, намереваясь завтра с утра отправиться в Ташкент. Он так и сделал. В Министерстве ведающая такого рода вопросами женщина приняла его по-деловому, без каких-либо лишних расспросов. Она вышла в другой кабинет и вернулась с бумажкой, которая давала Камиллу возможность пересдать (но только один раз!) экзамен по Конституции СССР.
Глава 8
При расставании с подругами Айше передала им письмо для мамы, в котором кратко сообщала, что она срочно выехала «по учебным делам» в Узбекистан, где она останется до осени, а потом приедет в Мелитополь. Свой адрес Айше обещала сообщить в следующем послании. Хатидже, получив такое письмо, была взволнована, но ее успокоило то обстоятельство, что поездка дочки в пугающий ее Узбекистан был вызван «учебными делами». Что же, иногда люди вынуждены прибегать ко лжи, именуемой в этих случаях «святою». Конечно, какие-то сомнения у мамы были, но она надеялась, что дочь в следующем письме сообщит подробности. Айше же не знала, какими конкретными "учебными делами" оправдать свой внезапный отъезд из Казани на все лето. Написать правду она не могла из-за опасения перлюстрации писем, да и по соображениям случайной невоздержанности языка, которая могла посетить ее бедную маму или младшую сестренку. Наконец, она сочинила пространное письмо, в первой части которого убедительно обосновала необходимость заработать во время летних каникул деньги, а большую часть письма посвятила рассказу о том, в какую чудесную экспедицию ей удалось устроиться на лето, какие тут хорошие люди, какой замечательный человек начальница экспедиции Елена Александровна. И опять приписала, что по окончании работ она приедет к маме и сестричке.
Хатидже была, как и предполагалось, заморочена описаниями прелестей гор и рассказом о необычайно хороших людях, среди которых довелось оказаться ее дочке. Но ее обеспокоило то, что о техникуме в письме не было ни слова. И как же Айше приедет осенью в Мелитополь, если в это время уже должны начаться учебные занятия? В ответном письме она изложила все волновавшие ее вопросы. Айше как-то отписалась, успокоив маму относительно дальнейшего развития событий, но сама находилась в беспокойстве именно из-за неопределенности ближайшего будущего.
…Молодые люди прекрасно проработали в отряде Войцеховской до поздней осени. Отношения девушки с ее женихом не получили дальнейшего развития. Елена Александровна, убедившись, что Айше избегает сближения с молодым мужчиной, предприняла со своей стороны меры, которые должны были оградить девушку от неожиданностей экспедиционной жизни.
Когда пришла пора сворачивать полевые работы, то по совету Елены Александровны, которая стала добрым ангелом молодых людей, было принято такое решение: Айше возвращается к маме, Исмат же остается на зимовку в числе трех человек на горной базе экспедиции.
ЗимуАйше провела с мамой и сестренкой. Им она рассказала только часть правды, сочинив историю, связанную с тем, что Исмат хочет учиться, а его из колхоза не отпускают. Вот, мол, он и вынужден был убежать, а чтобы подзаработать денег устроился на работу в горную экспедицию.
Сама Айше приняла решение уйти из техникума и сдавать экзамены экстерном за десятый класс, чтобы попытаться поступить в медицинский институт там же в Казани. Хатидже поразмыслила и согласилась, что ее старшая дочь выбрала правильный путь.
Исмату ташкентский милицейский чиновник, хороший знакомый Войцеховской, без особых хлопот выправил паспорт на основании его фронтовых документов и наградных книжек - все было в рамках закона, но хорошие стороны закона в стране действовали только по блату. Исмат дважды побывал в Ташкенте, остальное же время с утра до ночи вместе с товарищами трудился на занесенной снегом базе, где работы было невпроворот.
С Айше он не переписывался – так было решено из соображений безопасности. Поэтому обговоренного мая месяца он ждал с огромным нетерпением.
И в мае, в середине месяца, Айше приехала в Ташкент на главную базу Красногорской экспедиции, откуда через два дня на том же самом старом студебеккере та же самая компания выехала в горы, где прибывшие ранее сотрудники уже развернули фронт полевых работ.
Молодые люди за лето обдумали жизненные планы на ближайшие годы. По окончании экспедиционного сезона они поедут в Мелитополь, где Исмат устроится на работу, Айше же будет всю зиму готовиться к экстернату. Потом девушка поедет в Казань, где будет уже держать экзамены сначала за десятилетку, потом – вступительные в медицинский институт. Если удастся в институт поступить, - а Айше твердо надеялась одолеть этот порог, - то приедет в Казань и Исмат. Он поначалу найдет себе подходящую работу, а потом они с Айше будут думать о том, куда ему поступить на учебу в следующем году.
В замыслах молодых людей не было конкретных сроков вступления в супружескую жизнь, но это подразумевалось - в то или иное время, в зависимости от свершения намеченных планов по выбору жизненного пути.
В ноябре, заработав некоторую сумму денег, да и окрепнув здоровьем в горах, молодые люди распрощались с друзьями-геологами и договорились не прерывать дружеских связей. Елена Александровна наказала им держать ее в курсе всех важных событий и предоставила машину до железнодорожного вокзала в Ташкенте.
Они приехали на вокзал утром, приобрели билеты и сели дожидаться своего поезда. Пошел дождь, в зале ожидания было душно и влажно.
До поезда оставалось чуть больше часа.
- Пойти купить какой-нибудь еды? – обратился Исмат к подруге.
- Есть не хочется, а попить чего-нибудь я бы не отказалась.
Айше достала из стоящей рядом сумки бумажный пакет и протянула Исмату:
- Ну, если что вкусненькое увидишь, тогда возьми. Вообще-то еда у нас на дорогу есть.
…Уже знакомый нам отпрыск председателя колхоза из-под Коканда, которому мы дали имя "байбоча", что означает "байский сынок", увильнул, как всегда, от поездки вместе со своим техникумом в целинные районы Узбекистана на сбор хлопка, получив "вызов" на ту же хлопкоуборочную кампанию в отцовский колхоз. Байбоча маялся от безделья в родном селении, мозоля всем глаза и раздражая папашу, занятого день и ночь в эту страдную пору. И когда однажды он попросился съездить в столичный город Ташкент, отец не отказал ему - пусть этот великовозрастный болван хоть неделю не путается под ногами. Байбоча приехал в шумном и грязном вагоне местного поезда на ташкентский вокзал с зашитым на поясе потайным карманом с денежными знаками - карманники в хлебном городе Ташкенте были высшей категории. Он шатался по мокрой после дождя привокзальной площади в поисках, где бы поесть после почти суточной тряски в идущем без расписания поезде, который останавливался и подолгу стоял у каждого, как говорится, столба. Вдруг возле тетки в замызганном белом халате, торгующей из большого алюминиевого бака "беляшами" - пирожками с неизвестного происхождения мясом, он увидел загорелого бородатого человека. Байбоча сразу, несмотря на бороду, узнал его: это был Исмат Исматов, ненавистнейший его враг, о смерти которого на Фархад-строе правление колхоза было уведомлено два года тому назад.
Исмат тоже увидел своего односельчанина, вперившего в него удивленный взгляд. Первым побуждением бывшего фронтового разведчика было спокойно удалиться, сделав вид, что он это не он. Но на лице у застывшего в десяти шагах от него байбочи появилась такая довольная ухмылка, что сомнений не оставалось - Исмат опознан им со всей очевидностью. Также не было сомнений в том, что байбоча сейчас отправиться искать милиционера.
Председательский сынок именно так и поступил. Исмат увидел, как тот заметался по площади, высматривая человека в форме. Какое было бы несчастье, если бы этот мерзавец натолкнулся случайно на Айше! Увидев, как байбоча побежал к выстроившимся у левого крыла вокзального здания одноэтажным домикам, Исмат быстро пошел к сидевшей на скамье в зале ожидания девушке. Разговор был очень коротким.
- Айше, я встретил только что байбочу. И он меня видел. Сейчас он ищет милиционера. Времени, чтобы спрятаться, у нас нет. Ты укутайся и сиди. Через час подойдет поезд, ты с вещами уезжай. Я отвлеку его и скроюсь в городе. Приеду, как только смогу. До свидания, милая.
Он пожал руку ошеломленной девушке, взял одну из своих сумок, и последними его словами были:
- Укутайся, чтобы он тебя не узнал! - с этим Исмат, не оглядываясь, вышел на привокзальную площадь.
Из-за крайнего ларька выбежал байбоча, без разбору шлепая по лужам. Видно было, что он нервничает и не может отыскать милиционера - этих службистов, и впрямь, никогда не бывает рядом, когда они нужны! Но тут из боковой двери домика, где, по всем признакам, располагалась какая-то харчевня, неспешно вышел человек в синей форме и в фуражке с красным околышем. Байбоча чуть не столкнулся с ним и сразу же стал ему что-то рассказывать, усиленно жестикулируя и показывая рукой в сторону зала ожидания. Исмат, быстро зашел за колонну, с биением сердца наблюдая за развитием событий. Но байбоча явно не понравился русскому милиционеру, который, наверное, и не мог разобрать его путаную речь, состоящую из смеси узбекских слов с осколками неправильно произносимых слов русских. Он что-то сказал ретивому доносчику и резко повернул назад, к дверям в харчевню, перед тем указав рукой в другую сторону, где, как понял Исмат, находилось отделение привокзальной милиции. Байбоча побежал в указанном направлении, и тогда Исмат, выйдя из-за укрытия, пошел спокойно ему наперерез, чтобы оказаться замеченным им. Байбоча увидел Исмата и остановился. Исмат, будто бы не видя его, прошел шагах в двадцати от замершего в испуге парня и направился к двухэтажному зданию универмага, возле которого была трамвайная остановка. Байбоча ринулся к милицейскому отделению. Как только он скрылся за дверьми, Исмат быстро свернул в сторону какого-то длинного павильона, который оказался пустынной платформой пригородных поездов. Похоже, что в ближайшее время поездов не ожидалось, и вновь превратившийся в беглеца молодой мужчина пошел, то и дело оглядываясь, по железнодорожным путям в другую сторону от вокзала.
Горько было на душе Исмата. Надо же такому случиться! Среди многомиллионного населения Узбекистана был у молодого мужчины один настоящий враг, и вот он оказался с ним в одно и то же время в одном и том же месте! И это случилось за полчаса до того, как он должен был надолго, если не навсегда, уехать в края, где не было людей, могущих его опознать!
То был перст судьбы, назначившей новую череду нелегких испытаний и без того немало бед перенесшим молодым людям. На все воля Аллаха!
Но Исмату было не до ламентаций и тем более не до философических размышлений. Он думал сейчас о том, удалось ли ему отвлечь преследователей от Айше. Хотелось надеяться, что байбоча поверил в то, что его недруг покинул вокзал со своей небольшой поклажей, и если в милиции примут его донос всерьез, то направят людей для поисков не в зал ожидания, где сидела Айше, а к трамвайной остановке и в само здание универмага, куда вроде бы шел не торопясь подозрительный субъект.
А в отделении милиции байбочу, пытавшегося путано и возбужденно что-то объяснить по-узбекски, поначалу не хотели слушать, хотя среди троих милиционеров двое были узбеками. И когда дежурный сержант уже поднялся, было, из-за своего стола, чтобы вытолкать назойливого парня, немолодой усатый служака с двумя лейтенантскими звездочками, не могущими уже много лет дождаться третьей, вдруг уловил некий смысл в сбивчивой речи парня.
- Тохта! Погоди! - осадил он сержанта, и обратился к байбоче:
- Ну-ка, зайди в кабинет!
Он закрыл за дрожащим парнем дверь и велел ему рассказать обо всех своих подозрениях с самого начала. Тот опять завелся, что-то говорил маловразумительное, размахивая руками и брызжа слюной, но милиционер прикрикнул на него и велел все пересказать спокойно и внятно. Байбоча взял себя в руки и пересказал все, начиная с того, что знает Исматова с детства, поведал о получении известия о его смерти на стройке и о сегодняшней встрече с мнимым мертвецом. Выслушав парня, лейтенант ненадолго задумался, потом вскочил и крикнул в коридор:
- Саматов и Васькин, на выход!
Из одной из комнат вышли двое в штатском и вопросительно уставились на офицера.
- Пойдете с этим человеком, он укажет, кого надо взять, - дал лейтенант указание филерам. - А ты, на, надень эту кепку, чтобы он тебя не сразу узнал.
Байбоча взял кепку, которая глубоко налезла на его стриженую голову и почти что прикрыла глаза.
- Осмотрите универмаг, потом поезжайте на трамвае в город, - уточнил задание лейтенант, и группа захвата покинула помещение.
Лейтенант вспомнил, что прошлым летом поступила ориентировка на поиск беглеца с "Великой стройки коммунизма". Он перелистал журнал и, найдя указанную фамилию, матерно выругался - оказалось, что это совсем другая фамилия, не та, что была названа брызжущим слюной парнем. Впрочем, он там говорил что-то об извещении о смерти… Ага, может случиться, что этот беглец взял имя умершего! Во всяком случае, надо попытаться раскрутить это дело, а вдруг повезет! Только и делов, что сообщить в рапорте начальству о факте опознания студентом из Коканда среди посетителей вокзала своего хорошего знакомого, якобы умершего два года тому назад. Если выгорит, то повышение в звании будет обеспечено - офицер хорошо знал порядки в своем ведомстве.
Через два часа филера и паренек вернулись ни с чем. Усатый лейтенант похлопал парня по плечу, поблагодарил за бдительность и велел в случае чего немедленно сообщить ему. С тем и расстались. А офицер по телефону передал своему начальству о появлении в городе находящегося в розыске преступника, потом написал рапорт об этом событии. На следующий день по всему округу и даже по прилегающим областям Казахстана были разослан ориентировка с фамилией трудармейца, подозреваемого в несанкционированном воскрешении, с кратким описанием его внешности.
Только о шраме на лбу ничего не было сказано в этой ориентировке.
Что же делала тем временем бедняжка Айше? Обернулся явью самый страшный сон последних месяцев: Исмат оказался узнанным! Проводив неподвижным взглядом своего друга, она повязала на голову платок, прикрыв, почти что, все лицо, и сидела в страхе - ни жива, ни мертва. Наверное, прошло около часа, и сидевшие рядом люди вдруг засуетились - это было признаком того, что к платформе прибывает состав. Айше осведомилась у соседа о номере поезда и вместе с толпой пассажиров вышла на перрон. И вскоре уже поезд вез ее на запад, к маме и сестре…
…Пройдя железнодорожные пути, Исмат оказался на грязных улочках между вросшими в землю хибарами. Навстречу ему попадались хмурые люди, некоторые из которых обходили скользкие лужи, другие же безнадежно шлепали по ним в своей худой обуви. Исмат, не желая привлекать к себе внимания, брел наугад, боясь спросить у встречных, куда это он попал и как отсюда выбраться на большую дорогу. Наконец где-то справа послышался звук проезжающей тяжелой машины. Беглец повернул туда и спустя несколько минут вышел на шоссейку, если так можно назвать засыпанную щебнем дорогу с двухрядным движением. По дороге, хоть и не часто, шли грузовики, некоторые с прицепами. Значит, подумал Исмат, дорога ведет к соседнему с Ташкентом городку или большому поселку, или же где-то в этом направлении находится автобаза. Вскоре сильно запахло нефтяными испарениями и гарью, и он, действительно, увидел расположившуюся за обрушившейся местами глинобитной стеной автобазу, на площади которой стояли около двух десятков грузовиков различной породы. Как раз из ворот выезжал покрытый брезентом груженный "зис", который притормозил перед выруливанием на трассу.
- Куда машина идет, - по-узбекски спросил Камилл у водителя, на голове которого была такая же тюбетейка, как и у него.
- А тебе куда нужно? - отозвался водитель, кося глазами на дорогу, по которой, поскрипывая, ехали друг за дружкой две арбы.
- Мне в Самарканд нужно, - отвечал Исмат, которому как раз надо было в другую сторону.
- Э-э! На Самарканд здесь машин не бывает, тебе на Текстильный надо идти, - отвечал водитель, переключая скорости и фырча акселератором. - Отсюда машины на Арысь и Туркестан идут, - сквозь шум мотора крикнул он и выехал на дорогу.
"Повезло!", подумал Исмат, потому что именно за пределы Узбекистана стремился он бежать. А около Арыси как раз проходит железнодорожный путь на запад, там можно сесть на поезда, идущие до Мелитополя или до Казани.
Он вошел на территорию базы и подошел к группе шоферов, дымящих самокрутками возле одной из машин.
- До Арыси есть сегодня машина? - спросил он, поздоровавшись.
Один из водителей, небольшого роста мужичок лет пятидесяти, воскликнул с сожалением:
- Эх, чуток ты опоздал! Только вот уехал Сабир на своем "зисе", а больше сегодня рейсов не будет.
- Как это не будет? - огорчился Исмат.
- А так, - отвечал шофер, - не очень приятно ночью гнать по пустыне. Глянь-ка, уже восьмой час.
Исмат проследил за его взглядом и увидел циферблат больших электрических часов, которые показывали четверть восьмого. Пасмурная погода и легкий туман искажали ощущение времени, и Исмат с удивлением отметил, что этот несчастный день уже близился к концу. Если Айше не задержали, то сейчас она уже далеко от ташкентского вокзала.
Шофер по-своему истолковал невеселое выражение его лица.
- Да ты не горюй, завтра уедешь, - произнес он, затаптывая самокрутку. - Переночуй, а с утра подходи, машины будут.
- А где переночевать можно? - спросил Исмат.
- Мы в кабинах своих ночуем, а ты в чайхану иди. Вон там, за углом. А с утречка я подъеду и просигналю, мне как раз ехать на Арысь.
Исмат зашел в неуютную большую чайхану, безлюдную в этот час. Лишь на углу помоста сидели на кошме, откинув чачваны паранджей, две пожилые узбечки, рядом с ними возился ребенок лет семи. "Тоже будут, наверное, дожидаться утреннего грузовика", подумал Исмат, но в это время торопливо вошел мужчина. Женщины стали поспешно свертывать свой дастурхан и, опустив темные волосяные завесы на свои лица, покинули помещение. Исмат решил, что ночевать ему здесь придется в одиночестве.
К нему лениво подошел вышедший из-за грязного полога подросток и спросил, что принести. Исмат заказал чайник чая и лепешку. Оглядывая громоздкое помещение он вспомнил, какие уютные и гостеприимные чайханы в любезной его сердцу Ферганской долине, и тоскливо вздохнул. Нехорошие предчувствия опять овладели им. Ничего особенно страшного не случилось, пытался успокоить он себя. Завтра доедет до Арыси, там возьмет билет до города, в который уехала Айше, адрес ее он знает. Так что просто небольшая заминка и все. Но на душе было муторно, кусок не шел в горло. Он допил чай и прилег на кошме, пододвинув под голову набитый соломой мешок-подушку. Так он пролежал какое-то время, вызвав воспоминания дней, проведенных в горах с друзьями-геологами, и на душе полегчало от этих воспоминаний. Ничего, все образуется. Подумаешь, задержался он на один день, ничего страшного. Деньги у него есть, значит, и доехать можно куда угодно и на чем угодно. Не будут же по вздорному заявлению этого мальчишки объявлять его во всесоюзный розыск. Не велика персона!
Послышались громкие голоса, и в чайхану ввалилось человек десять шумных мужчин. Среди них Исмат узнал некоторых из тех, кого видел недавно на автобазе, - значит, не все шофера ночуют в своих тесных кабинах. От людского присутствия большое помещение, оборудованное под придорожную чайхану, обрело некоторую приветливость и стало уютней. Исмат заказал еще один чайник и под нетрезвый говор шоферов, осушивших несколько поллитровок, задремал.
На рассвете он проснулся сам. Шофера чаевничали, а некоторые уже спешили к своим машинам. Исмат умылся водой из-под крана на задворках здания, заказал горячего чая и сел в ожидании обещанного сигнала. Только он опустошил свой чайник, как с дороги раздались настойчивые звуки клаксона. Бросив в пиалу плату за чай и за лепешку, Исмат подхватил свою сумку и вышел на улицу. Давешний водитель махал ему рукой из кабины.
Исмат притворился плохо знающим русский язык, чтобы избежать необходимости активно участвовать в беседе со словоохотливым водителем Гришей - среди шоферов-дальнобойщиков бывают такие любители поговорить. Гриша, между тем, с охотой, даже не получая ответов своего пассажира, рассказывал ему о разных приключениях на маршруте, по которому они ехали, об окружающем ландшафте, о встречавшихся изредка бедных селениях.
- Вот видишь невысокие валы с двух сторон вдоль всей трассы? - говорил Гриша. - Ранней весной эта степь вся сплошь покрыта черепахами. Они вылезают из нор греться на солнце и размножаться. Там, где они выбираются на дорогу, ну, если защитный валик обрушился, например, там приходится скорость сбавлять, - дорога скользкая от их тел. Сколько их тут бывает! Наверное, миллион!
Потом разговор перешел на войну. Оказалось, Гриша шоферил на том же участке, где воевала дивизия Исмата. Тут уж и пассажир гришин принял активное участие в воспоминаниях и в обсуждении событий тех лет. Под конец Гриша заметил:
- А ты хорошо говоришь по-русски. Ну, понятно, фронтовик…
Когда добрались до Арыси, водитель оплаты со своего пассажира не взял, как тот не настаивал. Исмат поблагодарил фронтового шофера Григория и отправился в боевом настрое на вокзал.
Исмат был в благодушном расположение духа. Вот сейчас он купит билет, а через пару часов подойдет поезд, на котором он отправится вдогонку за своей любимой. Но такова железная дорога, по ней настичь вчерашний поезд невозможно, как ни гони. Так что заявится он в дом в Мелитополе, где ждет его Айше, ровно на сутки позже ее самой. "Все хорошо, что хорошо кончается" - так говаривала Елена Александровна, начальница экспедиционного отряда.
Поселок Арысь, железнодорожный узел, был сер и скучен. Куда ни кинь взгляд, везде громоздились вагоны разнообразного назначения, а вся территория, казалось, была оплетена паутиной стальных рельсов и смоленых шпал. И в этой империи железных дорог найти пассажирский вокзал оказалось делом нелегким. Но Исмат не спешил, он знал, что до его поезда еще много часов, а спрашивать у прохожих ничего не хотел - чужак всегда вызывает у людей некоторый интерес. Впрочем, он в душе посмеялся над своей излишней осторожностью - кому он здесь нужен!
Наконец он добрался до здания, на котором было обозначено, что это пассажирская железнодорожная станция "Арысь". Исмат вошел в кассовый зал, который одновременно был и залом ожидания. Как он и предполагал, зал был почти пуст. На скамьях сидели, как это бывает почти на всех вокзалах, две-три закутанные бог знает во что женщины с кучей всяческих узлов. В другом месте двое мужиков расстелили газету и трапезничали всухую, рядом, вытянувшись во всю длину скамейки, спал парень явно бродяжного вида.
Маленькое окошко кассы было открыто. Исмат подошел к нему и стал доставать деньги из поясного кармашка. В это время в зал лениво вошел милиционер, и каким-то образом учуявший его бродяга вскочил и сел на скамью: сидеть на скамье разрешалось даже бродягам, если, конечно, у них имеется паспорт, а лежать, особенно в дневное время, на вокзальных скамьях не разрешалось никому. Холодок пробежал по спине Исмата, когда он увидел милиционера, но он тут же устыдился того комплекса страха, который у него возник со вчерашнего дня. Милиционер же, между тем, окинув взглядом помещение, направился прямо к Исмату, наклонившемуся, было, к окошечку кассы с денежными купюрами в руках.
- Предъявите ваши документы, гражданин, - милиционер был здоровенный рыжий мужик, ему не с пустой кобурой бы ходить, а шпалы на станции ворочать.
Исмат выпрямился и спокойно достал из кармана платок, в который был завернут паспорт. Милиционер взял документ в руки, прочел имя и фамилию владельца и перелистал жесткие странички. Потом, как бы безразлично глядя в сторону, стал расстегивать верхний карман кителя, намереваясь, судя по всему положить туда паспорт. И при этом он произнес также спокойно:
- Пройдемте, гражданин.
Реакция Исмата была мгновенной. Он вырвал из рук милиционера свой паспорт, но сразу же и выронил его. Затем, не пытаясь его поднять, он рванулся к двери, и пока ошеломленный милиционер нагнулся за упавшим документом, беглец, перепрыгивая через рельсы, уже бежал к товарным составам. Милиционер выбежал на перрон и стал неистово дуть в свой свисток. Но на его свист оглянулось только несколько железнодорожников, которым западло было догонять убегающего человека. Милиционер, не переставая свистеть, побежал по путям, но Исмат уже пролез под вагонами ближнего эшелона и затерялся теперь на бесконечных линиях узловой станции. Милиционер повернул назад, чтобы по телефону сообщить в горотдел милиции о появлении на станции объявленного вчера в розыск человека и о его бегстве в сторону товарных поездов.
К Исмату вернулись хладнокровие и ясность мысли, которые были развиты в нем в его бытность фронтовым разведчиком. Убедившись, что погони за ним нет, он шел, прислушиваясь, между эшелонами и услышал характерный стук вагонов, который возникает, когда паровоз, начиная ход, дает малый толчок назад. Исмат нагнулся, чтобы из-под вагонов увидеть пришедшие в движение колеса. Тронувшийся с места состав оказался через две колеи, и Исмат быстро пролез к нему под неподвижными вагонами. Состав набирал скорость, и стало ясно, что он не просто перегоняется с места на место, а отправляется в маршрут. Вот появился вагон с тормозной площадкой, и Исмат быстро вскочил на нее.
Тормозная площадка просматривалась с обеих сторон, поэтому Исмат счел благоразумным лечь вдоль, что уменьшало возможность быть замеченным. Поезд шел все быстрее, это убедило беглеца в том, что он надежно уходит из опасной Арыси, правда, неведомо куда. День и нынче был пасмурный, но Исмат прикинул, сопоставив все свои передвижения после прощания с шофером Гришей, что товарняк идет в западном или северном направлении. Что ж, так можно и до Мелитополя доехать, подумал беглец.
После того, как он встретился с реальной опасностью, - а на таковую указывал объявленный на него розыск, - он обрел внутреннее спокойствие и способность мыслить без излишних эмоций. Итак, он теперь вне закона. После сегодняшнего столкновения с властями его будут разыскивать по всей территории Советского Союза - от Восточной Пруссии до острова Сахалин. Паспорт ему спасти не удалось, да он и не нужен теперь ему. И вдруг его обожгла досадная догадка, и он воскликнул вслух:
- Эх, фотография! Фотография в паспорте! Теперь они знают меня в лицо…
Но случившегося не изменишь. И неизвестно было, что теперь делать, как поступить. Ехать ли ему, перешедшему в нелегальное существование, в Мелитополь? Однако зачем? Только для того, чтобы увидеть свою девушку и сказать ей последнее "прости"? Да, он знал, что паспорт на имя другого человека можно купить - в первые послевоенные годы много было на руках населения паспортов погибших людей. Но это стоило немалых денег, которых у него не было. Сообщить Айше о своем переходе в нелегалы и пытаться всеми правдами и неправдами заработать или добыть деньги?
Разумеется, идти сдаваться Исмат не собирался. Он не пошел бы на этот шаг, даже если бы за ним не числилось убийство охранника-садиста. Степные волки не сдаются, сдаются только псы. А молодой мужчина считал себя свободным и гордым волком, осажденным грязными шакалами. Он прошел всю войну, и не в канцеляриях армейских корпел он над доносами на солдат и офицеров, он был отважным разведчиком, получившим не одну боевую награду. Потом он честно трудился в каком ни на есть "коллективном хозяйстве", пока его не упекли в «трудовой лагерь», где довели до болезни, где над ним издевались и физически, и морально. Так кто может предъявить ему счет? Не он ли истец на высшем суде по этому делу?
Но о высшем суде мы, люди, мало что знаем, и наш герой о нем не задумывался. Несчастный беглец знал, что здесь, на земле, он жертва, и жертва не отдельных недобрых людей, а жертва системы, опутавшей своей ложью и жестокостью всю огромную страну.
И под стук колес молодой смелый мужчина, обвеваемый на открытой площадке осенними, но еще не холодными ветрами, принял единственное приемлемое для гордого человека решение - деньги надо добыть!
Поначалу надо было установить, куда его везет движущийся без остановки уже два часа товарный поезд. Исмат справедливо предполагал, что на все станции вокруг Арыси уже высланы наряды милиции для поимки опасного преступника. Разумеется, с рассылкой фотографий у них так быстро не получится, но через несколько дней на руках у милиции, а может и присоединившейся к поискам госбезопасности, будет фотография из его паспорта. Правда, на ней он безбородый, а нынче густая черная поросль окружает его лицо, да и волосы он отрастил, как того хотела Айше. Однако опытные сыщики смотрят не на растительность на щеках, а на глаза, так что распознать его им не составит трудности. Следовательно, надо скрываться. Как скрываться, где?..
Небо стало очищаться, среди серых туч появились просветы, и Исмат с отчаянием убедился, что поезд идет в южном направлении. Поезд возвращал беглеца в Ташкент - другой дороги здесь не было!
Вскоре, придя в себя после такого открытия, Исмат осознал, что катастрофы никакой не случилось. Именно в Ташкенте его будут искать менее всего. Прямолинейная логика диктовала: не будет человек, бежавший из города, туда же возвращаться. Исмат и не вернулся бы, между прочим, если бы его не вернула туда затейливая судьба.
Он соскочил с поезда до его вхождения на территорию товарной станции, заметив уже знакомые тесные улочки. Особенно обольщаться выводами формальной логики не следовало, ибо оперативка на поиск человека не могла быть отменена и в городе, из которого он еще утром бежал. Ему надлежало как огня остерегаться встреч с милицией или с ее агентами в штатском. Исмат догадывался, что в столичном городе чайханщики заведомо должны быть осведомителями органов, сообщающими о задержавшихся в чайхане на длительный срок постояльцах. Вследствие этого возвращаться в ту же чайхану, из которой он еще утром уехал, не следовало. Другой же в этой округе, по-видимому, не было. Провести ночь, конечно, можно было и где-нибудь на задворках, но дело было в том, что изнервничавшегося мужчину мучил голод. А где под вечер достанешь еду, если выходить в город опасно? Можно было, дождавшись темноты, пойти к товарным поездам и так, как он сегодня уже сделал, пристроиться на тормозной площадке уходящего состава. Но опять же возникала проблема еды. Неизвестно, сколько времени придется ехать, таясь, на площадках или даже на крыше товарных вагонов.
Исмат удивлялся своему организму: ведь случалось не раз оставаться без пищи несколько дней, и вроде бы ничего, терпелось. Нет, есть, конечно, очень хотелось, но не было того мучительного чувства, которое он испытывал сейчас, утром еще кое-как перекусивши. И не в силах совладать с собой он решился на шаг, опасный в любом случае. Он постучался в дверь какой-то хижины, в окне которой горел свет. На стук вышел молодой здоровый парень-казах и подозрительно воззрился на пришельца.
- Кечирасиз, извините, - произнес Исмат, изобразив на лице добрую и застенчивую улыбку. - Я сейчас сошел с машины, ехал из Туркестана, и не знаю, где тут магазин. Целый день не ел, просто умираю с голода. Уже час хожу, ни одного магазина не нашел. Не могли бы вы продать мне немного хлеба?
Лицо парня, молча выслушавшего сбивчивое стеснительное объяснение, смягчилось.
- А здесь и нет никакого магазина, - произнес он басом, - магазины там, за железнодорожными путями. Ты, друг, иди в чайхану, там и перекусишь.
- Был я в чайхане. Там ничего съедобного нет, и никого до утра не пускают.
Исмат импровизировал, но, кажется, попал в точку. Парень с пониманием покачал головой.
- Да, новую моду взяли, объявляют санитарные дни, - сказал он сочувственно. - Раньше никаких таких санитарных дней не было, а теперь иногда утром перед маршрутом шоферам и чаю глотнуть негде.
Из этих его слов Исмат понял, что хозяин хижины имеет какое-то отношение к автобазе. А парень между тем отворил дверь шире.
- Заходи, мы как раз ужинать собрались.
- Нет, нет, - неискренне запротестовал Исмат. - Продайте мне лепешку или хлеб, и я пойду.
- Ты, что, не мусульманин? - грозно вопросил парень. - Обижаешь меня, я с гостей денег не беру. Давай заходи!
И Исмат, «подчиняясь грубой силе», вошел в освещенную тусклой запыленной электрической лампочкой низкую комнатенку. В углу стоял большой сундук, украшенный орнаментом из цветной жести, рядом стояла обычная тумбочка, из тех, какие стоят в общежитиях возле коек, на ней стояло зеркальце и какие-то флаконы и коробочки.
Хозяин протянул гостю руку и представился:
- Меня зовут Ислам, а жена у меня Салима.
Представился и Исмат. После этого хозяин указал гостю на низкий, сколоченный из досок помост, покрытый войлочной кошмой, поверх которой лежал нитяной палас:
- Садись, брат.
Из соседней комнаты вышла молодая женщина в европейского покроя платье, подвязанном передником, и, поздоровавшись с гостем, поставила на дастурхан тарелку с толсто нарезанными ломтями белого хлеба и блюдце с колотым сахаром. Ислам подошел к стоящей тут же в пристройке жестяной печурке с выведенной в стену трубой и залил кипяток в большой пузатый, украшенный красными цветами чайник. В это время Салима поднесла гостю тазик и жестяной кумган-кувшин и полила ему на руки, подав затем вафельное полотенце. Хозяин разлил чай и начался неспешный разговор. Парень, действительно, работал на автобазе ремонтником. Сам он был из казахского аула, всегда мечтал вырваться в город, в большую жизнь. Пошел подростком в ремесленное училище, получил специальность механика. Подрос, обтесался в каком-то совхозе, потом перебрался на вольные хлеба в столичный Ташкент, жил несколько лет в общежитии. Познакомился с обитающей в соседнем общежитии и оканчивающей техникум медсестер казашкой, и вот совсем недавно молодые люди поженились.
- Хорошо в городе, - пробасил молодой муж, - никакого калыма, идешь в загс и все. Правда, Салима?
- А родители знают? - спросил Исмат.
- Да, конечно, - ответила за мужа Салима. - Сразу, после того, как получили этот домик, мы поехали к родителям Ислама, барашка зарезали, дуа (молитвенное собрание) провели.
- А неделю назад вернулись из Казалинска, где родители Салимы живут, - добавил Ислам, и счастливые молодожены радостно рассмеялись.
Исмат, тоже рассмеявшись, поздравил супругов и пожелал им обильного потомства.
Ислам поднялся с помоста и обратился к Исмату:
- Будешь пить? У меня бутылка припрятана.
- Ты, что, не мусульманин? - отвечал давешним тоном хозяина Исмат. Мужчины рассмеялись, потом Исмат уже серьезно произнес:
- Не надо, как-нибудь в другой раз. А сейчас я прочту молитву.
- Салима, иди садись, - позвал Ислам жену, которая возилась у печки.
Женщина подошла, вытирая руки о передник, и села рядом с мужем. Исмат прочел строки из Корана, и под конец все провели ладонями по щекам:
- Аминь!
Салима отошла к печке, а Ислам с сожалением произнес:
- А я не знаю ни одной молитвы, кроме "бисмилля-ир-рахман-ир-рахим". Пора уже научиться, старость подходит.
"Ну, тебе, брат, до старости далеко", подумал Исмат, а вслух сказал:
- Да, молитвы наши знать надо.
Салима поставила на дастурхан две касы с аппетитно пахнущим макаронным супом, в котором плавала баранья косточка.
- Ну, давай, бисмилля! - произнес Ислам и протянул гостю алюминиевую ложку.
Трапеза прошла за беседой, во время которой Исмат поведал, что он был по делам в Туркестане и, не дожидаясь поезда, решил ехать до Ташкента на попутной машине, что сейчас ему добираться до Самарканда. После того, как опять попили чай, он поблагодарил хозяев и встал.
- Оставайся, куда ты ночью? - удивился Ислам.
- Я сейчас дойду до Текстильного, там машины на Самарканд и по ночам ходят. Мне домой пораньше добраться надо, - отвечал Исмат.
- Ну, смотри, сам знаешь, - хозяин тоже поднялся, и Исмат распрощался с добрыми молодыми супругами, пожелав им счастья.
Одна только мысль мучила Исмата, когда он покидал бедную гостеприимную хижину: а каково будет, когда утром Ислам узнает, что в чайхане никакого санитарного дня не было?
Неисповедимы замыслы и мероприятия Божьи! В тот день, когда Исмат совершил свое краткое путешествие с возвратом в исходный пункт, чайхана, и в самом деле, была закрыта прибывшим утром санитарным врачом участка. В последнее время наезды такого рода участились, и вовсе не из-за того, что городские власти решили, наконец, улучшить санитарное состояние объектов общественного питания, которое было, действительно, далеко от требуемого, а потому, что пришел на должность санитарного врача особенно ненасытный мздоимец.
У Исмата уже был разработан план дальнейших действий. Он посчитал, что искать его будут более всего в областях к западу от Ташкента, на станциях и полустанках Казахстана и далее к Волге. А он сейчас находится вновь в Ташкенте и уедет отсюда на юг, в Туркмению, куда от той ветки железной дороги, на которой он был замечен, путей нет. Даст Аллах, он доберется до многолюдного Ашхабада, там, в пригороде, ему рассказывали, существуют притоны контрабандистов, посещающих регулярно соседний Иран. Местные власти не особенно заинтересованы в том, чтобы полностью уничтожить этот невинный промысел, благодаря которому заняты делом рыночные торговцы по всему Туркменистану и даже в соседних республиках. Контрабандисты приносят в заплечных мешках самые разные товары, начиная от краски для волос и кончая радиоприемниками и фотоаппаратами, не говоря уже о золотых изделиях. Чего не бывает в мешках, переносимых по пескам Каракумов, так это наркотиков. Конопляными зарослями заняты почти все пустующие земли от Каспийского озера до озера Байкал, так что гашиш здесь дешевле картошки, которую надо возделывать, а кусты конопли - вот они, сами по себе растут. Что касается опиума, то не было на азиатских просторах огорода или палисадника, в котором не торчали бы разноцветные головки крупных цветов мака, после опадания которых остаются зеленые шары, вскоре уже опоясанные спиральными надрезами для сбора млечного сока, из коего получают снадобье по названию «кок-нар».
Исмат задумал примкнуть к какой-нибудь группе, ходящей за кордон и обратно, что требовало определенной дерзости и умения ускользать от возникшей погони. Вопрос был только в том - примут ли его, не посчитают ли подосланным агентом охранительных органов? Тут Исмат надеялся на свою способность входить в контакт с разными людьми, а также на некоторое знание языка фарси, которому в детстве учил его отец.
Но сейчас надо было выбираться из Ташкента и при этом без ошибки найти товарняк, направляющийся в нужную сторону. Исмат не вполне представлял себе картину сети железных дорог. Он только знал, что если ему забраться в состав, отъезжающий в сторону, противоположную той, откуда он сегодня прибыл, то поезд повезет его через Джизак к Самарканду, а оттуда уж или с пересадкой, или же, если подфартит, прямым ходом через Бухару или Кашка-Дарью в Туркменские Каракумы. Ну, дорогу на Коканд он знал, и этот вариант мог отключить.
В ночной темени он шел между вагонами, некоторые из которых дергались и отъезжали, неизвестно в какую сторону. Проблуждав так более часа, прячась при этом от рабочих железной дороги, которые что-то проверяли, о чем-то перекликались, он пришел в растерянность. Наконец он решил, что безопасней все же будет спросить у какого-нибудь железнодорожника как доехать зайцем до, например, Бухары, чем рисковать быть завезенным куда-то не туда.
Завидев в очередной раз рабочего, пожилого узбека, обходящего с фонарем состав и постукивающего молотком по железной коробке над колесной парой, он не стал прятаться, а обратился с вежливым вопросом:
- Ака-джан, какой поезд идет на Самарканд, а?
Железнодорожник без удивления взглянул на него, направив прямо в лицо луч фонаря.
- Вот этот состав идет на Самарканд минут через двадцать. Там сзади есть пустой вагон, пятый или шестой отсюда. Отодвинь двери и залезай, спокойно доедешь.
- Рахмат, ака-джан, - не скрывая радости ответил Исмат и пошел в указанном направлении. Он отсчитал подсказанное число вагонов и попытался отодвинуть дверь. Та тяжело пошла в сторону. Прежде, чем забраться в темное пространство, откуда пахнуло накопившимся за день теплом, он поглядел вдоль состава: железнодорожник так же неспешно шел, постукивая молотком по железу, и луч его фонарика то отражался от отполированных колесами рельсов, то взлетал в темное небо.
В полной темени Исмат, вытянув вперед одну руку, а другою касаясь стенки, обошел весь вагон по периметру и не столкнулся ни с чем. Вагон, действительно, был пуст, если, конечно, не находилось чего-нибудь в его центре. Надо было признать, что ничего, на чем можно было прилечь и отдохнуть, здесь тоже не было. Усталый от бессонной ночи беглец лег прямо на крепкий дощатый пол и, подложив под голову сумку, быстро заснул, не дождавшись отправления состава…
Проснулся он, когда состав стал замедлять свой размеренный ход и медленно остановился. Исмат лежал, прислушиваясь. Прошло минут десять - никаких звуков. Стало понятно, что поезд остановился на разъезде. Вскоре протарахтел по соседней колее встречный, и поезд опять набрал скорость, мерно постукивая на стыках рельсов. Исмат выглянул в щель в дверях - снаружи все еще было темно. Он лег на другой бок, все также скрючившись, и пытался вновь заснуть, но сон, однако, не шел.
Вот так, нежданно-негаданно, прервалась, казалось бы, уже свитая нить судьбы из сегодня в завтра. Еще каких-нибудь полчаса ссудил бы ему рок на этой стезе, и ехал бы он рядом с любимой своей Айше в плацкартном вагоне, обсуждая совместные действия на ближайшие дни. Прибыли бы они в Мелитополь, Сафие бросилась бы ему на шею, строго оглядела бы избранника дочери матушка Хатидже, он бы чувствовал себя поначалу стесненно, а потом привык бы, освоился бы. Потом Айше поступила бы в институт, и он поехал бы к ней в Казань… Но судьба столкнула его с этим мерзким мальчишкой, с одним, может быть, из двух-трех человек на всей земле, которые могли его узнать и хотели бы при том сотворить ему пакость. Такая вот странная маловероятная встреча! Хотело ли Провидение вновь подвергнуть его испытанию, имело ли Оно целью разорвать нити, связавшие его судьбу с судьбой самой самоотверженной девушки на всем свете? Однако он будет разумен и осторожен, он добудет деньги, приобретет другое имя, и он вернется к своей Айше!
Глава 9
Начало пятьдесят третьего года не сулило великой стране никаких радостей. Во многих областях не хватало хлеба, люди занимали очередь у магазина с вечера, чтобы суметь утром получить в одни руки два теплых еще кирпичика. Сахар нерегулярно продавали по месту работы – килограмм или два в одни руки. Что касается таких продуктов, как сливочное масло и мясо, то их можно было приобрести только на рынках по высокой цене, недоступной для живущих на зарплату людей - таких в городах было большинство. Сельские жители пробавлялись огородами и домашним скотом, в городах же достаток имели только вороватые директора и главные бухгалтера производственных предприятий и работники торговли. И еще был очень немногочисленный, но весьма заметный слой населения, именуемый артельщиками. Артели были фактически частными предприятия, иногда большими, иногда совсем маленькими. Маленькие, пока они таковыми оставались, занимаясь ремонтом обуви жителей соседних домов или выпеканием лепешек, никого не интересовали. Зато крупные артели были источником безбедного существования не только для их владельцев, но и для местного начальства. Именно те, кто был связан с артелями, могли себе позволить покупать на рынке и сливочное масло, и мясо.
В политическом отношении новый год тоже не обещал чего-либо положительного, напротив. По всей стране набирала силу кампания по выявлению новых виновников всех наших бед. Евреи! Все зло от них! И монголо-татарское иго спровоцировали они! И крепостническое рабство на Руси их рук дело! И поражения России в войне с Японией в пятом году не было бы, коли бы не жидовские происки! Нужно ли перечислять все их преступления, затмевающие все то мелкое, что сделали всякие там калмыки и чеченцы с крымскими татарами вкупе?
Об этом говорили, прогуливаясь звездным январским вечером по опустевшим улицам городка, два молодых представителя неблагонадежных наций, один всем известный нераскаявшийся враг, другой, по-видимому, только начинающий. Оба они учились пока еще в школе. И учились хорошо – мерзкая уловка! Один из этих хитрющих недругов советской власти был крымский татарин Камилл, другой - еврей Рафаил.
Мальчики учились в одном классе уже третий год и всегда испытывали симпатию друг к другу. Доверительные отношения возникли после одного случая. Неизменный камилловский сосед по парте Игорек заболел, и с разрешения классного руководителя Рафик пересел на его место. И вот в день дежурства Камилла и Рафика не оказалось в классе мела как раз на уроке математики. Виктор Петрович был жутко рад, что было видно по выражению его глаз. Он пристрастно относился к этим двум своим ученикам, которые неизменно получали у него отличные оценки, и которым он мечтал влепить хотя бы четверочку - не получалось! Будучи завучем школы, он мог, конечно, довольно часто - поводов эти двое давали сколько угодно! – наказывать их. Но крупные их проделки он вроде бы не замечал, а по мелочам с удовольствием показательно карал. И сейчас он достал из портфеля свой кусок мела, а двух нерасторопных дежурных послал на поиски этого необходимого на уроках математики предмета. Надо сказать, что в ту пору в советской стране и с мелом была напряженка, поэтому возникшая коллизия была не так уж и проста.
Выйдя за двери класса, оба юноши изобразили демонстративное ликование по поводу обретенной свободы от урока. Но надо было добывать мел.
- Что будем делать? – спросил Камилл, перебирая в уме варианты.
- Идем! – заговорщицки подмигнув, Рафик увлек товарища вниз, в подвальный этаж. Он достал из-под старого книжного шкафа, стоящего под лестничным пролетом, большой ключ и отворил скрипучую дверь. Они вошли на заставленный поломанными партами и столами склад. Через высоко расположенные узкие оконца проникало достаточно света, но Камилл усомнился, что здесь можно отыскать то, за чем они пришли. Однако Рафик шел уверенно, и Камилл решил, что у него здесь тайник. Рафик тем временем привел товарища в самый дальний угол, где на ящике стоял большой бюст Ильича с расколовшимся основанием. Пока Камилл соображал, чем отколупнуть от подставки бюста кусок, Рафик поднял с пыльного пола оказавшийся здесь кирпич и одним ударом снес Ленину нос. Камилл сперва замер от такого кощунства, затем начал нервически смеяться.
- Тихо, - без улыбки произнес Рафаил, и ребята пошли к выходу, добыв столько драгоценного мела, сколько его должно хватить на не одно дежурство.
Но формы превосходного мягкого материала явно выдавали его происхождение.
- Дай-ка мне, - произнес Камилл. Он вытащил из кармана перочинный ножик, открыл его большое лезвие и стал счищать с поверхности алебастрового носа блестящую гладь, на что Рафик не преминул заметить:
- Отполировали поцелуями…
Школьный товарищ открывался Камиллу с другой стороны. Рафаил же не сомневался в Камилле, ибо знал о его судьбе, о том, где находится его родитель. Камилл, бывая иногда в гостях в доме у Рафика, где они обычно играли в шахматы, знал его отца, и тот казался ему весьма настороженным человеком. Ан, оказалось, семья эта не так проста! Отец не раз расспрашивал Рафика о его однокласснике – в городке, пожалуй, не было другой такой семьи, чей представитель имел бы двадцатипятилетний срок. Обычно здешние обыватели получали за экономические преступления не больше пяти-семи лет. А тут такой случай!
По-видимому, домашние разговоры о школьном товарище Рафаила были таковы, что сомнений в порядочности Камилла не возникало. Порядочности в общечеловеческом, а не в коммунистическо-советском смысле.
С того отбитого носа и началась проникнутая взаимным доверием дружба двух юношей.
Вакханалия, охватившая страну в связи с «делом врачей», не нашла заметного отголоска в маленьком городке, где люди почти все друг друга давно знали. Знали, что Иван Тимофеевич отсидел срок за то, что раненым попал в немецкий плен в сорок первом, что Иосиф Абрамович откупился от прокурора приличной суммой, что Хамдамов ездил с женой в Ташкент залечивать сифилис. О многом знали - и ничего, нормально общались между собой! Да о чем говорить, если даже семьи ужасного врага народа Афуз-заде не чуждались! А многолетняя пропаганда, изобличающая крымских татар? Думаете, что рядовые обыватели обходили крымского татарина стороной, не пили с ним водку, а жены их не судачили часами с соседкой-татаркой? Как бы не так! И эти звучащие по радио истеричные голоса о «преступниках в белых халатах» проходили мимо социалистического сознания основной части горожан. Да и не до того было людям, озабоченным добыванием ежедневного пропитания!
А в тот вечер, когда прогуливающиеся юноши вели между собой насмешливую беседу, их все же застукали.
Застукал их математик Виктор Петрович, неожиданно возникнувший перед ними:
- Это так вы готовитесь к завтрашней контрольной? – сурово спросил он своих учеников.
Конечно, за контрольную работу оба получили отличные оценки, но в журнале Виктор поставил обоим по двойке, которые и показал им, задержав после урока.
- За плохое прилежание, - улыбка Будды озарила лицо завуча. Четверку за контрольную этим мальчишкам не влепишь, так хоть двойками по прилежанию потешиться! Правда, эти двойки никак не могли повлиять на четвертную оценку.
Камилл к тому времени пересдал Конституцию на пять. Экзамен принимала Татьяна Викентьевна, Ефим только заглянул на минуту в кабинет, где готовился к ответу десятиклассник Афуз-заде. Конечно, завалить его при очень большом желании можно было. Но при безусловном наличии такого желания было отсутствие благосклонного к директору общественного мнения. Не стоит усугублять обстановку в условиях не вполне благоприятных - так решил директор, когда поручил принимать пересдачу коллеге Татьяне Викентьевне.
Учебный процесс в школе имени И. В. Сталина шел своим путем, а в далекой тайге в то же время зеки строили бараки, не зная для кого. О том знал лишь товарищ Сталин.
Но к товарищу Сталину однажды в марте пришла та самая, которая входит в любые двери не спросясь…
Пять дней покрывал округу густой туман, пять дней московское радио передавало тяжелую классическую музыку, сменившую сводки о состоянии здоровья великого вождя и благодетеля всего человечества. А из-под загробной монотонности звуков голоса диктора, каждый час повторяющего должное вызвать скорбь сообщение, прорывались нотки торжества, неся весть о том, что мир уже освободился от еще одного сына сатаны.
Уроки в школе шли на минорной ноте. Учителя не ставили почему-то двоек, и даже пятиклассники перестали озоровать. На шумно пробежавшего по школьному коридору мальчишку молча взирали с таким упреком, что никогда прежде не ведавший чувства стыда паренек готов был сквозь землю провалиться от смущения.
За три двора через дорогу от Камиллова жилища, за плотными ставнями всегда молчаливого, крепко стоящего дома, все пять дней звучали тягучие мрачные песни, то ли казацкие, то ли старообрядческие. Было ли это случайное совпадение некоего торжества, отмечаемого обитателями этого дома, с общемировой тягостной паузой, то ли это была молитва во избавление от занедужившего Антихриста - так и осталось для всех соседей тайной. Соседи прежде знали только, что в этом доме можно купить ароматный мед, собранный пчелами в горах Тянь-Шаня. И всегда прочно запертые высокие ворота этого дома все связывали с тем, что хозяева его большую часть времени проводят в горах. И вот теперь это навевающее мистическую тоску пение из-за закрытых ставней…
Камилл вышел под вечер прогуляться на влажном прохладном воздухе, который всегда оказывал на него благоприятное воздействие. Пока он шел по переулку на большую улицу, его сопровождало протяжное пение из того самого дома. «Когда же они отдыхают», подумал он с неприязнью. Неприязнь была не из-за того, что во время общего горя обитатели странного жилища распевают песни, - Камилл, между прочим, никакого горя не испытывал, - а из-за необычной обособленности этих певунов от людей, которые живут рядом. Он поспешил выйти на улицу, которая вела к школе, и неспешно шел, раздумывая о том, что долгожданная смерть тирана должна освободить из тюрьмы его отца и вернуть его народ на Родину. Он надеялся, что ситуация во всей стране должна будет улучшиться, что страна вернется к «ленинским нормам» – еще много лет после того даже более изощренные в политике люди, чем этот десятиклассник, верили, что все дело в отходе от «ленинских норм».
Возле самой школы по тротуару шел навстречу Камиллу крупный мужчина в плаще. Приблизившись, Камилл увидел, что это Рейнгольд Андреевич, его учитель немецкого языка. Рейнгольд Андреевич тоже узнал своего ученика, сына врага народа, и широко улыбнулся в ответ на его приветствие. Улыбнулся с нескрываемым торжеством, в то время, когда люди боялись убрать со своего лица скорбное выражение, боялись сменить его на просто безразличное. И в ответ Камилл тоже улыбнулся насыщенной откровенной радостью улыбкой, тем самым передавая старому учителю весть о надеждах, проснувшихся в его душе.
Навсегда запомнил Камилл эту встречу в тумане Рейнгольдом Андреевичем.
Еще до того, как пришла весть, что, несмотря на все усилия врачей, Сталин все же помер, люди, вообще-то, и не сомневались в таком исходе. Были и более сообразительные, которые шепотом говорили, что умер он уже в тот день, когда мир был оповещен о его болезни.
Не мало было, все же, людей, которые искренне верили, что Сталин – наше все. «Что теперь с нами будет?» – говорили такие, хватаясь правой рукой за щеку.
Сразу после сообщения о смерти Великого Вождя народ высыпал из своих учреждений на улицы. То ли по чьему-то указанию, то ли стихийно люди поперлись как хмельные в городской парк, к гипсовой скульптуре. Милиция поспешила взять управление толпой на себя, не то не избежать бы смертельной давки. Люди, как загипнотизированные, молча ходили вокруг беленного известкой кумира, вовсе даже не величественного, а жалкого в своей откровенной гипсовости, лупили на него глаза, будто бы лицезря самого. Милиция окольными путями пропускала к этому торчащему вертикально куску мела с ручками и ножками тех, кто приносил к его подножию цветы, и скоро постамент смешного алебастрового истукана оказался заваленным ранними весенними цветами - последняя дань рабов.
Потом люди выбирались из толпы, шли опустошенные домой или возвращались в свои конторы, между собой почти не разговаривая. Только порой какая-нибудь женщина вполголоса восклицала:
- Как теперь жить будем!
В полный голос вопль «как теперь жить бу-у-дем!» испустила толстожопая Лилиана, во время митинга в школьном дворе, когда в момент занесения гроба с телом Генералиссимуса в срочно переделанный ленинский Мавзолей заревели фабричные гудки и завыли клаксоны автомобилей. С девицей приключилась непритворная истерика, и ее, закатившую глаза, затащили в директорский кабинет.
В общем, церемония школьного митинга прошла впечатляюще. Правда, все были шокированы вдруг зазвучавшим по радио жизнерадостным маршем – это по Красной площади чеканным шагом прошли войска. Наверное, так было нужно.
Со следующего дня жизнь школы вошла в свою колею. Готовились к контрольным работам за третью четверть.
Подошли экзамены на аттестат зрелости. Без особого напряжения сил Камилл сдавал предметные испытания один за другим на «отлично». В такой ситуации Ефим Яковлевич вместе с Александрой Яковлевной настояли поставить ученику Афуз-заде четверку за сочинение на вольную тему. Ошибок, конечно, в тексте не было, но два педагога, и один из них директор школы, настаивали на том, что, видите ли, тема не раскрыта вполне хорошо. Ефим теперь выполнял программу-минимум: не позволить Камиллу получить золотую медаль, ограничив его награду медалью серебряной. Пятерку за сочинение поставили Гендлеру, который по случаю выпускных экзаменов что-то долго переписывал и исписал пять страниц, чего с ним прежде никогда не бывало. Выпускные экзаменационные сочинения в те времена было принято посылать для контроля в областной Отдел народного образования. Тамошняя комиссия исправила Камиллову четверку на пятерку, а Гендлеру снизила оценку с пятерки на четверку по причине скудости мыслей и топорности языка сочинения. Ефим Яковлевич был в панике.
Только паническим состоянием бедолаги-директора можно объяснить то, что он, получивший уже однажды афронт в спецкомендатуре при городском Управлении государственной безопасности, вновь поперся туда же, потеряв самоконтроль. На этот раз старший лейтенант Иванов был очень резок:
- Вы каждый раз появляетесь у меня со своими ничего не значащими предупреждениями! Вы решили поиздеваться над госбезопасностью? - возвысил Иванов голос. - Вы мешаете своими провокационными посещениями работе важного государственного органа!
Ефим выскочил на улицу как побитая собачонка и, прибежав в полуобморочном состоянии к себе домой, заперся от ахающей и охающей супруги, до вечера просидев неподвижно в кресле. Что там вертелось-делалось в его воспаленном мозгу? Ненависть ли руководила его неумными действиями или страх, что его обвинят в том, что в его школе сын человека, приговоренного за свою антисоветскую деятельность к двадцати пяти годам,получил высшую ученическую награду? Но на выпускном вечере аттестат зрелости золотому медалисту Афуз-заде вручал не он, а Бетя Моисеевна, наговорившая столько добрых слов о мальчике, пришедшем три года назад на ее уроки, что глаза у мамы того мальчика наполнились слезами.
Возмущение старшего лейтенанта госбезопасности Иванова непорядочностью директора школы ожесточалось еще и тем, что сам он принимал посильное участие в судьбе юноши. В обязанности коменданта входило принимать просьбы от спецпереселенцев, и те из этих просьб, которые находятся вне его юрисдикции, переправлять в более высокие инстанции. Увы, большинство комендантов, поставленных над спецпереселенцами всех национальностей, всегда использовали свою власть во зло, тем самым зарабатывая поощрения от начальства. Но были и такие, которые старались помочь униженным людям или, во всяком случае, не творить зла по своей инициативе.
Нет ничего глупее, чем огульно охаивать людей по их принадлежности к тому или иному общественному институту. Александр Герцен, которого в России опять не любят, пишет, что "оптовые осуждения" целых сословий по характеру их деятельности есть признак ограниченности и бесчеловечности. Он пишет, что "можно быть жандармским офицером, не утратив всего человеческого достоинства". Знаменательно, что Герцен там же говорит о доносчиках типа Ефима, что "нельзя быть шпионом и честным человеком". Воистину так! Доносительство не профессия, не сословная категория - это состояние души.
Как того требовали соответствующие правительственные постановления, каждый оканчивающий школу спецпереселенец, юноша или девушка, должен был за несколько месяцев до получения аттестата зрелости обратиться в комендатуру с письменной просьбой разрешить ему продолжить учебу в том или ином техникуме или институте. Такое же прошение написал еще в январе и Камилл. Однако через месяц его вызвал старший лейтенант Иванов и ознакомил с официальной бумагой, поступившей из республиканской госбезопасности, в которой Камиллу отказывали в праве выехать на учебу в Ташкент. Предлагались на выбор два педагогических института, один в Нукусе, другой в Ургенче - в далеких областных городах. Но самая потеха была в том, что в следующей строке документа сообщалось, что в одном из институтов обучение проводится на каракалпакском языке, в другом - на узбекском.
- Дайте, я сам прочту! - ошеломленный Камилл перечитал присланный ему отказ. Пока юноша читал, Иванов глядел на него с горечью, он и сам не ожидал, что наверху будет принято такое решение.
- Что же тебе, Афуз-заде, посоветовать? - произнес комендант. - Ты понимаешь, что тут от меня ничего не зависит. Попробуй повторить свою просьбу, напиши, что из-за тяжелого материального положения ты не можешь поехать в далекую область. Обучаясь же в Ташкенте, ты можешь получать продукты из дому, например, через проводников поезда. Напиши не задиристо, покорно. Попытайся разжалобить.
Камилл написал, как и посоветовал ему Иванов, короткую повторную просьбу разрешить ему продолжить учебу в городе Ташкенте, отстоящем от места проживания его на расстоянии двадцати пяти километров. И о проводниках пригородного поезда упомянул. Но в то же время он решил написать большое письмо в Москву.
В то время президентствовал в Советском Союзе маршал Климентий Ворошилов. Точнее не президентствовал, а был Председателем Президиума Верховного Совета СССР, что в какой-то анекдотичной степени было схоже с президентским статусом. В довоенном детстве пятилетний мальчишка декламировал стишок:
Климу Ворошилову письмо я написал:
- Товарищ Ворошилов, народный комиссар! –
- ну и так далее. Вот и нынче, уже в реальности, написал выпускник средней школы письмо Климу Ворошилову. Так, мол, и так, я учусь на отлично, заканчиваю десять классов. Хочу поступить в Средне-Азиатский Государственный Университет на физический факультет. Но мне, как крымскому татарину, почему-то советская власть не разрешает отъехать на двадцать пять километров от той школы, в которой я сейчас учусь, чтобы подать документы в приемную комиссию университета. В то же время другие мои одноклассники могут поехать хоть в Москву, хоть в Ленинград - куда угодно. Как, вопрошал юный Афуз-заде, согласуется такое ограничение меня в правах с текстом Конституции? Прошу вас, писал этот нахальный ученик десятого класса, разрешить мне без препятствий воспользоваться моим конституционным правом на учебу. И о других своих правах упоминал он в этом письме, ссылаясь при том на соответствующие статьи основополагающего закона государства.
Не зря штудировал совсем недавно Камилл учебник по сталинской Конституции! Вот и доказал он этим письмом самому маршалу Ворошилову, что справедливо получил пятерку на пересдаче экзамена по той самой Конституции!
Ответ пришел не позже, чем через месяц, через республиканские инстанции. В этом ответе гражданина К. Афуз-заде уведомляли, что его письмо отправлено для рассмотрения в республиканское Министерство ГБ, оттуда, мол, и ждите ответа. И оттуда пришел ответ: не имеется никаких препятствий для вашего выезда на учебу в Нукус или в Ургенч.
Обратите внимание – никаких препятствий!
А между тем начались и завершились выпускные экзамены. Ученикам вручили аттестаты зрелости, причем Камилл и Рафаил получили аттестаты золотых медалистов. Сами медали, оказывается, изготовлялись по результатам прошедших по всей огромной стране экзаменов, поэтому желтые кругляшки медалистам должны были вручить только через год. Но это было неважно, потому что на руках были аттестаты, позволяющие поступить в любой университет или институт без экзамена!
Рафик сразу же поехал в Москву подавать документы на физический факультет Московского Государственного Университета, где на филологическом факультете уже обучался один из выпускников школы номер двенадцать имени почившего в бозе Вождя.
Камиллу обучение в Москве не светило ни в каком случае. Камилл дожидался ответа на свое очередное послание в МГБ Узбекской Советской Социалистической Республики с просьбой разрешить продолжить учебу в Ташкенте. Все его одноклассники уже подали документы кто в ташкентские институты, кто в военные училища, а Игорек уехал в Ленинград, где уже завершала свое обучение в медицинском институте его старшая сестра. И другие крымские татары получили разрешение на учебу, кто в Самарканде, а кто и в Ташкенте - неизвестно, чем руководствовались бдительные работники госбезопасности при таких назначениях.
А Камиллу предписывалось ехать в Нукус или Ургенч, и не более того. Собственно, запрета на учебу никакого не было! И когда однажды его мама в сердцах высказалась в своей конторе по поводу того, что ее сын-медалист не имеет права поступить в институт, что это нарушение права гражданина на получение образования, то заранее подготовленный органами и ожидавший такого рода высказывания камилловой мамы местный сексот при всем коллективе грубо обвинил женщину в распространении клеветы на существующий строй:
- Кто лишает вашего сына права на образование? Вы сами говорите, что ему предлагают на выбор институты в разных городах. Ваш сын, если он и взаправду хотел бы дальше учиться, мог бы поехать в Нукус или в Хорезм, неважно куда. А разве в нашем городе для него не найдется работы? Он у вас не хочет ни работать, ни учиться! Вы его желание тунеядствовать прикрываете антисоветскими разговорами!
А когда одна из присутствующих при этом русских женщин возразила, что нельзя ограничивать желание мальчика учиться двумя городами, затерянными в пустыне, то сексот в новом приступе агрессивности набросился на нее:
- Ишь, какая наглая! А там, в пустыне, живут тоже советские люди, между прочим! Чем они хуже тебя! Пристроилась тут, понимаешь! Вот и тебя надо бы в Каракалпакию отправить!
При всей своей дерзости Камилл не мог обойтись без разрешения органов и отправиться туда, куда хочет. Во-первых, в паспорте каждого спецпереселенца прямо на первой странице было записано, что его владелец имеет право проживать на территории такого-то района. Там не было слов, что такой-то не имеет права пересечь границы района, а утверждалось право проживать. Поговорите после этого об ущемлении чьих-то гражданских прав, если никакое из прав не отрицается, а, напротив, кое-какие письменно подтверждаются, причем на первой же странице удостоверения личности! Но все должностные лица в СССР понимали эту запись так, как нужно, поэтому у крымского татарина Камилла Афуз-заде в любом отделе кадров немедленно потребовали бы выданное органами письменное разрешение на учебу в вузе.
Во-вторых, существовала специальная программа по выявлению скрывающихся спецпереселенцев любой национальности, и особенно тщательно проверялась национальная принадлежность молодых людей, поступивших на учебу в институты и техникумы разных городов.
В одно из своих посещений спецкомендатуры Камилл, всегда оптимистически настроенный, не мог на сей раз скрыть своего отчаяния. Истекал срок подачи документов медалистами, которые перед зачислением должны были проходить собеседование с профессорами избранного факультета, а положительного ответа на очередное прошение все не было. Комендант сомневался, что там наверху примут благосклонное к Камиллу решение. Ему было очень жаль парнишку. Несомненно, этот случай молодому гебисту казался из ряда вон выходящим: один из лучших учеников городка, золотой медалист не может получить разрешение на учебу в вузе! Но что он мог поделать? И он сделал то, что было в его возможности.
- Ты поезжай в Ташкент и подай свои документы в приемную комиссию. Дорогу ты уже знаешь. Мне разрешено выдавать разрешение на выезд за пределы контролируемой территории только один раз в году. Как я уже тебе говорил, если тебя задержат, то вопрос с тобой буду решать я. Иди, я тебе обещаю, что огражу тебя от неприятностей в случае твоего задержания.
Чтобы оценить человеческую позицию старшего лейтенанта госбезопасности Иванова предлагаю ознакомиться с документами той поры:
"Отлучка спецпоселенца без соответствующего разрешения за пределы района, обслуживаемого спецкомендатурой, иногда ограничиваемого территорией нескольких улиц в городе и сельсовета в сельских районах, рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в уголовном порядке".
А какова мера этой ответственности?
"За побег из мест обязательного поселения этих выселенцев привлекать к уголовной ответственности, определив меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ. Дела в отношении побегов выселенцев рассматривать в Особом Совещании при МВД СССР".
Камилл на следующий день после разговора с Ивановым уже был в приемной комиссии САГУ - Средне-Азиатского Государственного Университета. Документы у него приняли, но на заявлении должна была быть виза заведующего отделом кадров. И к этому заведующему отправился с замиранием сердца Камилл. Процедура получения визы в отделе кадров для всех студентов была простой и не сулившей никаких неожиданностей формальностью, в ней никто не видел какого-либо смысла. Но смысл был, хоть и проявлялся он очень редко. Поэтому, наверное, не сходила улыбка с уст завкадрами, когда он общался с Камиллом, что обрело, наконец, смысл его чирканье пером на заявлениях абитуриентов. Однако улыбающийся завкадрами не стал немедленно сообщать в вышестоящие инстанции о появлении крымского татарина, придавшего смысл его бдению. Он написал на уголке Камиллова заявление одно слово: "Условно". Это означало, что документы у медалиста Афуз-заде приняты условно и что он будет допущен к собеседованию только по предъявлении разрешения из органов на обучение в Университете. А может быть, завкадрами улыбался от смущения, черт их знает, этих работников отделов кадров. Затем и был включен заведующий в число членов приемной комиссии, чтобы только ему одному было ведомо, что спецпереселенцев всех национальностей отсеивать, и допускать только при наличии у них разрешения от жандармского управления - власти стеснялись широкого оповещения населения о фактах ограничения прав некоторых граждан на учебу.
Камилл, несколько успокоенный, вернулся благополучно домой и продолжал ждать. Между тем вернулся из Москвы его сотоварищ по золотым медалям еврей Рафаил. Дело в том, что к тому времени была введена в СССР процентная норма на прием евреев в высшие учебные заведения. Рафик не вписался в эту норму, но, разумеется, об этом ему никто не собирался просто так взять и сказать. На собеседовании один из седобородых и очкастых профессоров очень интеллигентно, подлюга, задал юноше вопрос:
- Скажите, молодой человек, сколько ступенек на лестнице перед главным входом в Библиотеку имени Ленина?
Молодой человек смутился, не зная, как отвечать на явно издевательский вопрос. Его сочли не прошедшим собеседование и предложили сдавать экзамены на общем основании. Рафаил осилил бы конкурсные экзамены, ибо знания у него были настоящие. Но во время встретился он с московским родственником, к которому его просила зайти мама. Старый москвич поведал во многом наивному юноше о ситуации с ограничением процента принимаемых в вузы евреев и объяснил, что в Москве все еврейские вакансии уже заполнены. Он посоветовал возвращаться немедленно в Узбекистан и попытаться там преодолевать злополучную дискриминационную норму. Рафаил чуточку не подоспел ко дню последнего собеседования на избранный им факультет и подал документы на геологический, где был недобор, и его зачислили без собеседования и без экзаменов, как медалиста.
А Камилл все еще ждал. Комендант Иванов дал ему "карт-бланш" на нелегальные посещения Ташкента, и за несколько дней до последнего дня собеседования с медалистами Камилл пришел к начальнику отдела кадров и просил его снять гриф "условно" и разрешить пройти собеседование.
- Если разрешения на учебу в Ташкенте я не получу, то вы аннулируете результат собеседования, - наивно говорил юноша кадровику.
Получив, естественно, отказ, Камилл сидел на скамье в так полюбившемся ему сквере в ярости и в некоторой растерянности. Он продумывал варианты дальнейших действий, ибо сдаваться он не собирался. Однако в тот день он вынужден был вернуться в свой городок.
Вот и срок последнего собеседования в Университете остался позади, а на руках у юноши оставалась вся та же бумажка, которая удостоверяла, что документы в приемную комиссию Университета у него приняты условно.
За пять дней до начала вступительных экзаменов Камилл вновь был в Ташкенте. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» - этот тезис впрямую относился к крымским татарам, к нему лично и он и помыслить не мог, чтобы покорится безликому злу. Однако мирный путь борьбы надо было пройти до конца. Надо было под конец обратиться к Хозяину, а кто является таковым в Узбекистане - было ясно. Это - глава республиканской компартии, портреты которого, наряду с портретами Сталина, порасставлены повсюду. Если самая большая и лучше других оборудованная русскоязычная школа в городке была имени Сталина, то самая известная узбекская школа здесь носила имя Османа Юсупова. Значит, надо идти на прием к Осману Юсупову, бессменному Первому Секретарю коммунистической партии Узбекистана с 1937 года.
Камилл стоял на так называемой Красной площади в центре узбекской столицы. Широким фасадом красовалось на противоположной стороне пустыря, похожего на футбольное поле, многодверное и многооконное торжественно-величавое здание с массивными колоннами и громоздкими портиками. К нему он и зашагал, но не прямо по залитому горячим июльским солнцем полю, а в тени прилегающей улицы Двенадцати тополей. Пройдя за высокие и тяжело открывающиеся двери одного из парадных входов, он был встречен человеком в штатском костюме и при галстуке, профессионально загородившем своим телом дальнейшее продвижение, в то время как другой человек в форме милиционера стоял в стороне, наблюдая за вошедшим. Камилл спросил, как пройти в приемную О. Юсупова и получил вежливое разъяснение от человека в штатском, который проводил его за двери.
Вдоль фасада здания Камилл прошел до его правого крыла, где на такой же высокой и увесистой двери был прибит красивый трафарет: "Приемная Председателя Совета Министров Узбекской Советской Социалистической республики". Камилл вспомнил, что Юсупов в ту пору занимал и эту высокую должность. Он вошел в просторное светлое фойе и был встречен предупредительным офицером милиции, который направил просителя к чиновнику, сидящему за столиком здесь же у входа.
- Я пришел на прием к товарищу Осману Юсупову, - решительно произнес юноша, уже отметивший про себя, что в этом здании все очень вежливы и предупредительны к посетителям вне зависимости, по-видимому, от возраста последних.
- По какому вопросу, - равнодушно осведомился чиновник.
- По вопросу дискриминации по национальному признаку, - с вызовом произнес Камилл, невольно своей интонацией подчеркнув свою непоколебимую решимость преодолеть названную дискриминацию.
Выразительная интонация и пламень в очах юного посетителя никак не воздействовала на индифферентного чиновника. Он снял трубку телефона и произнес не очень внятно несколько слов по-узбекски, из которых Камилл понял, что говорит он с каким-то сотрудником более высокого ранга, от которого зависит, будет ли проситель принят или нет.
Вскоре из одного из коридоров вышел в фойе чернявый молодой человек и подошел к Камиллу:
- Слушаю вас.
Камилл очень кратко сказал, что он по национальности крымский татарин, что поэтому он по существующему положению не имеет права без разрешения органов госбезопасности поступать в вуз, и что ему не дают такого разрешения, а это антиконституционно.
Разговор шел стоя и на русском языке. Молодой человек молча, ничем не выдав своих эмоций, выслушал посетителя, кивнул головой и предложил сесть и подождать, с тем и скрылся. Камилл сел в одно из жестких кресел, предназначенных для тех, кому в приеме не отказано уже на первой ступени, и настроился терпеливо ждать. Однако прошло не более пяти минут, как молодой чиновник вернулся и велел следовать за ним. Он прошел с посетителем в большую, но легко открывшуюся дверь, за которой в просторном кабинете стоял у стола пожилой полный мужчина в прекрасно сшитом – на улицах такого не увидишь! – костюме. Мужчина улыбнулся и пригласил Камилла сесть, сам же расположился во главе стола под портретом Ленина.
- Слушаю вас, рассказывайте, - произнес мужчина с доброй интонацией.
Напряжение, сковывавшее Камилла, спало, и он спокойно, как будто другу своего отца, рассказал о постигших его трудностях. Рассказывая о том, что отец его профессор Афуз-заде отбывает двадцатипятилетний срок заключения, он с чувством воскликнул:
- Отец ни в чем не виновен! Представьте себе, какое преступление, наказуемое таким сроком, мог совершить человек, проживающий в далекой сельской местности на расстоянии двадцати километров от ближайшей железнодорожной станции!
Молча слушающий юношу пожилой узбек после этих слов встрепенулся, - у нас невиновных не арестовывают! – но вспомнил, наверное, что Сталин помер, а Берия арестован, и только понимающе покачал головой.
Как бы не был Камилл успокоен добрым к себе вниманием, под конец рассказа он взволновался:
- Я требую встречи с товарищем Османом Юсуповым. И если он не сможет мне помочь, то …
Он не досказал, что тогда будет, ибо и сам еще того не знал.
Мужчина подошел к Камиллу и положил ему руку на плечо.
- Товарищ Осман Юсупов сейчас очень занят. Но ты, огълум, сейчас иди и изложи на бумаге все то, что ты мне сказал. Я его помощник и я обещаю, что сделаю все, что в моих силах. Напиши не больше двух страниц и сразу принеси мне сюда.
Говорил он по-русски и только одно слово «огълум», то есть «сынок», было сказано на узбекском языке.
Камиллу хотелось по-ребячьи спросить, а точно ли, мол, вопрос будет решен положительно, но он сдержался и, обещав очень скоро вернуться, вышел. Ему бы попросить бумагу и ручку (которыми он, неопытный, не запасся) у этого доброго человека или хотя бы у чиновника ниже рангом, но он вышел из правительственного здания и поспешил на городской почтамт. Там он купил листы почтовой бумаги и, торопливо макая перо в чернильницу, изложил свое обращение на двух страницах, как и обещал. Затем чуть ли не бегом вернулся в приемную высокого учреждения, где чиновник у дверей велел оставить написанное ему. Однако Камилл резко возразил, что велено вручить послание лично в руки, и тогда чиновник вызвал по телефону молодого секретаря высокопоставленного вельможи, который так же молчаливо и вежливо препроводил юношу к помощнику Османа Юсупова.
- Хорошо. Теперь ты возвращайся к себе домой и жди, - сказал тот, пробежав глазами исписанные листы.
- До первого экзамена осталось пять дней, - взволнованно напомнил Камилл.
- Да, я знаю, - улыбнулся мужчина. – Иди, я надеюсь, что все будет хорошо.
Он подошел к Камиллу и пожал ему руку.
Камилл возвращался домой с вновь появившейся надеждой, но и для сомнений были большие основания. Как может за пять дней положительно решиться вопрос, на который полгода он получал отрицательный ответ?
Вопрос был решен положительно за два дня. В первой половине третьего дня прибежала, запыхавшись, ушедшая утром на работу мама:
- Камилл, сынок, комендант Иванов позвонил мне на работу и велел тебе срочно зайти к нему. Вай, огълум, гальба сагъа рухъсет кельген! (Кажется тебе пришло разрешение!).
Старлей Иванов радостно улыбался, будто это ему, наконец, разрешили сдавать экзамены в Университет:
- Ну, Камилл, поздравляю! Вот тебе разрешение за той же подписью, которая тебе несколько раз отказывала! Как ты этого добился? На приеме у Османа Юсупова был? Молодец!
- Это вам спасибо, за то, что разрешали мне ездить в Ташкент! - искренне благодарил Камилл коменданта.
На следующее утро Камилл был уже в Университете, где получил экзаменационный лист и место в общежитии на время вступительных экзаменов.
Экзамены он все сдал на отлично – тридцать пять баллов из тридцати пяти числились в его активе. Так он стал студентом физико-математического факультета Средне-Азиатского Государственного Университета.
Сам ли помощник решил его вопрос, говорил ли о нем с Османом Юсуповым – это осталось неизвестным. Впоследствии Камилл пытался каким-либо образом узнать имя этого пожилого узбека, определившего его дальнейшую судьбу, но так и не сумел этого сделать. Но Аллаху ведомо имя этого человека, и пусть будут благословенны его потомки во все времена!
Глава 10
Что же это такое, дамы и господа, что же это такое? И младший офицер-чекист сочувствует спецпереселенцу, и высший руководитель советской республики помогает крымскому татарину, но зло творится, оскорбляющее, подавляющее человека зло. Кто его творит, кому оно нужно, это ненужное зло?
Готовых на зло из корысти, ради практической выгоды – полным-полно. А вот приверженцев чистого зла не так много, как может показаться. Есть место в Преисподней - Злые Щели. Бесовское место, как известно. Бесы разных чинов выполняют нелегкое задание тайных сил, находящихся выше Сатаны, но ниже Бога, – искать и находить тех людей и те корпорации, которые жаждут творить зло ради зла. И находят ведь! Есть, например, мнение, что Советская Россия выселяла народы из желания сотворить как можно больше зла, а не из стремления присвоить территории - ведь они и так уж ей принадлежали.
Какая корысть была у Державы выселять аборигенов Крыма? Каких выгод для себя добилась Россия, изгоняя народ, захватывая его землю, его имущество? Ну, где оно, награбленное у татар? Улучшила ли Россия этим злодейством жизнь русских людей? Отнюдь! Не зря удивляются историки – что же за Империя такая, эта Россия? Ведь Империи грабят колонии, чтобы свой народ в метрополии облагодетельствовать. А в России свой русский народ выживал едва-едва, как и народы Туркестана, как и народы Кавказа, как и все другие порабощенные Державой племена. Так во имя чего истребляли, грабили и унижали инородцев в России, если русский крестьянин и русский интеллигент жили так же тяжко, как и все? Неужто и в самом деле Российская Держава творила зло во имя зла?
Уничтожая крымских татар и другие народы, не приумножила Россия свою духовность, не окрепла морально, не прославилась добротою! Увы, она только усугубила свои державные грехи, только еще сильней искалечила душу своего народа, ибо сказано, что не может быть свободным народ, подавляющий другие народы!
И я вновь задаю вопрос: каких благ ты, Россия, достигла, взяв на себя столько грехов? Добилась осуществления своей давней мечты увидеть Крым без его коренного населения? Но вот мы уже в Крыму, и нас все больше, и мы уже не те, не доверчивые, мы закалились в борьбе с твоим беззаконием. Вот мы здесь, и мы множимся на радость всем крымчанам, ибо залог расцвета Полуострова в хозяйствовании на нем его аборигенов, которым все здесь дорого, которые все здесь знают, которым послушны тайные силы крымской земли. Не чудовищно ли, что сегодня под властью водворенных на эту землю жителей других краев, другого климата, других вод все обитатели Крыма бедствуют? Бедствуют на этой богатой и всегда прежде обильной земле!
Зачем изгоняла ты, Россия, из Крыма его коренное население? Чего ты, держава Российская этим изгнанием добилась?
В страшное лето сорок четвертого года в пыли азиатских городов и поселков лежали тысячи и тысячи трупов – то твои, Россия, граждане крымскотатарской национальности умирали от голода и болезней. Умирали дети и жены, матери и отцы тех пятидесяти тысяч воинов, которые в эти же дни гнали от границ СССР напавшего на страну врага. Умирали бездомные и обездоленные, в то время как в Крыму остались их дома, их огороды и сады, их домашняя живность.
Зачем ты ограбила крымских татар и обрекла их на смерть, Россия?
Это ли великое злодеяние было твоей целью, Россия?
Зло ради зла… Или, может быть, я чего-то недопонимаю? Может быть, дело в геополитике, ради которой не то, чтобы татар, но и своих русичей не жалко?
Так каковы твои сегодняшние геополитические успехи в регионе, а? Не задумываешься ли ты над тем, что благоденствовали бы на этой земле все, ежели не пыталась бы ты уничтожить нас, крымских татар, и ты бы сама, держава Российская, радовалась? Или радость тебе доставляют только горести людские да твои державные потери? Ну да, исторический процесс, ты скажешь, конечно! Но переходить из одного исторического этапа в другой иным странам удалось с меньшей кровью, с меньшими потерями перед людьми и перед Богом. А уж в нашу-то информационную эпоху надо бы как-то иначе, почеловечней…
Покаяние… Верно, что покаяние не дает забвения, не очищает память народную. Однако отсутствие покаяния и множимое зло отягощает как сегодняшнюю, так и грядущую жизнь - и жертв, и палачей. «Грех висит над страной» - так это было сказано.
Глава 11
...В те дни начала марта 1953 года, когда радио сообщило о болезни Сталина, вольнонаемные, работавшие в этом башкирском лагере, - как и во всем обширном континенте ГУЛАГа! - обогатились. Водка шла по тройной цене, спрос был неиссякаем. Заключенные, строившие город для нефтяников, получали за труд хоть и небольшие, да деньги, и всегда имели возможность купить у работников, приходящих в лагерь с воли, заветные пол-литра. Это было наказуемо, и пользовались этой возможностью только энтузиасты, которых, прямо сказать, было большинство. Теперь же в ожидании желанной вести о смерти кровавого тирана пили все. Охрана была в растерянности, вечерняя проверка не производилась, заключенные всю ночь расхаживали по территории лагеря из барака в барак, распевали песни, ругали советскую власть, угрожали неведомо кому - “Ну, теперь погодите!”. Через пару дней охранники преодолели растерянность, и сами стали неприкрыто носить водку в свои отряды. На работу заключенных поутру водили, потому что они сами того хотели - нужен был заработок для восполнения иссякающих денежных заначек. Но в день, когда пришла ожидаемая весть, все остались на территории лагеря. Радость переливалась через край, все обнимались, поздравляли друг друга, были, говорят, даже случаи братания зеков с вертухаями. Во втором бараке веселящаяся компания запела одну из известных всем песен, и вот уже весь лагерь гудел:
Таганка! Все ночи полная огня. Таганка! Зачем сгубила ты меня?Так слаженно и таким огромным количеством голосов эта песня, наверное, раньше никогда и нигде не исполнялась. Очень сильно подействовало это импровизированное пение на охрану лагеря, некоторые из охранников почему-то решили, что теперь-то уж зеки пойдут все рушить и давить. Когда в конце песни зеки разразились тысячеголосым торжествующим криком, даже отъявленные атеисты из чекистов начали тайно креститься и вспоминать “Отче наш”…
В бригаде лагерников, где работал наш старый знакомый Февзи, водка под вечер кончилась, не было и денег. Но бригадир, крымский татарин Мемет, вспомнил, что в подвале возводимого бригадой дома были еще неделю назад припрятаны к субботнему вечеру несколько поллитровок. К начальнику караула отправились трое, чтобы упросить его разрешить выход с территории лагеря - о цели сказали напрямую. Молодой караульный офицер, в душе которого уже несколько дней как поселился страх, хотя особых грехов за ним вроде бы и не числилось, отпустил зеков на территорию стройки, которая была расположена в десяти минутах неспешной ходьбы.
Среди делегированных за водкой был и Февзи. Когда ребята извлекли из-под мешков с цементом заветные бутылочки, решили одну распить тут же. По дороге назад распили вторую, и вконец захмелевшие Февзи и другой парень, по имени Илья, решили прикорнуть в кустарнике. Третий зек не долго уговаривал товарищей и отправился в лагерь в одиночестве. Настолько была охрана в эти дни деморализована, что на проходной даже не обратили внимания на то, что уходило трое, а вернулся только один...
Парни, завернувшись в стеганые ватные бушлаты, проспали на свежем воздухе до утра. Проснувшись, они в недоумении оглядывались вокруг, но, вспомнив вчерашние события, весело посмеялись и отправились в лагерь. Караульные также безучастно пропустили их, не задав ни одного вопроса. Парни шли по пустынной замолкшей территории. Отбушевавшие заключенные спали, и обычной побудки в этот день не ожидалось. Февзи и Илья поплелись в столовый барак, где привычно переругивающиеся вольнонаемные женщины накормили их макаронами с котлетами и напоили компотом - в лагере кормили неплохо, потому как за счет заработков самих заключенных. Парни отправились досыпать на свои нары.
Через два дня празднества окончились и только еще в день похорон “мудрого, родного и любимого” была серьезная всеобщая пьянка, но прошла она уже без митинговщины, а в серьезных разговорах - что же, мол, теперь будет, чего теперь ожидать?
Что ожидалось, то и произошло. К блатным свобода пришла той же весной в виде амнистии, дарованной Маленковым. “Наш Жора!” - любовно называли сталинского любимца уголовники, и добавляли: “Мать твою так!”.
- Не дрейфьте, земляки! - приободряла контрреволюционеров блатная братва. - Скоро и вам выйдет воля!
Осужденные по контрреволюционным статьям Уголовного кодекса под амнистию не попали. Только в сентябре 1953 года вышло постановление о пересмотре дел этой категории заключенных. В конце 1954 года были сокращены сроки заключения у некоторых счастливчиков, которые с учетом зачетов рабочих дней на стройке были освобождены. Среди первых освобожденных оказался и Февзи.
...Со справкой об освобождении, в которой было указано, что не позже пятидневного срока предъявитель должен явиться в милицию города Чирчика, где был произведен арест, Февзи осенним утром покинул территорию лагеря вместе с несколькими другими бывшими зеками. Среди освобожденных было двое крымских татар. Но на вокзале города Ишимбая Февзи сказал своим землякам, что не собирается возвращаться в Узбекистан. Те были удивлены.
- Тебя поймают и будут судить за побег с места поселения! - воскликнул немолодой татарин родом из Феодосии. - Лучше поедем туда, где весь наш народ.
- Мне надо заехать кое-куда, потом подумаю, - Февзи протянул землякам руку для прощального рукопожатия.
- В Крым задумал ехать? Глупо! Попадешься!
- А может, и не попадусь! - улыбнулся Февзи. - Айды, огурлар олсун! Ну, счастливого пути!
- Алла хъайырлысын берсин! Сагъ ол! Аллах тебя хранит! Будь здоров!
Февзи пошел смотреть расписание поездов в сторону Ленинграда.
...В общий вагон ленинградского поезда Февзи взобрался вместе с высоким жилистым мужчиной, которого знал в лицо.
- Что, выходит, нам в одну сторону? Держись меня, - высокий уверенно шел по проходу вагона. У окна компания малолетней шпаны шумно играла в карты.
- А ну, освободите места! - высокий шагнул к окну и сдернул за руку двух подростков. - Старших уважать надо.
Потревоженная компания попыталась, было, выразить неудовольствие, но один из них прошептал:
- Это зеки, по амнистии, наверное, выпустили. Пойдем отсюда...
Ребята удалились от греха подальше.
- Видишь, с понятием попались. Довольно мы на нарах валялись, пока они в креслах рассиживали. Теперь и наш день пришел. Устраивайся поудобней, а поспать захочешь, так вон туда, на третью полку забирайся. Багажик свой попутчики снимут, когда попросим.
Сидящие рядом пассажиры, немолодые крестьяне, едущие с мешками картошки или лука, по-видимому, до ближних станций, испуганно молчали - с этими урками лучше не связываться.
... Февзи неотрывно смотрел в окно. Листва с окружающих поездной путь деревьев и кустарников опала и далеко было видно. После пяти лет жизни в заключении эта поездка в гражданском поезде без конвоя, возможность свободно выходить из вагона, давно не слышанные детские голоса и даже детский плач в соседнем купе - все это пьянило долгожданной радостью. Но в то же время обретенная свобода пугала. Одно дело, когда вокруг тебя хорошо знакомые тебе люди, когда все дневные занятия твои заранее расписаны, когда в урочный час тебя ведут в столовую, когда твой завтрашний день определен, и ты знаешь, что будет и как. И иное дело, когда ты предоставлен самому себе, когда ты плохо знаешь мир, в котором ты оказался, когда вокруг тебя не братья-зеки, а эти люди с воли, другие люди...
Спутник Февзи, рабочий мужик, прошедший войну с первого ее дня до последнего, имевший за молодую драку срок еще и до войны, вот уже и после отсидевший за “антисоветскую агитацию”, хорошо представлял себе состояние парня, получившего волю и потерявшего сплоченный коллектив сотоварищей-зеков. Но он не знал, что парень, по сути, пустился в бега.
- Ну, так куда путь держишь? Кто тебя дома ждет? - спросил он Февзи, когда немного пообвыклись.
Не тот был случай, когда нужно было скрывать свои планы, и Февзи откровенно рассказал попутчику о задуманном.
- В Ленинград еду... Должен был стать на учет в Узбекистане... Родных никого в живых нет... Может, отец и вернулся с войны, да где его искать... Если не найду в Ленинграде Олега, то вернусь в Узбекистан...
- Да, парень... Захомутают тебя в Ленинграде прямо на вокзале. Ты погляди, одежда на тебе лагерная, каждый шпик сразу же вычислит, откуда ты. Хорошо, если отправят согласно твоей справке в Азию, а то опять упекут, ити иху мать... Как же тебе быть?.. Быть может, со мной в Новгород поедешь, с вокзала выберемся, а потом чего-нибудь надумаем?
- Нет, как задумал, так и сделаю. Друг у меня там… Возможно по дороге чего-то из вольной одежды куплю.
- Коли деньги бы были...
- Денег чуть-чуть. Хоть рубашку...
На следующий день на какой-то станции Февзи выбежал из вагона и вернулся с рубашкой из клетчатой ткани.
- Вот... Бушлат и телогрейку спрячу в мешок...
- Так в Питере-то холодно, ноябрь на дворе...
- А чего делать?.. Да, ладно! Что будет, то будет...
В Ленинграде холодный ветер гонял по перрону снежную крупу. Было около восьми часов утра, рассвет еще не наступил. С мешком за спиной, без шапки, в одной клетчатой рубашке Февзи прошел по длинному перрону до здания вокзала, и, завидев слева проход, поспешил покинуть освещенную мерклыми фонарями территорию. Оказавшись на темной улице, Февзи увидел идущий прямо на него трамвай и едва успел отскочить назад. Пропустив трамвай, он оглянулся и решил, что лучше уйти подальше от вокзала и потом уж разузнать у прохожих, на чем можно доплыть до Васильевского острова. Он перешел на другую сторону проезжей части, проворно миновал сторонкой запруженную неотчетливой толпой трамвайную остановку, и быстро зашагал по широкой, скудно освещенной улице. Это был Невский проспект, но парень этого не знал. Он, замерзая, шел по малолюдному тротуару, пока не решил свернуть на вовсе уж глухую боковую улицу. Там он вытащил из мешка стеганую телогрейку, надел ее, потом сверху натянул такой же ватный бушлат, напялил на голову хилую зековскую ушанку. Пройдя еще немного, он сел на оказавшуюся неподалеку гранитную плиту, даже не заметив, что рядом возвышается в утреннем сумраке какой-то памятник, и пытался совладать с идущей изнутри дрожью. Не больше минуты просидел он на холодном камне, когда кто-то коснулся его плеча. Он оглянулся и увидел в слабом свете, идущем из окон окружающих домов фигуру милиционера.
- Ваши документы, гражданин...
Все еще не в силах преодолеть дрожь Февзи полез за пазуху и достал из кармана рубашки выданную ему в лагере справку.
- Так, - сказал милиционер, бросив взгляд на справку, даже не разворачивая ее. - Пройдемте со мной, гражданин.
Отделение милиции располагалось неподалеку. Было там светло и тепло, дрожь немного оставила парня, когда он вдохнул теплого воздуха.
- Я освободился из лагеря два дня назад, еду домой в Узбекистан, там у меня родители. Захотелось хоть на денек заглянуть в Ленинград - всю жизнь мечтал побывать в этом городе. Когда еще смогу из Азии выбраться. Сегодня же вечером собираюсь ехать домой, - врал Февзи.
- В Ленинграде родственники или знакомые есть? - спросил дежурный офицер, благосклонно выслушав задержанного.
- Откуда у меня здесь знакомые? Из Азии я... Не так Москву хотел повидать, как Ленинград. Такой знаменитый город..., - тут холодный озноб опять прошиб Февзи.
Офицер взглянул на него и крикнул в коридор:
- Петров, чаю принеси! Погорячее! - и обратился к Февзи: - Холодно в Ленинграде? Да, это тебе не солнечный Узбекистан.
Петров принес дымящийся чай в большой эмалированной кружке. Дежурный офицер достал из шкафа ломти хлеба и кусочки сахара.
- Попей чайку.
Февзи не стал ждать вторичного предложения. Пока он, обжигаясь, пил дежурный вытащил из папки листок и что-то написал на нем.
- Вот, - протянул он листок Февзи, - разрешение тебе до конца этих суток пребывать в Ленинграде. Тебя с твоим лагерным обмундированием еще сто раз остановят на улицах. Советую тебе купить прямо сейчас билет в Узбекистан. Будешь показывать билет вместе вот с этой справкой, и тебя не будут таскать по отделениям.
- Спасибо! - обрадовался Февзи, поняв, что его сейчас отпускают.
- Э, нет! Не торопись! Сейчас акт о задержании составим, подписочку дашь, что предупрежден о необходимости выезда из Ленинграда в течение суток.
Дежурный заполнил бланк, Февзи поставил свою подпись и, поблагодарив офицера, радостно поспешил покинуть гостеприимное отделение милиции. Теперь он смело шагал по Невскому проспекту в своем громоздком бушлате и в ужасной шапке. Начинало светать. У Гостиного двора его опять остановил милиционер. Февзи предъявил ему уже две имеющиеся у него бумажки, и тот, подозрительно оглянув парня с ног до головы, все же отпустил его восвояси.
Дойдя до того места, где Невский проспект вроде бы заканчивается, Февзи растерянно оглянулся. Где же Нева? Прохожий, к которому парень обратился с вопросом, недовольно посмотрел на него и что-то буркнул, махнув в сторону какого-то сада, где сквозь голые сучья деревьев проглядывало длинное здание. Февзи пригляделся и увидел не раз встречавшийся ему на рисунках в разных книгах высокий шпиль с корабликом наверху. Он перешел дорогу, прошел сад и прочел на прибитой к стене бронзовой доске, что это здание есть Адмиралтейство. Еще довольно много пришлось ему пройти, прежде чем он вышел к набережной Невы и узрел хорошо знакомый вид с ростральными колоннами и портиком Военно-морского музея. Два льва по обе стороны лестницы, на которой стоял Февзи, привели его в восторг. Он долго стоял на граните ступеней, глядя на темные воды, любуясь видом какой-то крепости на другом берегу, дивился ширине реки.
Теперь надо добираться до этого острова, до Васильевского Острова, подумал парень. Что ж, дотемна, может быть, доберусь. Интересно, далеко отсюда до Медного Всадника?
Он пошел вдоль набережной и вдруг увидел его. Нет, сперва он увидел огромное здание с золотым куполом, вокруг купола сидели зеленые фигуры разных святых, огромные надписи шли по фронтону. Пораженный красотой и величием этого собора он не сразу заметил Медного Всадника, а когда заметил, то понял, что перед ним Исакий и что стоит он, недавний зек Февзи, на Сенатской площади.
Посидев на холодных скамейках в пустынном саду, насытив свой взор видами, наполнявшими заветные строки Пушкина и повести о столь полюбившихся ему декабристах, борцах с российским самодержавием, Февзи решил, что пора отправляться на Васильевский Остров. Время приближалось к полудню. Он уже давно приметил располагавшуюся неподалеку пристань и теперь пошел к ней. Окошечко кассы, где летом продавали билеты на прогулочные катера, теперь было закрыто. Рядом рабочие возились с какими-то кабелями. Февзи подошел к ним и спросил, когда будет пароход до Васильевского Острова. Рабочий удивленно на него поглядел и ответил, что на Васильевский катера не ходят. Февзи оторопело отошел, но потом опять вернулся и спросил, а как же, мол, можно добраться до этого острова. Мужики весело рассмеялись и показали на противоположный берег Невы.
- Вот он, Васильевский Остров! От Дворца профсоюзов трамвай туда ходит!
Смущенный Февзи поблагодарил рабочих и от растерянности даже не спросил, где же этот Дворец профсоюзов, но вновь обращаться к занятым людям не стал, а пошел в сторону Исакия. Там ему разъяснили, где посадка на трамвай, идущий на Васильевский Остров, и вскоре Февзи уже из окна трамвая смотрел на воды Невы, протекающей под мостом...
Еще раз милиционер остановил его возле старой церкви на самом Васильевском, внимательно прочитал обе справки и, помешкав, все же не стал задерживать. Февзи решил, что надо немедленно найти дом на одной из линий, то есть, как он понимал, улиц, Васильевского Острова, где должен проживать Олег, и стараться не попадаться на глаза милиционеров, а то, неровен час, захомутают его у самой цели...
...Поднявшись на второй этаж, Февзи нажал кнопку звонка, подождал и нажал трижды. За дверью никакого движения. Было около четырех часов дня. Значит, отец Олега еще на работе, а сам Олег в институте. Надо подождать. Февзи вышел во двор и присел на скамью у дверей. Изредка проходящие жильцы подозрительно косились на парня, и он решил пойти и пересидеть где-нибудь снаружи. Выйдя из здания, он заметил малолюдную боковую улицу, на которой стояла заброшенная церковь, рядом оказался небольшой неухоженный сад. Там и провел недавний зек часа три, чтобы уж наверняка застать своего друга дома.
Сняв бушлат и шапку, Февзи положил их на подоконник и, нажав на кнопку звонка, прислушался: в квартире раздался шорох ног. Кто-то подошел к дверям и повозившись с замком отворил ее. Февзи узнал в худощавом молодом мужчине Олега.
- Вам кого? - именно такого вопроса и ждал Февзи. Он придвинулся к дверям так, чтобы свет от электрической лампочки упал на его лицо.
- Олег, это я, Февзи...
Олег пригляделся и протянул обе руки:
- Февзи! Так что же ты стоишь! Заходи!
Молодые люди обнялись и стояли так какое-то время.
- Какими судьбами? Вот это сюрприз! Сколько лет прошло! Проходи, раздевайся.
Февзи забрал с подоконника на лестничной площадке свою зековскую экипировку и посмотрев на вешалку, бросил на пол шапку и поверх нее бушлат.
- Проходи! Мой руки, сейчас ужинать будем.
Февзи понял, что Олег рад его приходу. Но он еще не знал, как отнесется к нежданному гостю отец его друга. Он прошел в маленькую тесную кухню, помыл руки под умывальником и вошел в комнату.
- Садись к столу, - Олег поставил на стол тарелки, и принес из кухни миску с горячей картошкой в мундире, да еще и банку с кусочками селедки. Февзи между тем оглядел довольно благоустроенную комнату с диваном, письменным столом и широким книжным шкафом. Рядом со шкафом дверь вела в другую комнату.
- Февзи, друг! Ну, ты даешь! Как ты здесь оказался? Я уже не думал...
- Из лагеря я. Освободился вот. Дай, думаю, заеду...
- Ну, молодец! Ну, корифей! Здорово удумал!
Олег вышел на кухню и вернулся с бутылкой “Московской особой”. Февзи, давший себе после того, как оказался за воротами лагеря, слово вернуться к завету дядюшки Соломона, опасаясь обидеть Олега, все же решился:
- Олег, я не пью.
Олег смотрел на Февзи несколько секунд, потом повернулся и подошел к раковине на кухне.
- Я тоже больше не пью, - и Февзи услышал, как булькает водка, выливаясь из узкого горлышка.
Олег вернулся к столу и, смеясь, похлопал Февзи по плечу:
- Какие мы положительные личности, однако! - он взял картофелину, очистил и положил на тарелку перед гостем.
- Прошу!
- Да я сам, ты что...
- Давай, давай! Вот с селедочкой. О, еще капустка есть! - он вновь пошел на кухню и вернулся с тарелкой, наполненной кислой капустой.
- Хорошая получилась. Сам делал.
- Как отец, где он? - спросил Февзи, потянувшись вилкой к капусте.
Олег изменился в лице и, опустив руки на стол, глухо произнес:
- Нет отца. Умер. В тюрьме.
- Как? - Февзи был ошеломлен.
- В сорок девятом его арестовали. Не было никаких вестей. Через год мне сообщили, что он умер в тюрьме, в Омске. Это в Сибири...
Февзи помолчал, переживая неожиданную новость, потом произнес:
- В Сибири... Я там был...
Он вспомнил старика-арестанта, умершего у него на руках, но и теперь у него не появилось мысли, что старик тот был отцом Олега.
Ребята какое-то время сидели молча, перед каждым пробегали печальные картины прошлых лет, у каждого свои... Наконец Олег встряхнулся:
- Ладно. Ну, Февзи, надо бы за встречу, да ты так категорично...
- Олег, от вредного надо сразу отказываться.
- Да, конечно... Ну, давай хотя бы компотом.
Опять вышел он на кухню и пришел с двумя стаканами, наполненными компотом из сухофруктов.
- За встречу! - ребята с коротким смешком сдвинули стаканы и выпили холодный компот, после чего начали с аппетитом есть.
- Так что с тобой случилось, Февзи, рассказывай.
Не прекращая трапезы, Февзи поведал другу обо всем, что определило его нелегкую судьбу арестанта. Конечно, Олег был потрясен поступком их учительницы по литературе.
- Я думал, что уже достаточно знаю жизнь. Но твой рассказ показал мне, что я все еще идеалист...- грустно проговорил Олег, когда Февзи закончил свое повествование. Опять в комнате повисло молчание, опять каждый задумался о своем...
- Почему ты не спрашиваешь, за что арестовали моего отца? - наконец проговорил Олег.
Февзи покрутил головой, словно чего-то ища взглядом. Увидел через открытую дверь кухни стоявшую под раковиной умывальника пустую бутылку из-под водки и пожалел, что побудил Олега к скорой расправе с ней. Подавив в себе желание водкой оглоушить вздымающуюся в душе ненависть к тому, что народ именует местоимением “они”, Февзи ответил на вопрос друга:
- В сибирской тюрьме я сидел одно время в камере с крепким мужчиной лет семидесяти, с густыми седыми волосами и бородатым. Был он не троцкист даже, а то ли кадет, то ли меньшевик - настоящий каторжанин. Новоприбывшие в камеру дня через два-три непременно спрашивали его, за что, мол, вы сидите. И он, всегда погладив неторопливо бороду, отвечал густым басом - “За конокрадство”. И почти каждый после этого понимал, всю неуместность такого вопроса в советской тюрьме. Так что, Олег, я не спрашиваю, за что взяли твоего папу. Ясно только, что был он честный человек - это несомненно. Подлецы живут на свободе и очень неплохо устроены.
- Я знаю, что он был честным и смелым, что он мужественно сражался на войне. И тем непонятнее мне, за что ему такая страшная судьба. То, что ты сказал, мне тоже непонятно. Кадеты или меньшевики - это враги народа, а мой отец был коммунистом.
Февзи поморщился как от боли, но спокойно возразил:
- Ты не прав, Олег. Тебе еще многое надо понять. Понять и то, что каждый, остающийся на свободе, подозревается в холуйстве перед советской властью. Подозревается, а не обвиняется, понимаешь?
Февзи почувствовал, что он, вчерашний политический заключенный, высказался очень резко, что друг может обидеться - он сын зека, но это не то же самое, что быть зеком. Однако, подумал Февзи, надо сразу обозначить позицию.
Если бы услышанное от Февзи было бы внове для Олега, неизвестно, как бы он отреагировал. Но его поразило то, что сказанное его гостем суждение совпадало с тем, что он каждый день слышал от своего напарника по ремонтной бригаде Сергея, веселого парня, гитариста, любимца девушек. Отец и мать Сергея были расстреляны в тридцать восьмом, а воспитывался он проживающей в Ташкенте бабушкой, старой коммунисткой, между прочим. Вернулся относительно недавно в родной Ленинград и жил в общежитии.
За столом воцарилась долгое молчание, которое Февзи истолковал по-своему - не получилась встреча со старым другом. Олег же думал теперь о том, что ему, видно, не хватает ума и характера, чтобы увидеть в истинном свете страну, в которой он живет. Или, может быть, все же прав он, а то, что случилось с отцом, трагическая ошибка? В таком большом государстве могут происходить изредка такие ошибки... Нельзя из-за личной неудачи озлобляться на государство, возникшее в результате самой справедливой за всю человеческую историю революции... Но не много ли случайных ошибок, роившихся вокруг него, одного случайного человека? Судьба его отца, судьбы Февзи и Сергея...
Однако Олег не мог принять точку зрения своего много перенесшего друга, что не угодившие в тюрьму люди, большинство граждан недоброй страны, то большинство, которое окружает всех нас ежедневно, это люди чем-то замаранные, хотя бы и только подозрением. Такое утверждение, думалось Олегу, является явным перехлестом, но сейчас говорить с Февзи об этом было бы неверно, для этого разговора найдется другое время.
- Так, - прервал он, наконец, паузу. - Полагаю, ты не собираешься ехать в свой Узбекистан?
- Я бы не поехал... - Февзи не знал, как продолжать.
- Так в чем же дело? Жить нам есть где, работу тебе найдем.
Февзи с облегчением засмеялся:
- Да ведь у меня нет документов, - и поспешно добавил: - Но если ты принимаешь меня с моим жизненным опытом и у себя оставляешь...
Олег попытался улыбнуться:
- Будешь просвещать меня... Я уже давно собирался тебя искать, да не знал, как это сделать. А с документами... Ты ведь не бежал из лагеря? Бумажку тебе какую-то дали?
И, не ожидая ответа, торопливо добавил:
- Но если даже бежал, что-нибудь придумаем.
- Нет, не бежал! - рассмеялся Февзи, на что Олег с наигранным разочарованием заметил:
- Жаль. Так было бы романтично.
- Вот справка, - Февзи достал бумажник. - Предписано явиться по месту прежнего жительства. А вот это "аттестат зрелости", в лагере экстерном экзамены сдал.
- Так у вас там и школа была? - удивился Олег.
- Даже можно было заниматься по программе техникума. На, вот, почитай мои лагерные документы, для тебя все это в диковинку.
Олег прочитал справку об освобождении, обратив внимание на предписание явиться в управление внутренних дел города Чирчика. И после того, как Февзи напомнил ему о положении крымчан в Узбекистане, успокоил друга:
- Да ведь здесь в Питере никто не знает о режиме спецпереселенцев. Мало ли что предписано! Может, это записали по твоей просьбе. Так и скажешь. А теперь, скажешь, передумал. Общежития просить не будешь, из-за этого тебя с удовольствием на любом заводе на работу возьмут.
- Может ты и прав. Только на больших заводах кадровики, наверное, вдумчивые. Куда-нибудь на небольшое предприятие бы...
- Да хоть на мое! Автобаза городского пассажирского транспорта, никакой секретности. В отделе кадров сволочной мужик сидит, правда, но они везде такие. А механики нам нужны. Завтра же пойдем, я скажу, что ты мой двоюродный брат.
- Нужен тебе брат из зеков?
- Еще не ясно, чей козырь выше. Я сын репрессированного офицера, не забывай.
- Ах, да! Только вот еще одна закавыка - одежда у меня лагерная, всех отпугивает.
- С одеждой трудностей не будет. Отцовской старой одежды хватит и на тебя и на меня. И пальто старое есть.
- И шапка найдется? - засмеялся Февзи.
- И шапка! - ребята порывисто встали и обнялись, счастливы тем, что нашли общий язык и наметили план ближайших действий.
... Февзи и Олег шли по левой набережной Невы.
- Скоро река замерзнет, будем на Васильевский по льду ходить, - Олег остановился, глядя на Стрелку.
- Да ну? Неужели можно пройти? И ты ходил?
- Нет еще, не с кем было. Обязательно ото львов до ростральных колонн пройдем, я давно мечтаю. Можно и до Петропавловской крепости дойти.
- Олег, а что это за здания, вон там, левее?
- Это здания Петровских коллегий. Сейчас здесь разные факультеты университета...
Молодые люди молча возобновили путь.
- А давай поступим в университет, - высказался, наконец, Февзи. - Как когда-то в школу.
Ребята весело рассмеялись, хлопая друг друга по спине.
- Нет, я уж продолжу учение в своем Технологическом, - сказал Олег. - А ты давай, поступай на какой-нибудь вечерний факультет университета.
- Готовиться надо...
- А вот завтра же и достанем программы экзаменов. Ты на какой факультет хотел бы, уже думал об этом?
- Не знаю. Хотелось бы на юридический.
- Нет, не получиться. Туда берут только тех, кто работает в милиции или в прокуратуре.
- Ну, на журналистику или на исторический.
- Вот завтра же пойдем и все разузнаем. А я про свою Техноложку все знаю.
- Заметано! Завтра после работы идем в университет!
Друзья быстро шли по набережной холодеющей Невы.
Глава 12
Однако мы оставили несчастного Исмата в том сорок восьмом еще году, когда после встречи с председательским сынком, он, чтобы отвести ищеек от Айше, пустился в бега и оказался объявленным в розыск. Мы расстались с ним, когда он, забравшись в пустой товарный вагон, надеялся доехать до Самарканда, чтобы оттуда уже добираться в Туркмению.
Наступал рассвет. Перед Исматом, лежащим все также без сна на полу пустого, и потому сильно раскачивающегося вагона, возник вопрос: как действовать, когда поезд остановится на какой-нибудь людной станции. Выйти ли и, прохаживаясь между составами, ждать отправления? Сидеть ли тихохонько, надеясь, что в вагон не заглянут и не станут его загружать? А вдруг погонят товарняк куда-то не туда? Рабочий-железнодорожник в Ташкенте сказал, что можно забраться в вагон и спокойно доехать до Самарканда. Они, работники станций, знают, какие вагоны куда гонят и до поры до времени порожняком, они это узнают по знакам, начертанным мелом на дощатых стенках. Так что, пожалуй, надо не суетиться и сидеть в этом темном углу.
Поезд только однажды сделал длительную остановку, во время которой за закрытыми дверями вагона ходили, о чем-то переговариваясь, люди. Состав несколько раз порывался отъехать, потом опять надолго застывал - возможно, меняли паровоз. Наконец поезд тронулся и стал медленно набирать скорость, и в этой медлительности чувствовалось, что теперь он замыслил долгий пробег и не намерен тормозить по пустякам.
Спустя несколько часов поезд въехал на большую станцию, о чем свидетельствовали появившиеся звуки других перестраивающихся составов и скрежет переводимых путей. Когда поезд окончательно остановился, Исмат осторожно отодвинул дверь и выглянул наружу. Его взгляд уперся в стенку стоящего на соседнем пути вагона. Нашарив рукой оставленную рядом сумку, он осторожно сошел на землю. Вдоль всего состава не видно было никого. Нагнувшись, Исмат поглядел между колес и убедился, что его поезд поставили в середине между несколькими рядами заставленных эшелонами путей. Исмат пошел по узкому коридору между составами и, дойдя до тормозной площадки, поднялся на нее, чтобы осмотреться. Впереди за вторым рядом был виден просвет. Беглец, оглядываясь, спустился в сторону просвета и вскоре за оконечностью соседнего эшелона увидел свободную от рельсов землю и глиняные заборы. Он походкой никуда не торопящегося человека перешел пути и пошел по тропе вдоль забора. Тропа завернула за угол, за которым открылся квартал одноэтажных домиков с редкими прохожими на улочках.
Было, наверное, около пяти часов вечера. Еще лежа на жестком полу вагона Исмат придумал, что надо бы ему приобрести одежду азиатского дехканина и переодеться, чтобы стать неприметным среди населения. Дехканин он и есть дехканин, он не знает другого языка, кроме узбекского или, скажем, туркменского. Он и ответа ни за что держать не может, и паспорта черта с два с него потребуешь, и арестовать его себе дороже. "Но только бы не взяли бы до переодевания", думал Исмат, спросив у прохожего мужчины, где тут поблизости базар.
- Большой базар далеко, - отвечал мужчина, - а маленький вон там за вокзалом.
Оказалось, что к базару, что за вокзалом, надо идти назад через рельсы, но теперь этот путь проходил по дощатому настилу. По нему и пошагал Исмат.
Базар, действительно, был небольшой. Здесь стояли маленькие кучки зеленошкурых дынь, в одном месте продавали мелкие арбузы, на прилавках стояли корзины с виноградом. Того обилия, которым отличались в осеннюю пору родные Исмату кокандские и ферганские базары, здесь не было, хотя, возможно, из-за того, что базар был сам по себе невелик. Но тут находились, к счастью, небольшие лавки, в которых продавцы предлагали серые холщовые и белые полотняные национальные дехканские штаны и рубахи. Исмат купил немаркую пару штанов и такую же рубаху, купил башмаки на низких каблуках и небольшую перекидную суму-хурджин. Он зашел в проулок за каким-то складским бараком и переоделся, затолкав свою одежду в хурджин и туда же переместив все то, что было в его неудобной двуручной сумке из кожзаменителя. Потом он обмотал вокруг тюбетейки сложенный в полоску поясной платок и вышел на люди как дехканин, покинувший свой родной колхоз в поисках побочного заработка. Правда, он оброс волосами, да и борода была нехарактерная по форме. Чтобы сразу покончить с маскарадом, Исмат зашел в находящийся тут же закуток брадобрея и побрил голову наголо, а на лице оставил только усы. Даже Айше не смогла бы его теперь узнать!
Повеселевший Исмат зашел в чайхану, где съел миску-касу рисового супа и выпил большой чайник своего любимого зеленого чая. Теперь надо было выбираться на юг, в Туркмению - и спешно!
Ссутулившись и расставляя ноги в сторону, Исмат пошел на товарную станцию в поисках подходящего поезда. Избранный им в Ташкенте способ оказался удачным, и сейчас он решил таким же образом спросить у железнодорожника, как доехать до Ашхабада на попутном товарняке. Пока он шел, сгорбившись, между путями, не один работник станции провожал его подозрительным взглядом, который жег Исмату спину, и он едва сдерживал себя, чтобы не побежать. Но в то же время он догадывался, что основывается это подозрение бдительных железнодорожников на понимании того, что этот колхозник бродит тут в попытке проехать на шаромыжку в товарном вагоне, и никак не связано с его переходом на нелегальное положение. Исмат надеялся встретить человека, который отнесется к нему сочувственно и сможет помочь. Наконец он увидел пожилого узбека, торопливо идущего по насыпи навстречу ему.
- Тога (дядюшка), - обратился к нему Исмат, подделывая свой выговор под малограмотного колхозника, - мне надо доехать до Ашхабада, там мой брат работает на станции, он заболел. Подскажите, тога, на каком поезде я могу доехать, у меня нет денег на билет.
"Дядюшка" осмотрел несчастного дехканина и проникся жалостью к нему.
- Хей, бечора! Эй, бедняга! - произнес он. - Как же ты доберешься до Ашхабада? Прямые маршруты туда редко идут. Ты, давай, найди себе местечко вон на том поезде, - железнодорожник показал на стоящий невдалеке состав. - Он едет до Бухары, потом часть вагонов уйдет на Чарджоу. Если доберешься до Амударьи, то там уже легче будет найти поезд до Ашхабада. Ты иди и выбери вагоны, на которых мелом написано "Чарджоу", а еще лучше, если найдешь надпись "Мары". Смотри, не опоздай, поезд уже должен отъезжать.
- Рахмат, тога! Но как мне попасть внутрь вагона?
- Не-не! Там вагоны без крыш, открытые платформы. Всякие стройматериалы везут. Ты там и расположись среди досок или среди мешков с цементом. Плацкарты там нет!
И железнодорожник рассмеялся.
Еще раз поблагодарив доброго "дядюшку", Исмат поспешил к своему очередному дармовому транспорту.
Возле состава, собиравшегося отбывать в Туркмению, людей не было, только вдали, у самого паровоза, прохаживался кто-то. Вдоль некоторых полностью открытых длинных платформ были уложены толстые бревна, и Исмат сразу отверг возможность взбираться на пугающие своей громоздкостью таежные дары безлесной азиатской республике. За несколькими груженными лесом платформами пошли другие, с высокими бортами, которые можно бы назвать вагонами без крыш. Исмат, оглянувшись, поднялся и заглянул в один из таких вагонов, и чуть не задохнулся: до самого верха платформа была завалена бумажными мешками с битумом, и там сгустилась такая атмосфера, в которой человек не мог бы просуществовать и получаса. Пропустив пару таких же платформ, Исмат заглянул за другой борт и увидел там опять же бумажные мешки, но то ли с цементом, то ли с мелом. Оказалось, что с мелом, чему Исмат был очень рад, хотя и недоумевал, зачем везти в Туркмению мел, неужто там нет своего. Как бы то ни было, беглец удобно расположился в ложбинке между мешками, и если что его немного беспокоило - кроме милицейской проверки, конечно, - то это то, что нечем будет прикрыться от жаркого азиатского солнца, которое непременно появится на небосклоне завтра с утра.
Но не подумал Исмат, что всю ночь он не сможет заснуть от холода, который безжалостно терзал его тело на быстро несущейся по пустыне открытой платформе. Когда утреннее солнце согрело его одеревеневшую плоть, Исмат достал из хурджина кусок лепешки, бутылку с водой из водопровода, которой он запасся еще на самаркандском базаре, и перекусил. После этого он вспомнил, что забыл посмотреть на меловую надпись на платформе, и теперь не известно, домчит ли его паровоз до Мары, или же придется ему уже в Чарджоу искать себе новый экипаж.
Поездка не в закрытом темном вагоне, а на открытой платформе имеет то преимущество, что предоставляет возможность обозревать окружающую местность и, что немаловажно, на каждой станции следить за происходящими перестройками эшелона. Так и поступил Исмат, когда поезд, миновав мост через Амударью, прибыл на станцию Чарджоу. Он с удовлетворением убедился, что его персональный вагон-платформу не загоняют в тупик для разгрузки, а ставят на открытый путь. Колея отсюда, решил Исмат, может идти только в сторону Ашхабада. Вообще-то он ошибался, потому что от следующей большой станции Мары шла дорога на Кушку, и не приведи Аллах попасть на эту ветку, потому что на ней, ведущей к приграничному городку, пограничники досматривают каждый вагон, взбираются на каждую открытую платформу, в поисках злоумышленников, задумавших пробраться к государственной границе, которая всегда должна быть на замке. А, вообще-то, это была зряшная игра зеленофуражечников, ибо граница через пустыню вовсе не была на замке, и жители приграничных кишлаков, соблюдая минимальные предосторожности, а в случае чего и откупаясь посильным хабаром, ходили через границу на свадьбы и на похороны своих друзей и родственников.
Но беглецу опять повезло - по-видимому, неумолимая рука Провидения вела его от одних приобретений и потерь к другим приобретениям и неизбежным потерям, но уже на других берегах. На узловой станции Мары его вагон был поставлен в состав, теперь прямым ходом идущий на Ашхабад. Кто-то предугадал, что строительный материал вскоре будет там крайне востребован…
На товарной станции Ашхабада, где царила обычная толчея вагонов, Исмату ничего не стоило, сойдя с так удачно выбранной платформы, покинуть железнодорожные пути и уйти в высмотренную еще с вершины бумажных мешков сторону - подальше от центра города, ближе к злачному пригороду. Покидая ложе из бумажных мешков, он оставил там свою европейского типа одежду, которая теперь, ежели попалась бы на глаза кому-нибудь, могла только демаскировать его, принявшего облик простого дехканина. Затем изголодавшийся молодой мужчина поспешил найти в районе саманных домиков и кривых улочек какую-нибудь харчевню. Зайдя под навес небольшой чайханы, он попросил миску супа, чай, как обычно, и, присматриваясь, сидел, отдыхая от тряски, от шума и иссушающего глаза ветра Каракумов. На него никто из немногочисленных посетителей чайханы не обращал внимания – как важно во время переодеться в нужный костюм! Однако Исмат очень даже внимательно изучал лица и манеру поведения входивших и выходивших людей. Но усталость взяла свое, и он незаметно для самого себя уснул. Проснувшись часа через два, он оглядел, не поднимая головы, помещение и людей, и ничего угрожающего не заметил. Но, кажется, он оказался в том месте, в которое хотел попасть. К вечеру стали появляться здесь некие личности, которых чайханщик подобострастно встречал и сразу же провожал за камышовую перегородку за "самоваром". Они, эти личности, потом выходили, садились за приготовленный для них в почетном углу дастурхан и о чем-то важном беседовали между собой. Исмат у этих людей подозрения не вызвал, да и бояться им, пожалуй, особенно никого не приходилось - все на местном уровне было схвачено. Он, после того, как выпил очередной чайник чая, подошел к чайханщику и смиренно спросил, нет ли у того какой-нибудь работы для него, бродяги, добравшегося сюда из далекой Ферганы. Чайханщик окинул его быстрым взглядом и ответил, чуть помедлив, что нынче все ищут работу, а работы, мол, нет. Исмат печально его выслушал и попросил разрешения заночевать в чайхане.
- Заплати и ночуй, - ответил чайханщик.
Плата за ночлег было совсем не велика - стоимостью в два чайника чая.
Пока все шло, как предполагал Исмат. Теперь, после его разговора с чайханщиком о работе, к нему в течение ночи может подойти человек с тем или иным предложением - это если повезет. Если не повезет, то придется ему еще какое-то время проваландаться здесь, пытаясь привлечь чье-то внимание безысходностью своего положения. Может случиться и так, что ему предложат убираться, и тогда надо будет без задержки уходить - ну не понравился он кому-то!
А получилось вот что. Ночью его разбудил некто и приказал предстать пред очи восседающего над дастурханом пузатого человека в белой рубахе и в шевиотовых брюках, пребывавшего уже в изрядном подпитии.
- Ты кто? - спросил этот неприятный субъект у изобразившего почтение и покорность Исмата. Спросил он по-узбекски, потому что чайханщик доложил ему, что ночной постоялец говорит на ферганском наречии.
- Я из Ферганы, приехал сюда в поисках заработка, господин, - отвечал Исмат, предполагая, что этот пузатик, конечно же, поймет, о какой работе идет речь, и не предложит ему мыть посуду в столовой.
Пузатый любитель шевиота и ночных возлияний знал, в поисках какого дела люди добираются сюда, к границе с Ираном, и он догадывался, что перед ним не малограмотный колхозник, а ловкий парень, знающий, что здесь можно заработать. Но у него сейчас с кадрами был полный порядок. На него работали сильные и ловкие мужчины, способные прошагать много километров по барханам или горным ущельям, умеющие схорониться от рыщущих в поисках сверхнормативной добычи зеленофуражечников, а в случае попадания в их руки - все берущие на себя, и ни под какими пытками не дающие сведений о своем работодателе здесь и о поставщике товара там, утверждая, что на нарушение границы их побудила любовь к живущим на сопредельной территории родичам, а на незаконный перенос товара толкнула крайняя нищета.
- Если ты такой бедняк, то откуда ты взял деньги на товар! - орал истязатель на такого попавшегося. – Только не ври, что все это тебе родственники подарили.
- Да, старшая сестра мужа покойной маминой племянницы подарила. Ой-ой! И сам немного накопил постепенно…, ой! - плененный бедняга опасался назвать в «признании» каких-нибудь близких родственников, что было чревато.
- Так, значит, ты уже не в первый раз нарушаешь границу? - хватался допрашивающий за слово "постепенно".
- Ой-ой-ой! - вопил допрашиваемый. - Ой! Не надо! Накопил я, товарищ начальник, накопил здесь, на работе!
- А-а! Так, где же так хорошо платят за работу? Не в колхозе ли? Или на разгрузке вагонов? Сколько же ты лет копил? Двадцать?
Так как главный риск заключался в переходе через границу, который не всегда оказывался удачным, товара у каждого нарушителя границы всегда бывало помногу - только это возмещало хозяевам неизбежные в таком деле потери. Вот и получалось, что тащил попавшийся в руки пограничников неудачник вещей на такую сумму, которую он мог бы на советской земле заработать легальным способом лет за двадцать, да и то, если все эти двадцать лет он не ел, не пил, и ходил в том, в чем мать родила.
И если самый гуманный на свете советский суд давал немалый срок неудачнику, его семья получала в течение года некоторый гарантированный минимум на жизнь от работодателя.
- Среди людей живем, - говорил в кругу прихлебателей вот этот пузатый или другой такой же работодатель. - Зачем мне неприятные разговоры о голодающих детях?
Поэтому, с одной стороны, выгодно было брать на дело людей не здешних, а с другой стороны существовала опасность, что чужак не вернется в Союз, ушмыгнет в Иран или в Афганистан окончательно. На это, конечно, нелегко было решиться даже тем, кто не оставлял здесь нуждающихся в его помощи людей, потому что и там, за кордоном, не нужны ничему не обученные бедные люди.
А у толстопузого, нынче восседающего в чайхане, была другая задача: ему нужно было заявить о своей лояльности начавшему придираться к нему начальнику в фуражке. Вот он и решил этого человека, который так смиренно стоял сейчас перед ним, отдать в карающие длани советской власти. Начальник подобреет, ведь и ему надо побольше нарушителей сдать. А этот узбек явно беспаспортный.
- А паспорт у тебя есть? - спросил пузан, заранее зная, какой ответ он получит.
- Какой паспорт у колхозника, господин! - воскликнул Исмат, все еще надеющийся на счастливый исход беседы с местным боссом.
- Махмуд! - окликнул пузатый кого-то из своих нукеров. - Запри этого человека в сарае. Он нарушает паспортный закон, утром отведешь в милицию. И проверь, что у него в хурджине.
- Господин, за что? Отпустите меня! - Исмат продолжал играть свою роль. Но он чувствовал, что, кажется, на этот раз попался.
Толстобрюхий босс уже не смотрел на пленника, а демонстративно повел разговор о чем-то постороннем с соседом.
- Идем, собака! - здоровенный Махмуд-палван профессионально заломил Исмату руку и, выведя из чайханы, втолкнул в амбар с крепкой дощатой дверью.
Исмат оказался в кромешной тьме среди каких-то ящиков и автомобильных шин. "Хорошо, что не обыскали", подумал Исмат, у которого в поясе был заколот булавками мешочек с небольшими деньгами. Он обдумал ситуацию, в которой оказался. В любом случае опознать в нем объявленного в розыск Исмата Исматова местной милиции вряд ли удастся. А за беспаспортное бродяжничество отдавать под суд то ли будут, то ли нет. Впрочем, Исмат не исключал возможности, что для демонстрации своей активной деятельности местная милиция начнет раскручивать его поимку. Для этих целей он еще заранее придумал легенду, что он селянин из соседнего с его кишлаком района по фамилии Эргашев, который, как было ведомо Исмату, в позапрошлом году то ли утонул, то ли бежал из колхоза. Могут запросить данные на Эргашева из Узбекистана и дать здесь, в Туркмении, небольшой срок. А могут и отправить в Узбекистан. В этом случае уповать можно только на побег во время длительных перевозок. Вот только документы надо будет во время где-нибудь сбросить.
И вдруг Исмата охватил смех. Это не было истерикой, вовсе нет. Молодой мужчина смеялся над превратностями судьбы, даровавшей ему в течение нескольких дней столько приключений. Он пребывал на ташкентском вокзале в полной уверенности в своем скором отъезде вместе с любимой девушкой в город, где их ждала ее мать, и будущее казалось вполне определенным. Потом бегство, затем чуть было не происшедшая поимка, опять бегство, езда в поездах и автомашинах. И вот теперь коварство местного мафиози, и предстоящая сдача в руки милиции. Что еще заготовила ему судьба-затейница?
Судьба, большая затейница, заготовила сюрпризы не только ему.
Была ночь на пятое октября одна тысяча девятьсот сорок восьмого года.
Исмат, наездившийся в последние дни на гремящих поездах, не придал поначалу значения вдруг донесшемуся из-под земли гулу. Первый подземный толчок был так силен, что крытую шифером крышу сарая подбросило вверх. Сидящего на земле Исмата тоже подкинуло, и он упал ничком. Едва только рухнула стена по правую сторону от него, как новый толчок вынес его, едва успевшего встать на ноги, на развалины этой стены. Крышу сарая, косо опустившуюся на устоявшую переднюю кладку, отбросило в сторону окончательно. Обрушившиеся стены были низкими, поэтому они не завалили Исмата, который успел до следующего толчка выскочить наружу.
Все гремело и орало, выло, мычало, ржало. В панике Исмат бросился бежать в сторону открытого пространства, но вдруг провалился в расщелину в земле, которая, по-видимому, только что образовалась. Он быстро выкарабкался из все еще издающего треск разлома и вновь побежал. Наконец он остановился у каких-то кустов, затравленно оглянулся и был удивлен тем, что не увидел никого стоящего, идущего или бегущего.
Он еще не догадывался, что почти все обитатели окружающих глинобитных строений были раздавлены тяжелыми земляными крышами, порой достигающими толщины в полметра. Под такой крышей оказались погребены и оставшиеся в злополучной чайхане вожди контрабандистов со своими гвардейцами. Так что узнику амбара с легкой, сколоченной из привозных досок шиферной крышей, крепко повезло.
Когда рассвело Исмат, все это время пролежавший среди сухих зарослей, испытывая мистический страх перед то и дело доносящимся из-под земли гулом, поднялся и осмотрелся. Крики и стоны все еще слышались со стороны обрушившихся построек. Как и ночью, нигде не было видно ни души, только несколько собак, выкарабкавшихся из-под завалов, крутились, подвывая, вокруг куч, которые недавно были жилищем их хозяев. Исмат обошел несколько ближайших развалин и понял, что, он один не сможет здесь никого спасти. Он произнес вслух молитву, возблагодарил Всевышнего за собственное спасение и пошел прочь от погибшего города в южную сторону.
По пути его поражали огромные по протяженности разломы на поверхности земли. Один такой разлом, шириной метров в пять, проходил через небольшое селение, все дома которого, естественно, тоже были разрушены. Исмат не мог воздержаться от горестного восклицания, когда увидел, что в нескольких местах этой огромной расщелины торчат обломки досок и кирпичных труб. Видно, во время толчка земля разверзлась и поглотила дома… И тут он увидел живого человека. Человек суетился возле единственной наполовину уцелевшей стены дома, что-то кричал, а под ногами у него путалась небольшая собачка. Исмат побежал к этому человеку, догадавшись, что тот пытается спасти кого-то, еще живого.
- Кызым (дочка)… - только и вымолвил человек.
Почти не обмениваясь словами, двое мужчин голыми руками разгребали кучу скомкавшейся земли, из-под которой раздавался раздирающий душу крик ребенка:
- Ота! Отаджон!
Отец ребенка был почти невменяем, он готов был не то, что голыми руками, - языком слизывать землю, нагромоздившуюся над его дочкой. Он отвечал на зов ребенка, после чего тот на некоторое время замолкал.
Долго, может быть часа два или три, без передыха снимали они окровавленными пальцами землю - слой за слоем, комок за комком. И вот в одном месте земля струйкой ушла в возникшую дыру, туда, откуда уже слышался не крик, а только невнятный стон. Но слышался! Отец девочки просунул руку в дыру, однако Исмат остановил его:
- Погоди, надо еще земли скинуть!
У мужчины хватило самообладания, чтобы послушаться Исмата. Еще минут пятнадцать они, уже с большей осторожностью, сдирали с верха и низа над возникшей дырой сухую и плотную землю. И, наконец, стало понятно, что можно всунуть обе руки в дыру и попытаться оттянуть то, что сдерживало слой земли от осыпания. Это проделал Исмат, молча отстранив щуплого папашу. То была связка из толстых прутьев, привязанная к куску камышовой циновки, которой покрывают наложенные на бревна крыш лозины перед тем, как настелить слой земли.
…После того, как вытащили ребенка лет шести-семи и отпоили его водой из небольшого хауза, которая не вся ушла во время земных содроганий, мужчины поспешили к раскопу, оставив девочку на попечение радостно облизывающей ее лицо собачки. Но в маленькой пустотке, чудом возникшей над выбегавшей, по-видимому, из помещения девочкой, никого больше не было, не видно было ничьих торчащих рук или ног. Исмат не стал задавать мужчине страшный вопрос о том, сколько его близких оказались погребены обрушившейся кибиткой. Никаких звуков из-под груды земли не слышалось.
Мужчина подошел к спасенной дочке и взял ее на руки. Девочка молча прижималась к отцу, временами оглядываясь на то место, где стоял их дом, и не до конца понимала, что тут произошло. Не отпуская дочь, мужчина подошел к Исмату и протянул ему руку:
- Рахмат! Спасибо!
Исмат погладил девочку по голове:
- Пусть Аллах поможет всем нам… Скажи, далеко ли отсюда до персидской границы?
Мужчина, нисколько не удивившись вопросу чужеземца, ответил, указывая рукой:
- Иди в этом направлении до трех холмов. От последнего сверни налево, иди по руслу сухой речки. Там в колючих кустах и спрятаться можно, если пограничники появятся. Дойдешь до склона, где арчовая роща, обойди скальную гряду справа и иди…, - он взглянул на солнце, которое уже почти достигло наивысшего своего положения, - …иди на широкий пологий подъем так, чтобы тень твоя отклонялась от тебя влево на восьмую часть круга. Дойдешь до крутого обрыва и увидишь внизу слева селение. Спускайся к нему не напрямик, а обойди гору, которая справа, и по ущелью выйдешь к селу с нагорной стороны. Идти тебе, если повезет, часа четыре. Если русские тебя не заметят, то вскоре заметят персы. Но лучше, если никем не замеченный, ты доберешься до поселения. Там живут туркмены, они тебе помогут. Но не попадайся на глаза тамошней полиции.
- Спасибо, брат, - ответил Исмат. Он напился воды из мутной лужи на дне хауза и пошел в сторону гор, предоставив себя воле Аллаха.
…Он шел по сухой песчаной земле, радуясь, что не приходится идти по осыпающимся барханам. Он увидел справа от себя три холма, прошел по сухому руслу, обогнул хилые заросли саксаула и увидел арчовую рощу из полутора десятка старых деревьев. Он шел, поминутно оглядываясь, чтобы успеть скрыться в случае опасности в каменных нагромождениях. Но встречи с пограничным дозором ему удалось избежать - то ли по причине случившегося землетрясения, то ли потому, что подсказанный ему отцом спасенной девочки маршрут был минимально опасен.
По пологому склону он дошел до вдруг открывшейся кручи, и увидел внизу дымки - дома селения сливались с окружающим ландшафтом, и их можно было издали принять за каменный обвал. У Исмата все же не было уверенности, что он уже находиться на территории соседнего государства. Но пока что подсказанные ему ориентиры оказывались верными и, по всей вероятности, это было то самое туркменское село на территории Ирана. Что ж, надо обогнуть теперь гору с правой стороны, что, кажется, будет делом не очень легким. Однако, пройдя за склон, он увидел спускающуюся вниз по неглубокому ущелью осыпь, которая вывела его к площадке на задворках селения, откуда все оно было хорошо видно. Он пригляделся и убедился, что дома в селении целы, хотя какие-то признаки не очень значительных разрушений можно было угадать. Он еще раз внимательно оглядел весь кишлак и увидел над крытой шифером крышей одного из зданий флаг с полумесяцем. Исмат твердым шагом направился к этому зданию.
Войдя в селение, он убедился, что разрушений здесь неизмеримо меньше, чем на противоположной стороне государственной границы. В некоторых домах оползли стены, накренились крыши, такие же тяжелые, земляные, но полностью обрушившихся домов не было видно. Мужчины, занимающиеся возле своих домов их укреплением, оглядывались на чужого человека, но особого их внимания Исмат не привлекал. Он прошел без препятствий к дому с флагом и прочел выведенную над дверями арабской вязью надпись, из которой явствовало, что здесь расположен полицейский участок. Под пространной этой надписью, в которой указывалась территориальная принадлежность селения, стояло написанное латинскими буквами слово "Polizei" - почему-то в немецкой транскрипции. Когда он поднялся на крыльцо навстречу ему выбежал человек в военной форме с недобрым лицом: его заметили из окна.
- Кто такой, откуда пришел? - зарычал на него сидевший в полупустой комнате за большим столом большой усатый человек, не поднимаясь с табуретки, только угрожающе наклонившись вперед.
Исмат, до сыта набоявшийся в стране Советов, не собирался здесь раболепствовать, даже под угрозой быть отправленным назад.
- Ас-саляму алейкум, - миролюбиво произнес он, почтительно наклонив голову. - Я пришел к вам, чтобы рассказать кто я и откуда.
Вопрошавший говорил на туркменском языке, Исмат же ответил ему на узбекском. Полицейский, не ответив на приветствие, спросил так же грубо:
- Так ты узбек? Как ты проник в мою страну? - на этот раз он говорил по-узбекски.
- Господин, дайте мне попить воды, я много часов шел по пустыне, и у меня горло просохло.
- Хасан, принеси воды, - велел полицейский чин тому, который выскочил на крыльцо навстречу входящему Исмату.
Исмат жадно выпил воду и, испросив разрешения, сел на табуретку.
- Господин, я бежал из России, прошу дать мне убежище, - начал он, называя страну, включающую в свой состав Центральную Азию, "Россией". И вправду, ведь не из суверенного Узбекистана он бежал, а из Империи. Но такое именование сопредельной державы – «руси» - было принято и в Иране, так что Исмат подсознательно угадал верную геополитическую терминологию.
- Многие хотели бы жить в моей стране, - высокомерно произнес чиновник. - Нам не нужны всякие бездельники, - продолжил он, оглядывая посетителя.
Его помощник, который стоял у двери, охраняя, наверное, путь к бегству посетителя, произнес фразу на персидском, из которой Исмат, немного знающий этот язык, понял, что тот напоминает своему начальнику о директиве направлять всех пойманных нарушителей границы на строительные работы в центральные области страны. Исмат подумал, усмехнувшись, что и здесь есть аналог Фархад-строя, великой стройки коммунизма. Его усмешка не осталась незамеченной местным пинкертоном, который резко обернулся:
- Ту ба форсий балад хасти? (Ты знаешь персидский язык?)
- Ха, медонам, - произнес смиренно Исмат, что означало "Да, знаю". Потом добавил не без умысла: - И русский язык хорошо знаю.
- Ты, что, образованный? - спросил полицейский.
- Да, я окончил школу и после этого учился еще, - отвечал Исмат, не вдаваясь в подробности.
Полицейский задумчиво поглядел на пробравшегося из соседней страны человека. Затем потянулся к телефонному аппарату, стоящему на соседнем столике, и начал вращать его ручку, не отводя отрешенного взгляда от Исмата. Пока шло соединение с вызываемым абонентом, полицейский продумал свою мысль.
- Уважаемый господин Реза, - проговорил он в телефонную трубку. - Я здесь обнаружил для вас подходящего человека. Да, я всегда внимательно отношусь к вашим заданиям. Да, успех венчает труд. Конечно, вы сами еще должны с ним встретиться. Я все понял, спасибо за доверие. Благословение Аллаха да пребудет с вами!
Опустив трубку на рычажки, полицейский обратился уже с другим тоном к Исмату:
- Кушать хочешь?
- Да, добрый господин. Я очень голоден, - отвечал Исмат, который все понял из происшедшего разговора, и который именно на такую реакцию иранских чиновников рассчитывал - образованного человека, хорошо знающего язык коварной соседней державы, в тюрьму отправлять не разумно.
- Хасан, принеси этому человеку чего-нибудь поесть. Нет, погоди. Сходи в ашхану, вели принести хорошей еды на двоих. Скажи, я велел.
Полицейский начальник оторвал, наконец, свой зад от сидения, встал и обошел стол. Поднялся и Исмат, обернувшись к подошедшему нему полицейскому. Тот, и впрямь, оказался гигантом. Исмат, сам не малого роста, приходился ему по подбородок, к тому же этот иранец был в два раза шире его в плечах. Довольный произведенным впечатлением полицейский потрепал своего пленника по плечу:
- Во дворе чашма. Иди умойся, сейчас перекусим. Как твое имя?
- Меня зовут Исмат. Исмат Исматулло я.
- Хорошо, Исматулло. Иди, приведи себя в порядок. Нет, вот в эту дверь.
Исмат оказался в небольшом дворике при полицейском участке, где вдоль стены росли пыльные кусты мелких роз, за которыми стояла будочка для отправления нужды, а в одном из углов в керамическом обрамлении был установлен медный кран.
Пока Исмат приводил себя в порядок полицейский стоял подбоченясь на крыльце.
- Воды у нас много, - с гордостью произнес он, когда Исмат открыл кран, и из него щедро полилась вода. - У нас тут своя артезианская скважина.
Исмат помылся по пояс, вытерся принесенным вернувшимся к тому времени младшим полицейским полотенцем и, натянув вновь рубаху, поднялся в комнату.
- Давай поедим, - большой полицейский указал рукой на установленные на покрытом скатеркой углу стола касы с тыквенным супом и с шавля - мясной рисовой кашей.
Произнеся обязательное "бисмилля", пленник и полицейский принялись за еду.
- Меня зовут господин Нияз. - представился полицейский. - Расскажи, почему ты убежал из своего Бейнелмилела?
- Этот Бейнелмилел (интернационал) - государство, где плохо всем, но особенно плохо нам, мусульманам, - отвечал Исмат. Он многое мог бы поведать об этом, как человек, прошедший войну, трудармию, знавший о судьбе крымских татар. Но не место, да и нецелесообразно.
- Ты о себе расскажи, - прервал его полицейский.
Исмат уже раньше решил, что расскажет все, оставив вне своего повествования убийство им охранника лагеря и то, что касается Айше.
- Я бежал с Фархад-строя, - начал Исмат, но господин Нияз перебил его:
- Неужели из коммунистической тюрьмы так легко убежать? Из нашей не убежишь! - и полицейский плотоядно засмеялся, потом спросил: - А за что тебя посадили в тюрьму?
- Почему в тюрьму? - удивился, было, Исмат, потом, сообразив, ответил: - Да, на стройке был участок, где работали заключенные, им было еще хуже. Но Фархад-строй назывался народной стройкой, туда насильно привозили людей из всего Узбекистана. И меня однажды ночью записали "добровольцем" на стройку. Наша жизнь там мало отличалась от каторги, но у нас было право раз в год выходить с территории стройки на один день. Я воспользовался этим - и вот, убежал. Но оставаться в Советах я не мог, на меня был объявлен розыск по всей стране. И если Иран меня не примет…
Рассказ показался господину Ниязу убедительным. Однако окончательно вопрос о дальнейшей судьбе перебежчика будет решать чиновник из жандармерии, который прибудет завтра.
- На той стороне тоже было землетрясение? - спросил после небольшой паузы полицейский. - Здесь у некоторых домов обрушились стены.
- О-о! - воскликнул Исмат, и рассказал о полностью разрушенной окраине города Ашхабад, о ребенке, с трудом извлеченном из-под руин.
- Да хранит нас Аллах! - воскликнул господин Нияз, услышав ужасное повествование гостя.
Приближался вечер. Помощник убрал со стола и, попросив у начальника разрешения удалиться, ушел.
- Ты, Исматулло, не обижайся. Я тебе поверил, но выпустить тебя я сейчас не могу. Переночуешь в арестантской комнате, а завтра должен приехать важный чиновник, он решит, что с тобой делать. Я, ты же понимаешь, только здесь, в приграничном селе, большой начальник.
- Вы, господин, везде будете большим, - улыбнулся Исмат, и оба мужика, примерно одного возраста, рассмеялись.
Полицейский открыл находящимся на его поясе ключом маленькую дверь в сенях, за нею оказалась комната с забранной толстой решеткой окном, в которой лежала на полу только камышовая циновка. Полицейский выразительно посмотрел на Исмата, потом вынес из другой комнаты стеганный ватный халат и вручил его своему пленнику:
- Ничего, переночуешь, - проговорил он строго.
- Ничего страшного, переночую, - ответил Исмат, и мужчины расстались, пожелав друг другу доброй ночи.
Полицейский Нияз полночи не спал, обдумывая ситуацию. Не имея претензий к судьбе в отношении своих не облагаемых налогами доходов, складывающихся из поступлений от торговцев, снабжающих приходящих из Туркмении контрабандистов товарами, он испытывал душевные муки по причине своего невысокого полицейского чина. Начальство в ответ на его покорнейшие обращения по этому поводу заявляло, неофициально, конечно, - а за что, мол, тебе повышать звание?
- Контрабандистов ты не ловишь…
- Нет их на моем участке! Хорошо поставлена профилактика преступлений!
- Ага… Так… Доходов в казну от твоей службы никаких.
- Какие доходы могут быть в наших маленьких бедных кишлаках! - означенный полицейский участок контролировал несколько приграничных селений.
- Ну да, конечно! Ну, так чего же ты хочешь?
Разумеется, те, кто платили начальнику полицейского участка, платили тем, кто сидел ступенькой выше, более крупные суммы. Ясно, что не проявляющий рьяности господин Нияз сидящих выше вполне устраивал, но поощрять его не было нужды. Мало ли что может случиться, а потом еще обвинят в поддержке нечестного чиновника. Пусть чувствует свою зависимость от вышестоящего начальника.
И вот совсем недавно в жандармское управление округа поступило указание найти среди приходящих из-за кордона отчаянных мужчин - эти хождения не были тайной и для самых высоких инстанций! - найти такого, который был бы грамоте обучен и знал бы русский язык. Припугнуть его, привлечь деньгами и заставить выполнять задания иранской стороны. Жандармский начальник округа, объезжавший приграничные селения, обещал господину Ниязу посодействовать в получении очередного звания, если тому удастся найти подходящего человека. И вот, кажется, Ниязу повезло - к нему своими ногами притопал человек, наряду с узбекским и персидским знающий хорошо еще и русский язык. Впрочем, было одно неприятное обстоятельство: этот человек не мог возвратиться назад, в Советы. Да и знает ли он в действительности русский язык или, как многие, может только с горем пополам объясниться с русским покупателем на базаре?
В общем, полночи не спал господин Нияз, не ведая, повезло ли ему с этим Исматулло или ничего из этого дела не выйдет?
Назавтра около полудня Исмат, пребывающий в запертой комнате рядом с кабинетом начальника, услышал звук приближающегося автомобиля и увидел в окно, как новенький "виллис" щегольски развернулся и резко притормозил. Из-за баранки соскочил бравый мужчина лет пятидесяти, в военной форме, подтянутый, и быстрым шагом зашагал к крыльцу. Исмат услышал в коридоре топот ног - это весь небольшой штат полицейских устремился навстречу прибывшему чину из жандармского управления.
Конечно же, гостя за конфиденциальным разговором угощали чаем. Только через час по прибытии жандарма Исмат был введен в кабинет. Круглолицый, с чисто выбритой головой жандармский чиновник не ответил на приветствие перебежчика, в то время как Нияз приветливо пригласил пришельца из-за кордона сесть поближе к столу.
- Ну, Исматулло, расскажи господину Реза о себе.
Жандарм Реза, между тем, с подчеркнутой подозрительностью исподлобья глядел на облаченного в бедный дехканский наряд перебежчика.
Исмат обратился к полицейскому:
- Господин Нияз, могу я говорить по-узбекски?
Наверное, этот вопрос уже обсуждался двумя представителями власти, потому что Нияз сразу, без согласования с высокопоставленным посетителем, ответил:
- Господин жандарм знает узбекский язык.
Исмат кратко, как и вчера, начал рассказывать о себе, начиная со дня своей насильственной отправки на Фархад-строй.
- Начни с событий лета сорок первого, когда Германия напала на Советы, - перебил его жандарм.
Исмат поведал о том, как он перед самой войной посватался к девушке из соседнего кишлака, как закончил отделывать дом и как на второй месяц войны, казавшейся жителю узбекского колхоза такой далекой, он получил повестку из военкомата. Потом была трехмесячная подготовка на специальных курсах где-то возле Москвы, затем отправка на фронт и два года в полковой разведке в звании старшего сержанта.
Слушая Исмата, жандарм особое внимание обратил на факт обучения того на военных курсах и, в особенности, пребывание на фронте в качестве разведчика. "Если не врет, - думал жандарм, - и если он не заслан русской тайной службой, то высшее начальство будет весьма довольно вербовкой такого человека".
- А теперь продолжай говорить на фарси, - вдруг перебил он рассказчика, когда тот дошел до своего ранения и отправки в госпиталь.
Исмат перешел на персидский язык, на котором он мог связно передать суть событий, но без сопутствующих деталей.
- Говорить русский теперь, - вновь перебил его жандарм.
- Русский язык я знаю намного лучше, чем персидский, - ответил Исмат и только начал говорить по-русски, как жандарм велел ему перейти на узбекский.
"В персидском языке он быстро усовершенствуется, - соображал жандарм. - А русский, кажется, он действительно хорошо знает".
И он вдруг опять перебил рассказчика:
- Do you speak English? - английским господин Реза владел вполне прилично.
Исмат только смог догадаться, что вопрос задан на английском, и он ответил на немецком, которому он, будучи на фронте, обучался по необходимости:
- Nein, mein Herr, ich spreche Deutsch, aber sehr schlecht.
"Так-так, - думал жандарм. - Нет, с ним, конечно, надо еще разбираться, но это дело специалистов. Они из него вытряхнут все. Но как сырой материал он подходит. А там видно будет. Если нужно, то и перевербовать можно".
А вслух он сказал:
- Ну, хорошо. Надо ехать, путь не близкий. Господин Нияз, документы на Исматулло оформлены?
- Так точно! - отвечал господин Нияз, и в комнату быстро вошел его помощник с бумагами.
Прощаясь с Исматом, полицейский Нияз одобрительно пожал ему руку и, улыбаясь, сказал:
- Все будет хорошо. Не забывай нас.
В тряском "виллисе", за руль которого сел солдат, а Исмат с жандармским офицером разместились на заднем сидении, два часа добирались по бездорожью до Ширвана и там передохнули. Затем еще два часа ехали до Кучана, где отмылись от дорожной пыли и заночевали. Наутро уже на другой машине доехали, наконец, по сравнительно приличной дороге до Мешхеда - главного города роскошной провинции Хорасан.
Жандарм Реза, уже много узнавший во время дорожных бесед о своем пленнике и проникнувшийся симпатией к жертве коммунистического режима, оставил его на попечение сопровождающего их от Кучана вооруженного охранника и пошел с докладом к высшему начальству. Вскоре он явился в сопровождении другого офицера и передал ему пленника, на прощание в первый раз пожав ему руку:
- Желаю вам, господин Исматулло, удачи!
Исмата отвели в комнату с зарешеченными окнами, и только на следующий день чиновник в штатском пришел к нему с пером и бумагой и приказал письменно изложить свою биографию с самого рождения, упомянув также и об отце.
Исмата допрашивали четыре недели. То обстоятельство, что в соседнем Афганистане нашли людей знавших его отца, не изменило в лучшую сторону положения пленника иранской жандармерии. Но, по крайней мере, Исмат теперь узнал, что отец его жил в Кандагаре, обзавелся там новой семьей и умер только в сороковом году.
Особо расспрашивали его о судьбе высланного из Крыма народа. Поначалу его рассказ о тотальном выселении крымских татар восприняли с недоверием. Но Исмат подробно поведал не только о событиях, которым он был свидетелем в своем колхозе и в Коканде, но и об услышанных на нарах Фархад-строя повествованиях других людей об их контактах с высланными учителями, врачами, артистами из числа крымских татар. У иранских спецслужб, до того не располагавшими информацией о таком жестоком деянии коммунистов, не было оснований не доверять подробным рассказам Исмата. Особенно поразило их то, что высланными вместе с семьями оказались и сражавшиеся на фронтах и в подполье крымские татары.
Содержали беглеца из советской империи взаперти в жандармском управлении Мешхеда. На окнах были решетки, в железной двери имелось окошечко, через которое пленник мог позвать охрану, водившую его в туалет. Правда, кормили хорошо, никакого сравнения с питанием строителей коммунизма на ФархадГЭС.
Когда Исмата освободили из-под стражи, предоставив комнату в том же здании жандармского управления и выдав в качестве компенсации за месячное заключение некоторое количество реалов, первым делом он заказал в мечети молитву-дуа по умершему отцу. Он хотел установить связь с семьей отца, с братьями и сестрами, которые у него, оказывается, были, но жандармский чиновник, который теперь курировал его, сказал, что этого делать нельзя, потому что господина Исматулло готовят к работе нелегала.
Во время прохождения обучения в спецшколе Исмат оказал несколько услуг по переводу документов с фарси на русский, а также наоборот. Поскольку у него вдруг возобновился процесс в легких, его решили не использовать на оперативной работе, а употребить его знания на должности чиновника при управлении. Да и шрам на лбу был очень специфической отметиной. Исмат прошел курс лечения и вышел на новую службу свободным человеком.
Через некоторое время господин Исматулло был вызван на работу в Тегеран. Ему было разрешено по совместительству сотрудничать в газетах, где он печатал обзоры советской прессы.
Со временем, несмотря на свое сравнительно недавнее нелегальное появление в Иране, он получил право при желании покинуть работу в учреждении, которое его приютило и пригрело, мог переехать в другую свободную страну. Но, естественно, такого желания у него не возникало, он материально, и теперь уж профессионально был связан с этой системой и понимал, что выполняет здесь богоугодную работу. Он не возненавидел Советский Союз, из которого бежал, но он сознавал, что разведывательная деятельность свободных стран против сталинского режима направлена, в конечном счете, на изменение этого режима. Часто он думал о том, чем отплатила ему страна, которую он защищал в окопах, за которую проливал свою кровь? А разве в колхозе он не работал честно и с полной отдачей? Работал, хотя сознавал, что все здесь работают на неведомые и, безусловно, недобрые интересы державы, которая грабила колхозников, подавая им за нелегкий крестьянский труд нищенскую плату, непосильными налогами разрушая их домашнее хозяйство. Он по роду своей нынешней деятельности изучал историю России и дивился тому, какой рок тяготеет над ней. Он не мог уяснить, почему ее правители во все времена так недобры к своим подданным. Что за необходимость творить зло своим гражданам?
Иногда вечерами он устремлял взгляд на северную сторону неба и просил Всевышнего помочь всем людям великой страны, из которой он вынужден был бежать. Он поминал своих товарищей военных лет, и погибших и выживших, поминал своих односельчан, своих родителей и, конечно же, свою возлюбленную и ее сестренку, просил у Аллаха блага для них.
Об Айше он думал постоянно, хотя понимал, что шансов на то, что он когда-нибудь вновь увидит ее, практически нет. Еще в свою бытность в Мешхеде он попросил знакомого коммерсанта, имевшего связи с жандармским управлением, при очередном посещении Советского Союза отправить несколько строк по мелитопольскому адресу. Так называемый коммерсант сразу запомнил адрес и предлагаемый текст. В результате Хатидже получила по почте записку следующего содержания:
"Дорогая Айше! Я жива и здорова, всегда помню о тебе и о наших прогулках на красных горах. Твоя Персиянка".
Конечно, Хатидже ничего не поняла, но переслала этот текст старшей дочери, которая уже была студенткой Казанского медицинского института. Айше немного подумала и разгадала этот ребус: Исмат жив, он на свободе, находится в Персии! Она была бесконечно рада тому, что ее дорогой друг жив и свободен, но плакала, понимая, что связь с ним разорвана навсегда. Она не решалась рассказать об этом послании подругам, но однажды не выдержала и договорилась о встрече с Аней. Умная Аня, едва прочитав краткий текст, сразу воскликнула:
- Это Исмат тебе пишет из Персии!
- Тише, - осадила ее Айше, у которой после этой реплики подруги исчезли те крупицы сомнения, которые все же оставались. - И чему ты радуешься, если это означает, что мы навсегда потеряны друг для друга?
- Никто не знает, что случится завтра! - ликовала Аня. - Может быть, еще и встретитесь! Главное, что он помнит и любит тебя!
…Они встретились через сорок пять лет. Недавно вышедший на пенсию ответственный сотрудник одной из западных радиостанций господин Исматулло с младшим внуком Герхардом приехал, заранее уведомив о своем приезде, в один из городков Крыма, где он через свои разветвленные связи разыскал Айше, все еще не оставившую работу детского участкового врача. Десятилетняя внучка доктора очень подружилась со своим ровесником Герхардом, имя которого она долго не могла выговорить, в то время как мальчик сразу четко выговорил ее имя - Хатидже! А совсем старенькая бабушка Хатидже-оджапче наконец-то обняла Исмата, который так много места занимал в жизни ее старшей дочери почти полвека назад. Муж Айше, строгий татарин Джемиль, бывший инженер-строитель, а теперь загорелый огородник, сначала проявил признаки ревности, но однажды, после бессонной ночи, наутро уже не бычился, а братски обнимал Исмата и даже поговорил с ним на узбекском языке.
И Айше тоже пережила минуты ревности, когда увидела, как глубоко огорчен Исмат тем, что не приехала на встречу с ним Сафие. Но Сафие через два дня появилась - ведь жила она здесь же в Крыму.
А я так и не знаю, которая из двух сестер больше любила Исмата.
Глава 13
В начале декабря 1954 года, - а если угодно точнее, то 3-го декабря 1954-го года, - сухим и солнечным, как это порой бывает в Центральной Азии, зимним днем, Камилл, соскочив с подножки трамвая, шагал в свирепом расположении духа по улочке, ведущей к зданию студенческой спецкомендатуры. Он услышал оклик, и еще не обернувшись, догадался по голосу, что его догоняет Шариф Бахтышаев. На душе полегчало, когда он обменялся рукопожатием со старым другом. Сжатые губы и решительный взгляд Шарифа свидетельствовали, что и он находится в недобром настроении. Вообще-то посещение комендатуры никогда не было приятным событием в жизни ташкентских студентов, но этот унизительный для них день смягчался ожиданием встреч с товарищами из других институтов, со многими из которых только тут и виделись - студенческая жизнь весьма напряженна. Похоже было, что нынче Шариф принял некоторое решение, о котором умалчивал, пока они с Камиллом шли по ненавистной улочке. Первым заговорил Камилл.
- Я сегодня в последний раз иду на эту гнебаную регистрацию, - вымолвил он, не сбавляя шага, - пусть сажают…
Тут Шариф остановился, остановился и Камилл.
- И я иду с тем же решением, - вымолвил Шариф, несколько удивленно уставившись на друга. - И вообще я сегодня пошел, только чтобы встретиться с ребятами и склонить их к тому же. А ты, вот, как и я, мятежник, оказывается…
Говорят, что близнецы, даже разлученные сразу после рождения, проживают во многом схожую жизнь, ибо одинаково реагируют на события. Камилл и Шариф не были близнецами, но они с младенчества росли в одной коммунальной квартире. Шариф родился первого мая, Камилл же был младше его ровно на три месяца. Матери пускали их ползать по полу вместе, вместе орали они, солидаризируясь в неприятии навязываемых им порядков, и вместе учились кушать с ложечки. Потом они подросли и разошлись из одной квартиры в разные, в том же доме. Но когда Камилла прихватывало и он бежал с поляны за домом на свой горшок, то вместе с ним бежал на запасной камилловский горшок и Шариф, потому что во время долгого сидения Камилл рассказывал преинтереснейшие, выдумываемые им тут же, сказки. Так они и были вместе, пока захватившие Симферополь немцы не выселили жителей их дома, заняв его под штаб какой-то части. После этого, в годы оккупации, Камилл и Шариф, которые поселились у родственников в отдаленных районах города, встречались несколько раз на бывшей улице Кирова в открывшемся там театре марионеток, где неизменно показывали один и тот же музыкальный спектакль - выбора у детишек в ту трудную пору не было. Куклы в красивых развевающихся платьях танцевали вальс под музыку из мхатовской "Синей птицы":
Та-та тататата та-а та! Та-та тататата та-а та! –- и всякий раз мальчишки и девчонки с замиранием сердца смотрели и слушали знакомое до мельчайших деталей действо, страдая на нижнем этаже сознания от неизбежно приближающегося конца этого чудесного зрелища.
В ссылке, когда Камилл переселился из чинабадской глухомани в пристоличный городок, Шариф вместе со своей матерью Мерьем-апте приехали из расположенного недалеко поселка Сырдарья навестить семью Афуз-заде, до того почитавшуюся ими потерянной или даже погибшей. Сколько слез пролили женщины, сколь рады были мальчики состоявшейся встрече! Они в один и тот же год окончили школу и оба были нынче студентами второго курса.
…Когда юноши собирались уже свернуть к стоящему в глубине двора домику спецкомендатуры, навстречу им вышел из ворот улыбающийся - рот до ушей! - Кадыр из Текстильного.
- Все! - кричал он радостно. - Физдец комендатуре! Теперь мы свободные люди!
Двое мятежников подумали, что вот и третий такой же объявился. Но вслед за Кадыром вышли и другие ребята:
- Назад, назад! - смеялись они. - Все, больше нет для нас комендатуры!
Тогда Камилл и Шариф поняли, что они опоздали со своим решением бунтовать против советской власти, которая, ити ее мать, сама как бы пошла им навстречу.
Девушек поблизости не было, поэтому в воздухе стоял густой мат, хоть топор, как говорится, вешай. А чем же было провожать жандармский режим? Не благодарностью же в адрес советской власти!
- Ну, хорошо, пойдемте, надо отметить! – конструктивно высказался, наконец, кто-то.
- Нет, погодите, - сказал Шариф, - у меня есть дело до этого физдюка.
- Ага, и у меня! - Камилл вслед за Шарифом пошел к дверям комендатуры.
Комендант с погонами капитана был сегодня улыбчив.
- Поздравляю, вас, ребята! Вот, распишитесь, что уведомлены об отмене для вас административного надзора.
- Ни фуя подписывать не будем! - одновременно одними и теми же словами отреагировали парни.
- А ты помнишь, капитан, - сказал Шариф, - помнишь, как в прошлом сентябре ты мне не разрешил съездить домой за вещами, а? Я с трудом сдал приемные экзамены, меня зачислили, и мне надо было, естественно, поехать домой, я же был здесь гол как сокол. А ты мне не разрешил поехать на дачном поезде за тридцать километров? И что это ты такая сволочь, и не человек, вроде, а?
- Ну да, мы с Шарифом вместе были, - включился в разговор Камилл. - У меня при себе рубашки второй даже не было. Ты тогда грозил за нами конвой послать, если мы на вокзал пойдем.
- Но не послал же, - отвечал с безмятежной улыбкой капитан.
- Гордись! Великий ты человек, оказывается! Не арестовал нас! Или свободных автоматчиков не оказалось? - Шариф не находил слов, чтобы выразить свое презрение к офицеру.
Слов не находил и Камилл, который смотрел в глаза суке-коменданту. Что в них, стыд, раскаяние или ненависть? Ничего в этих глазах не было. Гнида, а не человек был этот комендант.
- Пойдем отсюда, Шариф! - Камилл сплюнул под ноги офицера, то же самое сделал и его друг. Офицер молчал и улыбался.
Друзья студенты терпеливо ждали на улице.
Взяли вина, взяли еще того сего и поехали в общежитие на Шайхантауре, послав гонцов к девочкам в педагогический институт.
Почему-то неизъяснимая советская власть дала свободу студентам высших учебных заведений раньше, чем другим слоям населения. Что это было? Подкупить или задобрить нас, что ли, власть хотела? Или совесть замучила? Так освобождала бы всех, а не выборочно! Мы студенты, что, советскую власть любили больше, чем другие наши сверстники?
В самом начале января вернулся из лагерей отец Камилла - не дали досидеть оставшиеся двадцать лет.
Это была огромная радость. Студент Университета Камилл Афуз-заде любил пройтись по улицам городка рядом со своим отцом. Однажды навстречу им шел Ефим, так он, уже знающий, что его заочный враг профессор Афуз-заде вышел на свободу, чуть ли не бегом нырнул в боковую улочку. И чего это он убежал?
Впрочем, вскоре семья Афуз-заде переехала в Ташкент, где старые, еще с довоенных времен, знакомые профессора предложили ему хорошую работу.
В остальном жизнь студента-физика шла своим чередом: шесть дней после лекций штудирование учебников в библиотеке, один день субботнего загула с друзьями (впрочем, запрета на внеочередные загулы не было), в зимние каникулы лыжные сборы в горах Чимгана, в летние каникулы альпинистский лагерь на Тянь-Шане или на Памире. Было много любви, а одна даже была большая. А еще раньше студентам читали на «закрытых» собраниях "закрытый" доклад Хрущева на Двадцатом съезде - для некоторых этот доклад оказался откровением.
Общие праздники Камилл гулял, обычно, с университетскими друзьями. Со своими земляками он несколько раз в году гулял на днях рождения или на пикниках, на которые собиралось несколько десятков крымскотатарских студентов и молодых рабочих. На всех этих встречах молодых крымчан до поры до времени господствовал диктат их старших товарищей, не допускающих разговоры на политические темы.
Надо сказать, что была большая разница в поведении старших ребят, поступивших с огромными трудностями в институты до пятьдесят третьего года, когда помер Сталин, и студентами "пост-сталинского набора". Старшие были сильно запуганы, их больше унижали, чем тех, кто поступил в вузы позже. Чего стоило то обстоятельство, что до пятьдесят третьего года студентов крымских татар не допускали обучаться на военных кафедрах институтов, в то время как все остальные студенты мужского пола обязаны были обучаться воевать. И такая дискриминация происходила на виду всей студенческой общественности! Это публичное унижение наши старшие товарищи вынуждены были сносить, это ставило их в положение отверженных, отношения с другими студентами были деформированы - со всеми вытекающими из этого последствиями.
Осенью пятьдесят шестого года, Камилл был захвачен мыслью, что надо начинать всеобщую борьбу за восстановление прав крымских татар. Было унизительным для достоинства молодых людей бездействовать в ситуации, когда, несмотря на отмену ежемесячной регистрации, отмену прямого политического надзора оставалось в силе положение, что переселение крымских татар "произведено навечно, без права возвращения к прежним местам жительства". Такие же чувства переживали все друзья и знакомые Камилла. Шли активные разговоры, что не оправдываются наши ожидания на то, что после Двадцатого съезда злостное преступление властей по отношению к крымским татарам будет осуждено и отменено. Кровавое подавление советскими танками народного восстания в Венгрии подогрело боевой антисоветский дух крымскотатарской молодежи, очень нервно следившей за этими событиями.
Кто-то должен был взять на себя инициативу и начать разговор о необходимости организованной борьбы народа за свои права, за возвращение народа на его национальную территорию.
Той же осенью во время хлопкоуборочной кампании Камилл был в совхозе "Баяут", где в сорок четвертом году на недавно распаханных целинных землях поселили крымских татар. В то лето и в последующую зиму погибло больше половины народа. Выжившие были унижены и запуганы местным начальством. С тех пор прошло двенадцать лет, комендатуры были упразднены, но в жизни несчастных крымчан мало что изменилось. Комендантский режим фактически разорвал их связь с внешним миром, что было на руку местным хозяйственным руководителям, безжалостно эксплуатирующим полностью зависящих от них татар. Камилл ходил по жалким хижинам, в которых проживали рабочие совхоза, и удивлялся увиденному. В то время во многих регионах крымские татары построили себе хорошие дома, вели зажиточное хозяйство, жили гордо и независимо. Здесь же, казалось, время остановилось: приземистые домики, иногда землянки, нищий быт, пища скудная и однообразная, люди запуганные и больные. На восклицания Камилла, что времена меняются, что уже и комендатуры отменили, что надо подниматься с колен, женщины молчали, а худые бледные мужчины говорили:
- Э-э, эндиден сон не ола биле… Теперь-то уж чего нам ждать…
И все смирились с тем, что суждено им исчезнуть, пропасть.
Сердце разрывалось у Камилла, когда он каждый вечер после работы на хлопковом поле заходил в дома крымчан. Он старался без особой напористости, которая пугала несчастных людей, говорить о том, что татары везде уже живут лучше, что надо искать родственников в других регионах, надо уходить с этих тяжелых земель. Дети, особенно подростки, слушали его с загоревшимися глазами, верили его словам - как радовало Камилла то, что дети в семьях все же были! Взрослые тоже хотели верить этому ташкентскому студенту, но душевная усталость гасила искорки, западающие в их сердца после этих разговоров. Тем не менее, после ухода Камилла они с улыбкой говорили друг другу:
- Видишь, и среди нашего народа есть студенты…
Ноябрь был на редкость дождливый. Праздники Камилл провел невесело - мучила мысль, что он молчаливый изгой, покорный раб, который доволен сытой жизнью на чужбине. И кто-то там, в высоких кабинетах говорит с удовлетворением:
- Студент Афуз-заде ведет себя смирно, у него в достатке вина и женщин, он полностью укоренился, скотина.
Похоже, что так оно и было. А все эти разговоры, восклицания, ночные раздумья - кукиш в кармане, гнусная трусость.
Надо было вытаскивать себя из болота бездеятельной рефлексии, сомнений и колебаний.
Он продумал план создания студенческой организации, продумал ее стратегию и тактику. Надо было создать "штаб" организации, создать в каждом институте группу функционеров, обязать их выполнять конкретные задания "штаба".
С этим своим проектом он пошел в общежитие к своим ближайшим товарищам. Уговаривать никого не пришлось. Через два дня был сформирован руководящий центр рождающегося Движения, приняты Устав и Программа организации. Обязанности функционеров с радостью готовы были выполнять и выполняли все - и студенты, и студентки, и примкнувшие к ним молодые рабочие. Это свидетельствовало о том, что идея носилась в воздухе, что муки, испытываемые Камиллом, переживали в равной степени все его земляки.
При своей сравнительной не многочисленности крымскотатарские юноши и девушки были самой активной частью ташкентского студенчества. Об этом свидетельствовал, например, такой факт, что процент нашей молодежи в числе руководителей комсомольских организаций факультетов и курсов в ведущих высших учебных заведениях Ташкента был намного выше относительного количества студентов крымскотатарской национальности в городе! Если вдуматься, то такая ситуация вполне объяснима – русскоязычная и узбекоязычная молодежь находилась в более или менее стабильном режиме жизни, в то время, как крымские татары были в состоянии борьбы за существование, ощущали крайнюю униженность, но не собирались мириться со своим бесправием. Отсюда и высокая общественная активность, выплеснувшаяся в жизнь, как только после 1953 года в стране последовало некоторое смягчение режима.
Первое большое собрание студентов проходило во Дворце текстильщиков – ловкие крымчане сумели договориться с руководством! Это было первое массовое собрание, и штаб Движения постановил избегать на нем политических выступлений. Полностью исключить их не удалось, но организаторы собрания в основном говорили о повышении успехов в учебе, о необходимости проводить культурные мероприятия, говорили и о необходимости помогать друг другу «в учебе и в жизни». После этого пошли собрания по институтам, где присутствовал, как правило, один из членов «главного штаба», и тут уже разговор шел о требовании к властям вернуть народ в Крым, принимались тексты обращений в высшие инстанции страны, к видным деятелям культуры и науки.
С первых дней начала активной деятельности был создан тайный «теневой штаб», который должен был - уже нелегально! – руководить Движением в случае ареста основного руководства. Было на заседании штаба высказано предложение «засекретить» Камилла, чтобы ожидаемые репрессии не затронули его, как «главного идеолога, особо ценного для деятельности Организации». Однако сам Камилл убедил товарищей, что в органах госбезопасности на каждого из них уже заведена отдельная папка.
- Ознакомившись с которой каждый из нас узнал бы о себе очень много интересного, - добавил он, – так что попытка засекретиться будет похожа на игру в конспирацию.
И это, действительно, так и было. Но поначалу власти не поняли, что возник зародыш национально-освободительного Движения, которое станет большой головной болью для Кремля и для Старой Площади. Встречи крымскотатарской студенческой молодежи на днях рождения, выезды на пикники в дни праздников давно были под контролем органов. Нельзя сказать, что эти «неполитические» встречи не волновали чекистов, которые знали, что в начале века безобидные с виду «рабочие маевки» стали основой для революционных выступлений в России. Органы, встретившись с новой формой активности крымских татар, пытались убедить себя, что эти юноши и девушки, едва опомнившиеся от недавних лишений, от смертей и болезней, не станут предъявлять советской власти политических требований, не думали, что у «этих несчастных татарчат» хватит на это смелости - ведь как трудно было каждому из них получить разрешение на продолжение учебы, на получение высшего образования!
И ошиблись!
Я гляжу сейчас на фотографии моих друзей тех лет. Здесь они молоды и, главное, все живы. Я теперь смотрю, как и тогда в пятидесятых годах смотрел, на лица моих соратников и пытаюсь представить их дедов, прадедов, и других пра-пра… Могли ли тогда, в прошедшие времена, эти воины, виноградари или мастеровые представить себе, что их народ будет выслан с вечной своей родины? И как гордились бы они, наши предки, узнав, что их молодые потомки в свое время первые восстанут и поднимут на святую борьбу весь народ.
И хотелось бы, чтобы сегодняшние, уже вернувшиеся на родину парни и девушки чаще вспоминали своих славных прародителей, тех, от кого произошел их род, даже если имена их забыты. Ведь они существовали, наши предки, и были они гордыми и сильными, были хозяевами своей земли! «О эдждат ки мерд эди, адиль эди, юксек эди…» - так говорил Челеби Джихан («Эти предки были справедливы, доблестны, возвышенны»). Вспоминайте о славной истории своего народа, мои дорогие, в те минуты, когда в городском транспорте или на улице в окружении говорящих по-русски людей вы, потеряв свою гордость, начинаете говорить на этом чужом для вас языке со своими единоплеменниками. Между собой на чужом языке и на родной земле! Что это, желание подчиниться, пригнуться, подлизаться, понравиться тем, кто сейчас составляет большинство на вашей родине?
Это – трусость!
Пригни голову – поставят на колени.
Не отказывайтесь от языка своих предков! Отказ от родного языка – самый отвратительный вид рабства! Это открытое признание своего унижения, своего согласия с этим унижением!
Вспоминайте чаще тех воинов и садоводов, ремесленников и землепашцев, - ваших гордых прародителей! – которые здесь, на землях Полуострова создали замечательную цивилизацию, создали мощное государство, просуществовавшее многие столетия.
Русский язык богат и красив, это язык, на котором писал Пушкин и многие другие великие писатели. На этом языке мы с удовольствием общаемся со своими русскоязычными друзьями, с которыми многие десятилетия привыкли мирно жить рядом. Вот и эта книга написана на великом русском языке, и я горд тем, что я знаю этот язык. Но родной язык всегда прекрасней языка чужого, и я сожалею, что не владею родным языком в той же степени, как и русским. Однако разговариваю я со своими соплеменниками на моем родном языке.
Друзья, непростительно заменять в быту родной язык чужим!
Можно ли представить себе, чтобы два литовца в городе Вильнюсе разговаривали между собой на русском языке?
Будем говорить с англичанами на английском, с русскими на русском, с украинцами на украинском, с крымскими татарами на крымскотатарском – это так просто и так естественно!
И будем совершенствовать свое знание родного языка, от которого нас пытались отучить те, кто выслал нас из Крыма и многие годы не позволял учить родной язык, лишив нас школ, газет и книг.
Знаете, кто такие манкурты? Это люди, которые были искалечены захватчиками и забыли свой язык и своих предков. Мы многого достигли в нашей борьбе. Не будем манкуртами!
…Власти спохватились, когда осенью пятьдесят шестого года прошли бурные политические собрания студентов и присоединившихся к ним молодых рабочих в клубе Ирригационного института, в Политехническом институте, в большом общежитии на Шайхантауре.
На собрании на Шайхантауре присутствовали также и учащиеся техникумов, обстановка была сильно накалена, агенты в штатском уже неприкрыто шныряли среди молодежи, которая сразу узнавала чужаков и определяла цель их присутствия здесь. Но чекисты не зря шастали среди молодых крымских татар, их тренированная зрительная память фиксировала всех активно выступающих или даже выкрикивающих реплики с места юношей и девушек.
Наверное после анализа результатов агентурного наблюдения сильно испортилось настроение у соответствующих специалистов – стопроцентная готовность крымскотатарской молодежи бороться за права своего народа не вызывала сомнений. Те из молодых татар, на которых органы могли положиться, не имели шансов воздействовать на ситуацию, и чекисты могли только надеяться на то, чтобы сохранить эти свои не такие уж тайные кадры для будущего - таких, отпрысков нескольких семей, можно было перечитать по пальцам!
А юноши и девушки, детьми пережившие ужас депортации, голод и болезни только теперь почувствовали себя вольными людьми. Отмена комендантского режима не освободила их души от груза унижений и обид. Советская власть и коммунистическая идеология оставались теми извергами, которые отвели им положение неполноценных граждан. Только поставив под удар свою судьбу, только перейдя от мировоззренческого противостояния к активной деятельности, молодые люди восстановили чувство собственного достоинства!
В апреле, когда руководители Движения собрались на очередное заседание в комнате номер 122 общежития Текстильного института, все обратили внимание на то, что Рустем имел очень подавленный вид.
- В чем дело, братишка? - пытался расшевелить его всегда энергичный Шариф из Ирригационного, - что ты загрустил?
- Расскажи, Рустем, - Закир подбодрил своего товарища.
- В общем, пошли мы в прошлую субботу к одному из бывших наркомов, - начал Рустем.
- Все таки пошли? – Камилл перебил товарища невеселым восклицанием.
Рустем исподлобья посмотрел на него и продолжал:
- Об этом человеке я слышал много хорошего. Кроме того, он родом из деревни моего отца. Были некоторые вопросы, на которые, как мне казалось, этот обладающий жизненным опытом человек может ответить. Он встретил нас напряженно, но пустил в свой дом. Нервозно барабаня пальцами по столу выслушал информацию о том, что студенты города проводят собрания, где ставят вопрос о необходимости требовать возвращения нашего народа на родину. Мамут вежливо так выказал желание, чтобы уважаемый нарком пришел на очередное наше собрание. Ой, что случилось! Бедняга вскочил на ноги, стал громким шепотом говорить, что это, мол, вы, молодые люди, делаете! Потом выбежал в соседнюю комнату, вернулся с денежными купюрами в руках. И все тем же громким шепотом произнес: «Вот, возьмите деньги на ваши дела, но больше ко мне не приходите! И никому не говорите, что были у меня!».
- Деньги мы, конечно, не взяли, а сразу же ушли, извинившись за беспокойство, - хмуро добавил Мамут, первокурсник-активист, живущий в соседней комнате и потому допускаемый на заседание «штаба».
- А я что вам говорил, - воскликнул Камилл. – Я говорил вам, что бесполезно?
Но, правильно оценив настроение товарищей, замолчал - неделикатно было сейчас высказывать упреки.
В комнате повисла унылая тишина.
- Да, слуги народа, - саркастически изрек, наконец, Шариф.
- Не суди их строго, - примирительно произнес Сейдамет, - они члены партии, а там у них суровая дисциплина. Чуть заметят критическое отношение к политике советской власти, так отберут партбилет и с работы выгонят. А у них семьи…
- А наши семьи? – вспылил Мамут. - Мама моя без работы, сестра только уборщицей устроиться смогла. Хорошо, что огород есть.
- Мамут, нельзя требовать от человека геройства. Геройство – это состояние души. Придет время, и эти люди тоже пожертвуют своим благополучием ради народного дела, - Камилл хотел разрядить обстановку.
- Э-э, там в тридцать седьмом году такой отбор произошел, - возразил Закир. - Эти люди, прошедшие тот отбор, ради других на жертву не пойдут! И главное в том, что они слишком хорошо знают судьбу своих предшественников, тех, чье место они заняли. Они боятся, при этом хорошо знают, чего боятся!
- Ну, это ты слишком! – возмутился Камилл. – Среди них офицеры, которые воевали в окопах, партизанские командиры!
- Те, кто под пулями ходил, те, действительно, могут идти на риск, - согласился Закир. – А те, кто в Сочи всю войну прятались…
- Ребята, не забывайте, что эти люди, как бы не выслуживались перед советской властью и НКВД в предвоенные годы, впоследствии оказались свидетелями несчастий своего народа, - перебил его до сих пор молчавший Кадыр. – Я думаю, что они плохо спят ночами, мучаясь от своей бездеятельности. Камилл прав, придет время, и, по крайней мере, некоторые из них рискнут вступить в борьбу за свой народ.
- Столько времени прошло уже, - злился Мамут. – И Сталина осудили, и Берию расстреляли. Что же молчат твои красные командиры?
- А нужны они нам? – резонно заметил Сейдамет, и все облегченно засмеялись.
- Лишь бы не мешали! А на помощь их рассчитывать не приходиться!
- И все же, - настойчиво повторил Камилл, - нельзя упрекать человека за то, что он не проявляет геройства.
- Да, - поддержал Камилла Шариф. – Это мы ничего не имеем, и нам нечего терять. А если бы у нас была бы высокооплачиваемая работа и разные привилегии, то неизвестно, как мы бы себя повели.
Услышав последние слова Шарифа Мамут выпучил от возмущения глаза, но ничего сказать не успел, потому что Кадыр со смехом повалил его на кровать:
- Все, братишка, успокойся! И, вообще, иди к себе. Нам надо работать!
В другой раз, когда ребята вновь собрались вместе, Камилл уведомил товарищей, что необходимо членам руководства Организации поехать в совхозы Ташкентской области.
- Там наши люди живут так же, как десять лет назад, - говорил Камилл. - У них нет веры в завтрашний день, домов не строят, обитают в жалких лачугах, в которые их поселили в сорок четвертом. Людей замучила бедность и рабский труд на хлопковых плантациях. Я даже не знал, что есть еще такая жизнь.
Камилл замолчал. Но тут слово взял Рустем.
- Ты, Камилл, не знаешь, как живут наши люди здесь, на ташкентских заводах. То, что ты рассказал ужасно, но для сотен крымскотатарских семей, работающих на соседнем с нашим институтом комбинате, жизнь на чистом воздухе в совхозе "Баяут" показалась бы санаторием. Представь себе, что семьи с детьми живут в клетушках, пристроенных к стенам цехов, а некоторые прямо в цехах. Шум, газы, пыль. А еще хуже им было в расположенных рядом с цехами деревянных бараках, из которых их расселяют в эти каморки. Я там был неделю назад.
Камилл был поражен:
- Не может быть! Почему же они не уходят с такой работы?
- А куда? - Кадыр недобро хмыкнул. - Ты же сам говоришь, что людей в совхозах держит нищета. То же самое и здесь. Рустем после посещения этих бараков неделю в себя не может прийти. Между прочим, мои младшие братья и сестры под Наманганом тоже живут в бараках.
- А как живут наши люди на шахтах Ангрена? - включился в разговор Аким. – Я там недавно гостил у маминого брата. Ты по себе судишь, по своей семье…
Никогда еще Камилл не испытывал такого чувства стыда перед своими товарищами. Да, он жил в городской благоустроенной квартире, а до того в приташкентском городке им сдавал двухкомнатный домик с сенями хозяин, построивший тут же для своей семьи большой пятикомнатный дом. Вокруг были сады и виноградники, добрые соседи. На той же улице несколько больших домов принадлежало крымским татарам, и дома эти были лучшими на улице.
- Да, по-видимому, я не знаю всего, - подавленно промолвил он. - Я был в садоводческом совхозе под Ташкентом, там все наши хорошо устроились. Вот мы все ездили осенью в Кибрай. Вспомните, какие там у наших татар дома.
- Ладно, ты не оправдывайся, - примирительно произнес Закир. - Мои родители тоже живут в большом и светлом доме, там в нашем поселке все татары хорошо устроились. Но не везде так. Конечно, в хлопководческие совхозы ехать надо. Ты, Камилл, возьми с собой кого-нибудь, и поезжайте. Расскажете о нашей организации, оставите им наши листовки. Это поднимет их настроение.
Этими словами Закира напряжение было снято.
- Рустем, девочки сейчас размножают текст очередного письма, - обратился Камилл к товарищу. - Давай завтра вместе пойдем в рабочие бараки.
Когда на другой день Камилл пришел в комнату общежития, где его ждал Рустем, там уже находилась второкурсница медицинского института Зульфие.
- Я не могу ее отговорить, - сказал Рустем. - Она не понимает, что зрелище это не для слабонервных, начнет плакать, а это неделикатно в отношении несчастных людей.
- Я плакать не собираюсь, смотри, сам не заплачь, - парировала Зульфие. - Я в сорок четвертом такого насмотрелась!
- Вот потому и можешь не выдержать, - заметил Рустем, но девушка перебила его:
- Я будущий врач и нервы у меня крепкие, - она гордо вскинула голову. - Может быть, там кому-то нужна медицинская помощь, я в следующий раз приведу с собой старшекурсников.
В проходной охранник не хотел их пускать, но Рустем еще днем договорился, что к ним к обговоренному времени выйдет один из рабочих и подтвердит, что это к нему пришли родственники. Тут как раз тот самый рабочий и подошел с распростертыми объятиями:
- О, сестренка! О, Рустем! Давно не виделись!
Ну, наши ребята тоже изобразили родственное ликование, и все оказались на территории комбината. Уже за проходной они обменялись еще раз рукопожатиями и представились друг другу. Рабочего звали Амза. Это был крепко сложенный среднего роста мужчина лет тридцати пяти с заметным шрамом на щеке – эсэсовская пуля оставила след на лице партизанившего в крымских горах молодого парня.
- Не будем терять времени и сначала пойдем в бараки, - сказал Амза. Они прошли в глубь территории, и Камилл увидел черный от времени деревянный сарай.
То, что увидел Камилл внутри этого сарая, было хуже того, что он себе представил на основании рассказа товарища. Длинный барак представлял собой одни двухэтажные нары, перегородками между живущими на нарах семьями служили фанерные листы от ящиков. Нары по большей своей протяженности пустовали, во всем бараке находилось, пожалуй, человек тридцать взрослых и столько же детей. В помещении царил полумрак, затхлый запах гниющих овощей был, по-видимому, здесь привычным, большинство обитателей полулежало на ватных матрацах. У противоположной стенки стояли на ящиках ведра, жестяные тазы, какие-то банки и коробки.
- Это последний барак, тут сейчас народу мало. А была такая скученность, что на семью приходилось не больше трех метров настила, - Амза шел вдоль нар, здороваясь с обитателями барака, и за ним шагали студенты.
- Такое я видела только в сорок четвертом году, - потрясенно произнесла Зульфие, а про себя подумала: «Как еще здесь дети родятся?»
- Ну, теперь скоро всех переселят, - поспешил сказать Амза, несколько напуганный впечатлением, которое барачная атмосфера произвела на студентов. - Здесь собрание проводить не будем, Рустем тут уже побывал.
- Еще недавно все мы жили в таких условиях, - сказал Амза, когда ошеломленные гости вышли наружу. – Сейчас большинство переехали в индивидуальные застройки…
И горько рассмеявшись, Амза добавил:
- Сейчас посетим отдельную татарскую квартиру.
- И сколько лет люди выносят такую жизнь? – спросила все еще не оправившаяся от потрясения Зульфие.
- Сколько… С самого лета сорок четвертого так все и жили, двенадцать лет, - хмуро произнес Амза. – Вот так, отгораживаясь от соседей фанерной или картонной перегородкой… Ну, идем в гости, нас ждут.
К стенам цехов снаружи были пристроены кирпичные коробки шаговшесть-семь в ширину и столько же в глубину. Покрыты эти коробки были толем, прижатым рядом кирпичей. В коробки вели фанерные двери, но перед некоторыми из них были сооружены маленькие, тоже фанерные, сени. Грунт перед этими жилищами был засыпан шлаком, что, как пояснил Амза, предохраняло от образования луж.
- Вот так живем с недавних пор, - сказал он, отворяя легкую, сколоченную из фанерных ящиков, дверь. – До пятьдесят третьего года все жалобы татар на невыносимые условия считались антисоветской агитацией. Три года назад комбинат раскошелился и построил вот эти сарайчики здесь и еще внутри некоторых цехов, мы туда сегодня тоже сходим.
Войдя в тесные сени, хозяин и гости сняли здесь обувь и далее прошли, нагнувшись, в двери, за которыми оказалась маленькая каморка, где не было никакой мебели, только прибитые к стенам полки. На полу из плохо обструганных досок (Камилл вспомнил земляные полы хибарок, в которых пришлось жить в первые годы выселения) лежал палас из хлопковых нитей, поверх него у главной стены, вдоль которой шла, по-видимому, труба отопления, расстелены были матрасы с цветными покрывалами на них, к стене были прислонены подушки.
- Вот так и живем, - повторил хозяин закутка. - Я с женой и двое детей здесь помещаемся, а два года назад тоже жили в бараке.
Гости молча осматривались.
- А еду где готовите? - спросила Зульфие.
- Кухня у нас общая, там, в домике, мимо которого мы прошли. Тут у нас электроплитка, разогреваем на ней.
В углу на табуретке стояла электроплитка, над ней на навесной полке стояла кое-какая посуда. Здесь же был прислонен к стенке низкий квадратный столик.
- Нам сегодня в ночную смену идти. Себия, жена моя, детей повела в детский сад, он у нас круглосуточный, - предупредил Амза вопрос гостей, устанавливая столик на пол перед матрацами. - Она сейчас придет, присаживайтесь.
Разговор не клеился. Но минут через пять пришла молодая женщина и стала щебетать на хорошем татарском языке:
- Вай, как хорошо, что вы пришли. Амза мне вчера сказал, что придут студенты. Тебя как зовут? Зульфие? Ты пройди вон туда, прислонись к подушке, будет удобней. Ну, что вы так сидите? Располагайтесь получше, не стесняйтесь.
Откуда-то сразу появились маленькие чашечки, тарелочка с конфетами и еще другая, с магазинным печеньем.
- Как жалко, дети все курабие съели! Мама моя приезжала недавно, привезла. Здесь печь негде, очень трудно живем. Мама с папой и сестренки мои в Сырдарье живут, тоже в бараке, но там сад есть и огород.
Себия, не переставая говорить, поставила на электрическую плитку джезве, и по комнатке распространился запах кофе.
- Настоящий кофе, - гордо сказала Себия. - А в первое время, когда нас привезли в Узбекистан, люди мололи жареный ячмень. Помните?
- Мололи те, у кого сохранились кофейные мельнички, - Камилл вспомнил жизнь в Чинабаде. – А многие толкли этот подгорелый ячмень в ступках.
А Рустем добавил, улыбаясь:
- А моя бабушка давила жженый ячмень стеклянной бутылкой! – все рассмеялись, хотя впору было поплакать.
- Все, все прошло! Теперь все будет хорошо, иншалла! – Себия была полна оптимизма. - Не правда ли, Амза?
От милого щебетания хозяйки, от запаха кофе в каморке сразу стало уютней, и уже не казалась невозможной жизнь в этом закутке. Хозяина кто-то кликнул, и он вышел.
- Сейчас он вернется, его сосед позвал, - улыбалась милая Себия.
- А детский садик у вас хороший? - спросила Зульфие, все думающая, каково же тут приходится детям. - У вас двое детей?
- У нас мальчик и девочка. Мальчику уже пять лет, а девочке только три. У нас ясли-сад. Только садом это называть смешно, - Себия рассмеялась. - Три комнаты, теснота, а во дворе два куста сирени все лето пылятся. Есть еще другой, хороший садик, но туда крымских детей не берут. У нас в Сырдарье настоящий детский сад был, воздух чистый, цветы, яблони во дворе. Но что поделаешь. Они здесь с самого сорок четвертого года так живут - Себия разлила кофе по чашкам. - Буюруныз, угощайтесь.
Вернулся Амза и присоединился к пьющим кофе.
- У нас еще кладовка для всякого барахла есть, - сказал он. - У меня с соседом одна на двоих, я ему замок открывал.
- Здесь на заводской территории, наверное, и замков не нужно? - сказал Рустем, просто чтобы что-то сказать.
- Что ты! - возразил хозяин. - Шпана всякая шныряет, пацаны из ремесленного училища.
- Ну вот, - произнес Амза, когда кофе был выпит, и гости произнесли традиционное "Алла разы олсун". - Теперь посмотрим, как живут другие.
Студенты, попрощавшись с хозяйкой, вышли в сопровождении Амзы во двор, вернее - на территорию завода. Уже стемнело, за покрытыми вековой пылью окнами окружающих цехов вспыхивали голубые сполохи, вырывались наружу белые клубы то ли дыма, то ли пара. Камилл, подавленный виденным, думал, как можно так жить изо дня в день, рожать и растить детей в таких условиях. Амза, догадавшийся, о чем думают посетители, произнес:
- Зато работа рядом. Я вон в том цехе, в ремонтном, мастером работаю, я техникум при комбинате окончил. А Себия подальше работает, но тоже за пять минут добегает. Она за станком стоит, рабочая. А другие из наших вообще в цехах живут, сейчас к таким пойдем.
Территория комбината была огромная, занимала с десяток городских кварталов. Только за четверть часа дошли они до цехов, которые не дымили, не пугали вспышками огня, но из-за стен которых раздавался мерный, не утихающий шум. Амза повел посетителей к маленькой двери в торце здания. Вошли в тускло освещенный тамбур, из которого открытая дверь вела в пространство цеха, где работали механизмы, которые издавали тот самый равномерный шум.
- Нам сюда, - Амза достал ключ, открыл находящуюся рядом дверь, и посетители оказались в длинном коридоре с высоким потолком - это была отгороженная капитальной стеной часть цеха. По правую часть коридора тянулись такие же клетушки, как та, в которой проживал Амза, примерно метра четыре на три. Перед каждой фанерной дверью расстелены были половички, на которых стояла обувь. Пахло чем-то жаренным, - видно, кухня находилась тут же под крышей цеха.
- Здесь у них теплей, только плохо, что комнаты без потолков, все слышно, - Амза рассмеялся. - Летом вон те рамы, - он показал на тянущиеся по верху внешней стены окна, - они снимают, чтобы воздуха больше было. Жалуются, что шум постоянный, но здесь лучше, чем в бараках.
Трудно было студентам сделать выбор между жильем в цеху и в каморках, двери которых выходили прямо наружу, на территорию завода. Оба варианта показались им ужасными, а ведь люди эти довольны, что вырвались из бараков! И самое главное - как развиваются в этих условиях дети?
- Мумкюнми? - Амза постучал в одну из дверей. - Можно войти?
Гостей там уже ждали. Мужчина лет пятидесяти, приветливо улыбаясь, пожал всем руки, его жена, полная татарка в типично татарском деревенском наряде, в юбках до пят, стояла у стола:
- Кош кельдиниз! Кириниз! Добро пожаловать! Заходите!
Несколько стесняясь, молодые люди вошли вслед за Амзой в комнатку. Посередине стоял настоящий стол, вокруг стола табуретки, у стены расположилась сколоченная из досок лежанка.
- Нусрет-ага живет культурно, - рассмеялся Амза. - У него стол есть, и спит он с женой на кровати.
- Вай, какая кровать! - стала почему-то оправдываться жена Нусрета Шефика-апте. - Поясница у нас обоих болит, на полу спать не можем. Амза молодой, он на земле будет спать, ему ничего не будет.
- Главное то, что воздуха здесь нет, - включился в разговор Нусрет-ага. - У нас в деревне Коз, около Судака, такой воздух хороший! Там недалеко от нас московский санаторий был, воздухом лечились. У нас был большой сад, дом был большой.
- Ай, опять ты свое заладил, - махнула рукой жена. - Давай, усаживай гостей, сейчас Мелиха макарне принесет.
- Эта моя дочь, она с мужем и с сыном живут рядом, за стеной, - счел необходимым дать разъяснения Нусрет-ага.
- Спасибо, спасибо, мы же сейчас из-за стола пришли, - воскликнули дружно студенты, на что Амза заметил, лукаво улыбнувшись:
- Ничего, еще посидим, перекусим. Хозяев обижать нельзя.
Выпили по чашечке кофе - как же без этого у татар! - поели макарне, домашние макароны, с сыром, беседуя во время еды о сегодняшней ситуации.
- Я вас сейчас привел, - Амза тронул Камилла по плечу. - Слышишь, я вас привел к людям самостоятельным, сильным. У Нусрет-ага сын здоровый и смелый мужик, он сейчас в цеху, свою смену отрабатывает. Эта семья теперь, когда свободу дали, через некоторое время собирается уезжать к родственникам в Янги-Юль, как и я с женой, между прочим. Но таких здесь мало. Сейчас мы пройдем по каморкам, вы поговорите с людьми, расскажите о своей организации, пусть настроение у них поднимется. Все бы хотели отсюда уехать, но возможность такая только у тех, у кого родственники где-то живут. У большинства все родные умерли, и не только родные - даже односельчан не могут найти. Куда такие денутся? Зарплаты едва хватает на еду и на какую-то одежду. Дети в большинстве заканчивают четыре класса и идут в ремесленное училище здесь же на комбинате, потому что учащихся кормят. Никаких надежд на будущее здесь у людей нет, только была мечта о возвращении в Крым, но недавно на собраниях читали какой-то указ, что крымские татары высланы в Узбекистан навечно. Какой это был удар по появившимся надеждам! Куда людям деваться? Вот Рустем ходил недавно с письмом, читал, так для людей свет в окошке засветился. Там, в этом письме, все правильно написано.
Камилл достал кипу бумаг.
- Вот, надо людям раздать, - он протянул листовки Амзе.
- Нет, нет! - запротестовал тот. - Вы сами пройдите по комнатам, сами людям читайте, или хотя бы сами им вручите. Знаете, с того дня, как Рустем здесь с товарищем побывал, люди только о том и говорят. Ведь никого не видят, не слышат, только начальство, которое погоняет - давай, давай, работай!
- Мы для того и пришли, - сказал Рустем. - Спасибо за угощение! Мы пойдем по комнатам.
- А потом пойдем в мой "городок", - засмеялся Амза. - Там тоже вас ждут.
…В каждой каморке студентов пытались усадить за угощение, но Амза строго всем объяснял, что уже и попили, и поели, времени нет. Студенты разошлись по комнаткам поодиночке, иногда соседи собирались в одну из них. Текст листовки слушали благоговейно, с наивной надеждой, что получив уж такое хорошее обращение советская власть сразу же решит вопрос о возвращении народа домой. Но чтобы не внушать людям ненужных иллюзий студенты говорили о том, что наша судьба в наших руках, что надо перестать быть покорными, что надо протестовать, когда злостно нарушаются человеческие права.
- Вы должны, во-первых, требовать улучшения жилищных условий, - говорили студенты, стараясь оставаться спокойными. - Но основное – выступайте на собраниях с требованием, чтобы всех татар вернули в Крым. Предъявляйте требование коллектитвно, используйте профсоюзную организацию.
- Все эти профсоюзы подчиняются начальству, - заметил молодой рабочий.
- Конечно, везде так. Но надо использовать любые механизмы, чтобы власти поняли, что мы от своего требования возвращения на родину не откажемся.
- Вай, там в профкоме только узбеки и русские! - воскликнула немолодая татарка. – Если мы уедем, то на тяжелых работах им придется работать.
- А в коллективе кого больше? - спросил Камилл.
- Во всех почти цехах наших татар больше всего, - ответили ему. – Работа ведь здесь нелегкая, вредная для здоровья, по своей воле мало кто здесь работать хочет.
- Вот и берите профсоюзные комитеты в свои руки! На собрании смело выдвигайте своего кандидата.
- У нас каждый кандидат утверждается парткомом и дирекцией, крымского татарина никогда не утвердят! - воскликнула одна женщина.
- А вам не нужен утвержденный кандидат. Вас на собрании большинство?
- Да, конечно, - был ответ.
- Вот и выдвигайте прямо во время собрания своего кандидата и выбирайте его, используя свое большинство! Не ленитесь бороться за свои права. Под лежачий камень вода не течет. И не надо бояться! Пока мы живем в Узбекистане надо держать ситуацию под нашим контролем.
Одни, сомневаясь, покачивали головами, другие говорили, что все правильно, что надо подниматься с колен.
- И главное! - заканчивали свою беседу студенты, - не верьте, что наш народ переселен в Узбекистан навечно. Узбекистан - это навечно земля узбеков. Наша вечная Родина - Крым. Пусть ваши дети повторяют это когда просыпаются и когда ложатся спать!
После бесед в этом цехе пошли на территорию, где жил Амза. И там тоже те же разговоры, такое же неверие в возможность изменений у одних, вдохновение у других, и встречаемые слезами слова:
- Наша вечная Родина - Крым!
Прощаясь с Амзой ребята договорились, что через несколько дней придут к нему "в гости" студенты-медики, которые обойдут каморки, в которых побывали сегодня, а еще и посетят те бараки, куда сегодня не успели дойти.
Глава 14
В детстве Камилл был уверен в том, что врачи не болеют, а правители всех стран – самые умные люди на планете. О, если бы они были бы хоть на среднем уровне по интеллекту! Тогда не подводили бы эти амбициозные политики свои народы и весь мир к катастрофам. Тогда они смогли бы подняться над миропониманием, выражаемым формулой «что хочу, то и ворочу, и хоть трава не расти… на лужайке перед Коричневым домом!».
И не надо верить иезуитской фразе, что, мол, каждый народ имеет таких властителей, каких заслуживает. Поди поборись против административного ресурса или против неправедного золота, а то еще и вездесущей тайной полиции!
Тогда, в пятьдесят седьмом году, забурели до очередной одури властители одной шестой суши на планете. Сам черт им не брат и никакого общественного мнения! Четыре с боку, ваших нет! И ежели записали эти члены и получлены Политбюро в своем указе, что «укоренились» крымские татары на чужой земле, на земле трудолюбивых узбеков, то значит укоренились. Ежели поименованы татары многозначительно «прежде проживавшими в Крыму», то значит нет возврата к этому «прежде».
Так вот много брали на себя новоявленные боги со Старой площади!
После того, как в самом начале пятьдесят седьмого года были возвращены на родину все депортированные народы, кроме коренных жителей Полуострова, напряжение среди крымскотатарского населения увеличилось. И это стало причиной того, что к весне в деятельности организации, созданной студентами, произошел всплеск активности. В Движение оказались вовлечены кроме рабочих промышленных предприятий Ташкента и некоторых ближних городов, что предусматривалось стратегией организаторов, также и служащие различных учреждений. И уже в функционерах числились не только студенты, но и представители разных других слоев населения, иногда весьма почтенного возраста. Люди по своей инициативе переписывали тексты писем, собирали под ними подписи среди своих знакомых и приносили их свои шефам-студентам, которые доставляли эти листки в штаб Движения. Письма в Москву - а именно она была главным адресатом - Камилл отправлял уже не в конвертах, как раньше, а в бандеролях, но вскоре вынужден был только указывать число подписей, уведомляя, что собраны они представителями Крымско-татарского Национального Движения. В качестве обратного адреса он указывал "почта, до востребования" и свою фамилию. Он понимал, что он при этом ничем не рискует, ибо властям давно уже известны имена всех активистов Движения и все их дела. Правда читать мысли людей кагебэ еще не научилось.
Однажды вечером, возвращаясь домой, он шел не по дорожке вдоль фасадной стороны стоящих рядом зданий, а с их тыльной стороны - так случайно получилось. И под окнами их квартиры, находящейся на третьем этаже, увидел припаркованную впритык к стене военную машину с параболической антенной. Не думая ни о каком зловредном деянии, он спросил стоящего у машины солдата:
- А что это тут такое интересное происходит?
- Проходите! - сурово ответил солдат, и Камилл прошел, даже не обидевшись. Мало ли какие у этих вояк свои дела, тем более что в соседнем корпусе, стоящем под прямым углом к Камилловому дому, жили в основном военные, работники штаба Туркестанского округа.
Мысли его вернулись к этому событию несколько месяцев спустя, когда тетя Маша, жившая в квартире над ними, рассказала его маме, что в комнате ее, тети Машиной, соседки установлен под половицей аппарат для подслушивания разговоров, ведущихся в нижней, то есть в камилловой, квартире. Этому откровению предшествовала ссора тети Маши с соседкой, которая еще раньше проболталась ей, что в углу ее комнаты пришедшие с разрешения ее дочери люди отпилили кусок половицы и поставили подслушку. Надо сказать, что над полученной профессором Афуз-заде квартирой жили в трехкомнатной коммуналке три семьи. Одна из них состояла из той болтливой старухи, ее дочери и малолетней внучки. Муж старухи когда-то в Крыму (а была эта семейка из земляков Камилла) работал в органах, и дочь, наверное, теперь тоже имела к ним отношение. Старуха все возмущалась, почему это семья бывшего политзаключенного Афуз-заде имеет отдельную трехкомнатную квартиру, а она, вдова энкаведешника, живет в коммуналке. Когда над потолком нижней квартиры при ее попустительстве установили подслушивающее устройство, старуха вновь почувствовала свое превосходство над "этим Афуз-заде" и не могла, гордая, не поделиться с соседкой тетей Машей своим иллюзорным торжеством. Но согласие между бабами однажды нарушилось, и вдова раскулаченного рязанского крестьянина рассказала о коварстве своей соседки камилловой маме.
Камилл, естественно, догадался теперь, что машина с параболической антенной, в момент его встречи с ней, использовалась для настройки передающего контура подслушивающего устройства. Не долго думая, он забрался на чердак и обнаружил антенный провод, идущий дальше на крышу. Все было ясно. Несовершенство техники тех лет заставило чекистов установить над потолком гостиной квартиры Афуз-заде какое-то, по всей видимости, громоздкое устройство, провести от него провод на крышу здания и оттуда передавать через эфир происходящие в квартире разговоры на приемную антенну на крыше соседнего здания, в котором проживали свои в доску люди - офицеры Туркестанского военного округа. Камилл, конечно, выдернул, хотя и с большим трудом, провод, и при этом, наверное, на магнитной ленте чекистов записан был душераздирающий треск, что, по-видимому, послужило причиной разбирательства в кабинетах ташкентского ЧеКа. Но с Камилла взятки были гладки, привлечь его к ответственности за порчу казенного имущества, не было оснований - как докажешь, что провод выдернул он, а не какие-то гуляющие по крышам мальчишки?
А чего, спрашивается, подслушивали? И, главное, чего выслушали-то?
Число рвущихся в бой участников Движения резко возросло, когда к нему присоединились сотни учащихся ремесленных училищ города Ташкента. Энергия этих славных подростков била ключом, злость и обида на власть у них были неуправляемы. Камилл с одним из своих товарищей посетил по их требованию собрание в одном из общежитий, обитатели которого процентов на девяносто состояли из крымскотатарских мальчишек. Студенты, которым уже было далеко за двадцать, были рады видеть горящие глаза своих младших соплеменников, слушали их непокорные речи, и радовались, что эти ребята в своей приверженности к главной национальной идее - возвращению народа в Крым - не уступают им, а даже превосходят их в своей решительности и самоотверженности. Однако излишняя самоотверженность мальчишек могла привести к трагедии. Но как могли студенты говорить своим младшим братишкам слова о необходимости соблюдать осторожность, действовать не по позыву оскорбленной души, а подчиняясь некоей политической сдержанности - их не стали бы слушать! Они и сами, эти студенты, позволяли себе в своих письмах бросать в лицо советской власти такие обвинения, которые более зрелые люди произносили только шепотом. А теперь перед ними стояла трудная задача - ввести в более или менее спокойное русло то стихийное возмущение, которому сами открыли дверь, призвав всех крымчан к сопротивлению. На этой встрече договорились только о том, что учащиеся ремесленных училищ не будут предпринимать действий, не согласованных с остальными товарищами по борьбе. На очередное заседание штаба пригласили парня лет восемнадцати по имени Марлен, которому учащиеся доверили их представлять.
На этот раз заседание штаба проходило в поселке Эркин под Ташкентом, в недостроенном доме студента института иностранных языков по имени Руслан. Марлен пришел с двумя другими ребятами, и главным условием этой боевой троицы было требование немедленной организации уличных демонстраций с плакатами, призывающими незамедлительно вернуть всех крымских татар на родину. Трезвомыслящему руководству Движения стоило немалых трудов проявить сдержанность перед лицом такой очевидной глупости, похожей на провокацию. Горячему парню с вызывающим определенные ассоциации именем пытались объяснить, что такие мероприятия несвоевременны, что власть быстро изолирует демонстрантов, и об этой акции узнают только жители близлежащих домов.
- Какой смысл в этой демонстрации? - говорил Камилл, пытаясь сохранять спокойствие. - Просто дать выход своему возмущению? Надо думать о практически полезных делах.
- А какая практическая польза в том, что ваши активисты ходят по домам и собирают подписи под письмами к тем органам власти, которые виноваты в наших унижениях? – восклицал Марлен. - Они никогда не прислушаются к вашим просьбам!
- А та практическая польза, что, прочитав наши письма, ты и твои товарищи захотели от слов перейти к делу, - ответил Сейдамет, один из руководителей Движения, авторитетный среди студентов-активистов.
- Ну, где ваше дело? - кипятился Марлен. - Это мы предлагаем дело, а вы отказываетесь!
- Ты предлагаешь бесполезное дело. Ты хочешь выйти на улицу и просто выпустить пар, обмануть себя. А этот накопившийся пар должен привести в движение весь наш народ!
Кадыр, студент-отличник, член комсомольского бюро факультета, сказал назидательно:
- Вспомните, как Ленин в конце прошлого века вместо того, чтобы вместе с народовольцами участвовать в террористических актах, организовал партию, которая пришла к власти. Нам нужно организовать единое движение, которое действовало бы по разработанной заранее программе, а не тратило бы энергию на шумные бесполезные выступления.
- Я читал вашу программу! У вас там нет конкретных действий, только слова, что надо всем объединиться, что надо рассматривать все предложения! - запальчиво воскликнул один из пришедших. - Вот и рассматривайте наши предложения!
- А мы сейчас все вместе их и рассматриваем, - отвечал спокойно Камилл. - А что касается программы, то наша программа учитывает особенности первого этапа нашей борьбы, она организационная. Мы имеем первоначальную цель - разбудить людей, показать всем, что есть возможность объединиться. Не стонать, не плакать, а объединиться и обдумать дальнейшие действия. Программа действий следующего этапа борьбы будет составлена потом. Мы это сделаем или другие - не важно. Надо сейчас заниматься задачами первого этапа - возбуждать людей, подстрекать их к организованному выступлению против намерений властей считать нас «укоренившимися» в местах насильственной высылки. Демонстрации уличные тут не нужны, но нужно проводить массовые собрания в местах работы, учебы или проживания. Власти должны увидеть, что наши люди объединяются, чтобы требовать возвращения в Крым. Как ты думаешь, Марлен?
Марлен, очень неглупый парень, понимал, в общем, справедливость сказанного. Но за его спиной бушевала необузданная энергия подростков, которые требовали уличных действий и немедленно. Поэтому он не высказал согласия со сказанным, но и возражать на этот раз не стал. Он только пробурчал, уже без давешней агрессивности:
- Ну и чего вы добились?
- Мы добились того, что сейчас сидим вот здесь, в доме Руслана, и обсуждаем тактику дальнейших действий! - воскликнул Закир, один из руководителей организации. - Мы добились того, что рабочие ташкентских заводов теперь говорят о возникшем народном Движении, о необходимости создавать группы на своих предприятиях, поднимать на борьбу весь народ. Мы добились того, что старики в бараках как праздника ждут прихода наших пропагандистов, что они со слезами говорят, о молодых людях, возродивших в их сердцах надежду в будущее нашего народа. А ваше предложение вызовет репрессии и на корню погубит зарождающееся движение.
- Да, и уже на заводах и фабриках возникают ячейки со своими руководителями, которые пока занимаются размножением и распространением наших писем, но вскоре они уже будут искать другие формы борьбы, - добавил Рустем. - Правильно сказал Камилл: мы подстрекаем людей к протесту.
- А письма, которые вы посылаете в ЦК, в Верховный Совет? Какая от них польза? Эти гады вашими письмами подтираются!
- Мы посылаем письма не только в ЦК и в Верховный Совет, - ответил Камилл. - Я уже говорил вам, что в Советском Союзе никто не знает, что сотворили с нашим народом. Даже здесь, в Узбекистане, некоторые думают, что из Крыма выслали только семьи, "сотрудничавших" с немцами татар...
- Ага! - один из ребят, пришедших с Марленом, перебил Камилла. - У нас соседи, русские, так и говорили. Отец мой им объяснил, что он с фронта с двумя ранениями вернулся, так они не верили, пока он им свои документы не показал. А он войну прошел с сорок первого года и до последнего дня.
- Вот, так оно и есть. Мы посылаем письма известным ученым и писателям, в редакции газет и журналов, создаем общественное мнение. А в ЦК, получая наши письма, узнают, что им предстоит еще решать наш вопрос, а они, сволочи, надеялись, что вопрос с крымскими татарами уже решен окончательно. Хрен вам! Мы сами решаем наш вопрос!
Этот эмоциональный всплеск, от которого Камилл не удержался, очень понравился гостям. Однако от их вожака Марлена поступило предложение:
- Надо собирать деньги среди населения и организовать печатание листовок. Листовки по ночам будем разносить по всему городу, а, кроме того, часть их будет пересылаться в другие области Узбекистана.
- Ну, ты кинофильмов всяких насмотрелся! – воскликнул Сейдамет.
- Кому адресованы будут листовки? – спокойно спросил Шариф.
- Всему населению, чтобы знали! Ну, конечно, и нашему несчастному народу! – воскликнул Марлен. – Будем распространять листовки по всему городу, бросать в почтовые ящики, оставлять в транспорте. Кстати, вы против листовок, а разве ваши письма не то же самое?
- Нет, - отвечал Шариф. – Письма мы легально, по почте направляем адресатам, после того, как собираем под ними подписи крымских татар. Так что гебисты напрямую не могут предъявить нам обвинения. А листовки другое дело, и органы, наверняка, очень хотели бы, чтобы мы начали бы нелегально распространять листовки, а еще лучше – вышли бы, как ты советуешь, на массовую демонстрацию.
- Да! Мы считаем, что выйти всем на демонстрацию необходимо, - не вникнув в подтекст воскликнул Марлен. – Если вы нас не поддержите, то мы сами организуем на Первое мая демонстрацию с плакатами!
Камилл начал было закипать, но Закир, заметив это его состояние, положил руку на его плечо, и тоже задал вопрос гостю:
- Значит, выйти с лозунгами «Требуем возвратить татар в Крым!» с целью, чтобы жители Ташкента поддержали и присоединились к нашей борьбе? – Закир говорил совершенно спокойно, хотя тоже был очень раздражен путаницей в головах своих оппонентов. – Да вас просто слово «листовки» и «демонстрация» гипнотизирует! Поиграть в революцию захотелось …
- Если не поддержат сразу, то со временем поймут! – Марлен был вдохновлен своей смелой идеей и игнорировал все насмешливые замечания.
- Ты только пошуметь хочешь, ты и сейчас шумишь, - нервно вступил в разговор несдержанный Мамут, которого тоже взяли с собой. – А сперва нужно организовать весь народ, тогда только выступать и идти вместе со всем народом на демонстрации!
- Ребята, все же надо немного думать, просчитывать вперед хотя бы на два шага, - воскликнул Рустем, жестом успокоив Мамута. – Ну, выпустим мы пар, порадуемся двадцать минут, нет, пять минут, держа в руках эти лозунги. Милиция и агенты в штатском сомнут нас, прочесть наши призывы успеет несколько десятков человек, которые побоятся об этом рассказывать другим. И ради этого поставить под удар нашу организацию? Этот случай будет так раскручен властями, такую чистку они проведут, что пройдет много лет, пока возникнет новая организация, мобилизующая народ на борьбу без шумных публичных выходок.
- Да, ты хочешь произвести шум, - спокойно, как всегда, вступил в разговор Кадыр. - Во-первых, громкого шума не получится, так и знай. Прихлопнут. Во-вторых – наша задача проводить работу среди крымских татар, а не садиться в тюрьму.
- Зачем это нужно! – воскликнул Марлен. – Татары, что, про свою жизнь не знают?
«Да, ему хоть кол на голове теши», подумал Кадыр, а вслух произнес:
- Чего ты добиваешься, я не понял? Чтобы о нашем положении сообщить узбекам и русским и потом умереть?
- Умереть, но со славой! Я не боюсь смерти за свой народ!
- Ага, славы захотел. Теперь понятно! - зло рассмеялся Мамут.
- Оставь, Мамут, - перебил своего молодого товарища Сейдамет. – Марлен, я думаю, неправильно выразился…
- Ну да…
- Во всяком случае, дорогой Марлен, - вмешался в разговор Камилл, которому уже надоел примитивизм оппонентов, но который хотел закончить встречу без скандала. - Прежде, чем класть на плаху свою голову надо пробудить наш народ к массовому мирному сопротивлению…
- Вот видишь, к мирному! – зло рассмеялся Марлен. – Вы боитесь, и этим все объясняется!
- Если бы мы боялись, то не создавали бы нашу организацию, - возразил все так же спокойно Камилл.
- Если мы начнем нашу справедливую борьбу за возвращение в Крым с уличных демонстраций, то все будем арестованы и не выполним нашей основной задачи – подготовить весь наш народ к массовым выступлениям за свои права, - произнес Кадыр, который также понял, что пора заканчивать этот разговор.
- Скажи, Марлен, кому это будет выгодно? – проникновенно спросил Рустем, переглянувшись с товарищами.
Марлен молчал, молчали и его соратники – и они, наверное, тоже пришли к выводу, что согласия достигнуть не удалось и надо мирно разойтись.
Прервал наступившее молчание Сейдамет, которого, с одной стороны, радовала самоотверженность молодых парней, но было досадно, что они, действительно, превращают серьезное дело в игру:
- Мы все здесь как на фронте, как в окопах. Без четко разработанного плана, без разведки в бой идти нельзя, ребята.
А Камилл опять подумал о том, что почему-то все активные ребята, в том числе и Марлен, из тех семей, в которых отец погиб на фронте или в партизанских лесах. Случайно ли, что так получается или это свидетельствует о том, что способность жертвовать собой, а не прятаться в кустах или в блиндажах, передается по наследству?
Расходились заговорщики несколько умиротворенные. Камилл и его соратники получили некоторую надежду, что, во всяком случае, в ближайшее время уличных демонстраций можно не опасаться. Но с этой задачей пришлось столкнуться несколько позже.
Марлен после этого заседания штаба Крымско-татарского национального Движения пошел на раскол и самолично возглавил армию горячих татарских мальчишек, которые не хотели мириться с унижением своего народа, рвались в бой за свои человеческие права, но у которых не было культуры политической борьбы. Их вождь был одержим жаждой славы в качестве борца за свободу своего народа и готов был идти сам и обрекать других на любые жертвы ради этой свободы.
Слава ему и слава его армии, храброй и непримиримой! Повзрослев, многие из них немало полезного сделали для своего народа.
Только в начале апреля, когда липкая азиатская грязь подсохла, Камилл и Шариф в одну из пятниц собрались в давно запланированную поездку в совхозы Голодной степи. До железнодорожной станции Мирзачуль замечательно доехали в грязном и переполненном вагоне. Далее надо было либо топать по бездорожью двадцать километров, либо дожидаться вечернего мотовоза, а от его конечной остановки опять же шагать по тому же бездорожью.
Знаете ли вы, что такое мотовоз? Если вы этого не знаете, - а вы наверняка этого не знаете, - то в вашем мировоззрении евразийского (или, точнее, азиопского) аборигена имеется существенная лакуна, которая останется зияющей плешью на нем, какие парижи или багамы вы бы не посещали впоследствии. Знание этого обогащает, оно свидетельствует, что вы не из тех, кто прошаркал всю свою жизнь по асфальту тротуаров, и даже не из того славного племени, которое перетаскало тонны рюкзаков по крутым склонам Памира или Алтая – тоже по своему элитное времяпрепровождение. Знание этого является подтверждением того, что вы погружались в провинциальное захолустье страны, кичащейся своими натужными достижениями в тех отраслях, от которых нет пользы народу, и вы познали, что полуцивилизованность хуже первозданности, что барак это не человеческое жилье, что тупик это не начало пути. И лучше отправляться в дальний путь на свадьбу к сродственнику на скрипучей арбе с огромными колесами, сидя на паласах, вдыхая терпкий запах конских яблок, которые падают из-под хвоста не замедляющей ход кобылы, попивая при этом чай из большого, завернутого в одеяло чайника, щелкая орешки, жуя курагу, - да, это лучше, чем маяться целый день в ожидании пропахших мазутом вагонеток, в коих надо с боем занимать места, ругаясь с владельцем грязных кирзовых сапог, которые тот по неизбежности водрузил на вашу спину, хотя никогда не испытывал к вам никаких дурных чувств, да и, вообще, впервой видит вас, если что-то можно увидеть в наступившей ночной темноте, усугубляемой окутавшим вагонетки дымом из выхлопной трубы того, что называется мотовозом.
Мотовоз - это чадящий трактор, поставленный на рельсы и тянущий за собой три-четыре вагонетки со скоростью пешехода… И не будем продолжать разговор об этом далеко не лучшем изобретении ума человеческого.
Прождав полдня и увидев все воочию, Камилл и Шариф, несмотря на ночь, решили идти пешком в указанном им туземным жителем направлении. Двадцать километров - это всего четыре часа пути, да еще на чистом воздухе, да по прошлогоднему травяному покрову, да по прямой.
Вот только волки, говорят, по весне голодные…
Парни добрались до поселения к рассвету. Видели в предрассветном мареве сосредоточенно бегущую куда-то хвостатую стаю, но то, пожалуй, были не волки, а гуляющие свадьбу местные псины.
Была та самая пора, когда на хлопковых плантациях совхоза работали лишь трактористы, распахивающие поля, на которых оставались корешки гуза-паи - кустов хлопчатника. Остальные рабочие "советского хозяйства" занимались ремонтом зданий, очисткой амбаров, подрезкой деревьев и кустарников, но такого рода работы были вспомогательными и оттого не особенно контролировались руководством. Поэтому в эти дни взрослые и дети ходили за тракторами и выдергивали из-под перевернутых пластов земли прошлогодние корешки - отличное топливо для сельских очагов. А в ту субботу, когда в поселок приехали давно ожидаемые пропагандисты из Ташкента, многие остались дома, чтобы в назначенный час собраться у кого-нибудь из соседей.
В две комнаты с низкими потолками натолкалось человек пятьдесят. Чтобы было чем дышать, растворили маленькие окошки и распахнули настежь двери. Люди с интересом смотрели на старающихся держаться уверенно молодых своих соплеменников, во многих взглядах видна была надежда, что эти студенты, приехавшие из большого города Ташкента, сейчас поведают долгожданную весть о близкой свободе.
- Ну, пора начинать разговор, - произнес, наконец, хозяин дома Энвер, немолодой татарин, закончивший войну в Берлине и после демобилизации с трудом нашедший остатки своей семьи в этом совхозе.
- Селям алейкум, ватандашлар! – начал Шариф (он, естественно, говорил по-татарски). – Мы приехали к вам из Ташкента по поручению наших товарищей. Мы, ташкентские студенты, объединились в организацию, начинающую политическую борьбу за возвращение народа в Крым. Мы привезли вам копии нашего обращения в высшие партийные и советские органы с этим требованием.
Среди собравшихся раздались возгласы одобрения.Шариф же, как было согласовано заранее, осторожно начал говорить о том, что в целом политика советской власти изменилась в лучшую сторону, что осуждение Двадцатым съездом КПСС злодеяний сталинских времен внушает надежду на то, что все нарушения в национальном вопросе будут устранены – такое предисловие, как решили на заседании штаба Движения, было нужно, во-первых, чтобы избежать обвинений и выступавших и их слушателей в антисоветизме, и, во-вторых, чтобы внушить людям оптимизм, чтобы преодолеть возникшую, возможно, в голодностепской глуши безнадежность. Но, видно, тут студенты ошиблись, никакого смирения перед властями среди изможденных тяжелым бытом людей сегодня не чувствовалось, было только неведение того, какие меры надо предпринять теперь, когда вдруг стало известно, что восстановили права всех высланных народов, кроме крымских татар. Назревало понимание необходимости организованной борьбы за свои права, но не было у заброшенных в эти солончаки и камыши жителей Крыма информации о том, как реагируют на сложившуюся ситуацию их земляки в других регионах. Приезд гостей из Ташкента стал для большинства работников совхоза давно ожидаемым событием.
- Так почему нас не возвращают домой? Других вернули, а о нас забыли. Столько времени уже прошло! – воскликнул один из слушателей.
Камилл счел момент подходящим для того, чтобы подчеркнуть, что крымским татарам надо начинать активную борьбу за свои права.
- Вот мы и должны активно напоминать властям о себе! Пусть не надеются, что мы согласны с их решением оставить нас навсегда в Азии! Надо начинать бороться за свои права везде, и в городах, и в колхозах! Если весь народ продемонстрирует свое единство, то советская власть вынуждена будет нам уступить!
- Почему все же других вернули, а нас держат в этой ссылке? – подала голос с места молодая женщина, будто не об этом шла только сейчас речь.
Этот вопрос горел в душе у всех, поэтому его готов был задавать каждый, будто ташкентские студенты могли разрешить эту проблему.
Худощавый средних лет мужчина в очках тоже включился в разговор, игнорируя сказанное Камиллом.
- Мы проводили несколько семей калмыков, которые вернулись в свои родные степи, - негромким, но твердым голосом говорил он. – Из районного центра уехали в свои родные горы семьи карачаевцев. Что же это такое, почему нас держат здесь?
- Нас хотят здесь оставить, потому что Крым – это не горы и не степь, а это и горы, и степь, да еще и море, - воскликнул Камилл, решив, что политкорректность уже в достаточной мере соблюдена и теперь нет нужды скрывать свои эмоции. - У нас отняли и не хотят возвращать самый прекрасный край на планете!
И Шариф добавил, тоже противореча в чем-то своим предыдущим успокоительным словам о подобревшей советской власти:
- Еще полтора века назад Россия мечтала изгнать татар из Крыма и объявить его русским. Поэтому всех других возвращают, а нас хотят оставить «навечно» в Азии. Не выйдет!
Этот возглас Шарифа подхватили все, вместившиеся в комнате, а также столпившиеся за окнами и дверьми крымчане.
Потом люди немного успокоились, и ташкентские студенты продолжили говорить о том, что необходимо разрушать насаждаемый государственными органами миф, что мы, крымские татары, смирились со своей участью переселенцев.
- Пришла пора не только думать о хлебе насущном, но и начать задавать ответственным работникам, с которыми вы здесь имеете дело, будь то директор совхоза или даже бригадир, вопросы о том, когда вас отправят в Крым, - говорил Камилл.
- Да, если такое сказать управляющему нашим отделением, то услышишь столько ругани, что больше не захочешь об этом говорить, - с полным страха голосом произнес бледнолицый и лупоглазый человек неопределенного возраста, сидевший близко от Камилла.
- Поэтому у тебя от страха глаза и вылезают из орбит, - воскликнула женщина в сиреневой вязаной кофте, на руках которой сидел, грызя большую морковь, мальчик дошкольного возраста. – Правильно, надо всем узбекам говорить о нашем намерении возвратиться домой. Хватит, поработали на них!
- Начальство любит покричать, да только и мы в долгу не остаемся, - добавил один из присутствующих. – Да, правильно, мы и сами должны были догадаться, что пора не только о работе с ними разговаривать, но и политические требования предъявлять.
- Нет, все таки боязно было нам здесь начинать разговор с местными властями о Крыме, - заметил мужчина в очках, - Но теперь, когда мы знаем, что за нами стоите вы, организованная столичная молодежь, мы будем чувствовать себя увереннее.
- За вами, дорогие друзья, стоят не только студенты, но и рабочие ташкентских заводов! – воскликнул Камилл.
- Вот именно! Наша организация не студенческая, а общенародная, - подтвердил Шариф. – С сегодняшнего дня и вы должны поддерживать с нами постоянную связь, сообщать нам о реакции местного начальства. Если власти будут знать, что возникли не отдельные очаги возмущения, а существует единое народное движение, то они вынуждены будут считаться с нашими требованиями. И пишите письма вот по этим адресам, пишите и коллективные письма, и от каждого в отдельности.
Поднялся с места грузный мужчина лет пятидесяти:
- Правильно, надо чтобы центральная власть в Москве обратила внимание на положение татар, - произнес он громко, обращаясь к своим односельчанам. – К московским властям мы можем обращаться только по почте, но надо беспокоить местных руководителей, пусть о волнении крымских татар они сообщат наверх, пусть не думают, что мы ограничимся только писанием писем. Так что хватит бояться, надо немедленно начинать политическую борьбу.
Реакция собравшихся очень понравилась Камиллу. Он бросил взгляд на Шарифа, и тот выражением лица ответил, а ты, мол, что думал.
А грузный мужчина, между тем, продолжал:
- И главное наше требование - восстановить Крымскую республику и организованно возвратить народ на родину.
Эти слова больше всего взволновали собравшихся.
- И пусть нам вернут наши дома, вернут наш скот и домашнюю утварь! - раздались возгласы.
А женщина с ребенком на руках веско добавила:
- И пусть выплатят нам деньги за принесенное нам горе, за смерть наших родственников.
Сердце Камилла переполнялось торжеством, когда он смотрел в загоревшиеся глаза своих земляков, слушал их выступления. Это были не те люди, которых он видел прошлой осенью в другом таком же хлопководческом хозяйстве. Конечно, сыграла большую роль осведомленность людей о том, что другие народы, братья по несчастью, получили свободу и право жить на своей земле. Реакцию рабочих степного совхоза на эти изменения в стране, которые их, однако, не коснулись, можно было, наверное, предугадать, это была естественная реакция, но студенты, собираясь в эту поездку, опасались встретить усталых, примирившихся со своей участью людей.
И тут произошел небольшой инцидент. Белоголовый старик, сидевший где-то за спиной Камилла, что-то запальчиво произнес. Камилл не разобрал слов и спросил, обернувшись к нему:
- Не дединиз? Что вы сказали?
- Ты все равно его не поймешь, - раздался вдруг издевательский смех из угла комнаты. - Он же тат! Они таты, они не татары! Их язык понять невозможно!
В комнате повисла настороженная тишина, которую нарушил женский голос:
- Вай, айып олсун! Нариман, недир дегенинъ? Мусафирлер алдында маскара этеджек бизлерни бу эриф! (Вай, как стыдно! Что это ты говоришь, Нариман? Опозорить нас перед гостями хочет этот человек!).
Камилл с горечью понял, что в этом изоляте с трудом выживающих его земляков существует мерзкий конфликт, с которым боролись лучшие люди Крыма, но который тлел в среде людей с низкой духовной культурой - конфликт между степным населением и населением гор и побережья. С давних времен приходили на Полуостров различные племена с разной культурой, говорящие на разных языках. И с тех же времен непрерывно шел процесс сближения, культурной ассимиляции, перемешивания племен, которые, в конце концов, приобрели общий язык, обогащенный местными диалектами, и общую, богатую разнообразием культуру. Порой даже соседние села имели в быту или в языке что-то оригинальное, свое - и это было прекрасно! Но в каждом стаде встречается паршивая овца, и находились низменные люди, которых эти различия злили и которые использовали эти различия для самоутверждения за счет наносимой другому обиды. Надо полагать, что за каждым таким случаем стояла черная зависть, давняя не преодоленная неприязнь - то ли девушка не его полюбила, то ли на скачках соседский конь обошел его коня. У такого мелкодушного человека появлялись порой прихлебатели, которые распространяли неприязнь к жителям соседнего селения насколько могли - на много распространять не получалось, потому что всегда в народе существовало отторжение тех, кто сеял распрю, кто пытался рассуждать о непримиримости "ногаев" и "татов". Но Камилл никак не ожидал, что после постигшей весь народ великой беды могут сохраниться такого рода распри.
Нариман не унимался. Он поднялся на ноги – это был худой чахоточного вида мужчина лет сорока - и, размахивая руками, стал кричать:
-Я ногай, я настоящий татарин! А если я его язык не могу понять, то значит он не татарин!
- Мы дети одного народа, - жестко произнес Камилл. - За последние десять веков все племена, приходившие в Крым породнились между собой, перемешались настолько, что стали одним народом, но не настолько, чтобы стать одинаковыми, как яйца в корзине. И преступно вносить раздор в нашу среду. Это выступление похоже на провокацию, организованную работниками госбезопасности!
Но он быстро овладел своими чувствами и уже более спокойно продолжил:
- Не время нам заниматься внутринациональными ссорами…
- Мы не одной национальности, они не татары! – не слушая никого орал Нариман.
Тут не вытерпел Шариф:
- А в комендатуру вы, ногаи и таты, в одну и ту же ходите?
- Ну и что! – все больше свирепел «настоящий татарин». - У нас в совхозе были калмыки, они тоже в комендатуру ходили! Что же теперь, я калмык?
Встал другой мужчина, лет шестидесяти:
- Ты не калмык и не татарин! Мы с калмыками дружили, в любое время в гости друг к другу ходили. А к тебе домой никто не ходит, и в гости тебя не зовут! Я евпаторийский ногай, а жена моя из Ускюта. И чем мои дети хуже тебя?
- Вай, Нариман! Юзин бетин кара олсун! - женщина в белой накидке-марама тоже поднялась на ноги. Она, помавая перстом на этого Наримана, говорила назидательно: - Пусть лицо твое почернеет! Великий грех считать себя выше других. Ты и твои братья лучше бы меньше водки пили, чем вносить смуту в наш народ! Йок, - она обернулась к Камиллу, - кагебени адамы дегиль. Ону аслы бабасы да шойле эди. Ногайым деп бир олмай эди. Мен де ногайым, сун? Не артыклыгым бар? (Нет, он не человек кагебе. У него и отец таким был. Кичился тем, что он ногай. И я ногайка, ну и что? Чем я превосхожу других?).
Но Нариман, видно, был, действительно, человек одной, но непреклонной идеи. Он зашагал через тесно сидящих людей и вышел из комнаты, произнеся:
- Если это письмо будут подписывать таты, то моей подписи там не будет. И, вообще, никакого письма не надо, надо ждать. Калмыков советская власть вернула на их родину и нас скоро вернет. Нечего тут воду мутить!
Камилл ответил бы ему крепко, по-русски, как это принято в их студенческой среде, но он тут был гость, и надо было, к сожалению, соблюдать приличия.
- Как душе твоей будет угодно, - только и сказал он под короткий смешок Шарифа
Присутствующие были чрезвычайно смущены происшедшим, и было произнесено еще несколько фраз, приносящих гостям извинения, потом переключились на существо дела.
Еще был только полдень, и после того, как народ разошелся, вполне было достаточно времени, чтобы отправиться в центральное отделение, а оттуда уже к вечеру добраться и до другого совхоза.
- Тохтаныз! Ашап уйледен сон кетерсиниз! Погодите! После обеда поедете! - пыталась задержать гостей хозяйка дома, после того, как все разошлись.
- Йок! Надо добраться до места, там уж и пообедают, - возразил Энвер-ага.
- Большое спасибо! Нам надо идти! - поблагодарили студенты хозяйку.
Энвер взялся проводить гостей, и вскоре все трое уже вышли на дорогу, ведущую к поселку центрального отделения, до которого идти было не более часа. Не прошли путники и десяти минут, как вдруг их догнал грузовичок-полуторка, за рулем которой сидел тот самый Нариман. Машина вильнула в сторону идущих по обочине людей и обдала их пылью. Путники успели заметить оскалившееся в недобром смехе лицо шофера.
- Лафы арам, - произнес Энвер-ага спокойно, - не достоин обсуждения.
В беседе о прошедших годах и о нынешних условиях жизни в совхозе дошли до центрального поселка. У здания конторы стояла полуторка, на которой шоферил Нариман.
- Он, наверное, приехал в дирекцию с доносом на нас, - произнес Камилл.
- Хыяр! Хрен ему! - ответил Энвер. - Начальники наши на выходные дни к семьям в Бекабад или в Хаваст уезжают.
Пришли в хижину родственника Энвера, и пока хозяйка варила кофе, хозяин разослал детей по соседям, а сам пошел искать ключи от клуба. Прибежавший моторист, тоже из крымчан, запустил движок и дал в клуб электричество. Через полчаса Камилл и Шариф сидели на сцене за покрытым красным кумачом столом, а со скамей с ожиданием глядели на них более сотни мужчин и женщин.
- Джемаат! - обратился Энвер-ага к собравшимся. - Вот к нам приехали наши молодые соотечественники из Ташкента. Это образованные люди, студенты.
При этих словах татары заволновались, раздались возгласы одобрения.
- Машалла! И наши ребята стали студентами! Может это начало нашего возрождения? Может и наш народ доживет до светлого дня?
Здесь обстановка была несколько иной, более формальной – из-за покрытого красным кумачом стола, может быть. Камилл встал и начал свое выступление с того, что заверил соплеменников, что студентов из крымских татар сейчас много, не одна сотня в одном только Ташкенте.
- Прошло время, когда нам не разрешали учиться, - говорил Камилл, - когда мы не могли перемещаться даже в границах одной области. Но после того как новые руководители Советского Союза раскрыли преступления Сталина, мы все ждали большего, ждали, что перед нами извинятся и отвезут нас назад в наши дома.
Так же, как и на утреннем собрании, люди были информированы о восстановлении прав других высланных народов. То обстоятельство, что только им, крымским татарам, по-прежнему было запрещено возвращаться на родину, обескураживало людей, порождало в них негодование, но они не знали, как им действовать. И кандалами на ногах, ярмом на шее была нищета. Ни поменять место жительства в пределах Узбекистана, ни, тем более, уехать в Крым, не испрашивая на то разрешения властей, или даже если бы это им было бы вдруг разрешено, эти люди не могли по причине отсутствия материальных возможностей.
- Советская власть обязана организованно вернуть наш народ в Крым, вернуть наши дома и имущество, - продолжал Камилл, уже не стараясь сохранять политическую сдержанность в своем выступлении. - И еще хочу всем сообщить, что ташкентская молодежь объединилась в организацию и начала борьбу за восстановление наших прав, за возвращение в Крым.
Слушатели с одобрением встретили известие о возникновении Движения за восстановления прав народа.
Потом слово взял Шариф.
- Агламаган балага анасы эмчегини бермез! (Молчащему младенцу мать грудь не дает!) - говорил он. - Требуйте, беспокойте всех чиновников! Это будет ваш первый вклад в нашу национальную борьбу. Конечно, от директора совхоза или от начальника районной милиции ничего не зависит. Но они будут докладывать о ваших требованиях своему начальству, которое передаст весть о возмущении крымских татар еще выше. Пусть в Москве узнают - мы никогда не согласимся с тем, что мы выселены из Крыма навечно!
- Над нами один Аллах! - вскочил на ноги какой-то старый человек. - Аллах дал нам нашу землю, а эти коммунисты возомнили, что они выше Аллаха! Крым - наша земля, и мы обязательно вернемся на нашу родину!
- Вот! - воскликнул Камилл. - Вот об этом, отец, нужно говорить всем и каждому, и каждый день!
- Он всем говорит! - раздались смешки в зале. - Его, когда была комендатура, даже в район возили, угрожали!
- Сычайым оларны техликелерине! - выругался старик, и присутствующие здесь пожилые женщины укоризненно покачали головами. - Срать я хотел на их угрозы! Больше, чем они сделали, что еще могут сделать? Родины меня лишили, сыновья мои умерли от голода! Одна дочь у меня осталась, дай ей Аллах здоровья, внуки растут. Я воспитываю их так, чтобы каждый миг помнили, что их родина Крым, что главная цель их жизни – вернуться на родину…
Сказать больше, чем сказал этот старый татарин, было невозможно.
- Спасибо, отец! - Камилл в пояс поклонился. - Пусть Аллах даст здоровье и счастье вам и вашим внукам! К этим вашим словам я хотел бы только добавить, что цели этой мы должны добиваться все вместе. Мы призываем вас создать в совхозе свою местную организацию и тоже начинать борьбу за наши права. Способы этой борьбы вы установите сами, о наших предложениях я вам уже рассказал. И поддерживайте постоянную связь с нами, со штабом Движения.
Приглушенные радостные восклицания сопровождали слова ташкентского гостя.
- Сейчас Шариф прочитает вам письмо, которое мы за подписью наших людей посылаем в различные организации и в адреса известных людей в Москве, - сказал под конец Камилл. - Если вы поставите свои подписи под этим письмом, то вся страна узнает о том, что крымские татары, где бы они не вынуждены сейчас проживать, не примирились с высылкой их в Азию, что они требуют организованного возвращения всего народа в Крым.
- Да! Акъ созь! Именно так! Как привезли, так пусть и вывозят! - волновалась аудитория.
- Нет! - раздался голос и поднялся мужчина лет сорока. – Нет, пусть вывозят нас из Азии как людей, а не как скот. Двадцать дней нас везли, не то, что еды, даже воды не давали. В каждом вагоне несколько стариков или детей умерло, пока привезли на эти солончаки. Нет, пусть вывозят как людей, в нормальных вагонах, и еще пусть дадут нам компенсацию за наши мучения!
Люди все разом взволнованно заговорили, каждый вспоминал о лишениях по пути в ссылку. Камилл уже и раньше слышал от большинства своих соплеменников, что их эшелоны шли до места долгих двадцать, а то и больше дней. Он как-то обсудил это обстоятельство с отцом, и тот сказал, что их эшелон был отправлен из Крыма в числе первых, в составе ехало несколько высокопоставленных коммунистических чиновников Крыма, поэтому и доехали быстрее, за двенадцать суток, да и в пути людей хоть как-то кормили. И Камилл вспомнил тогда, как на остановках к отцу подходили со сладкой улыбкой на устах какие-то мужчины, затевали провокационные разговоры, как отец потом сказал маме, что в одном из вагонов едут бывший нарком внутренних дел Сеит-Ягья и следователь-садист Кемалов. Потому их эшелон и был в «привилегированном» положении.
Сидевшие в тускло освещенном зале люди вскоре успокоились, и слово взял седобородый старик, бывший сельский учитель, теперь работающий сторожем на складе хлопка:
- После того, как верховная власть Советского Союза осудила беззакония в отношении отдельных людей и целых народов полагается по закону восстановить права всех репрессированных граждан и компенсировать им их материальные потери. Но если мы будем бездеятельно ждать, то советская власть решит, что мы смирились с нашим положением и потеряли надежду на возвращение домой. Это не так! В каждой нашей семье младенцы после слов «ана» и «баба» обучаются слову «Крым». Пришло время произносить это слово громко, так чтобы услышал весь Советский Союз. И главное – чтобы наш голос услышали в Москве!
В общем, реакция людей была такая же, как и везде.
Потом гости из Ташкента пошли в дом сестры Энвера, где их ждал замечательный обед - лапшовый суп с фасолью.
- Бакласы да бакла дегиль, лойя! (И фасоль тут не настоящая, это лойя), - извинялась хозяйка, будто Камилл и Шариф не знали всего этого. - Наша фасоль здесь не растет…
Глава 15
В ленинградские белые ночи Февзи часто оставался в квартире наедине с котом по имени Пушок.
Так сложилось, что между двумя парнями, чья дружба завязалась в тяжелые сиротские годы, разговор о женщинах был негласным табу. Еще в бытность подростками они очень часто присутствовали при пошлых и грязных разговорах на тему отношений между полами, поэтому этот аспект человеческой жизни для них был окутан воспоминаниями о слышанных непристойностях. То, что они читали в книгах, казалось им, отдаленным от нормальной жизни, чем-то выдуманным. Внутренняя чистота подростков табуировала когда-то эту тему, и тогдашнее табу перешло в сегодняшнюю их жизнь. Олег в разговоре с другими своими знакомыми вел разговоры о женщинах, отличаясь, правда, от своих собеседников скупостью выражений. Но с Февзи такого рода разговоры не получались. Правда, когда друзья оказывались в одной компании с Серегой, который был знатным бабником, не позволяющим, однако, скабрезностей в своих разговорах о девушках, то и Февзи высказывался на эту заветную тему, сопровождая почему-то свои реплики хихиканьем.
Однажды припозднившийся Олег застал друга в эту теплую светлую ночь за чтением под желтым светом настольной лампы какого-то толстенного фолианта. Поставив чайник на электроплитку, он вернулся в комнату.
- Слушай, Февзи, - обратился он к другу. – Моя Настенька хочет познакомить тебя со своей подругой. Как ты?
Февзи выдержал паузу, во время которой сердце его сильно забилось.
- Хорошо, пусть знакомит, - выговорил он, наконец, не поворачиваясь лицом к Олегу, потому что боялся выдать вдруг охватившее его волнение.
Целомудренность двадцатидвухлетнего парня могла показаться чрезмерной, но, в самом деле, это была не целомудренность, а уже почти болезненность. Это можно было понять, приняв во внимание нелегкую его судьбу.
- Пацаны, не на тех ставите! - с искренним волнением воскликнул Сергей, когда после работы двое его приятелей собрались в гости к Настеньке. Дело было в том, что Серега специализировался по работницам общественного питания. Мало того, что в столовой автокомбината у него была пассия, которая кормила его бесплатными обедами, у него была еще и большая любовь в кафе на Невском, куда он спешил после работы и где его ждал ужин, тоже халявный. Со своей комбинатовской приятельницей он не шел дальше флирта, ибо исповедовал мудрый завет "не люби, где живешь…". Но Шурочка была счастлива и его заигрываниями, его тайными щипками и похлопываниями, поэтому приносила за его стол борщ с котлетами, а расплачивался Серега только за компот. В отношениях с парнем, живущим в тесной комнате общежития, Шурочка, обитавшая в большой семье в коммуналке, не на что большее и не претендовала, покормить его, сироту, было для нее радостью. Серега повел однажды ее в кино, и даже там девушка порывалась заплатить за билеты, полагая, что такая трата не по карману ее подшефному, но Сергей со сдержанным негодованием отверг эту попытку и даже угощал свою кормилицу пирожными в буфете.
Что касается Любаши с Невского, то тут все было серьезней. После обильного ужина он ожидал, обычно, Любу в подсобном помещении столовой, и шел вместе с ней в ее маленькую комнатку на Петроградской стороне, где у доброй старушки-соседки дожидался прихода мамы пятилетний тоже Серега. Двое тезок отлично ладили между собой, и Сергей-большой был счастлив в комнатке у Любаши. И еще одно обстоятельство благоприятствовало отношением молодой женщины и веселого и непостоянного парня - Люба работала через день, что и определяло ненадоедливую частоту их встреч.
Так или иначе, но кот Пушок с большим неудовольствием отметил, что ему все чаще приходится проводить ночь вовсе уж одному в большой квартире на Васильевском. Олег и Февзи разумно решили, не раскрывать подружкам тайну своего проживания в отдельных апартаментах, благо, что и у Настеньки, и у Татьяны были свои маленькие комнатки в коммунальных квартирах в Коломне. Обе молодые женщины были ровесницами, когда-то ходили в один и тот же детский садик, потом в одну и ту же школу. В блокаду обе остались сиротами в свои неполные четырнадцать, потом работали на одном и том же заводе, вышли одновременно замуж, но одна за моряка, а другая за пьяницу. Родив по девчонке, подруги вскоре развелись со своими скоропалительными избранниками. Одна развелась, как можно догадаться, из-за пристрастия бездельника мужа к водке, другая - из-за того, что провинциал, прописавшийся в городе посредством женитьбы на бедной девушке, завел себе богатую кралю на стороне.
Февзи два-три раза в неделю, проехав на трамвае над широкой рекой по мосту Лейтенанта Шмидта, сходил у "Новой Голландии", острове в самом центре города, на котором располагалось секретное военно-морское учреждение, и дальше шел пешком вдоль канала, проходил Поцелуев мост, не менее известный в Питере, чем в Венеции мост Вздохов, потом сворачивал на улицу Декабристов, и мимо аптеки и фонарного столба шел до дома, где ждала его ласковая Танечка, отправляющая на лето дочку в деревню к родственникам, зимой же ребенок до прихода мамы с работы оставался дома под коллективным присмотром соседей.
А название свое «Поцелуев мост» получил, как это не огорчит тебя, мой читатель, не в честь лобзаний, а в честь некоего товарища по фамилии Поцелуев, с которым что-то здесь когда-то случилось.
Летом после третьего курса Февзи записался на практику на реставрационные работы в Литву. Он прибыл утренним поездом в столицу республики и добрался пешком до Вильнюсского Университета. Декану исторического факультета сразу понравился этот ленинградец, и он направил его в отряд, выполняющий работу на острове посреди озера - там находились средневековые сооружения, в том числе старинный замок. Город Вильнюс располагался неподалеку от этого озера, поэтому все члены экспедиции, проводящей раскопки и реставрационные работы, ночевали в городе, а рано утром на автобусе ехали на место, чтобы под вечер вернуться назад.
- К моему сожалению, - сказал заместитель декана практиканту из Ленинграда, - сейчас в город съехались студенты-заочники, и все университетские общежития заполнены до отказа. Вас я попробую поместить в общежитие Академии Наук, они нас иногда выручают.
Замдекана позвонил куда-то и на красивом литовском языке что-то говорил в трубку, часто повторяя "гярай, гярай". Окончив разговор, он достал из бювара листок бумаги и по-литовски что-то написал на нем.
- Сейчас зайдете в Президиум Академии, там предъявите это письмо в хозяйственный отдел, и вам дадут направление в общежитие. Это замечательное общежитие, в центре города, вам по статусу гостя из Ленинграда вполне положено там проживать, - улыбнулся симпатичный замдекана. - Секретарь мой объяснит вам все остальное.
Получив у трудно говорящей по-русски секретарши разъяснение о том, как пройти к зданию Президиума Академии, Февзи вышел во двор Университета. Он тогда еще не знал, что это один из древнейших Университетов Европы и самый древний на территории СССР. Он, хорошо знающий ленинградские дворцы, был, тем не менее, пленен старинной архитектурой зданий Университета. Дворики средневекового учебного заведения с колоритными переходами, с галереями, витражи арочных окон - все это завораживало его. Решив, что у него еще будет время для обследования интерьеров, он отправился за получением койки в общежитии.
Февзи ощущал себя прибывшим в заграничный город. Впервые он видел служебные бумаги, написанные на латинском алфавите. Все вокруг изъяснялись на непонятном ему языке, а по-русски говорили с приятным акцентом. То обстоятельство, что в его бытность в Узбекистане все вокруг тоже говорили не на русском, не было похоже на то, с чем он сейчас столкнулся, потому что язык узбекский был для него не вовсе чужим и непонятным. К тому же все то происходило в жалких сельских условиях, здесь же был прекрасный город, где все выглядели явными иностранцами.
Потом, не раз бывая в Литве, он понял, что ощущение заграницы здесь обусловливалось еще и тем, что сами литовцы считали себя иностранцами в СССР, справедливо полагая свою республику оккупированной соседней державой.
Итак, получив направление в академическое общежитие и пояснения, как до него дойти, Февзи шагал по центральной улице литовской столицы. Первое, что его поразило – непривычная для его взгляда чистота тротуаров и проезжей части. Было такое впечатление, что брусчатку и каменные плитки, по которым ездят машины и ходят пешеходы, здесь моют мылом. Небольшие и очень красиво оформленные витрины магазинов с надписями на латинице создавали у парня ощущение того, что он попал в какой-то кинофильм, потому что до той поры только в кинофильмах он видел нечто подобное. Маленькие уютные кафе, каких не встретишь в Ленинграде, вызывали у него восхищение. Людей на улице было не очень много, но одеты все они были хоть и не богато, но с какой-то киношной, опять же, элегантностью. К счастью, было лето, и легкие брюки ленинградского пошива вкупе с болгарской рубашкой позволяли Февзи не чувствовать себя белой вороной на этих чудесных улицах. А сандалеты на нем были так вообще эфергешные! - такие недавно появились в магазине на Невском.
Общежитие, куда пришел наш герой, оказалось снаружи сумрачным серым зданием старой постройки с серыми гранитными колоннами у входа. Когда он нашел коменданта и тот открыл ему дверь в отдельную комнату с широкой деревянной кроватью, шкафом и письменным столом, гость был приятно удивлен. Комендант пожелал ему приятного отдыха и ушел, не сделав никаких предупреждений о порядке проживания. Февзи, который был прошлой осенью на педагогической практике в Смоленске, был удовлетворен демократичностью здешних общежитий, а также их чистотой и просторностью.
Приняв с дороги душ, - душевая находилась в подвальном помещении, - Февзи перекусил остатками прихваченной из Ленинграда еды и отправился по уже знакомому маршруту назад в Университет, где в два пополудни должен был состояться сбор всей экспедиционной группы.
В самом отряде аспиранты и студенты приняли его холодно. Были с ним вежливы, и не более того. Февзи быстро почувствовал это и в свою очередь только выполнял поручаемую работу, не пытаясь сблизиться. Потом только из случайных обращенных к нему вопросов и реплик в разговоре он понял, что причиной холодного к нему отношения было то, что он занял в экспедиции чье-то место. Уяснив это, Февзи при удобном случае не преминул заметить, что находится он в Вильнюсе по программе обмена студентами между университетами, примолвив, что там, в Ленинграде, его место в отправляющейся в Херсонес экспедиции отдали кому-то из Прибалтики, - возможно и в самом деле так было.
- Но я не жалею, что попал в Литву, - великодушно добавил он.
Трагический жизненный опыт был причиной того, что Февзи замечал и откладывал в своем сознании социальные явления, которые его сверстники если и замечали, но не вникали глубоко в их содержание и тем более в их исторический подтекст. Наблюдая жизнь, точнее – внешние приметы жизни в Литве, Февзи испытывал зависть, вызывающую душевную боль. Он никогда не забывал о горе своего народа, каждый миг каждого дня помнил о нем, а ночами ему часто снился сарай посередине хлопкового поля, где один за другим умирали его родственники, его односельчане. Даже в заполненные ежедневными открытиями и просветлениями студенческие годы в Ленинграде, в этом прекрасном городе, все текущие события, радости, влюбленности являли собой тонкую, едва застывшую корку на расплавленной лаве, вытекшей из страшного разлома в истории его народа. Он по этой корке перемещался, выполняя какие-то дела, осуществляя жизненные функции, но никогда не прекращал ощущать гнетущий жар, идущий из-под подошвы ног, из-под почвы, тонкого слоя почвы, которая стала его судьбой и на которой он пытался возделывать свой если и не сад, то все таки какие-то посадки, позволяющие ему жить этой временной жизнью – своя жизнь, как завещал ему покойный Мурат-эмдже, могла реализоваться только на родной земле, где он обязан был продолжить свой род. И целью этой теперешней его временной жизни было не достижение прочного личного благополучия, а намерение окрепнуть, набраться сил, чтобы вернуться к своему племени, чтобы личными усилиями или в общей борьбе изменить то будущее, которое ему и его народу желали бы навязать враги.
Наблюдая с доброй завистью жизнь в Литве, он не знал о том, что в те еще годы, когда крымскотатарский народ жил на своей родной земле и славил Сталина и его свору, хладнокровные чекисты со стальными взглядами и с маузерами в руках рушили ворота хуторов, выламывали двери городских квартир и грузили «счастливых» литовцев, как и жителей Латвии и Эстонии, в такие же вагоны, в которых через несколько лет вывозили за Урал, в Сибирь, в Азию на запланированную гибель крымцев, калмыков, кавказцев.
О той горькой судьбе прибалтов не сообщали университетские учебники истории…
Через некоторое время отношения между Февзи и его товарищами по экспедиции наладились, но у молодого мужчины были уже в городе Вильнюсе другие интересы…
Однажды под вечер Февзи зашел на почту, чтобы отправить письмо в Питер. У окошечка стояла, повернувшись задом…, нет, - спиной, пышноволосая девушка… Да чего уж там! Надо признаться, что прежде пышных белокурых волос Февзи увидел прелестный задик - не большой и не малый, как раз в меру, изумительно округлый. Это прелестное образование имело естественное продолжение в виде длинных, немного полноватых ножек, видневшихся из-под пышной юбочки несколько более откровенно, чем предусмотрено модой, но виной тому было низкое расположения почтового окошечка, заставляющего владетельницу описываемых объектов принять не вполне, возможно, скромную позу.
Вопрос, с которым Февзи обратился к девушке был из числа самых банальных, но недовольная настороженность быстро покинула лицо обернувшейся девицы, когда она увидела перед собой высокого стройного молодого человека с правильными чертами смуглого лица, с горящими под густыми черными бровями карими глазами. Она с улыбкой ответила, и молодые люди вместе вышли из здания почтамта. Уже на улице Февзи представился девушке, которую звали Иреной, и которая говорила по-русски с милым акцентом.
Вечер они провели отлично. Ирена, студентка-заочница третьего курса экономического факультета, приехала на экзаменационную сессию из Паланги, где работала в бухгалтерии какого-то учреждения. Уютную столицу своей республики она знала вполне хорошо, и после прогулки по городу они зашли в недорогое молодежное кафе, где чудно провели время. Потом они сидели в сквере, окруженном старинными костелами, и целовались до умопомрачения. Февзи, наконец, сказал, что это невыносимо и предложил Ирене пойти к нему.
- Нет, я боюсь, я девушка, - просто ответила Ирена.
- Ну и что, - от неистовства гормонов Февзи был почти что груб. - Надо с этим состоянием заканчивать.
- Мужчинам легко об этом говорить, - засмеялась Ирена. - Если ты сам был бы девушка, ты по-другому все понимал. Ты был бы самая большая недотрога!
- Почему ты так обо мне думаешь, - возмутился Февзи, и процитировал:
- Ты б, наверно, умерла, Если б только знать могла, Что теряют недотроги!Последовала пауза, во время которой Ирена вникала в смысл русского текста, потом рассмеялась и проговорила, ласково проведя рукой по волосам возбужденного молодого человека:
- Хорошие русские стихи. Но не сегодня, милый. У нас впереди есть много дней…
Гормональное буйство не вполне оставило молодого мужчину, но напряжение слегка спало, и он проворчал:
- Не русские, а французские, - на что Ирена опять же с легким смехом ответила:
- Ну да, французы хорошо понимают это дело!
- Так почему ты себе не позволяешь то, в чем себя не обделяют француженки? - опять вспылил Февзи, а Ирена, приблизив к нему лицо, тихо произнесла:
- Я собираюсь быть твоей француженкой, только не сегодня, - и ласково поцеловала его около губ.
Нежность порой гасит пламя разбушевавшейся страсти.
Проводив не поддавшуюся уговорам девушку до университетского общежития, Февзи возвращался к себе пешком. Назавтра, точнее уже нынче днем, Ирена сдавала свой первый экзамен, очень для нее важный, и молодые люди договорились, что в три часа дня Февзи придет к ней на факультет, и после экзамена они придумают, как им отметить это событие, в успешном исходе которого девушка была почти уверена.
…Ирене не повезло. Как обычно большинство девушек она тщательно готовилась к экзамену, но в теме, которую она вызубрила даже, может быть, лучше, чем другие разделы учебника, оказалась некоторая ловушка, которую она не заметила. Должно быть, преподаватель на установочной лекции обратил внимание слушателей на эту тонкость и теперь был очень недоволен несерьезным отношением студентки к своему предмету, иначе как объяснить, что Ирине было сказано, что ранее, чем через месяц пересдача ей не разрешена:
- Вторично явитесь через месяц. Дни консультаций указаны в вывешенном в деканате расписании. Идите и готовьтесь! - такая строгая реакция преподавателя оправдана: растолковываешь на лекциях им, студентам, каждую мелочь, обращаешь их внимание на трудности и особенности, но все пролетает мимо их сознания!
Как раз в тот момент, когда появился Февзи, однокурсницы Ирены кратко рассказали ей о пропущенном ею финансово-юридическом хитросплетении и девушка, схватившись за голову, корила себя, что однажды, действительно, пропустила предэкзаменационную лекцию. Но делать нечего, надо было возвращаться в свой городок и ждать назначенного срока. Увидев Февзи, она почувствовала себя бесконечно несчастной. Подбежав к юноше, она быстро поцеловала его в щеку и, не утирая катящихся из глаз слез, произнесла:
- Я не могла сдавать экзамен, я сейчас должна уехать!
И уже убегая, крикнула:
- Не искай меня в общежитие, я туда не вернусь! Прости, милый! - это были последние слова Ирены, мгновенно скрывшейся в узких коридорах старинного здания. От неожиданности поначалу замешкавшийся Февзи бросился за ней, надеясь найти ее, бог знает за какой из темных дверей скрывшуюся.
Он пробежал по всему зданию, вышел на улицу, потом опять вернулся к дверям аудитории, где группа Ирены сдавала экзамен, рассчитывая разузнать у студенток, ставших свидетельницами драматической сцены, адрес Ирены в Паланге.
- Она дала вам свой адрес? - строго переспросила одна из литвинок. - Нет? Почему вы думаете, что кто-то из нас расскажет вам адрес этой девушки?
Грустный Февзи долго бродил по улочкам Вильнюса, но на этот раз его не прельщала экзотика древнего города. Он не знал, что Ирена выпросила у Девы Марии право отдаться ему, только если благополучно сдаст профильный экзамен - этим она желала наградить, наконец, себя за нелегкую заочную учебу. Девушка была религиозна, и полный провал на экзамене уберег ее девственность на этот раз. Поэтому-то она так молниеносно покинула своего недавнего избранника, что вопреки великому соблазну хотела соблюсти верность обещанию, данному ею Деве Марии. Она, действительно, в тот же час уехала к себе в Палангу, но и после того не раз порывалась вернуться в Вильнюс к своему возлюбленному, который, по ее убеждению, ждал ее в тоске и печали. Хорошо, однако, сделала, что не вернулась, скажу я вам.
Остаток дня Февзи провел в неизбывной тоске. Придя на давешнюю скамью под сенью великолепных лип, он глубоко переживал происшедшее. Если бы проходящие порой по аллее прелестные девушки, которых он в своей печали, конечно же, не замечал, могли бы услышать его тягостные вздохи, они сжалились бы над ним и попытались бы смягчить его страдания.
В мыслях несчастного парня воспоминания о сладких объятиях прошедшей ночи переплетались с воспоминаниями о ласках, даримых ему его Танечкой. "Как она там?" грустно подумал он.
Солнце уходило за высокие башни белокаменного костела, и молодой человек почувствовал голод. Он шел по уже хорошо знакомой и очень ему нравящейся главной улице города, решив поужинать в одном из дешевых кафе или столовых. Он еще прежде заприметил кафе с большими окнами-витринами, приглашающими отведать блюда литовской национальной кухни - под вывесками на литовском языке кое-где располагались надписи на общесоюзной кириллице. "Наверное, здесь высокие цены", подумал он, входя в заведение, ознакомившись же с меню убедился в обратном. Он выбил в кассе талоны и подошел с подносом к стойке, где выдавали блюда. Милая голубоглазая девушка, ласково улыбнувшись, взяла у него заказ и поставила на стойку тарелку с супом, в которой плавали два больших куска мяса, и тарелку с цеппелинами, гарнира на которой явно было больше, чем на тарелках других посетителей. Февзи с пониманием улыбнулся девушке и, взяв поднос, пошел за свободный столик. Он с удовольствием ел и, оглядываясь временами за стойку, посылал смотрящей на него девице улыбки. Ему припомнились наказы мудрого Сергея, призывавшего заводить себе подружек в системе общепита.
Покончив с едой, Февзи подошел к стойке, и так как посетителей рядом не было, сразу начал разговор.
- Меня зовут Февзи, я приехал из Ленинграда, - он несдержанно разглядывал ее. - Когда вы заканчиваете работу?
Девушку звали Викторией. И она велела этому дерзкому парню прийти через час, когда закончится ее работа.
Погуляв в парке у подножия холма, Февзи уже подходил к кафе, когда навстречу ему из дверей вышла Вика под руку с другой девушкой.
- Знакомься, это Милда, ей семнадцать лет, - отрекомендовала подругу Вика, и продолжила: - Милда - это имя литовской богини любви. Как у нас Венера, знаешь?
- Знаю, - ответил Февзи, несколько растерявшись от присутствия вовсе ненужной ему спутницы с многозначительным именем. Смуглая, с черной, спускающейся на глаза челкой, литовская Венера была очень стеснительной, и все время улыбалась, желая, по-видимому, скрыть робость.
- Куда мы пойдем? - спросила Вика.
- Пойдем ко мне, - вдруг решился Февзи, не имея желания метаться с двумя подружками по кафе и парковым скамейкам.
- Тогда, - ответила Вика, обменявшись взглядом с подружкой, - тогда подождите меня здесь.
Она вернулась в кафе и минут через десять, во время которых Февзи пытался разговорить совсем уж плохо знающую русский язык Милду, вернулась с бумажными пакетами.
- Здесь пирожки, салат и креветки, - сказала она, на что сообразительный Февзи сразу же откликнулся:
- А еще возьмем в магазине вина!
Консьержка в академической гостинице-общежитии только равнодушно взглянула на приведшего гостий молодого постояльца и ни слова не сказала, вопреки опасениям Февзи.
- О! - удовлетворенно воскликнула Вика, зайдя в комнату. - Тут очень хорошо!
И сразу же стала задергивать шторы на окнах, что очень понравилось Февзи, который подумал, не мало ли будет двух бутылок местного портвейна? Вика принялась хозяйствовать, раздавая команды Февзи и подруге. Из шкафа достали тарелки, вилки, стаканов оказалось как раз три.
Несколько беспокоило Февзи присутствие Милды. Если Вика останется с ним до утра, а, похоже, что дело к этому шло, то как отправить эту скромную девушку одну в ночь?
Тем временем стол был накрыт, и снедь на нем выглядела весьма аппетитной. Выпили сначала за знакомство, причем молчаливая Милда тоже выпила до дна, слегка поморщившись, однако.
Февзи прежде никогда не ел креветок, и Виктория со смехом кормила его очищенными рачками.
…Вика сама сказала, что уже поздно и пора в постель. Февзи поймал ее взгляд и кивнул в сторону Милды, собиравшей посуду со стола.
- Кровать большая, все поместимся, - засмеялась Вика и упала на постель.
Потом встала, подошла к несколько смущенному парню и назидательно произнесла:
- Но ты не ее, ты мой кавалер! - и опять рассмеялась.
Милда при этом смущенно улыбалась, и только.
…Была середина короткой летней ночи, но в комнату проникал свет от уличных фонарей и Февзи, снимая с себя остатки одежды, увидел, как голенькая Виктория юркнула по одеяло. Милда же, не раздевшись до конца, вытянулась, отвернувшись, у самого края широкой постели.
Ласкал Февзи свою подружку долго, ласкал руками, губами, всем телом. Вика не имела опыта любовных игр с мужчинами. Когда-то она была совращена своим одноклассником, да еще здесь в Вильнюсе, куда приехала для поступления в институт, изредка занималась сексом со студентом, снимавшим комнату у той же хозяйки, которая сдавала диван ей самой. Но сейчас студент уехал на летние каникулы, да и был он какой-то бледный и вялый. Темпераментная от природы девушка не знала достойного ее партнера и не получала никогда от секса должного упоения. Увидев нынче вечером пылкий взгляд нездешнего молодого мужчины, она вдруг поверила, что этот способен ей дать то, чего она жаждала. И вот он заласкал ее, и она с нетерпением ожидала апофеоза этой ласки…
Потрясение, впервые пережитое Викой, было несравнимо выше восторга, испытанного мужчиной. Она еще приходила в себя, когда Февзи приступил к очередному акту.
- А как же бедная Милда? - спрашивал Февзи, для которого присутствие другой девушки, теперь сидевшей на стуле и наблюдающей в скупом заоконном освещении за происходящим на кровати действом, было дополнительным возбуждающим фактором.
- Ее не надо трогать, она еще девушка, - говорила Виктория, придыхая в такт с сотрясающими ее ударами мужского тела. - Можешь потом поцеловать ее, но надо сохранить ее девственность.
Темпераментная Вика не оставляла пылкому молодому мужчине времени для целования Милды, которая к тому времени уже обнажилась и сидела на корточках на краю кровати, нервно проводя руками по своему телу и не отрывая взгляда от любовников. Так, будто бы и не было рядом наблюдателя их безумств, любовники не только проделывали все, чему они были к тому времени научены, но и проявили большую изобретательность. Февзи был в восторге от Викиной послушливости.
Милде временами становилось дурно, но с другой стороны ей было очень все интересно. Вот только бы …
…Вика проснулась от колыхания кровати. В окно уже светило летнее солнце, а рядом Февзи рьяно, будто и не было бессонной ночи, качал Милду. Вика поняла, что ни о каком сохранении девственности уже не может быть речи.
Каждый вечер оставшихся трех недель объятая лихорадочной страстью троица проводила одинаково. Только однажды они отправились вечером не в заветную комнату в гостинице-общежитии, а в недавно открывшийся большой ресторан, где танцевали до двух часов ночи без передыха, и впервые, вернувшись, завалились на широкую кровать и сразу же заснули, не имея сил на занятия любовью, - сказались, безусловно, и перегрузки предыдущих ночей.
Еще одна передышка имела место через несколько дней, когда у обеих подружек одновременно (надо же, какая незадача!) появились признаки того, что они не забеременели. Для Февзи эти три ночи, когда девушки оставались в своих собственных постелях, показались тремя месяцами. Правильно говорят англичане: чем больше занимаешься сексом, тем больше его хочется.
Наконец подошла к концу последняя неделя любви. Февзи получил документы об успешном прохождении практики и должен был возвращаться в Ленинград. Но не в силах расстаться с вильнюсскими подружками, он решил оставаться в академической гостинице до тех пор, пока его не попросят освободить комнату. Так он пробыл с Викой и Милдой еще одну неделю. Однако лето близилось к концу, и, так или иначе, надо было покидать гостеприимный город Вильнюс.
Расставание молодой мужчина переживал с большей печалью, чем девушки, но внешне он этого старался не показывать.
В поезде, спешившем доставить нашего героя в Ленинград, он, конечно, вспомнил и о белокурой красавице Ирене.
- Ах, Ирена! О, Ирена! - вздохнул он, но продолжения эта мысль не получила.
Кстати сказать, с той поры Февзи имел все основания считать себя большим специалистом по литовским национальным блюдам.
После четвертого курса Февзи попал на практику в археологическую экспедицию, ведущую работу в горячих степях Туркмении. Он пробыл на раскопках до ноября, и, вернувшись в Ленинград, взахлеб рассказывал другу о романтике пустыни Кара-Кум, где по песку ползают пауки-каракурты и змеи-гюрзы, о прекрасной москвичке из МГУ, к которой он обязательно должен съездить в зимние каникулы. И просаживал денежки на междугороднем телефоне под аркой Генерального штаба…
А что же Таня, его ленинградская возлюбленная? Если уж спрашивать о Тане, то надо поинтересоваться и насчет Насти.
Молодые женщины бросили своих парней. Не скажу, что коварно бросили, ибо я полностью солидарен в этом эпизоде с матерями-одиночками Татьяной и Настасьей. Да, Олег, и Февзи тяжело пережили разрыв, особенно Олег. Но их, теперь уж бывшие, подружки каждая в отдельности на последнем свидании разъяснили ребятам, что они познакомились с двумя не очень молодыми, но вполне надежными мужчинами, тоже ленинградцами, летчиками, ушедшими в гражданку по комиссии.
- Ребенку нужен отец, - одинаково говорили Танечка и Настенька покидаемым ими возлюбленным, - ты же навсегда останешься в моей памяти как самая большая любовь, но ведь я старше тебя, и ты вскоре оставишь меня ради какой-нибудь молодой дурочки. Милый, ты должен понять, что мне нужно устраивать свою жизнь…
Субботним вечером, когда впервые за несколько лет парням не к кому было пойти, сидели они грустные и молчаливые в вдруг показавшейся им большой и пустой квартире. Февзи потянулся к книжной полке. Вздохнув и не произнеся ни слова, его примеру последовал Олег. Обоим было невмоготу думать, что грядущие зимние месяцы им предстоит жить без своих ласковых подруг, без их скромных капризов, без их порой глупых суждений, без их беспечного смеха. И оба подумали о Сережке, который не пал бы духом, даже потеряв вдруг сразу всех своих подружек - он уже на следующий день не был бы одинок.
- Надо в Москву съездить, - промолвил Февзи, закрыв лежащую перед ним книгу.
Олег поднял на него глаза и с нескрываемым осуждением произнес:
- Итак, Татьяна уже забыта, - и вновь опустил глаза в книгу.
Февзи принял упрек, глубоко вздохнул, но все же счел нужным ответить:
- Да я вообще говорю. Ведь ты тоже не бывал в столице?
- Безусловно, как-нибудь надо съездить в столицу, - ответил Олег, а скучный вечер все длился и длился.
В Москву ни вместе, ни порознь они не поехали. Москвичка из МГУ во время одного из телефонных разговоров с наперсником жарких туркменских ночей попросила его больше ей не звонить.
- Потому что я на новогодние праздники выхожу замуж! - радостно сообщила она, и в ответ на последовавшее в трубке молчание совсем другим тоном осведомилась: - А ты не хочешь меня поздравить?
Конечно, Февзи поздравил свою летнюю подругу.
Со временем парни свыклись со своим одиночеством.
С первых же дней сентября начались напряженные дни для Февзи. Надо было подготовить отчет о летней практике, спецкурсы лучших профессоров Университета следовали один за другим. К тому же Февзи узнал, что из числа студентов-дневников Эрмитаж набирает стажеров для работы в летних экспедициях этого прославленного учреждения. Декан вечернего отделения осведомил Февзи, что если его отчет о работе в Туркмении понравится Ученому Совету факультета, то у него есть шанс попасть в команду стажеров, ибо Ученому Совету рекомендовано райкомом партии зачислить в экспедицию одного из представителей рабочей молодежи, то есть студента-вечерника.
Дипломнуюработу он тоже должен был написать по результатам туркменской экспедиции. Зима прошла в трудах.
Наступившей весной они гуляли втроем – меланхоличный Февзи и счастливая парочка Олег и Юля. Юля была студенткой третьего курса Технологического, с которой Олег познакомился еще зимой, и которой осмелился сказать о своей любви только недавно. Февзи всеми силами старался скрыть свою грусть. Причиной этой грусти было понимание того, что он должен покинуть Ленинград, расстаться с другом. Конечно, такой оборот событий следовал и из-за того, что Олег собирался на октябрьских праздниках жениться, и неделикатно было оставаться третьим в квартире молодоженов. Февзи сознавал, что скажи он об этом Олегу и Юле, они искренне обидятся, возмутятся, и, не дай бог, начнут искать какие-то варианты для жилья, чтобы не беспокоить своего друга. Но была и другая, не менее веская причина, по которой Февзи должен был уехать из Ленинграда. Он понимал, что задержись он в этом прекрасном городе еще на год-другой, он не сможет его вовсе покинуть. Много милых девушек обреталось вокруг парня, который скоро должен был защищать диплом и имел шансы поступить на работу в Эрмитаж. Естественным развитием личной жизни его стала бы женитьба на ленинградке, рождение ребенка, укоренение в этом городе. Но Февзи помнил о заветах, данных ему старым Муратом-эмдже: «Ты, Февзи, вырастешь, вернешься на землю предков, ты будешь главой новой поросли на родной почве... Ты, может быть, единственный молодой мужчина из нашего рода, кто понесет в будущие времена повествование о людях нашей деревни, наши обычаи и наши предания».
Глава 16
С весны пятьдесят седьмого Камилл ощутил повышенное внимание к себе со стороны госбезопасности, чего, собственно говоря, он давно ждал.
В те годы секретным постановлением властей в каждой студенческой группе должен был быть, по крайней мере, один завербованный человек, то есть доносчик. В камилловой группе таким был не лучший студент по имени Савва, который давно был вычислен своими однокурсниками. Под подозрением была еще одна девушка Элла, но существование этих агентов никак не расстраивало молодых людей. Напротив, они с удовольствием провоцировали своих сиксотов разными ужасными "антисоветскими" разговорами. При этом Элла страшно расстраивалась, менялась в лице, порой даже плакала, и однокашники не могли понять, то ли она расстраивается из-за издевок над ее идеалами, то ли сокрушается из-за того, что должна будет обо всем этом писать в отчете своему шефу из госбезопасности. Савва же похихикивал, но понимал, что если он с таким доносом придет к своему жандармскому боссу, то тот над ним просто посмеется.
И вот перед университетскими сиксотами появилась настоящая боевая задача. Камилл обратил внимание на то, что один из его знакомых, студент исторического факультета, в принадлежности которого к органам тоже не было сомнений, чаще стал вроде бы невзначай встречаться и заговаривать с ним во дворе университета или после лекций на улице. Правда, не совсем было ясно, какого действия с опаской ждут органы от студента Афуз-заде - то ли вербовки мирного населения в крымскотатарскую освободительную армию, то ли создания им атомной бомбы - ведь как никак студент физического факультета. А, может быть, только лишь собирают по крохам компрометирующий материал на мятежного студента? Конечно, это была наиболее вероятная версия, поэтому однажды, в ответ на провокационный разговор, заведенный Никитой с исторического, Камилл без обиняков заявил:
- Керя (в смысле приятель), - я же знаю, на какого дядю ты работаешь! Отвяжись со своими разговорами!
На что Никита отреагировал очень достойно:
- А ты молчи и мне не отвечай! - в смысле, что я, мол, обязан завести с тобой этот разговор, ты же не будь кретином, не поддавайся провокации.
После этого Камилл даже с какой-то симпатией стал относиться к этому Никите.
И настал день, когда Камилл был вызван в отдел кадров, где уже знакомый нам улыбчивый заведующий оставил его наедине с неким товарищем.
- Камилл, мы следим за вашими успехами в учебе, - начал этот товарищ, оказавшийся еще более улыбчивым, чем даже отсутствующий хозяин кабинета.
Камилл, который шел в отдел кадров еще в некотором сомнении относительно причины такого приглашения, теперь все уже понял.
- Кто это «вы»? – с вежливой улыбкой осведомился он.
- Мы помним, какие трудности вы преодолели при поступлении в университет, - продолжал улыбаться товарищ в штатском, обманутый вежливостью Камилла. – Я сотрудник госбезопасности, как вы, конечно, догадались.
И, казалось, что весь кабинет, от пола до потолка, заполнила светлая улыбка.
- И подумать не мог! – отозвался Камилл, соорудив сосредоточенное и суровое выражение на лице. - Почему я должен был догадаться?
- А разве вы не ожидали, что вы можете нас заинтересовать? - легкая тень легла на лик товарища из органов.
Камилл пожал плечами:
- Насколько я понимаю, вас интересуют вопросы безопасности государства. Если хотите прибегнуть к моей помощи в вооруженной борьбе с врагами советской власти, то я нынче в плохой физической форме. Да и войны вроде бы нет. Может быть, где-то в отдаленных районах Азии? Но по Конституции я могу быть призван, только при открытом объявлении войны. Так что вынужден отказаться.
Но чекист игнорировал замечания Камилла.
- Товарищ Афуз-заде, - светозарная улыбка на его лике сменилась улыбкой же, но уже грустной, даже прямо-таки печальной. - Нас огорчает ваша деятельность.
Офицер в штатском костюме сделал паузу, выжидая реакцию со стороны Камилла. А Камилл молчал и вопросительно смотрел на него. Пауза затягивалась, мизансцена срывалась, и гебешник совсем уж сурово, но все же еще не с угрозой, а скорее с давешней печалью, произнес:
- Значит, вы не хотите признаваться в своей антиобщественной деятельности?
Он не сказал «антисоветской деятельности», оставляя по всем правилам чекистской науки пространство для маневрирования. К столбику с биркой «антисоветская деятельность» он намеревался подвести Камилла попозже, когда тот будет достаточно напуган, чтобы уже испугать окончательно и начать вить из него веревки.
Камилл изобразил полное недоумение:
- Я если чем-то кроме прохождения учебы и занимаюсь, то только общественной деятельностью. Какая еще такая антиобщественная?
- А ваши поездки по совхозам, ваши выступления на собраниях крымских татар? – от былой благожелательности и вежливости в речи гебешника осталось только обращение на «вы». – Нам все известно, товарищ Афуз-заде!
- Что вам известно? Мои выступления на собраниях? Согласно уставу комсомола я проявляю общественную активность, пропагандирую материалы Двадцатого съезда! Да, я разъезжаю по районам, встречаюсь с советскими тружениками. И говорим мы именно о Крыме, а вы ожидали, что мы будем говорить о Коста-Рике?
Черт подери! Этот Афуз-заде ломает весь сценарий беседы! Вместо того чтобы все отрицать, оправдываться и быть прижатым к стенке шелестящим в кармане чекиста доносом, он признается в проведении незаконных собраний.
- Но вы организуете незаконные сборища! – нашелся гебешник.
- Почему «сборища» и почему это незаконные? Обижаете… Я проявляю инициативу, как велит устав комсомола. Я и мои друзья приглашаем людей на собрания и рассказываем им, как на Двадцатом съезде были осуждены массовые репрессии властей. Несем в массы политические знания, так сказать.
Не зная, за что ухватиться, не очень умный гебешник воскликнул, повторяясь, по сути дела:
- А кто уполномочил вас разговаривать с народом? И потом: вам, студентам, зачитывали доклад товарища Хрущева и предупредили, чтобы вы не разглашали приведенные в нем факты.
- А я при разговоре со слушателями ссылаюсь только на опубликованные в наших газетах сведения, - возразил Камилл, догадываясь, что в доносе, которым располагал чекист, вряд ли имеется столь уж детальное изложение его бесед.
Но чекист не унимался.
- По чьему велению вы занимаетесь недозволенной пропагандой? – в его голосе уже появились грозные тоны, предназначенные для внушения страха собеседнику.
- Какие-то неправильные определения вы используете! Почему недозволенной? Я по велению моей комсомольской совести пропагандирую и разъясняю материалы съезда партии! – с наигранным пафосом отвечал ничуть не напуганный Камилл и усмехнулся. – Вы видели сегодняшние номера центральных газет? На их первых полосах большими буквами напечатан призыв «Разъяснять в массах материалы Двадцатого съезда!». Вы что, против установок Партии и Правительства? Не ожидал!
Гебист игнорировал и это ехидное замечание и пытался играть свою игру.
- Но вы обвиняете советскую власть в таком страшном преступлении, как геноцид! - чекист демонстрировал глубокое волнение. Собственно говоря, он уже понял, что психическая атака на этого Афуз-заде не удалась, и теперь вынужден был сбавлять обороты.
- Мы, крымские татары, требуем прекратить геноцид, начатый в те времена, которые осудил в своем докладе товарищ Хрущев! - отвечал спокойно Камилл.
- Так, так! - желая закончить эту неудачно сложившуюся для него беседу и не потерять лица, чекист достал блокнот, некоторое время что-то в него писал, затем строго спросил:
- Так вы член комсомола? – будто бы не знал.
Камилл так ему и ответил:
- А то вы не знаете! – и растянул рот до ушей в фальшивой улыбке.
Чекист, вернувшись в родную контору, с горечью говорил:
- Да, правильно сказал наш генерал, что эти разоблачения Хрущева еще нам аукнутся!
Надо было выискивать соответствующие изменившемуся времени методы давления на этого Афуз-заде.
На соратников Камилла по Движению тоже обрушились проверки и моральные воздействия. Их поодиночке стали вызывать в отдел кадров, где некто пришлый вел с ними устрашающие разговоры. Ребят наших и наших девушек запугать, однако, было нельзя. Да, говорили они, мы ведем среди населения работу по пропаганде ленинских идей, как этого требует устав комсомола. И чекистам нечем, вроде, было крыть!
В стенах республиканского Чека в присутствии прибывшего из Москвы офицера рассматривались варианты. Было ясно, что если изолировать, то есть арестовать, пять-шесть главарей этой преступной организации, то она распадется. Но это создаст нежелательные среди студентов разных национальностей разговоры и сомнения. И, опять же, где гарантии, что другая такая же организация не возникнет на другой почве, удобренной и засеянной этим Афуз-заде с сотоварищами? И потом дело не в этом наглом студентике, на которого найдется управа другим путем. Дело в его отце, который популярен в народе, и эта его популярность возрастет, если его сын будет арестован.
Но и оставлять такие дела без наказания тоже нельзя.
- Значит так, - московский гость был категоричен. - Под любым предлогом выгнать этого Камилла из университета, с другими продолжить разъяснительную работу. После жестких мер, предпринятых против их идеолога, они будут послушней!
Уж эти московские чекисты! Не голова у них, а Госплан!
В конце июля Камилл поехал в Москву, где должен был состояться Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этой поездке Камилла были осведомлены только несколько человек, с самого начала входивших в ядро Движения, даже члены штаба, кооптированные позднее, не знали об этой акции. У Камилла было, где в столице остановиться, имелась у него и возможность добыть адреса некоторых известных людей. Но главная цель этой поездки заключалась в распространении прокламаций среди приехавших из разных стран молодых людей - двадцать девушек-активисток от руки размножали письма-прокламации, которые вез Камилл на дне своего чемодана.
Никогда - ни прежде, ни позже! - столица Советского Союза не знала такой открытости, такой свободы общения, как в лето пятьдесят седьмого года во время молодежного фестиваля! Впоследствии Камилл узнал от своих московских друзей, бывших в том году, как и он, студентами, что партийные органы и госбезопасность провели огромную подготовительную работу, мобилизовав чуть ли не всех московских студентов выполнять работу соглядатаев-доносчиков. Каждый мобилизованный должен был в конце дня писать подробнейший отчет о том, кто из знакомых или незнакомых им лиц когда и с кем встречался, о чем разговаривал, что показывал.
Но где он, конец дня во всеобщем веселье молодых людей со всей планеты? Только очень немногие из привлеченных к этой мерзкой акции писали такие отчеты, большинство же, послав к черту всех этих дяденек из органов, просто веселилось.
Веселился и Камилл. Завязал несколько хороших знакомств с иностранцами, увел от одного самоуверенного венесуэльца его подружку-француженку, раздал не менее сотни своих прокламаций, бдительно следя, чтобы не нарваться на засаду из секретных сотрудников. Все обошлось, удалось не засветиться, и в досье студента Афуз-заде новой страницы не появилось.
Камилл вернулся в Ташкент в тот самый день, когда он должен был идти на экзамен по военной подготовке. Назавтра экзамен сдавала вторая половина его группы, и усталый с дороги парень решил не бежать прямо с поезда на военную кафедру, а присоединиться к завтрашней подгруппе.
Не тут-то было.
Отныне кто-то был поставлен следить за любой самой малой промашкой студента Афуз-заде. Когда один из проводивших экзамены офицеров уже занес Камилла в список студентов, должных отчитываться в знаниях, вдруг некто куда-то вызвал по телефону ответственного за проведение экзаменов полковника. В результате вернувшийся полковник студента Афуз-заде вычеркнул из списка, и вслед за этим студент этот был вызван в кабинет заведующего военной кафедрой. Несколько обескураженный Камилл предстал пред очи генерала, который сообщил ему, что из-за неявки студента Афуз-заде на экзамен вчера в понедельник, он отчислен сегодня, во вторник, из Университета приказом ректора. Камилл не понял, попытался задать несколько вопросов, но маразматик генерал грубо приказал ему покинуть кабинет. Полковник, ответственный за экзамены тоже казался обескураженным, но ничего объяснить Камиллу не мог.
Камилл отправился в ректорат, где секретарша сказала ему, что ректора уже несколько дней нет в университете. На следующий день Камилл опять был в ректорате и вновь не застав ректора пошел в свой деканат. Там замдекана его не понял и озабочено всмотревшись в лицо своего студента, велел идти домой и проспаться. Камилл пошел на военную кафедру, но и там ему в отсутствии генерала никто ничего не мог пояснить. Только на следующий день в ректорате секретарша вручила ему приказ о его отчислении за подписью одного из проректоров.
- Ничего не понимаю! - воскликнул замдекана, когда Камилл пришел к нему с этим листком. - Ты, Камилл, сейчас успокойся. Я все выясню. Так не бывает. Здесь, безусловно, какая-то ошибка. Вот приедет сам Таш…
Заместитель декана был по сути дела самым главным лицом на факультете, потому что деканом была некая женщина, занимавшая один из самых высоких постов в СССР - пост председателя Совета национальностей, одной из палат советского парламента. По этой причине ее должность на факультете была номинальной, появлялась она тут не чаще одного раза в месяц. И поэтому Арам Дмитриевич, работавший заместителем еще прежнего декана, вершил все дела на нелегком факультете. Арама студенты любили за внимание к их нуждам, за готовность всегда выслушать, помочь, похлопотать. К Камиллу Арам Дмитриевич относился особенно дружелюбно, памятуя, возможно, о его политических трудностях при поступлении в Университет – в хлебном городе Ташкенте было много не относившихся восторженно к советской власти людей.
Под кратким именем «Таш» подразумевался ректор, известный математик, ученик питерской школы, почти все представители коей были в начале двадцатых годов отправлены в Ташкент, где и воспитали немало ученых с гражданским образом мышления. Таким образом, Таш, а точнее Ташмухаммед Алиевич, был не только выдающимся математиком, но и благородным человеком, счастливым образом не подпавшим под кампанию уничтожения национальной интеллигенции в тридцатых годах – по-видимому, из-за своего тогдашнего относительно молодого возраста. Арам Дмитриевич догадался, что в ситуации с Камиллом задействовано ЧеКа, и он надеялся, что авторитетный Таш сможет разрешить ситуацию в пользу его студента.
Спустя несколько дней состоялся такой разговор между ректором и замдекана:
- За ним нет никакого преступления, - ответил уже кое-куда позвонивший ректор на заданный ему вопрос. – Просто он вел себя неосторожно.
Видно и ректору Университета там не вполне доверяли, если не сообщили о руководимой Камиллом организации.
- Но что я скажу студентам? – воскликнул замдекана. – Он же известный на факультете человек, у него все в друзьях, а младшекурсники в нем души не чают!
- И, наверное, младшекурсницы? – улыбнулся Таш.
- Те то уж вовсе от него без ума! – мужчины засмеялись.
Потом Ташмухаммед Алиевич посерьезнел и сказал:
- Если он, действительно, имеет активную жизненную позицию, то пусть развернет ее. А уж на волне студенческих возмущений мы постараемся его восстановить. Пусть плод созреет.
Когда Камилл в очередной раз пришел в деканат, Арам Дмитриевич сказал, что к ректору ему сейчас идти не следует, что тот в курсе произошедшего, что приказ об отчислении подписал один из проректоров.
- Ты сейчас напиши в Министерство высшего образования, пусть там разберутся, - посоветовал замдекана своему студенту. – Ташмухаммед Алиевич подключится, когда придет ответ из министерства.
Камилл написал жалобу в республиканское министерство и копию послал в министерство союзное.
Первого сентября Камилл как обычно явился на занятия и никому ничего не сказал. Информацию о своем статусе он начал внедрять постепенно. Сперва поведал своим ближайшим друзьям из группы о том, что он теперь вроде бы как вольнослушатель. Те не поверили.
- С чего бы это? - был вопрос.
- Из-за того, что пришел на экзамен не в свой день, - был ответ.
- Чушь! – на этом разговор заканчивался.
Потом Камилл дал утечку информации в сферу узбекских групп, где у него были друзья может быть даже более преданные, чем в своей – его уважали за то, что единственный из учащихся не-узбеков он превосходно знал язык страны, в которой жил, и часто, особенно на младших курсах, выступал посредником в возникавших между двумя потоками конфликтах. (Даю пояснение: на всех факультетах университета были параллельные группы с обучением на русском и на узбекском языках). Вскоре известие о том, что Камилл по пустяковой причине исключен из университета, стало всеобщим достоянием. Недруги – без них не бывает! – криво улыбались и говорили, что это фальшивка, запущенная самим Камиллом в целях привлечения внимания к своей персоне. Позиция сомневающихся была подкреплена, когда во время выдачи сентябрьской стипендии оказалось, что в списке ее получающих присутствует и Камилл. Тот и сам был сильно этим удивлен, но решил получить денежки и ничего не выяснять. И продолжал ходить на все занятия, загадочный и немногословный, в некоем романтическом ореоле.
Но вот подошла хлопкоуборочная пора. Каждый год в середине сентября студенты всех учебных заведений всех городов солнечного Узбекистана отправлялись «добровольно-принудительно» на полтора-два месяца в колхозы и совхозы, где с утра и до вечера продвигаясь по междурядьям собирали пушистые белые комочки в привязанные к пояснице фартуки. Хлопок из наполненного фартука ссыпался в грядку, и сборщик шел дальше, чтобы после образования нескольких горок ссыпанного хлопка плотно забить его в тот же фартук и отправиться с ним к весам. За день каждый сборщик должен был сдать норму в восемьдесят килограмм – это было, вообще говоря, нелегкое дело! Такое «добровольно-принудительное» участие в сборе «белого золота» было чрезвычайно противно всем студентам, и каждый с приближением страды искал возможности сачкануть, что редко кому удавалось совершить легитимным образом. Отклонение же от участия в патриотической кампании уборки хлопка без уважительных причин, подтвержденных документально, каралось отчислением из числа студентов.
Камилл резонно решил, что уж коли он отчислен из университета, то какого черта ему ехать на хлопок? Однако то обстоятельство, что ему была выдана стипендия, все же понуждало его внести определенную ясность в свой статус. Когда он обратился с вопросом к Араму Дмитриевичу, следует ли ему ехать на хлопок, тот, глядя в сторону, спросил:
- А приказ о вашем восстановлении уже есть?
- Нет, - ответил Камилл.
Замдекана недоуменно пожал плечами и, ни слова не сказав, удалился, мельком одарив студента саркастической улыбкой.
Конечно, Камилл почувствовал себя совершенным болваном. «Гигант! – думал он об Араме. - А я - полный слабак, слюнтяй!». Действительно, получить в кои годы возможность провести осень в цивилизованных городских условиях и комплексовать по этому поводу? Абсолютный идиотизм!
Как я уже упоминал, возможность избежать поездки на хлопок являлась одним из самых ярких несбыточных мечтаний студентов солнечного города Ташкента. Шансов достигнуть этой нирваны не было у девяноста девяти студентов из ста, но из-за этого мечта не теряла своей привлекательности. Правда, первые дни пребывания на хлопковых плантациях радовали студентов свежестью ощущений, возможностью общаться между собой в условиях полной свободы, пребыванием на природе, а не в четырех стенах аудиторий и квартир. Но подневольный труд, к тому же очень скудно оплачиваемый, сказывался на настроении, и уже через две-три недели каждый мечтал вернуться в город, к родителям, в университетские аудитории. Даже обитатели студенческих общежитий жаждали вернуться в свои не очень уютные, но все же в какой-то степени цивильные условия бытия, покинув эти хибары, сараи, пустые школьные классы, где приходилось спать на брошенных на пол ватных матрацах, где надо было по команде всем вставать в несусветную рань, умываться в арыках, пить плохо заваренный в титанах чай из алюминиевых кружек, брести полусонными на плантацию и целый день с согбенной спиной изымать пятиграммовые дольки из жестких коричневых коробочек, пока не накопится восемь десятков килограммов этого стратегического сырья, совершенно необходимого для Державы, мечтающей о мировом господстве.
Камилл с пользой для своего интеллекта провел неделю свободы. Он в городской библиотеке копался в старых газетах и книгах, выискивая интересующие его политические тексты разных лет, слушал дома музыку, читал любимые книги – заниматься всем этим, не ощущая висящего над головой меча в виде обязательных университетских занятий, было упоительно. Потом прогулки по опустевшему городу, где прохожие, казалось, бросали на него подозрительные взгляды – как это, мол, молодой и здоровый, а не на хлопке, свободно гуляет? – стали для него невыносимыми. И сколько можно возлегать на диване, закинув ноги на журнальный столик? Он все чаще думал о том, что вот сейчас его товарищи стоят на грядках, вокруг зеленый океан хлопковых кустов, они перекликаются, смеются, девушки поют разные грустные песни, ребята помогают им таскать мешки к весам и следят, чтобы ловкий весовщик не надул при взвешивании.
Вспомнил Камилл, как они сами надували весовщиков, надували по крупному, бессовестные. А делали они это так. Вечером прибывал большой грузовик, который студенты загружали мешками-канарами, каждый из которых весил около восьмидесяти килограмм. Эта работа грузчиков оплачивалась колхозом в несколько дневных норм на всех, и на эту работу сами студенты снаряжали наиболее доверенных, «своих парней». Затем машина ехала на приемный пункт, где одни сбрасывали мешки с машины к весам, пара других ставила мешки на платформу весов, а другие двое отволакивали мешки в сторону и бросали один из мешков в колхозную кучу, второй же ловко подсовывали для повторного взвешивания. У своего же студенческого бригадира, который стоял возле весовщика-учетчика и дублировал его записи в своей тетрадке, порой глаза лезли на лоб от наглости его товарищей, стараниями которых количество собранного группой хлопка чуть ли не удваивалось. По дороге домой бригадир выказывал свое недовольство действиями слишком уж обнаглевших своих сокурсников:
- Ну, слямзьте два, ну три канара, и этого будет достаточно, – говорил он.
Но когда в свете керосиновой лампы бригадир, окруженный грузчиками, подчитывал дневной сбор, то оказывалось, что полную норму сбора можно записать и на больных, и на тех девочек, которые больше тридцати килограмм собирать не в состоянии, и еще остается на «своих парней» записать столько килограмм, что при расчете в конце пятидневки набежит сумма достаточная для того, чтобы иметь возможность не ожидая посылок из дому сладко есть и горько пить. И еще это «мероприятие» позволяло студенческому бригадиру тайно отпускать домой на несколько дней какую-нибудь студентку или даже студента. В этой жизни надо уметь вертеться, да простит меня Бог!
Камилл не выдержал, наконец, городского одиночества, и, прихватив несколько бутылок «московской особой» с сопутствующими товарами, поехал на автобусе в Буку, райцентр, вблизи которого в тот год «батрачили» его однокурсники.
Явился он в здание совхозной школы, где поселили его группу, подгадав как раз к тому уже сумеречному часу, когда усталые студенты вернулись с хлопковой плантации и смыв с себя дорожную пыль отдыхали на уложенных прямо на пол матрасах.
Приход товарища с большим заплечным мешком был встречен с огромной радостью, все вскочили на ноги, теребя Камилла и пытаясь пощупать его поклажу.
- Я знал, что Камилл не вытерпит и приедет с поллитрами! – не удержался и высказал общее чаяние Яшка, вообще-то не пьющий, но во время хлопковой экспедиции не уступающий в этом деле никому. И заглянул в глаза новоприбывшего: - Да, Камилл?
- Ну а как же? – Камилл скинул с плеч рюкзак, но не торопился его опорожнять.
- Покажи! – Илья, один из самых авторитетных членов студенческой группы, к тому же избранный в этот сезон бригадиром, потребовал предъявить ожидаемые полулитровки.
Присев на корточки Камилл отстегнул клапан рюкзака, развязал стягивающий шнур и, опустив руки в таинственные недра, окинул взглядом замерших товарищей.
- Во! - в его высоко поднятых руках призывно отсвечивали светло-зелеными бликами две бутылки.
Конечно, послышались возгласы одобрения, но это были какие-то неяркие возгласы, полные невысказанного вопроса - неужели только две?
Камилл, все понимающий, неспешно поставил бутылки на пол рядом с рюкзаком и сделал движение, якобы затягивая шнур широкой пасти рюкзака, и вдруг быстро достал из этой пасти еще две такие же:
- Во!
На этот раз возгласы одобрения были более искренними, но руки Камилла вновь скользнули в рюкзак:
- Во! - еще пара «московской особой» заставила друзей уже непритворно возликовать.
Только сосредоточенный Витька, поправляя очки, пытался заглянуть издали в рюкзак.
- А закусон привез? – не выдержал он. - Здесь в лавке только килька в томате.
- А как же! – Камилл тем же жестом престидижитатора достал из своего вместительного альпинистского рюкзака большой батон полукопченой колбасы, затем уже без уловок достал завернутые в целлофан несколько крупных селедок – и все это под несмолкающие славословия в свой адрес:
- Молодец! Гигант! Вот это чувак! Ура!
Друзья подбегали к нему и лупили его по спине, трепали за волосы, а непьющий вообще-то Яшка-гимнаст сотворил на радостях фляк с полуоборотом.
Но когда из недр вместительного альпинистского рюкзака появилась трехлитровый баллон с маринованными огурцами, восторженные крики переросли в рев десяти здоровых глоток, заставивший проходящих мимо младшекурсников заглянуть в открытые окна класса.
- Качать его! – раздался чей-то голос, и однокурсники, схватив не посмевшего сопротивляться Камилла за руки и ноги, стали его высоко подбрасывать.
- Эй, эй! Уроните! - кричал довольный Камилл, но, тем не менее, при каждом броске с опаской присматривался к приближающемуся потолку. Однако его товарищи, ребята не хилые, не уронили.
В тот вечер о делах не говорили, отдыхали. На следующий день разговор начал Илья, когда бригада после обеда отдыхала на хирмане - полевом стане.
- Так, значит, тебя восстановили? - спросил он Камилла.
- Не-а, - Камилл беспечно ковырял спичкой в зубах.
- А что же ты приехал на хлопок? - съехидничал Савва, который вместе с другим студентом, абсолютно не пьющим, жил отдельно от основной бесшабашной компании.
- Да заскучал один в городе, - все так же спокойно отвечал Камилл.
- Ты что-нибудь предпринимаешь или так вот и ходишь, ожидая у моря погоды? – возмутился Илья.
- А как же! Написал жалобу в Министерство высшего образования, - Камилл, отряхиваясь, поднялся с хлопковой кучи. - В ЦК компартии собираюсь написать.
- Не любите коммунистов, а чуть что, так обращаетесь за помощью ЦК, - с кривой улыбкой заметила Люся, всегда недовольная антисоветскими разговорами своих однокурсников.
- Да уж! - солидаризировалась с ней Элла, которую подозревали в наушничестве.
- А куда нам, обиженным советской властью обращаться? - ответил Камилл. – Может быть, в Организацию Объединенных Наций?
- Лучше в ЮНЕСКО, - пробасил всегда сосредоточенный Абрам, студент из параллельной группы математиков, бригада которых располагалась тут же.
Камилл засмеялся:
- Вот именно! Я бы и в ООН, и в ЮНЕСКО написал, так ведь письма не дойдут. А меня еще обвинят в попытках связи с заграницей.
- Недовольны советской властью, ругаете ее, а чуть что, так к ней же и бежите за помощью! - не унималась Люся, происходящая из семьи предков, вырвавшихся в начале века из еврейского местечка и возлюбивших советскую власть больше, чем своих родственников.
Люська, дура! - взорвался Ахмед. - Когда тебе стипендию деканат не дал, ты куда обратилась? В тот же деканат!
Это напоминание, кажется, подействовало, и Люська больше не выступала.
Савва, штатный доносчик, молча сидел тут же и старался подробнее запомнить весь разговор. Камилл же специально подогревал своих друзей к возмущению, чтобы Савва довел это возмущение до своих хозяев.
После работы в этот день ребята пошли в гости к своим однокурсницам, жившим в другом крыле той же школы. Камилл не забыл о девочках и привез гостинцы и им - конфет и сладкого вина.
Камилл пробыл в совхозе всего неделю, потом вернулся в город дожидаться окончания хлопковой компании. Только к осенним праздникам, а именно – 5 ноября, ташкентских студентов отпустили по домам. Сразу после праздников началась напряженная учебная страда – надо было наверстывать потерянные полтора месяца. Камилл посещал, как обычно, лекции и семинары, получил и стипендию за два хлопковых месяцев. И настал день, когда его пригласили в ректорат.
- Вот приказ о вашем восстановлении, - секретарша ректора протянула ему отпечатанный на машинке листок. – Нет, к Ташмухаммеду Алиевичу вам заходить не надо. Конечно, вашу благодарность я ему передам.
Сразу же Камилл пошел в деканат к Араму.
- Ну вот, все хорошо! – и Арам Дмитриевич потрепал студента по плечу.
Когда Камилл выходил из кабинета замдекана окликнул его:
- Камилл, вы будьте поосторожней. Понимаете?
Камилл, глядя в глаза замдекана, молча кивнул головой. В общем, они друг друга поняли.
Органы были недовольны восстановлением этого Афуз-заде в правах студента, но ничего поделать не могли. К ним уже поступили новые материалы на этого потомственного антисоветчика: о его вредных разговорах докладывал Савва, информация поступала и от других источников. Они еще предпримут соответствующие меры, в том числе и попытку провести спецоперацию, но у Всевышнего были, по-видимому, другие планы в отношении Камилла, который с Его помощью удачно избежал всех приготовленных ему ловушек.
Глава 17
Будучи уже в статусе стажера научно-исследовательского сектора Государственного Эрмитажа, Февзи закончил работу над дипломом. Защита прошла великолепно, и у молодого человека были все шансы оказаться штатным работником одной из археологических экспедиций. Через несколько дней отдел кадров затребовал у него соответствующие документы, после чего он был уведомлен, что вопрос о его трудоустройстве решен положительно. Оставалось определить, в каком подразделении работать молодому специалисту, вышедшему из рабочей молодежи.
В понедельник Февзи явился, как было предписано, в Управление экспедиций и не мог нарадоваться выпавшей удаче: его зачислили лаборантом в отряд, работающий ныне на раскопках мечети хана Узбека в Старом Крыму!
Февзи до того так ни разу и не был в Крыму. Причиной тому было не столько отсутствие необходимых средств - эту трудность он мог преодолеть, - сколько страх перед могущими возникнуть при посещении поруганной Родины эмоциями. Он понимал, что в такую поездку надо бы отправляться не одному, а с кем-то из своих земляков. Даже друга своего Олега он не мыслил в качестве подходящего для такой поездки товарища. Он очень хотел бы до поездки в Крым побывать в Узбекистане, среди татар, которых он так внезапно покинул - тому уже десять с лишним лет. Года три назад он написал письмо Мафузе-абла и получил от нее ответ на ломанном русском языке, но не настолько плохом, чтобы нельзя было понять какую радость испытала бедная женщина, узнав, что ее названный племянник жив-здоров и на воле! Потом, вскоре, когда режим спецпоселения был отменен и опасность для Февзи, как преступившего этот режим, миновала, ему написали и другие знакомые по Чирчику, так что связь со своими он поддерживал.
Теперь ему выпала удача работать до осени на Родине! Февзи в середине мая покинул Ленинград, уверенный, что к началу ноября вернется как раз к свадьбе друга, тогда уж найдет себе какое-нибудь жилье и будет ждать очередного летнего сезона.
Поезд домчал его за полторы суток до Феодосии. Там его и привезенные им посылки для экспедиционных работников ждал старомодный носатый автобус. Но Февзи, впервые за четверть века увидевший свое родное море, попросил приехавшего встречать его сотрудника повременить с отъездом.
- Я хочу побродить по берегу, - попросту сказал Февзи.
Сотрудник был рад:
- А я пойду в музей Айвазовского, давно собирался! – воскликнул он.
Только шофер автобуса был недоволен, но и он нехотя потащился в галерею знаменитого мариниста.
Железнодорожный вокзал в Феодосии располагался прямо перед пляжем, который в это время года еще пустовал. Спустившись вниз, Февзи шел по самой кромке берега, порой отбегая от накатывающей на берег волны. На молу загорали местные пацаны, которые только и осмеливались, привычные, окунаться в холодные еще воды. А на пляжной гальке можно было увидеть еще двух мужчин, которые время от времени входили в море, мощными рывками мускулистых рук рассекая волны, громко фыркая при этом. Февзи почему-то решил, что это моряки из Мурманска, для которых даже нынешнее пятнадцатиградусное Черное море кажется вполне теплым. Сам Февзи, ставший жителем берегов Балтики, не осмелился бы окунуться в эти привлекающие взгляд прозрачной синевой волны, хотя тоже не был избалован холодными водами Финского залива.
Он поднялся на набережную, отделенную от пляжа старыми, осыпающимися бетонными плитами, прошел до густолистой акации и уселся в ее тени на камень, спустив ноги вниз. От моря незнакомо пахло – то был запах черноморских водорослей, смешанный с солеными испарениями самой воды. Рядом пропылил грузовичок, обдав духом бензина, вслед за ним протарахтел горбатый «москвич», подняв тучу пыли. Февзи чертыхнулся и решил, что знакомство с морским простором надо отложить до других времен и на другом берегу. Он подошел к воде, подставил руки под набегающую пену прибоя и, не сумев уберечься от замочившей обувь волны, засмеялся и тоже отправился в музей Айвазовского.
Потом служебный автобус доставил его прямиком в древнюю столицу ханов Солхат, именуемый ныне Старым Крымом.
Надо признать, что Февзи выехал из Ленинграда на место работы в старокрымскую экспедицию совершенно не подготовленный - не оставалось времени. Вообще-то статус лаборанта, который был предоставлен ему, не предполагал в обязательном порядке знания исторических характеристик места проведения раскопок. Но, конечно, молодой специалист с университетским образованием не мог долго удовольствоваться уровнем компетентности лаборанта. В багаже экспедиции были некоторые материалы по древнему Солхату, но было их очень немного.
Все работники экспедиции занимались в той или иной мере "черной" работой, состоящей в рытье шурфов, в расчистке участков от бытового мусора недавних лет, однако в большей степени этой неинтересной, но необходимой работой были заняты наряду с рабочими, нанимаемыми из местных жителей, лаборанты. В то лето в Крым пришла ужасная жара. В непосредственной близости от городка водоемов для купания не было, поэтому под вечер работники экспедиции удовольствовались только обливанием друг друга водой из артезианской скважины.
Проживали члены экспедиции в двух больших палатках, хотя несколько человек, уже не впервые приезжающие в Старый Крым, предпочли устроиться в домах местных жителей, с которыми успели познакомиться в прежние годы.
После ужина Февзи доставал из ящика в углу палатки копии отчетов о проделанных ранее скудных исследованиях, старался понять из тех немногих брошюр, которые тут были, прошлое этого захолустного даже по масштабам Полуострова городка. Он сожалел, что не получив заранее уведомления о том, куда он будет направлен работать, не успел хоть что-то почитать о Старом Крыме, хотя бы поверхностно ознакомиться с историей мечети хана Узбека, на руинах которых проводилась работа их экспедиции.
- Что интересного можно обнаружить в этом историческом захолустье! - воскликнул он однажды в присутствии молодого, но уже обладающего опытом полевых работ, научного сотрудника Володи. - Я понимаю, если бы мы проводили бы раскопки в Бахчисарае!
Володя посмотрел на Февзи сверху вниз, потому что был на полголовы выше своего собеседника, который тоже не страдал от малого роста, затем, осознав, что новичок командирован под его руководство совсем недавно и, пожалуй, не успел ничего узнать об объекте работы, спокойно возразил:
- Бахчисарай по сравнению со Старым Крымом как Петербург в сравнении с Москвой. Как ты думаешь, где для археологов интересней работать, на островах невской дельты, или в Китай-городе в Москве?
- Ну, конечно, в Москве! - ответ даже для человека, не окончившего исторический факультет, был очевиден.
- Так вот, Старый Крым - это древний Солхат…
- Ну, знаю, конечно! - Февзи уже понял, что опростоволосился своим неуместным замечанием.
- Знаешь, да только очень мало! - трудолюбие и тщательность, которые успел продемонстрировать этот бывший студент-вечерник, уже были замечены многими в экспедиции, поэтому Володя и не чертыхнулся в ответ на услышанную от Февзи глупость, а решил, насколько это возможно в полевых условиях, ознакомить его с историческими реалиями.
- Вот у меня выписка из Истории Государства Российского Карамзина, - Володя однажды достал из коробки, засунутой под его раскладушку, тетрадь в затрепанной обложке. - Вот том…, глава третья. Слушай: "Город столь великий и пространный, что всадник едва может на хорошем коне объехать его в половину дня. Главная тамошняя мечеть, украшенная мрамором и порфиром, и другие народные здания, особенно училища, заслуживают удивления путешественника". Это, Февзи, написано о Старом Крыме в начале девятнадцатого века. Древняя мечеть, на территории которой мы сейчас находимся, была не самым богатым строением древнего города. Дело в том, что от караван-сараев, от медресе, от дворцов ничего на поверхности земли не осталось. Также нет никаких следов от упоминаемой Карамзиным Главной мечети, украшенной мрамором и порфиром. Ничего не осталось, увы…
- Почему? - Февзи нынче явно был не в самом лучшем состоянии своего интеллекта.
- Все когда-нибудь подвергается разрушению, - рассмеялся Володя.
Февзи задумался, потом перевел свой дилетантский вопрос в другую плоскость:
- Но мраморные стены сохранились даже со времен древних Афин!
Тут младший научный сотрудник посерьезнел:
- Есть самые разные толки на этот счет. Некоторые из приводимых историками сведений сейчас запрещено упоминать.
Он подумал, что так или иначе надо будет обсудить все эти вопросы со своим новым коллегой, но сейчас было не самое подходящее для этого время и место.
- Давай оставим обсуждение такого рода вопросов на другое время. Вот вернемся осенью домой. Ты ведь зачислен в мою группу? Вот и займешься в Ленинграде историей Солхата - Старого Крыма.
- Эски Кырыма, - со значением произнес Февзи.
- Да, так этот город называется по-татарски, это ты уже знаешь, хвалю. В Публичной библиотеке есть книги о Старом Крыме в открытом доступе. Ознакомишься с литературой по программе, которую я для тебя составлю, сделаешь доклад на семинаре. После этого нам будет с тобой легче вести беседу.
Февзи задумался, следует ли сказать сейчас своему руководителю, что его новый сотрудник - крымский абориген? Подумал, и решил повременить, полагая, что эта информация в какой-то степени ограничит свободу высказываний его шефа.
- Но если у тебя будут здесь возникать вопросы, то ты спрашивай меня, не стесняйся, - добавил Володя, который уже много лет был увлечен крымскими древностями. Будучи ровесником Февзи, он закончил Университет пять лет назад и любил свою работу в этом древнем городе, между тем как многие полагали более престижным участвовать в раскопках, например, на развалинах Херсонеса. Володя же считал, что открытия, которые можно сделать в греческом полисе, во многом предсказуемы, в то же время здесь, в долине у горы Агармыш, не только непочатый край работ, но и тьма удивительных загадочных сюжетов.
…Февзи вышел наружу. Глаза после света яркой электролампы, висящей под куполом шатровой палатки, ничего не видели в темноте летней южной ночи. Он присел на обломок стены и долго смотрел в черноту пространства, пока глаза его не стали различать белые стены приземистых домиков. Луны на небе не было, она должна была появиться позже из-за невысоких плоских гор, окружающих долину речки Серен-Су, прежде даже в летний зной остававшейся многоводной и холодной, а ныне почти полностью высыхающей уже в июле. Вскоре зрение его адаптировалось, и он стал даже различать на щербатой черепице старых татарских домов отражение света звезд, усеявших ясное крымское небо. И всколыхнулись в его душе давние и, казалось бы, забытые воспоминания о рисунке созвездий, которые он знал с детства. Он вспомнил, как по стоявшим в зените светилам умел определять время, как давал свои названия особо ярким и красивым звездам, некоторые из которых блуждали странным образом по небосводу, порой исчезали с него и появлялись только много месяцев спустя. Февзи иногда смотрел на звездное небо и в свою бытность в Узбекистане, но там оно было другое. Знакомые, казалось бы, рисунки созвездий, виделись ему на азиатском своде смещенными со своих мест и вследствие этого искаженными, поэтому он не полюбил тамошнее небо. И вот сейчас, по истечении стольких лет, над ним опять родной небосвод! Как он мог потерять десять ночей, проводя их под искусственными лучами электрической лампы, вместо того, чтобы лежать под звездами и узнавать каждую из них!
Он вытащил свою раскладушку из палатки, и отныне все ночи проводил только под звездами, которые, кажется, тоже потихоньку начинали узнавать его, чтобы под конец окончательно признать.
Однажды несколько лаборантов и младших научных сотрудников в день заслуженного ими отдыха пешком через горы отправились к морю. Володя, считающий себя знатоком Восточного Крыма, вел путешественников по живописнейшим долинам и горным склонам, держа путь к поселку Коктебель.
В Старом Крыму в ту пору негде было "культурно" отдохнуть, расслабиться. Функционировала в разрушенном и униженном за два века городе одна чахлая столовая, где подавали нечто похожее на котлеты с гарниром из серого цвета макарон, да еще вечером открывал двери так называемый ресторан, где подавали те же самые лжекотлеты, но с жареной картошкой. Ни шашлыков не было, ни, тем более, чебуреков, которые, возможно, были запрещены как злонамеренное напоминание о крымских татарах.
А здесь в малолюдном Коктебеле у самого моря готовили и шашлыки, и чебуреки, которые поглощались женщинами и мужчинами, выходящими из расположенных неподалеку немногочисленных домов отдыха. Ну и наши путешественники имели твердое намерение заказать себе после принятия соленных морских ванн и шашлычок, и чебуреки. Володя, между тем, объяснил своим товарищам, что эти пузатые дяденьки и громкоголосые тетеньки, гурьбой вышедшие из столовой, окнами глядящей на море, люди не простые, а писатели! И дом отдыха этот не просто дом, а Дом Творчества Писателей! Творят они здесь, значит.
О! О! - непритворно восклицали археологи, тараща глаза на творцов, в надежде узнать среди них дядю Степу Михалкова, увидеть чекистский прищур Фадеева, к тому времени, между прочим, уже покинувшего юдоль земную, или, на худой конец, Корнея Чуковского, такого же длинного и тощего, как и дядя Степа. Больше, пожалуй, даже цивилизованные ленинградцы никого в лицо не знали, так как еще не наступила эра всеобщей телевизоризации.
А писатели, которые в те времена, действительно, составляли большинство в Доме Писателей, завершив процедуру приятия пищи в своей столовой теперь с аппетитом ели чебуреки и шашлыки, запивая все поедаемое вином из полулитровых стеклянных банок, которое покупали тут же рядом в сколоченном из досок сарайчике.
Разумеется, и путешественники наши побежали в маленький дощатый сарайчик за крымским вином. Февзи же было поручено решить вопрос с чебуреками. И когда он стоял в ожидании своей очереди у пышущего жаром казана, он вдруг услышал знакомый говор!
- Бар айт бабана кыйма тартсын, - говорила немолодая женщина в длиннополом платье, какое носят татарки, парнишке лет четырнадцати, в то время как две по современному одетые девушки ловко раскатывали кружочки теста, накладывали в них мясной фарш, разбавленный, как и положено, водой, быстро залепляли края, обрезая их колесиком на деревянной рукоятке, а та самая немолодая женщина бросала белые полумесяцы в кипящее масло, большой шумовкой вынимая из него полумесяцы золотые. В то же время она успевала брать у каждого из жаждущих горячего чебуречного сока деньги, сдавала сдачу и вручала алюминиевые тарелки с готовым продуктом, да еще и давала указания своим помощникам:
- Бар айт бабана кыйма тартсын! (Пойди скажи отцу, чтобы приготовил фарш!)
И еще что-то говорила энергичная женщина, а Февзи глядел на нее как завороженный.
- Сиз татарсызмы! (Вы татары!) - не столько вопросил, сколько утвердительно воскликнул бедняга Февзи. - Качан кайтыныз? Кырымда татар чокмы? (Когда вернулись? В Крыму татар много?)
Женщина остановила взгляд на молодом человеке и в свою очередь, не прекращая, однако, работы, воскликнула:
- Вай, татар баласы, къайдан кельдин? (Вай, татарский сын, откуда ты явился?)
Она быстро сложила чебуреки для Февзи на гремящие тарелки, как раз новую вымытую партию которых притащил еще другой мальчишка, и сказала по-татарски:
- Мы караимы, - потом добавила не допускающим возражения тоном. - Сейчас эти люди разойдутся, ты подходи, поговорим.
Февзи и его товарищи, измученные квазикотлетами и липкими макаронами, поглощали вкусную еду, пили холодное белое вино, и договаривались, что возвращаться в Старый Крым будут ночью, после того, как вновь проголодаются и еще раз под вечер насладятся великолепной едой. Февзи при этом все посматривал в сторону старой караимки. Наконец, поток любителей чебуреков иссяк, и истосковавшийся по родной речи татарин подошел к опустевшему казану. Девушки с любопытством смотрели на него, что же касается мальчишек, то они подошли к Февзи, обменялись с ним рукопожатием, но не удовольствовались этим и щупали его одежду, трогали его спину, гладили его волосы. Старая караимка рассмеялась и произнесла, конечно же, по-татарски:
- Они впервые видят татарина. Два года назад приезжал сюда один мужчина родом из Отузов, но он был очень осторожен, обменялся со мной парой фраз и поспешил уйти. А ты не боишься этих?
Февзи сказал ей, что вроде бы крымские татары теперь освобождены, и выразил удивление, что в Крыму они не появляются. Он не знал, что снятие с татар комендантского надзора не означало их причисления к свободным людям, что посещение Крыма им запрещено - все же сильно оторвался "петербуржец" от жизни своего народа.
Пришел хозяин чебуречной старый караим и расцеловался с Февзи, пустив при этом слезу. Товарищи Февзи звали его на море, но он еще долго рассказывал караимской семье о том, что выпало на долю аборигенов крымской земли.
- Крым испоганен, - говорил в свою очередь старый караим, в маленькой истертой бархатной шапочке, в зауживающихся книзу штанах и в заправленной за кожаный пояс светло-коричневой рубахе домашнего кроя, - кладбища татарские распаханы, мечети разрушены, в домах татарских живут пришлые люди, которые так и не научились за пятнадцать лет хозяйствовать на крымской земле. Только самогон гнать из винограда наловчились Вино, которое продается в том сарае, делает один русский, но он из довоенных жителей Крыма.
- Что это за название "Коктебель", - спросил под конец молодой татарин у старого караима.
- Какой, к шайтану, коктебель! - взорвался старик. - Все переиначили! По-нашему этот край называется "Кок Тепе Эли" - Страна Голубых Вершин. Погляди на эти горы…
Старик-караим не оговорился, когда сказал: "по-нашему". Караимы, потомки тюркского племени хазар, признающие великими пророками Моисея, Иисуса и Мухаммеда, говорили на том же языке, что и крымские татары.
- Повезло моему маленькому народу караимов, - говорил еще старик. - И германские фашисты нас не тронули, и советская власть нас помиловала, как тюрков, не исповедующих ислам. Но ты не горюй, - вернется твой народ на свою Отчизну!
Февзи вдруг сообразил, что он ни разу не купался в родном Черном море! Он обнял на прощание старого караима и пошел к своим сослуживцам, расположившимся на пляже.
Потом Февзи долго сидел на парапете перед Домом, где писатели творят, и глядел в открывающуюся перед ним ширь, на голубой мыс слева, далеко уходящий в море, на громоздящуюся справа изуродованную в незапамятные времена гору - взорвавшийся вулкан. Июльское солнце раскалило асфальтовые дорожки, заборы, камни на пляже. Море, с утра покрытое рябью, нынче попало в полный штиль и стало похоже на огромную, серебристо-матовую пластину природной слюды. Даль, где водная гладь сливается с небом, казалась слегка розовой, или она представлялась такой уставшим от обилия света глазам Февзи, который во власти разыгравшейся фантазии искал в океаническом просторе белые лоскутки полотняных парусов.
Панорама моря в Стране Голубых Вершин отличалась от той, которая навсегда запечатлелась в памяти мальчика с отрогов южнобережных гор. С окраины его деревни море виделось сверху, и было оно ярко бирюзовым или темно-серым до черноты - в зависимости от времени года, от погоды. Летом море слепило перекрещивающимися в зрачке потоками лучей, частью идущими прямиком от нависшего над водной бездной солнца, а частью отразившимися от зеркальной поверхности этой бездны, и при том не потерявшими своей яркости. Иногда по океану проплывал большой белый пароход, и тогда мальчишки и девчонки со смутной тревогой провожали его медленный проход по расстелившемуся перед ними голубому пространству.
Над зимним морем нередко низко стлались тучи, которые с круч, на которых тавры, прямые предки рода Февзи, расположили свои жилища, казались кудельками белой шерсти, выложенной на камышовой подстилке. Наверное, в эту пору воины с бычьей шкурой на плечах, за что греки и дали им имя тавров, более обычного напрягали свое зрение: не выплывет ли из-под облачной пелены флотилия флибустьеров с берегов Эгейского моря - Полуостров всегда был лакомой приманкой для хищников со всех сторон света…
Февзи помнил, как порой с моря налетал холодный влажный ветер, завывавший в нависших над пропастями скалах голосами дэвов и джинов, этих существ из другого бытия, которые до появления в Крымских горах слова Аллаха докучали людям своим злым бесстыдством. А потом о тех дэвах и джинах потомки тавров, отстоявших свои жилища и от нелюдской нечисти, и от нечисти в обличье людей, рассказывали долгими зимними вечерами своим внукам, не помышляя, что уже в новые времена многоликой нечисти, объединившей свои силы, удастся отнять у них самое дорогое - вечную Отчизну.
Долгое время мне, пленнику России, было невдомек, почему же покрытое веселыми солнечными бликами светлое наше море носит название "Кара-дениз" - Черное море. И не знал я, с какой поры Понт Эвксинский стал называться Черным, и в этом моем непонимании меня поддерживала доступная мне, пленнику, советская историческая литература, каких только надуманных и невразумительных версий не предлагавшая. Но все оказалось гораздо более простым и естественным! И эта истина открылась мне, когда я узнал, что турки Анатолийского полуострова называют Средиземное море "Ак-дениз" - Белым морем, а бывший Понт Эвксинский для них море Черное. И сам я однажды побывал впервые на южном берегу Черного моря, и имея солнце за спиной, видел родную мне морскую гладь непривычно темной, ибо так и должно быть, если лучи Светила падают на водную поверхность из-за головы и, отражаясь, уходят на противоположный берег, в Крым, радуя тамошних жителей веселыми светлыми бликами. Я пересекал земли Анатолии и обращал свой взгляд на море Средиземное с его северного побережья, и лучи солнца, стоящего высоко в небе передо мной, отражаясь от его поверхности, попадали теперь в мой зрачок, а не уходили в противоположную сторону, и это море я видел светлым, в ярких солнечных пятнах. Именно так, именно с такой позиции, привык я созерцать собственное мое море с крымского берега, потому-то всегда внутренне протестовал против именования его Черным. И я понял, что турецкое Белое море - Ак-дениз для человека, взирающего на него с берегов Магриба или Синая, будет казаться черным.
Два летних сезона отработал Февзи в Старом Крыму, а возвращаясь на зиму в Питер жил в общежитии, в выделенной лично ему комнате. Олег уже был молодым папашей, и не реже раза в месяц Февзи проводил в его семье выходной день.
В один из студеных январских днейВолодя обратился к Февзи:
- Между прочим, наша экспедиция переводится в разряд комплексной. Фронт работ расширяется, предполагается, что у нас будет своя машина, а то и две. Понимаешь, финансирование будет идти от нескольких институтов. Короче говоря, нужен постоянно находящийся в Старом Крыму сотрудник. И не просто завхоз, а завхоз в ранге научного сотрудника. Я вот подумал, может быть, ты пойдешь на эту работу? Будешь считаться в длительной командировке, денежки, соответственно, пойдут. Тебя ведь семья в Ленинграде не держит, а прописка ленинградская сохранится. А?
- И думать нечего! - Февзи вскочил, будто бы его подбросило. - Бежим!
- Ты чего это? - Володя удивленно воззрился на товарища.
- Володя, ведь могут другого назначить! Надо мне срочно подать заявление о согласии на эту должность! - Февзи чуть ли не тянул товарища за руку.
- Погоди, не пори горячку, - спокойно ответил Володя. – Завтра надо просто позвонить в отдел кадров Академии, а потом пойдешь сам или можем, в конце концов, пойти вместе.
- Почему завтра? – нервно воскликнул Февзи.
Руководитель группы еще никогда не видел своего сотрудника таким возбужденным.
- Потому что сейчас уже без пяти шесть, - Володя показал на висящие на стене часы, потом добавил с некоторой обидой: - Я не знал, что тебе так не терпится покинуть наш коллектив.
- Володя, как ты можешь так говорить? Я никогда в жизни не работал в таких условиях, в таком окружении! - Февзи был тронут. - Но ты должен понять, что означает для меня жить и работать на родине.
- Для меня, например, весь Советский Союз родина, - несколько напыщенно произнес руководитель группы.
Чуткий крымский татарин готов был уже ответить, что, мол, «у тебя, мой друг, масса и других достоинств», но быстро сообразил, что честный малый Володя не заслуживает такого сарказма, хотя его заявление и дурно пахло.
- И для меня, наверное, было бы так, если бы меня не вывезли из Крыма насильно, - только мягко заметил Февзи.
А Володе, хотя резонность такого ответа была неопровержима, все же что-то в нем не понравилось, что-то было в этом ответе от национализма, который лектор вечернего университета марксизма-ленинизма недавно изобличал на семинаре. Впрочем, Володя был человек думающий, и он постарался внушить себе, что, действительно, тут случай особый и что, пожалуй, поруганная родина вдесятеро дороже.
- Любовь к родному пепелищу, - произнес он с усмешкой, но без ехидства, потом добавил: - Ну, хорошо! Завтра созвонимся и вместе поедем устраивать тебя на новую работу. Расскажем, что ты родом из Крыма, это будет дополнительным обстоятельством в твою пользу. Все будет тип-топ.
Февзи молча кивнул, потом, понизив голос, произнес:
- Володя, если в отделе кадров узнают, что я крымский татарин, то последует стопроцентный отказ.
Володя вопросительно посмотрел на Февзи:
- У тебя же в паспорте записано, что ты родился в Ленинграде.
Да, такая запись была. Когда бывший зек получал паспорт, он не скрыл свой арест, однако указал местом рождения Ленинград. Проскочило. Считающаяся зазорной, но не утаиваемая молодым мужчиной правда о его «криминальном прошлом» отвлекла внимание паспортистки от маленькой лжи.
Камилл взволнованно объяснял Володе:
- Место рождения не будет принято во внимание. Крымским татарам в Крыму проживать не разрешено уже только потому, что они крымские татары.
- Этого быть не может! Это же нарушение элементарных человеческих прав! - воскликнул Володя.
- Вовочка, ты уже большой мальчик и, кажется, познал кое-что о нашей жизни. Нельзя же оставаться таким наивным, - ласково выговорил Февзи своему товарищу.
Да, Володя кое-что познал, и не без помощи Февзи, рассказавшего ему о гибели почти всей своей деревни в Азии, о тюрьме и лагере, о предательстве любимой учительницы, о своем друге Олеге, отец которого, герой войны, был арестован и погиб. Но, сталкиваясь с реальными случаями нарушений записанных в Конституции свобод, молодой ученый каждый раз оказывался неподготовленным к восприятию действительности. Его семья однажды пострадала в тридцать седьмом, однако разговоры об этом в их доме были под негласным запретом, поэтому рос он в родном городе Свердловске полный веры и любви к родимой советской власти. Потом уж, обучаясь в Ленинградском университете, он много узнал от своих однокурсников, которые были много старше его, и прошли до поступления в студенты по страшным дорогам войны. Пришла пора, и студентам стали известны материалы Двадцатого съезда, и немало бессонных ночей прошло в комнате общежития, где студенты-фронтовики давали свои комментарии к докладу Хрущева. Потом уже последовала открытая критика Сталина на Двадцать втором съезде. И вот, знакомство со своим ровесником, много горя пережившим крымским татарином – это знакомство сыграло значительную роль в понимании Володей действительного положения дел в стране.
На следующий день Февзи был назначен начальником экспедиционной базы с ежемесячной выплатой полной ставки младшего научного сотрудника плюс половины оклада заведующего хозяйством, а также с поквартальной выплатой полевого довольствия. Ну что тут скажешь, повезло человеку! Да еще два месяца оплачиваемого отпуска в родном Ленинграде в зимние месяцы! Если же откажешься от отпуска в городе на Неве, то вот тебе, пожалуйста, денежная компенсация!
Февзи ни разу не использовал двухмесячный зимний отпуск для поездки в Ленинград. Его тоска по ставшему любимым городу, вполне насыщалась срочными недельными, а то и более длительными, вызовами в Главное Экспедиционное Управление. Он в дни, когда позволяла погода, ездил на попутных машинах по Крыму, ближние же места, вплоть до Судака, объезжал верхом на лошади, пару которых экспедиция брала «на прокат» у одного из колхозов. Появился в собственности экспедиции и свой старенький автобус, на котором, однако, далеко ездить было рискованно из опасения, что он развалится на свои составляющие. Февзи, опытный авторемонтник, к началу сезона археологических работ приводил автобус в рабочее состояние, не требуя, между прочим, оплаты этих своих трудов.
Во многих местах Крыма побывал Февзи, но не мог набраться смелости посетить родную деревню - легко ли оказаться на пепелище рода своего? Но и посещение других крымских поселений ранило душу молодого мужчины, который видел повсюду разор и поругание…
Главное Экспедиционное Управление арендовало неподалеку от развалин мечети хана Узбека небольшой двор с постройками, предназначенными под склады и под гараж, ну и, конечно, две жилые комнаты, которые в зимнее время заселял сам Февзи, а во время работы экспедиции в одной из комнат размещалась полевая контора. Тому, как устроился в своем родном Крыму наш герой, можно было позавидовать!
Со своей ленинградской пропиской Февзи в административных конторах Старого Крыма, с которыми он контактировал по делам службы, считался уважаемым и привилегированным гражданином. Несомненно, если бы эти достойнейшие товарищи из горсовета или другого подобного учреждения, пристальнее приглядевшись, узнали бы в Февзи крымского татарина, то полетели бы во все инстанции доносы, и вылетел бы наш везунчик не только из Крыма, но и, возможно, из Ленинграда - и еще неизвестно, где бы приземлился.
Сознавая это Февзи, тем не менее, думал о том, что пора, пора реализовать завет старого Мурата-эмдже и привезти в Крым из Узбекистана жену, народить с ней детей. Ну не будет он при этом на всех углах кричать, что он татарин, но зато возникнет на родине семья, которая будет едва ли не единственной крымскотатарской семьей на поруганной родине - первым росточком. Трудности, которые могли при этом возникнуть из того обстоятельства, что у него здесь не было своего жилья, его не пугали – трудности разного рода всегда сопровождают человека в его жизни и не являются достаточным основанием для того, чтобы не обзаводиться семьей не рожать детей.
В Узбекистане действовало национальное Движение крымских татар, но о нем Февзи знал очень мало.
Глава 18
Много исторических ступеней миновала страна за те годы, которые прошли в нашем неспешном повествовании, совершившем в конце второй главы скачок назад - тогда от Камилла, глядящего в иллюминатор воздушного лайнера, мы перескочили в год сорок девятый, в конце которого юноша оказался в камере предварительного заключения чинабадской госбезопасности.
В эти без малого двадцать лет вместились и годы новых массовых репрессий, и смерть товарища Сталина, вдохновителя и организатора всех наших деяний, и разоблачения, прозвучавшие на Двадцатом и Двадцать втором съездах Компартии, и последующие годы оттепели, и свержение реформатора Хрущева, и начало долгого, долгого конца.
Мы уже знаем, как нелегко стал наш герой студентом, знаем о том, как с основанной ташкентскими студентами организации начиналась национальная борьба крымских татар. Тогда, после получения Камиллом и его товарищами дипломов о высшем образовании их, зачинателей национально-освободительного Движения, всех загнали в удаленные регионы Узбекистана, где практически не проживали крымские татары. Камилл, которого распределили в Сурхандарьинскую область, естественно, не поехал в эту глубинку, справедливо полагая это распределение ссылкой. Он скрывался в одном из близких к Ташкенту горных поселков, преподавал физику в вечерней школе для рабочей молодежи. Он приезжал в Ташкент каждую пятницу поздно ночью после проведенных вечерних уроков и предполагал, что его местопребывание органам неизвестно. Встречался он только с другом Виктором, который однажды поведал ему, что недавно в случайном, якобы, разговоре малознакомый человек спрашивал о нем.
- Знать не знаю, - отвечал Виктор. - Уже несколько месяцев, как о Камилле ни слуху, ни духу.
То ли Виктора проверяли, то ли действительно не знали, где находится Камилл. Если так, то серьезных поисков, видно, не предпринимали, а то бы нашли, разумеется. А с другой стороны – если никто не выдал, то и найти его было не так уж просто! Только если запустить механизм всесоюзного розыска, но не стоил Камилл того.
Встречался Камилл в компании с Виктором и с девицами, но те и вовсе не знали его, чего с них взять! Однажды при очередном знакомстве Витька отрекомендовал своего друга как «Адольфа Шикльгрубера», но это не произвело на девиц никакого впечатления. Так что с этой стороны Камиллу тоже ничего не грозило.
В зимние школьные каникулы Камилл поехал в Центр, в главные города – тогда билеты на железнодорожные поезда продавали без предъявления паспорта, так что и здесь не обязательно было засветиться. В Ленинграде известный академик, ректор университета, дал ему программу по теоретической физике и год на подготовку к экзаменам в аспирантуру. В одном из серьезных московских физических институтов он тоже получил экзаменационную программу. Ему больше импонировал ленинградский теоретик, но по возвращении в Ташкент вопрос был решен в пользу Москвы по той причине, что отец его, профессор-гуманитарий Афуз-заде, был приглашен в Москву с предоставлением квартиры. Это определило выбор Камилла, который не хотел разлучаться с родителями.
Еще в Ташкенте, после его возвращения из горного поселка и легализации в городе, к нему приезжали участники Движения из Беговата, из Самарканда. Камилл говорил им, что в ближайшее время должен покинуть Узбекистан, и ребята молча, с явным осуждением выслушивали его. Камилл чувствовал себе очень неловко, не спал ночами. Но он знал, что с прекращением работы центрального «штаба» созданной им организации, национальное движение в Ташкенте не распалось, выросли «молодые кадры». Был, правда, период спада, но теперь институтские и заводские организация оживились, искали свой путь, расширялись численно и пробовали новые методы борьбы – именно о таком развитии он и его соратники мечтали, когда создавали Первую Организацию. К сожалению, появились и первые серьезные жертвы, но вызревал новый, более высокий этап народной борьбы, и жертвы, конечно, были неизбежны.
В Москве он успешно поступил в аспирантуру и так усердно отдался занятиям, что не покидал лабораторию до поздней ночи и постоянно брал в дирекции разрешение на работу в выходные дни. В первое время после его переезда в Москву до него доходили скудные сведения о характере развития национального Движения, но, конечно, при таком образе жизни подробной информации о положении в Узбекистане он иметь не мог. Уже после защиты диссертации, когда он прошел по конкурсу на должность младшего научного сотрудника в один из замечательных научных институтов, он оказался в недельной командировке в Самарканде и вот тут-то насладился общением со своими, окунулся в задачи нового этапа.
За эти годы, прошедшие в ежедневном противостоянии с режимом, Камиллу удалось добиться многого из того, что он себе наметил. Ну, прямо таки СССР - страна неограниченных возможностей! Разве путь от голодного бесправного спецпереселенца до заведующего лабораторией известного во всем мире академического института менее впечатляет, чем путь, проделанный американским мальчишкой от уличной торговли газетами до автомобильного магната? Но если американскому оборвышу приходилось бороться с безучастными к личности человека экономическими препонами, то татарчонку из Крыма приходилось преодолевать активное сопротивление политической системы – это было балансированием на грани жизни и смерти!
И еще одно существенное различие: достигший намеченных целей американец ни в коей мере не является предметом недоброго внимания властей, желающих ниспровергнуть его, в то время как крымский татарин, вырвавшийся за пределы очерченных властями границ, объект постоянного беспокойства для властных структур, ищущих повода для низвержения его в подобающую ему бездну национального унижения.
Однако перейдем, следуя канве повествования, в год Шестьдесят Восьмой.
Прибыв из Узбекистана в Москву с канистрами красной ртути, Камилл в особо секретном порядке сдал их в закрытый блок на складе реактивов, специально для этого случая созданный в Институте. О содержании канистр и о причастности к их появлению доктора Афуз-заде были осведомлены в Институте только лишь три человека, причем в число этих троих не входил даже начальник первого отдела - креатура органов госбезопасности. Для дальнейшей работы с красной ртутью в системе Академии Наук была создана комплексная группа с чрезвычайным распорядком и с привлечением крайне ограниченного числа ученых. Программу исследований, как самой ртути, так и пород из штрека, составил Камилл, потом она была обсуждена и дополнена на совещании специалистов в Президиуме Академии наук, и там же были утверждены специальные тесты для выявления свойств необычного минерала.
Самому Камиллу для экспериментов была выдана строго отмеренная порция привезенного им загадочного вещества. Лаборатории, которой заведовал Камилл, было придано дополнительное помещение, вход в которое по особому коду был доступен только лишь самому Камиллу, директору института и представителю специального отдела при Президиуме Академии. Коллеги, конечно, интересовались, что же это за лаборатория с ограниченным допуском, на что им был дан ответ, что там производятся работы с высокорадиоактивными препаратами – и у всех интересующихся желание оказаться за стальными дверьми этой комнаты пропало.
Рутинные химико-физические исследования были Камиллом проведены, однако никаких существенно новых свойств этой ртути, кроме уже известных, то есть окраски и вовсе уж непостижимого свечения, обнаружить не удавалось. Были найдены некоторые различия в плотности, теплоемкости и еще кое в чем подобном, и хотя все это представляло значительный интерес, однако не раскрывало главных тайн - причин цвета и свечения.
Но Камилл не терял надежды выявить у этого ранее неизвестного человеческой цивилизации видоизменения жидкого металланекие особые качества. Он получил разрешение работать в лаборатории без ограничения времени и порой целые сутки проводил в Институте.
Однажды он, как всегда, выполнял серию продуманных накануне тестов. Ничего неожиданного получить не удавалось. Молодой ученый досадовал на себя, на свою неспособность подойти к проблеме с нетривиальной, необычной стороны. И вот когда он уже решил заканчивать нынешние бесплодные упражнения и пораньше покинуть лабораторию, он нечаянно коснулся опущенной вертикально стеклянной трубкой, которой переносил ртуть из бюкса в пробирку, мраморной поверхности стола - раздался взрыв.
До этого мгновения он вощенной стеклянной палочкой много раз выкладывал на мрамор капельки ртути без всяких последствий. И вот вдруг долгожданный, хоть и неожиданный в своем проявлении эффект!
Взрыв был довольно сильным, но Камилла только оглоушило, потому что осколков от взрыва вроде бы и не возникло. Придя в себя, Камилл пригляделся: на столе, там, где его коснулась побывавшая в ртути трубочка, горкой высилась мраморная пудра, вернее - пудра из того, что когда-то было мрамором. Игольчатым щупом он дотронулся до пудры: она поддавалась легко, но какое-то малое сцепление между ее частицами все же ощущалось. Главное, что озадачило исследователя - причина неожиданного взрыва. От чего он мог произойти? Азотной кислоты на столе быть не могло, капли ее были нанесены только на титановую пластину, находящуюся внутри защитного бокса, причем этот бокс находился на противоположной стороне лабораторного стола.
- Хорошо, что эту манипуляцию я провел не в боксе, - вслух произнес ученый, представив себе, какие разрушения произошли бы в этом случае.
Пройдясь в раздумье по тесной комнате, Камилл сел в потертое кожаное кресло, стоящее в углу лаборатории и вдруг захохотал.
- Как сказал кто-то из великих, физический эксперимент с взрывом более ценен, чем беззвучный, - воскликнул он. - Если прав автор этого афоризма, то признание потомков мне обеспечено!
Повеселившись, он поразмыслил и достал из стенного шкафа защитную маску - надо было выяснять природу этого взрыва, непонятного взрыва, произошедшего при взаимном соприкосновении мрамора, красной ртути и стекла. Только при прикосновении, никакого смешивания или нагревания! Чудны Твои дела, Господи!
Соблюдая осторожность, он стеклянной палочкой поставил каплю красной ртути на мрамор. Никакого эффекта. Вскоре на столе выстроился целый ряд красных капель различного диаметра, но ничто не нарушило тишину в лаборатории. Бережно собрав со стола ртуть, Камилл взял лупу и стал рассматривать горку мраморной пудры. Диаметр горки оказался в точности равен внутреннему диаметру трубки – ровно два миллиметра. Нет, «методом тыка» тут действовать нельзя. Надо, во-первых, срочно передать образцы образовавшейся при взрыве пудры на электронный микроскоп и на качественный анализ. Во-вторых - надо думать. Не вспоминать, а придумывать, фантазировать.
Сегодняшний день был днем неожиданно большого успеха, и не надо требовать от Его Величества Случая чрезмерного - в этот вечер уже ничего стоящего внимания за лабораторным столом получить не удастся. Камилл поднял шторы на окнах и погасил лампу над своим рабочим местом.
Капли ртути на весовой планшетке в боксе, которые были оставлены для вычисления скорости ее испарения, ало светились, светились спокойно, без сатанинского подмигивания, но что-то с ними все же было нечисто.
Камилл щелкнул выключателем на стене, трубки «дневного света» под потолком лаборатории с коротким хлопком мигнули, скрипнули, и яркий свет заполнил помещение. Теперь глядя на капли загадочной ртути нельзя было сказать, светятся ли они или отражают от своей красной поверхности падающий на них свет. Камилл вновь щелкнул выключателем, лаборатория опять погрузилась в темноту, но охваченный каким-то недобрым чувством ученый не оглянулся на прозрачный бокс, который воззрился на покидающего помещение человека тремя парами неподвижных красных зрачков…
Наутро ученый вновь был в своей лаборатории. Он в раздумье простоял некоторое время над лабораторным журналом, в который вчера не занес сведений о взрыве. Оценив ситуацию, он счел разумным пока не упоминать в журнале о приключившемся. Потом снял плащ, облачился в халат и достал защитную маску.
Манипулятором он соединял в маленьких лунках титанового пода капли обычной ртути и красной ртути с каплями азотной кислоты, добавлял спирт-ректификат, размешивал. Летучие продукты реакции уносились вентиляционным потоком, а в лунках оставался серый порошок. Одинаково серый и в лунках с обычной ртутью, и в лунках с ртутью алой. Теперь предстояло исследовать и сравнить взрывную силу полученных образцов гремучей ртути. Он проделал это в специальной камере, но ничего нового обнаружить не удалось.
В таких рутинных работах провел Камилл в лаборатории более пятнадцати часов и едва успел к последнему поезду метро.
Через день пришли данные исследований «мраморной пудры» на электронном микроскопе, а также результаты химического анализа. Полученные сведения можно было подытожить так: порошок состоит из смеси частиц мела, негашеной извести и других соединений кальция. Частицы диковинной формы, сферические, с торчащими во все стороны иглами, будто сформировавшиеся из сплавленных между собой молекул. В лабораторной мельнице или в ступке такую странную пудру получить нельзя.
- Уж это так! – произнес вслух Камилл, отложив в сторону полученные листки. Находясь один в лаборатории, он иногда разговаривал сам с собой.
О том, куда девалась ртуть, и почему ее не оказалось в проанализированном образце, можно было догадаться: при взрыве она превратилась в пар. Однако какова природа взрыва? Почему не удается его воспроизвести? На лабораторном столе перед молодым ученым опять алело с десяток разного размера красных капель. Эти капли Камилл расставил не стеклянной палочкой, а той самой трубкой, от соприкосновения которой со столом произошел взрыв. Замена палочки на трубочку попахивало шаманством, но Камилл уже знал, что порой совершенно, казалось бы, несущественный фактор играет в эксперименте определяющую роль. В данном случае ничего нового не произошло - капли красной ртути лежали на мраморе столь же инертно, как и капли ртути серебристой.
Пришла также информация из одного из приобщенных к изучению красной ртути институтов, касающаяся ее важных физических свойств. Заведующий лабораторией кристаллографических исследований, сам провел необходимые исследования с загадочным веществом. Оказалось, что температура замерзания красной ртути несколько ниже, чем у ее серебристой формы. Структура кристаллов тоже была иной. Все это было важно для понимания свойств новооткрытого минерала, но никак не раскрывало тайны его свечения - об этом поговорил Камилл с ученым-кристаллографом по телефону.
Тем более эти сведения о кристаллическом строении не раскрывали тайну бризантных, то есть взрывных, свойств красного жидкого металла - об этом Камилл ни с кем не говорил.
Не было никакой информации о спектре свечения «этой чертовой ртути» - так в сердцах обозвали спектрографисты эту тяжелую красную жидкость, когда Камилл приехал к ним за сведениями.
- Самые чувствительные методы используем, а на экране спектрометра ни одной линии! – нервно говорили два ведущих специалиста Москвы озадаченно слушавшему их Камиллу. Спектрографистов в этом деле больше всего беспокоил вопрос, как они представят результаты проведенных исследований на суд комиссии Президиума Академии?
- Представьте себе, - говорил спектрографист Камиллу, - как отреагируют эти чиновники от науки на факт невозможности получить спектр свечения, когда само свечение существует!
- И это сейчас, когда совсем недавно для нашей лаборатории за огромную сумму была приобретена за бугром новейшая аппаратура! – восклицал другой. – Чертовщина, да и только!
Камилл не мог не посочувствовать коллегам, но его тревога была гораздо более обоснована. Он вспомнил те обстоятельства, которые сопровождали акт обнаружения им в шахте первых капель этой ртути, и тогдашние мистические домыслы начинали вновь проникать в его мысли.
Вернувшись в свою лабораторию, он приказал себе оставаться в области рационального и не привлекать для раскрытия тайны красной ртути те странные догадки, которые будто кто-то подсказывал ему: «Красная ртуть – это боль моя, твоя, ваша. Это наша боль…».
Что породило эту боль?
В Библии сказано, что если сами люди не будут воспитывать человечество, то за это возьмутся змеи и скорпионы.
Земля – живая планета. Век железный был предпочтительней того века, в котором мы нынче пребываем, и если в древности из-за людского бесчинства бунтовали растительный мир и мир животных, то теперь, похоже, и земные пласты, и мир минералов, и миры подземных вод и атмосферных вихрей, и океан – все царства планеты взбудоражены и начинают всеобщий бунт.
Не знаю, как в нашем веке ведут себя змеи и скорпионы, но разрушительные воздушные вихри посещают те регионы, где неспокойно.
Землетрясения прибавляют горя там, где люди безжалостны.
Небывалый разлив несет больше воды, чем падает с небес – откуда она, эта вода?
Бунтует и ледовая стихия горных громад – гибель гибелью умножается.
Горят леса и травы, все горят и горят.
Что ж, это и есть, наверное, непостижимая реакция земных сфер на еще более ужасные, чем в прошлом, злодеяния человечества, не внемлющего учениям своих пророков.
И вот вам та самая кровавая ртуть.
И еще голубые мустанги, рожденные оскорбленными стихиями и чего-то дожидающиеся.
Неведомое не проявляется прямолинейно, а если таки прямолинейно и проявляется, то это простая чертовщина. Но тут все сложнее.
Так может статься красная ртуть послана не в наказание, не как знамение даже, а как испытание на добромыслие?
И голубые призраки коней тоже не каратели, не экзекуторы, а наблюдатели?
Камилл знал, что, решив скрыть результаты своих последних экспериментов с взрывами, он допускает злостное нарушение существующих правил. Но его намерение держать случившееся в тайне было продуманным и непреклонным: не будет он распространять информацию, несущую гибель.
В размышлениях об обнаруженном явлении он, не выходя за границы физических законов, предположил, что причиной взрыва могли быть внешние факторы, такие, например, как определенная температура и влажность воздуха в лаборатории. Но почему взрыв произошел только в одном конкретном случае, в то время как в то же самое время на столе лежали другие образцы этой чертовой ртути? Еще в Университете Камилл занимался космическими лучами, и теперь он разрешил себе рассмотреть гипотезу, что причиной взрыва могла оказаться сверхэнергичная космическая частица, каким-то невероятным образом пролетевшая без столкновений сквозь толщу земной атмосферы и врезавшаяся в каплю красной ртути в то самое мгновение, когда кончик стеклянной трубки коснулся мраморной поверхности стола. Теоретически вероятность подобного соединения факторов «в нужном месте и в нужный момент» была отлична от нуля, но малость этой вероятности вынуждала признать такое совпадение чудом. Но главное - даже такое меткое попадание не должно было никоим известным науке образом привести к взрыву, то есть к цепной реакции в массе однородной ртути с выделением энергии. Возникновение такой реакции надо бы отнести к категории чудес, так что эту сомнительную гипотезу надо было отбросить.
Ученый сидел один в затемненной лаборатории, глядя на загадочные красненькие капельки. Мозг его изобретал самые невероятные предположения и складывал их в какой-то части сознания. Он воспроизводил в памяти те необычные явления, которые сопровождали внезапное возникновение красных лужиц в полости внутри горы. Совершенно нельзя было понять, почему не выявляется спектр свечения. Но его не оставляла надежда, что должно быть естественное объяснение этих, мягко выражаясь, аномалий. И он пытался разгадать если и не глубинную природу произошедшего взрыва, то хотя бы причину, его вызвавшую.
Он решил воссоздать мысленно, в строгой последовательности, насколько это возможно, все мельчайшие подробности своих действий в день произошедшего взрыва. Так…, стеклянная трубка… В чем отличие трубки от палочки того же диаметра? Ага, трубка может оставить на поверхности кольцевой отпечаток. Попробуем.
Он опускал конец трубки в бюкс с красной ртутью и касался им мраморной поверхности. Перед ним появлялись более или менее четкие изображения, подобные полумесяцам или разорванным обручам. Камилл хотел добиться возникновения изображение цельного обруча, кружочка, но это никак не получалось. И вдруг, когда трубка, направляемая его рукой строго вертикально плоскости столешницы, в очередной раз коснулась камня, раздался взрыв. Хорошо, что Камилл, соблюдая правила техники безопасности, был в защитной маске.
На поверхности стола горкой высилась белого цвета пудра. Диаметр горки в точности совпадал с внутренним диаметром стеклянной трубки, которую держал в руке исследователь.
Камилл снял маску, вытер выступивший на лбу пот, достал из холодильника бутылку боржоми, наполнил пузырящейся водой тонкостенный химический стакан и опустился в кожаное кресло. Надо было успокоиться, обдумать новую информацию и только потом продолжить работу. Собственно говоря, уже почти не было сомнений в том, что взрыв происходит при возникновении из этого жидкого металла замкнутого кольца. Черт знает что! Надо сейчас еще раз воспроизвести взрыв, закрепиться в уверенности - и на сегодня хватит!
На этот раз, когда он знал или, точнее, предполагал, что приводит к взрыву, он имел надежду очень быстро получить его. Камилл осторожно, посредством тонкого стеклянного стерженька, превратил маленький красный полумесяц в замкнутое кольцо.
Как он и ожидал, прогремел взрыв.
С одной стороны было сильное желание продолжить работу, но было и понимание того, что еще с десяток воспроизведенных взрывов не дадут принципиально новых сведений. Надо на воле, на чистом воздухе, прогуливаясь в безлюдном парке или по пустынной ночной улице, продумать то, что стало известно, и придумать, возможно, новые тесты. Кстати, часовая стрелка уже приближалась к двенадцати.
Когда Камилл шел по коридору к лифту, открылась дверь бюро переводов, и он увидел Лену. Она с улыбкой подошла к нему и, оглянувшись, прильнула.
- Ты заставил меня ждать, - промолвила она.
- Разве мы о чем-то договаривались? - спросил несколько холодно Камилл, не отстраняясь, тем не менее, от молодой женщины.
- У меня с тобой долгосрочный договор, срок пересмотра еще не близок, - глядя в глаза Камилла говорила Лена.
Камилл помолчал, потом, обняв девушку за плечи, повел ее к лифту.
- Так ты все это время сидела у окна и ждала, когда в моей лаборатории погаснет свет? - спросил он.
- Да, и надо было смотреть, напрягая зрение, потому что вы, сударь, почему-то опустили шторы.
Молодые люди вышли на улицу.
- Мои родители убыли на дачу, - Лена прижалась плечом к возлюбленному.
Камиллу нравилось бывать в доме у Лены, но такая возможность появлялась не чаще, чем раз в неделю. И не каждый week end доводилось им проводить вместе, потому что у Камилла были и другие обязательства. Он с давних пор завел такую систему: подругам, у которых была возможность приглашать его к себе, он не сообщал, что живет один. Однокомнатная же квартира его предназначалась для экстренных встреч, причем любопытствующим девицам он обычно говорил, что это жилплощадь его друга, который на время дал ему ключи. Такого рода несложные предосторожности ограждали от всякого рода нежелательных накладок, однако иногда все же случалось с неприятными ощущениями пережидать настойчивые, нежданные звонки в дверь. А с недавнего времени его квартира вообще редко пустовала – активизировались его земляки, приезжающие в Москву с требованиями к властям. Их не принимали в гостиницах, вылавливали по вокзалам, и поэтому порой число ночующих в однокомнатной квартирке людей достигало двух десятков – лежали на полу в комнате и на кухне, даже в ванной. Камиллу в связи с такой ситуацией пришлось купить несколько одеял, которые он расстилал для своих гостей, а в их отсутствие решал нелегкую задачу – где в небольшой квартире складировать эту кипу?
Но жизнь продолжалась.
Сейчас он боролся с искушением немедленно взять такси и ехать к дому на Котельнической. Однако секс расслабляет, отвлекает от напряженных мыслей, ему же сейчас надо было, напротив, сосредоточиться, продумать происшедшее.
- Леночка, - он притянул девушку к себе и прикоснулся губами к ее щеке. – Мне надо побыть одному, надо над кое-чем подумать.
- Я тебе не буду мешать, я просто буду рядом, - лукавила Лена.
- Да? Как ты это себе представляешь? - Камилл улыбнулся. - Прошу тебя, не обижайся, у меня очень важные результаты. Все мои мысли в любом случае будут отвлечены на них.
- В любом случае…, - повторила Лена. Ох уж эти молодые амбициозные ученые! Леночка имела хоть и не очень большой, но некоторый опыт общения с этой категорией мужчин.
- Что ж, выходит, я напрасно ждала тебя? - ей захотелось заплакать.
В свете уличного фонаря девушка была так трогательно хороша, что Камиллу стало очень совестно.
- Сделаем так, - решительно проговорил он. - Я сейчас посажу тебя в такси, сам же пройдусь часок-другой и приеду к тебе позже, ладно?
Лена вздохнула.
- Ладно, только в такси меня сажать не нужно, я на метро доеду.
Камилл взглянул на часы. Действительно, еще оставалось какое-то время до закрытия метро, станция которого была рядом.
- Хорошо, лапочка, иди. До скорой встречи! - Камилл легко поцеловал девушку в губы и поспешил уйти, ибо чувствовал опасность, что еще немного, и он откажется от творческой прогулки с собой наедине.
Лена перешла дорогу, и прежде, чем войти в вестибюль метро, проследила за Камиллом, который пошел не в сторону оживленного проспекта, а в сторону темных аллей над обрывом к реке.
«Лена - это позже, потом. Сейчас же о другом. Итак, на чем мы остановились?» - Камилл настраивал себя на мысли о странных свойствах жидкого красного металла. Сентябрьская ночь была прохладна, и он поднял воротник плаща. Мысли не упорядочивались, и Камилл решил не подгонять их, а просто шел и наслаждался пустотой улиц, свежестью воздуха, сладковатым запахом тлена палых листьев, который ветерок приносил снизу, со стороны реки, куда круто спускался старый прибрежный парк. Не хватало легкого моросящего дождя, который сделал бы тротуары темными и блестящими, усилил бы запахи земли - Камиллу всегда хорошо думалось во время прогулки под небольшим дождем.
Мысли постепенно возвращались. В центре сознания расположились удивительные свойства нового минерала - красный цвет, способность светиться и непонятная бризантность. По кругу двигались все гипотезы, возникшие в течение дня в голове ученого. Порой сознание задерживалось на одной из гипотез, происходило очередное оценивание ее, потом следовало ее высвобождение, но увы! - без оплодотворения главной проблемы. Над этой активной мысленной структурой роилось полуосознаваемое множество сведений о свойствах веществ, о цепных реакциях, о механизмах излучения. Временами сознание выуживало что-то из этого множества, примеривало его к неразгаданным фактам, но зачатия нового понимания опять не происходило.
Но Камилл надеялся, что то, что не поддается его пониманию сегодня, все же раскроется для него в более или менее близком будущем. Ведь еще многие свойства нового минерала не были исследованы, не все тесты, предложенные Камиллом, были выполнены - это требовало времени, много времени, если учесть то обстоятельство, что ряд исследований надо было проводить в других научных учреждениях.
Очень, очень удручало то, что не удавалось получить сведений о спектре свечения, который странным образом почему-то не проявлялся. А спектральные характеристики были чрезвычайно важны для понимания процессов, происходящих в этой необычайной ртути!
Необычайной - это мягко сказано! Это было таинственное, мистическое вещество! Об этом теперь говорили между собой не только обескураженные спектроскописты, но и те, кто исследовал другие характеристики «красной ртути». А ведь они многого не знали о ней! И только Камиллу было известно вовсе уж невообразимое, никак не укладывающееся в представления современной науки, свойство этой ртути вдруг взрываться, и взрываться в кольцеобразном состоянии! И еще явления, предшествовавшие ее появлению в подземной полости…
Он вышел к парапету над спуском к Москве-реке, откуда открывался дивный вид на столицу, постоял немного, наблюдая, как гаснут огни засыпающего города-труженика. Затем так же неторопливо пошел в сторону громады здания Университета - здесь окна не гасли, наступали самые активные часы студенческой жизни.
Перебрав в сознании все лежащие более или менее на поверхности представления о свойствах вещества, Камилл, никак не мог найти ниточки, за которую можно было ухватиться и обрести с ее помощью выход к пониманию поразительных наблюдаемых фактов. Нужен был консилиум. После получения всех запрошенных данных из лабораторий, проводящих анализы, предстоял доклад на семинаре, который и явится таким консилиумом. Но Камилл уже чувствовал, что ничего этот консилиум, будь он даже проведен с привлечением ученых из других институтов Академии, не даст - тут нужна помощь подсознания, внезапное озарение! А, может быть, и это не поможет…
К тому же Камилл все более утверждался в правильности своего решения скрыть от научной общественности способность красной ртути взрываться в конфигурации замкнутого контура. Такое утаивание было противозаконным, но сообщение об этом страшном свойстве красной ртути было бы еще более тяжким преступлением, преступлением перед человечеством.… Так, во всяком случае, казалось Камиллу.
Обойдя по безлюдным аллеям и дорожкам огромное здание, он вышел к так называемой «клубной части» Университета. Здесь были остановки маршрутных автобусов-экспрессов, и тут же всегда можно было поймать свободное такси. Вскоре дребезжащая «Волга» уже несла его на Котельническую набережную…
Глава 19
Больше всего на свете Валентин любил женщин, но эту свою страсть он, как достойный мужчина, не афишировал. На втором месте его пристрастий было кино, и эту свою слабость он не находил необходимым скрывать. Ну и как каждый москвич он любил выпить пива, что мог себе позволить не всегда, ибо над всеми его страстями возвышалось дело, которое требовало трезвого ума. Чтобы быть правильно понятым в наше весьма приниженное время, вознесшее на пьедестал добывателей денег, я должен пояснить, что имеется в виду дело не в смысле business, а в смысле life-work – дело жизни, смысл бытия. Главным жизненным интересом Валентина была его наука – лингвистика, древние языки, и в этой сфере, между прочим, он достиг самых высоких степеней. И при всей своей приверженности к науке он мог отменить корпение над фолиантами ради дружеской пирушки или, как уже намекалось, ради хорошенькой простушки. Но свой сорокавосьмидневный трудовой отпуск, даже при отдыхе на Черном море, проводил в общении с рукописями и уже упомянутыми фолиантами, прихваченными с собой.
Из старых, еще из узбекистанской поры, товарищей только он, Валентин, и оставался у Камилла в Москве. Оба они были из числа неочарованных государством и тем нам интересны.
Созвонившись с вечера, друзья договорились просмотреть на раннем утреннем сеансе новый кинофильм, чтобы потом поспешить в научные залы Библиотеки имени Ленина. Однако на выходе из метро их внимание привлекла палатка, коварно предлагавшая спешащим по разным своим делам москвичам недавно завезенные запотевшие бутылки «Жигулевского» и готовящиеся в высокой электрической кастрюле приятно пахнущие сосиски.
Заглянув в заинтересованные глаза не произнесшего, однако, ни единого слова Валентина, более непосредственный Камилл предложил опорожнить по паре бутылок пивка и убедиться, что вкус свежеотвареных сосисок столь же хорош, как и испускаемый ими аромат.
- Почему бы и нет, - не стал возражать Валентин. – Управимся и пойдем на следующий сеанс.
И пиво было отменным, и сосиски с тушеной капустой шли под него замечательно. Разговор шел на всякие незначительные темы. Потом конкретизировались на знакомых и малознакомых девушках, наконец, как положено на Руси, перешли к легкому разговору о политике.
- Да, кстати, мне сегодня вечером принесут статью одного физика, академика Сахарова. Самиздатовскую рукопись, конечно, - Валентин отковырнул о металлический край столика крышку с очередной бутылки.
- А-а, знаю…
- Откуда ты знаешь? «Размышления о прогрессе и об интеллектуальной свободе» называется, антикоммунистическая…
- По Би-би-си или по «Голосу» слышал. – Камилл допил пиво из стакана. – А ты, я вижу, все еще не слушаешь вражьи голоса…
- Я из первоисточников информацию получаю.
- О-о!
- Да, вот так.
- А о событиях в Чехословакии тебе сам Дубчек сообщает?
- Ага, он. И ты кое-что добавляешь.
- Пора мне подарить тебе «Спидолу», черт возьми!
- Я не против. А пока что завтра с утра приходи, расскажешь вражьи новости и получишь рукопись, но только до послезавтрашнего дня, строго.
- Я тебя когда-нибудь подводил? Авторханова даже не дочитал.
- У тебя же целая ночь была! – Валентин наполнял стаканы, сосредоточенно дожидаясь, пока осядет пена.
- Ты очкарик, тебе легче. А у меня к рассвету глаза уже отказали. Шрифт идиотский, мелкий, да и фотокопия отвратительная, - заметил Камилл.
- Эх, если бы иметь доступ к копировальному аппарату, - отреагировал Валентин на это замечание. - У вас в институте тоже такой есть, наверное?
- Есть. Ксерокс называется.
- Ага. У нас контроль за этим ксероксом невероятный. Заведует им один мудак, явно из кагебешников. Порнографию за денежки размножает, а с антисоветчиной к нему идти не стоит.
- И деньги возьмет, и продаст, - недобро засмеялся Камилл.
- Ага. Но аппарат удивительный! – восторженно воскликнул Валентин.
Камилл задумчиво жевал смазанную горчицей сосиску.
- Вот что, - произнес он, запив последний кусок последним стаканом пива. – Я у тебя возьму с утра рукопись этого Сахарова и попробую у себя размножить. У нас на ксероксе девица, у меня с ней хорошие отношения.
- Дерешь ты ее нещадно, так и скажи…
- Нет, ничего подобного. Однако влюблена. Но я не могу всех обслуживать, тем более вспомогательный контингент.
- Ну, циник! Ладно. Так сможешь хотя бы два новых экземпляра сделать? Это важно!
- Постараюсь.
Камилл бумажной салфеткой вытирал губы, с сожалением глядя на опустевшую бумажную тарелочку. Валентин поймал его взгляд.
- Может, повторим?
- Почему бы и нет? - произнес Камилл любимую фразу Валентина под его одобрительный смех.
Для орошения порций сосисок с капустой понадобилось по две очередных бутылок холодного «Жигулевского» на брата, потому что жара набирала силу, и кто знает, чего ожидать к полудню.
До начала очередного сеанса оставалось минут тридцать, и молодые мужчины, имевшие намерение, как уже было сказано, с утра после небольшой культурной разрядки идти в родную «Ленинку», поспешили к кинотеатру, немножечко комплексуя по поводу потерянного времени. Каково же было их удивление, когда оказалось, что на этом очередном сеансе вместо ожидаемого советского детектива будет демонстрироваться двухсерийная американская версия «Войны и мира» с Одри Хепберн.
- Одри Хепберн! - одновременно воскликнули ученые мужи, глядя друг на друга с несколько преувеличенным выражением восторга и умиления, долженствующим обоюдно доказать, что такое везение вряд ли еще когда-нибудь может выпасть на их долю. Ни один из этих лицемеров не заикнулся, что ко времени окончания этого двойного сеанса впору будет уже не идти в библиотеку, а возвращаться из нее.
Когда через четыре часа ублаготворенные Валентин и Камилл вышли из темного кинозала на залитую ярким солнечным светом улицу, тени от тополей удлинились и как огромные с размытыми контурами стрелки, указывали в сторону, противоположную от научных залов известной на весь мир Библиотеки.
- Очень пить хочется, - произнес Валентин.
- Знаешь, - проникновенно сказал Камилл, - от «Жигулевского» всегда потом пить хочется. Ты не замечал?
- Да, замечал, - отвечал Валентин, не вполне понимая, однако, куда клонит его друг.
- Давай сходим в парк Горького, в «Пльзенский»! - без дальнейшего размусоливания смело выпалил Камилл.
- Идем! – Валентин был и вовсе краток.
И друзья быстро зашагали к метро.
Был седьмой час вечера, и огромный шатер летнего пивного бара с зовущим названием «Пльзенский» начинали заполнять жизнерадостные, но изжаждавшиеся москвичи. Выстояв в очереди не более пяти минут друзья получили по тарелке со шпикачками – жареными колбасками, кулек с остро пахнущими тмином чуть подсоленными булочками-рогаликамии, разумеется, по две высоких кружки со светлым чешским пивом.
Начальник Первого отдела Василий Васильевич видел, как Камилл подсел к Катюше. Этот небольшого роста толстячок был всегда, несмотря на свою одышку, начеку, а когда в поле его зрения попадал еврей или еще этот, неведомо откуда свалившийся в его институт крымский татарин, который и евреев похлестче будет, он внутренне напрягался и чувствовал охотничий азарт. Ну, ну, молодые люди, чай не о любовных проделках беседуете, эти свои делишки вы скрывать умеете.
Василий Васильевич всегда был ярым противником назначения на должности, имеющие отношение к секретным документам или к специальной технике, лиц женского пола. Женщины и особливо девицы чрезвычайно податливы на мужскую лесть, справедливо считал он, и это может быть использовано врагами великой России. Но эта девица, попечению которой была поручена множительная техника, была дочерью его приятеля, даже дружка по работе в органах, с которым он и теперь, когда того ушли на пенсию при Хрущеве, нередко встречался за славной бутылочкой.
- Катя, - отеческим тоном, чуть с надрывом, обратился дядя Вася к девушке, - тебе доверен ответственный пост. Враг не дремлет, одним из объектов, к которому он рвется – множительная техника. Ты регулярно проходишь инструктаж. Как ты могла поддаться на уговоры этого развратника Афуз-заде и выполнять его задание?
- О чем вы говорите, дядя Вася? – воскликнула Катюша. – Какое задание?
- Камилл передал тебе листовки для размножения, я знаю, - брал на пушку дядя Вася девицу.
Но наша москвичка - это вам не вражеский шпион, ее на мякине не проведешь и не заставишь признаться в том, в чем она признаваться не желает.
- С чего вы взяли, дядя Вася? Я должностную инструкцию не нарушаю!
- А ведь однажды нарушила, а? – дядя Вася привычным движением ладони пригладил прикрывающую лысину челку и ехидно улыбнулся, напоминая, как однажды застал дочку своего приятеля за размножением какой-то книжки про индийских йогов.
- Ой, вспомнили! – всплеснула руками Катенька. – Когда это было! Я тогда неопытная была!
Она бы могла добавить, что теперь понабралась опыта, и фиг теперь так глупо попадется.
- Обыщите мои столы, - добавила девушка, зная, что обыск устраивать начальник не станет. И главное - полученная от Камилла рукопись была спрятана надежно.
Василий Васильевич понял, что разговор пора заканчивать, хотя сомнения в искренности Катеньки, которую он знал с ее детских лет, у него остались. И назидательно, с отческой сердечностью он произнес:
- Будь всегда начеку, Катя. Я обязан тебя предупредить как начальник и как друг твоего отца о высокой ответственности, которую на тебя возложило советское государство, доверив работать с множительным аппаратом.
- Ну, разумеется, дядя Вася, я понимаю, - сердечностью на сердечность отозвалась девушка. – Но уверяю вас, никаких нарушений я не допускаю. Кстати, все об этом знают, и никто не просит меня размножить какой-нибудь документ, на котором нет вашей визы.
Конечно, Василий Васильевич знал, что это не так. Но его не столь интересовала всякая там порнография или мистика, или, тем паче, модные нынче восточные лечебные процедуры и прочая дребедень. На недавнем совещании в районном отделе госбезопасности говорили о возможности появления неких идеологически опасных документов и требовали усилить контроль над всей множительной техникой, даже за пишущими машинками, которые в конце рабочего дня полагалось теперь убирать в опечатываемые шкафы. А контакт этого, допущенного до государственных секретов, но неблагонадежного по происхождению Афуз-заде с сотрудником, работающим на множительном аппарате – слово «ксерокс» никак не запоминалось! - вообще был нежелательным результатом ползучей контрреволюции, идущей от проклятого Никиты.
Василий Васильевич, имевший звание полковника, здесь, в академическом институте, был недостаточно ценим руководством. Даже освобожденный секретарь парторганизации института явно недолюбливал его, старшего офицера госбезопасности, а о директоре, этом осколке дореволюционной научной элиты, который передвигался по институту старческими мелкими шажками, но не поистратил своей железной воли в вопросах, касающихся руководства наукой, о нем и говорить нечего – прошаркивал мимо, не замечая. Да черт с ними, этими дармоедами на шее трудового народа! Не было у полковника помощника, которому он мог полностью доверять, вот что! Бывало, на прежних работах, дашь указание какому-нибудь лейтенанту следить за каждым шагом подозреваемого, так лейтенант тот носом землю роет, даже то, чего не было, в таком виде преподнесет, что ошарашенный подозреваемый своей рукой подписывает признание. А теперь все самому, все самому…
И Василий Васильевич, навострив слух и зрение, следил за контактами Камилла и Катеньки.
И успех сопутствовал усердному служаке! Он увидел, как вечером следующего дня, когда Афуз-заде подошел к метро, Катюша, ожидавшая его у входа, передала ему небольшой пакет. Хе-хе, салаги! Могли бы встретиться хотя бы на эскалаторе, а они… Видно не думали, что сам полковник ведет за ними наблюдение.
Камилл, которому Катя рассказала о разговоре с начальником первого отдела, договорился с Валентином, что он принесет ему вместо одного три экземпляра статьи академика Сахарова, но во избежание провала надо повременить денек. Однако соблюсти конспирацию вне стен института Камилл все же не догадался.
Ну не мог полковник сейчас же арестовать этого Афуз-заде, не мог даже устроить у него дома обыск нынче вечером - увы! И на девчонку он не мог опустить карающий меч, так как эта дурочка была дочкой его приятеля.
И дело было не в том, что полковник подозревал Камилла в размножении идеологически вредного документа (а зря, полковник!), он почти был уверен, что унес этот Камилл в своем портфеле какую-нибудь порнографию. Но не любил полковник всех этих евреев и татар, особенно крымских, и большое удовольствие получил бы он от изобличения этого гордеца в недозволенном деянии. Хоть бы постращать немного, поглядеть в его растерянные глаза!
Оставалось ждать иного случая, чтобы прищучить гражданина Афуз-заде. Но по своим служебным каналам донос на этого гражданина полковник все же направил.
Двадцать первого августа Советский Союз ввел войска в Прагу. Двадцать пятого числа того же месяца на Красной площади произошла демонстрация протеста против вооруженного вмешательства в дела суверенной Чехословакии…
Камилл был в возбужденном состоянии, подобном тому, которое он испытал двенадцать лет назад, когда войска были введены в Венгрию. Он с ужасом ожидал кровопролития на чехословацкой земле, такого, какое произошло в Венгрии. Но Бог миловал, кровь на этот раз не пролилась. Однако чувству человеческого достоинства был нанесен удар, ощущаемый, естественно, только теми, у кого это чувство было в наличии. Причем, достоинству приличных людей в СССР был нанесен урон даже больший, чем гражданам Чехословакии, ибо злодеяние творилось как бы от имени граждан Советского Союза.
Но не стоит село без праведника, и на Москве они оказались не вовсе истреблены. Вышедшие на Красную площадь с протестом граждане совершившей агрессию страны спасли достоинство ее жителей.
Среди пятерых москвичей, устроивших демонстрацию на Красной площади, были люди, с которыми Валентин и Камилл часто общались. Конечно, в досье того и другого появились новые страницы, в которых особо отмечалось, что эти двое после Двадцать пятого августа, дня, когда были избиты и арестованы пятеро героев, развили повышенную активность по организации выступлений в защиту этих пятерых. И тогда же на Лубянке было принято решение разделаться и с этими двумя – в числе многих таких же.
Валентин, работавший в гуманитарном институте, уже раньше был «подписантом», и он же обратил в «подписанты» Камилла, который был сотрудником естественнонаучного института, где диссидентские настроения распространились позже. Валентина по поводу его подписи под письмом в защиту далеко не худших граждан страны тогда вызывали в дирекцию и отечески журили, как впервые засветившегося. Теперь же он усугубил свое положение, и лично ответственный за него чекист задумчиво листал при свете настольной лампы его досье.
Среди лиц, подписывавших письма в защиту репрессированных органами людей было много представителей московской, и не только московской, интеллигенции. Органы госбезопасности не спешили подвергать наказанию каждого, ставившего свою подпись под такими письмами. Тем более, что после соответствующего собеседования в подобающей обстановке многие интеллигенты снимали свои подписи и зарекались впредь «поддаваться провокациям, организуемым агентами империализма», а то еще и брали на себя обязательство сообщать органам о тех, кто подбивает их на антисоветские акции.
С представителями семейства Афуз-заде органы не собирались проводить никаких душеспасительных бесед – бесполезно это было. Неусыпный контроль, изучение поступающих агентурных доносов - вот чем ограничивались органы в отношении этой семьи. И факт участия молодого члена этой семьи в компаниях по защите арестованных антисоветчиков фиксировался, но чего еще можно было от этого субъекта ожидать! Пусть его! - главное наблюдать за его местом в движении поднимающих голову крымских татар. Однако поведение Камилла в связи с событиями в Чехословакии переполнило чашу терпения достойнейших мужей, не досыпающих ночами на страже мира и спокойствия всего прогрессивного человечества. В ожидании лучших времен, когда проблемы можно будет решать ночными маршрутами «черных воронов» решено было выбросить этот чуждый элемент из стен Академии.
В кабинете директора Института за отдельно стоящим круглым столом сидели сам директор, парторг, завкадрами, начальник первого отдела и товарищ из райкома партии.
- Афуз-заде мне в институте нужен, - твердо заявил старый академик, выслушав деликатно сформулированные требования товарища из райкома.
- Так, значит, вы…, - начал было с металлом в голосе в последние недели ощутивший прилив новых сил полковник Вася, начальник 1-го отдела, прежде смиренно останавливающийся в коридорах института, когда мимо проходил не замечавший его директор. Но парторг толкнул полковника под столом ногой и выразительно посмотрел на него, и тот, пригладив лысину, сник, хотя в душе клокотало.
- Этот сотрудник мне нужен, - продолжил академик, заметивший, конечно, проскочивший между полковником и освобожденным партийным секретарем импульс. – Если вы предоставите мне прокурорский ордер на арест моего сотрудника, тогда рассмотрим вопрос о его увольнения.
«Ну, ты смел! - зло подумал полковник. - Распустили вас, захребетников! Ну, погодите! Чехословакию мы вам здесь устроить не позволим!»
«Молодец, старичок! – улыбался про себя партсекретарь. - Но обойдут тебя! Мягко обойдут, учитывая твой преклонный возраст и заслуги»
«Хватит, набоялись! Возврата к прежнему не будет!» - думал директор. Он недавно прочитал замечательную статью Сахарова, которого он помнил еще подающим блестящие надежды юношей, и получил невыразимое удовольствие.
А начальник отдела кадров, которому в последнее время в снах являлись менделисты-морганисты, молчал и думал, что коли прикажут, то подпишет, конечно, любую бумагу. Но рыть носом землю и проявлять инициативу он теперича не намерен. И вообще, надо бы съездить в Лавру, покаяться, а то призраки зачастили.
В тот день к большому недовольству товарища из райкома КПСС стороны к соглашению не пришли. Дело было весной 69 года.
Один из сотрудников института, отец которого был старым другом директора-академика, поведал Камиллу о том, что под него копают, и посоветовал соблюдать хоть какую-то осторожность. Камилл догадался, что предупреждение исходит от самого директора, и понял, что тучи над ним сгущаются. Однако никаких экстраординарных проступков за собой он не числил, как не числил и каких-либо героических выступлений против режима. После того, как один из его хороших знакомых вышел Двадцать пятого августа на Лобное место перед Спасской башней с протестом против осквернения улиц Праги гусеницами советских танков, он ощущал некоторую свою неполноценность, ибо его на эту демонстрацию не позвали. О каком доблестном его действии против поганой власти могла идти речь? И если уж на Лубянке вроде бы предали забвению его деятельность в Узбекистане, то что можно было инкриминировать ему нынче? Властям, безусловно, было ведомо, что на его квартире регулярно останавливались его земляки, приезжавшие из Средней Азии - но это не криминал. Он читал самиздатовские материалы, давал их читать надежным знакомым, в том числе из своего института - но тут прокола не должно было быть. Он подписал, осознанно проявив «мелкобуржуазный гуманизм», письмо в защиту Александра Гинзбурга? Так это был осмысленный акт, за который он готов был держать ответ, если бы его вызвали по этому поводу в дирекцию. Камилл чувствовал, что дело тут не в его «подписантстве» - он всегда интуичил в отношении происков органов. Так в чем же дело?
А дело было и в том, что подписал то письмо и другие письма. Главное же, что придавало куражу начальнику первого отдела, заключалось в том, что рост активности крымских татар возродил внимание верхов к этому народу, и кто-то, то ли в Политбюро, то ли в здании на соседней площади, сказал: после того, что мы с ними сделали, нам не приходится ждать, что они нас полюбят. Со всеми вытекающими из этого тезиса последствиями.
Совершенно верно - ни один крымский татарин, находившийся в здравом уме и не продавший свою душу, не любил обе эти инстанции.
Но скажите, ради Бога, почему чтобы любить свою страну надо любить Политбюро узурпировавшей власть партии, или Комитет государственной безопасности, во имя этой, якобы, безопасности уничтожавший лучших людей страны?
И разве нелояльность к власти означает в то же время и нелояльность к своей стране? Какая подлая подтасовка, уравнивающая высшую администрацию со страной! Подтасовка, рассчитанная на не умеющих думать. Разве нелояльность к властям означает желание вреда своей стране? Может быть как раз наоборот?
Районное управление госбезопасности запросило все свежие материалы по каждому проживающему в Москве крымскому татарину с упором на связь с семейством Афуз-заде. По Камиллу Афуз-заде выяснилось, что он
а) вел себя нагло в беседе с ответственными работниками органов в городе Андижане;
б) подозревается в организации антисоветского митинга в городе Ташкенте;
в) общается в Москве с кругами антисоветски настроенных интеллигентов;
г) укрывает в своей квартире разыскиваемых милицией нарушителей общественного порядка из числа лиц татарской национальности, прежде проживавших в Крыму;
д) замечен неоднократно в международном секторе аэропорта Шереметьево при проводах отъезжающих в Израиль отщепенцев еврейской национальности;
е) проявил недопустимую активность в оправдании преступной акции, предпринятой антисоветскими элементами на Красной площади 25-го августа;
- ну и так далее, а, кроме того, гражданин этот морально неустойчив, ибо до сих пор не женат.
По пункту (а) необходимо отметить, что лейтенант Федоров никакой компрометирующей гражданина Афуз-заде информации не предоставил.
С вышеприведенным списком грехов упомянутого гражданина был ознакомлен полковник Вася, начальник 1-го отдела, которому давно не нравилось, что в его институте ошивается этот крымский татарин. Выяснилось, что имеется стандартная возможность изгнать из Института доктора Афуз-заде.
На ближайшем совещании по этому вопросу в райкоме партии, на которое пригласили и освобожденного партсекретаря Института, товарищ из управления ГБ с удовлетворением констатировал, что через несколько месяцев предстоит очередное пятилетнее переизбрание гражданина Афуз-заде на должность заведующего лабораторией.
- Тут уж вы должны провести соответствующую работу, - обратился этот товарищ к освобожденному секретарю парторганизации.
Если бы такой разговор состоялся полгода назад, то партсекретарь определенно высказался бы против такого задания – было такое либеральное поветрие среди молодых партийных функционеров. Но теперь, после чехословацких событий, когда в досье партсекретаря были занесены, как он догадывался, его неосторожные замечания в дружеском кругу о «социализме с человеческим лицом» - сверкнула тогда искорка надежды! – теперь он хоть и не высказал готовности к этой «соответствующей работе», но смолчал. Он знал, - увы! - что по этому вопросу его еще пригласят для беседы и инструктажа.
И его пригласили и беседовали с ним, после чего он все свои либеральные побуждения загнал так далеко внутрь, что извлечь их оттуда стало практически невозможным.
Что касается Камилла, то поначалу предупреждение осведомленного коллеги не потревожило его жизненных устоев, ибо все мы, крымские татары, знаем, что находимся в зоне особого внимания. Но на следующий же день произошло нечто, что сильно потрясло его душевное равновесие.
Леночка отказалась идти с ним в театр.
Отказалась без всякого объяснения, просто «спасибо, но я не могу». Причем при этом разговоре, который происходил в бюро переводов, куда Камилл зашел в середине рабочего дня, она явно боролась с собой, избегала смотреть в глаза своего недавнего возлюбленного, а в какой-то момент Камилл перехватил ее полный горечи взгляд. Потом она опустила лицо в ладони и секунд через пять твердо посмотрела в глаза Камилла.
- Прости, но я сегодня очень занята, оставь меня, - требовательно завершила девушка разговор.
Когда пораженный Камилл в полном недоумении с обидой закрыл за собой дверь, ему показалось, что он услышал сдавленный плач девушки. Он вновь быстро вошел в комнату и на сей раз увидел злые глаза и услышал произнесенные с хрипотцой слова:
- Ты мне мешаешь работать…
Следующие три дня Лена в институте не появлялась, и ее коллеги уведомили Камилла, что она заболела. Однако ее домашний телефон не отвечал, если не считать того, что однажды в трубке послышался голос ее мамы, а когда Камилл поздоровался и осведомился о самочувствии Лены, в трубке раздались короткие гудки.
Желание увидеть новый спектакль в «Современнике» перед тем выразила сама Лена, и Камиллу не без труда удалось достать два билета. И когда в понедельник Лена появилась в институте, Камилл, не понимая, чем он мог ее обидеть, зашел к ней и, справившись о здоровье, спросил, всем своим видом и интонацией пытаясь скрыть вдруг появившуюся неуверенность:
- Так мы завтра идем в театр?
Сегодня Лена выглядела даже очень решительной. Она спокойно встала и вышла в коридор, где, невозмутимо глядя в глаза молодого мужчины, который не мог бы сейчас похвалиться своим хладнокровием, произнесла:
- Я тебе уже объяснила, что у меня много работы, и я совершенно не имею возможности проводить время с тобой. Так что прости, до свидания…
И так же спокойно, без торопливости пошла к дверям своей комнаты.
Прелестница Леночка оказалась человеком, который в критической ситуации может проявить характер, что она и сделала, получив некоторую информацию от одного из институтских «доброжелателей».
Три дня Камилл боролся с искушением подойти к ней в столовой, встретить ее после работы у метро. Сказать, что он не догадывался о причине ее разрыва с ним, было бы неверно, однако он не хотел принимать этой догадки. На четвертый день, выбрав момент, когда она оставалась в бюро переводов одна, он вошел и сразу же, стараясь сдержать дрожь в голосе, произнес:
- Лена, что случилось? Объясни, чем я тебя обидел?
Лена подняла на молодого мужчину злые глаза и кратко ответила:
- Мы больше не будем встречаться. Ничего объяснять тебе я не собираюсь.
Камилл выбежал из комнаты и в молчаливой ярости решил, что больше с этой бывшей подругой он не обмолвится ни единым словом.
Прошла целая неделя, во время которой Камилл боролся с собой, пытаясь работой отвлечься от мыслей о своей потерянной возлюбленной. Чтобы возненавидеть ее он вызывал в памяти ее жесткие слова во время последних встреч, ее холодное лицо – «как злость исказила ее черты!». Но эти картины сразу же ускользали и возникали другие, счастливые…
И в конце одного из рабочих дней он дожидался ее на скрытой за кустарником тропинке у входа в метро, чтобы еще раз попытаться объясниться. Он дождался ее. Она, весело смеясь чему-то, шла под руку с недавно появившимся в институте молодым сотрудником, о котором все знали, что он «позвоночник» - так называли в академических институтах тех, кого принимали на работу по звонку сверху…
Лучшего лекарства от любви, пожалуй, и быть не могло. Но душа Камилла еще долго болела. Впрочем, может быть, все дело было только в задетом самолюбии, ведь никогда прежде от него ни одна девушка не отказывалась. Однако сам он склонен был считать, что страдает из-за поруганной любви - это возвышало его в собственных глазах.
Все эти переживания не замутили его сознания настолько, чтобы он не понял, что над его статусом успешного ученого нависла серьезная угроза. Это не было для него неожиданностью, ибо ему ведомо было, что по табели неблагонадежности он и по персональным качествам, и по национальной общности числится в первых строках, и он знал, где и когда они постараются с ним разделаться.
Андрей, секретарь институтского Совета по переизбранию, его приятель, принес ему в лабораторию бланки, которые надо было заполнить, и, понизив голос, хотя в лаборатории никого кроме их двоих не было, сказал:
- Какая-то суета вокруг тебя. Так было, когда переизбирался Марик Коган.
И добавил со смешком:
- Ты, может быть, тоже в Израиль намылился? Может у тебя, Заде, мама еврейка?
- Мой козырь выше! – отвечал Камилл, пытаясь улыбнуться. - Я – крымский татарин.
Это мало что говорило Андрею, он, как и большинство людей, практически ничего не знал о ситуации с крымскими татарами, если не считать того, что слышал об их борьбе по радиоголосам, не вникая в суть проблемы.
- А что это означает, быть крымским татарином? Быть евреем – это понятно. А что такое крымский татарин?
- Крымские татары борются за реставрацию Крымского ханства и требуют чтобы Россия выплатила им дань за все прошлые годы, аж со времен Петра Первого, - серьезно отвечал Камилл.
Это абсурдное объяснение, прозвучи оно из уст, скажем, товарища Громыко, могло бы быть принято, несомненно, подавляющим большинством людей страны, но не такими, как Андрей.
- Ну, хорошо, - засмеялся он. - Во всяком случае, думай, какие шаги предпринять. Мое дело предупредить.
- Спасибо, Андрюша, - Камилл пожал руку товарищу. - Я, вообще-то, догадываюсь давно. Буду думать, спасибо.
Как это принято, была создана экспертная группа по оценке значимости работ заведующего лабораторией доктора наук Афуз-заде за прошедшее пятилетие. Сколь не желали того некоторые инстанции, в эту группу из трех человек не могли быть включены работники рангом ниже доктора наук, будь они, эти низкие рангом, хоть трижды членами компартии и кагебешниками. Единственно чего удалось добиться ученому секретарю Института, кандидату наук с подозрительным статусом, которого в качестве уступки за некую льготу со стороны городских властей утвердил директор-академик, так это создать экспертную комиссию из трех докторов, работающих в подразделении Института, находившемся в пригороде и выполнявшем спецзадания - почему-то было решено, что повязанные со спецорганами ученые будут более послушны.
- Тем более эти доктора не знакомы лично с Афуз-заде, - уповали инстанции на послушливость членов создаваемой экспертной комиссии.
Парторг института в присутствии меланхолического начальника отдела кадров без обиняков заявил членам экспертной комиссии при передаче им касающихся Афуз-заде материалов:
- Необходимо очень критически отнестись к работе Афуз-заде. Есть мнение высокой инстанции, что он малопригоден к работе в нашем институте. Вы меня понимаете?
Трое в высшей степени интеллигентных докторов были шокированы, но именно по причине своей интеллигентности не стали спорить с руководителем партийной организации. Однако, оставшись втроем, обменялись между собой несколькими фразами, из которых следовало, что, действительно, необходимо особо тщательно разобраться в научной продукции коллеги Афуз-заде – акцент, однако в таком решении был иной. Результатом проведенной экспертизы оказался вердикт о безусловной успешности научной деятельности переизбираемого заведующего лабораторией.
В Совет по переизбранию входили заведующие отделами и заведующие лабораториями, но не все. Кроме того, в этот Совет входили освобожденный секретарь партийного комитета, секретарь комсомольской организации, а также председатель профсоюзного комитета Института. Смешно, но в Совет входил, по установленной во всех научных и учебных учреждениях традиции, кто-то из совершенно не имеющих отношение к науке работников – «представитель рабочего класса». Это могла быть уборщица тетя Нюся, слесарь дядя Вася, стеклодув Григорий Иванович. В данном случае это был толстогубый блондин, бывший шофер одного из посольств в Африке, а ныне начальник институтского гаража Семенов. Начальник отдела кадров и начальник 1-го отдела в Совет не входили.
Инстанции, волю которых в данном случае исполнял парторг, были уверены в покорности перечисленных выше служителей системы. Кроме того, среди докторов наук была у инстанций пара «своих». Еще два-три человека могли по личным причинам не любить переизбираемого кандидата на должность. Можно было надеяться, что члены экспертной комиссии тоже проголосуют как надо, тем более что с ними еще однажды была проведена наводящая беседа, на этот раз руководителем их в значительной мере автономного подразделения, находящегося, как уже упоминалось, в пригороде Москвы. Но все равно необходимое число «черных шаров» не набиралось! Этот Афуз-заде имел больше друзей, чем врагов, черт бы его побрал!
Между прочим, напрасно парторг причислял к надежным противникам Камилла секретаря комсомольской организации, которой была Катюша из подразделения множительной техники.
Так или иначе, поручение вышестоящих инстанций оказывалось под угрозой срыва. В этих условиях необходимо было, не прибегая пока к мероприятию третьей степени, переходить к степени второй.
Заседание Совета проходило под руководством одного из заместителей директора института. Перед началом заседания сам парторг подходил к каждому члену Совета, за исключением безнадежных либералов, и произносил шепотом одну фразу:
- Рекомендуется голосовать против Афуз-заде.
В наступившем похолодании политического климата в стране можно было не опасаться последствий такой рекомендации, являющейся, по сути, давлением на членов Совета. А ежели кто и возмутился бы, то с рядового члена Совета, коим был парторг, взятки гладки – высказал, мол, свое мнение, и все.
Однако многоопытные доктора наук свое возмущение могли выразить и в протестном голосовании. Тогда уж спасти положение могла только третья степень.
Трое членов экспертной комиссии тут же обменялись впечатлениями о методе проведения заседания комиссии по переизбранию, и очень быстро единогласно, что было неудивительно, приняли решение, огласить кое поручили одному из трех, недавно получившему Государственную премию по закрытому списку:
- Я уполномочен заявить от имени экспертной комиссии, что все три члена нашей комиссии открыто подают свои голоса за переизбрание товарища Афуз-заде, - спокойно произнес лауреат Государственной премии и, передав секретарю Совета три бюллетеня, спокойно сел на место.
Такое заявление могло оказаться решающим: к числу подающих безусловное «за» при тайном голосовании, присоединялись три демонстративных открытых «за».
Вот вам результат распространения идей этого академика Сахарова!
Было очевидно, что без третьей степени не обойтись, и парторг с досадой подумал, что надо было сразу переходить к этой, самой надежной методе. Механизм здесь был простой: в работу счетной комиссии, выбираемой в начале заседания, внедрялся, по крайней мере, один «свой» человек, который при подсчете бюллетеней нагло писал в протокол нужные цифры. При подсчете голосов в комнате находился ответственный за мероприятие товарищ, который при возникновении недоразумения вмешивался, хотя права на это не имел, и требовал подписать протокол, апеллируя на недостаток времени для пересчета.
- Не будешь подписывать, не надо! Подпишет за тебя кто-нибудь другой. Мы же не можем заставлять ждать уважаемых докторов наук!
В этот раз воспротивилась внесению в протокол фальсифицированных данных та самая Катенька, секретарь комсомольской организации и ответственная за множительную технику.
Ей было грубо (пусть почувствует силу!) сказано, что она срывает работу занятых людей. А протокол вместо Катюши подписала председатель профкома, «свой», естественно, человек, которую задним числом ввели в счетную комиссию.
Потом Катю подверг дома обработке собственный ее папаша, а начальник 1-го отдела, старый приятель и собутыльник этого папаши, в последующие дни отстоял девушку перед инстанциями, убедив их одной фразой:
- За одного битого двух небитых дают…
Это было потом, а сейчас Камилла слегка качнуло, когда ему сообщили о результатах голосования, хотя неожиданности никакой не случилось - все шло к тому.
На следующий день к нему подошел один из докторов наук, членов экспертной комиссии, и сказал:
- Прошу не использовать сказанное мной, ибо разглашать эти сведения я, как член партии, не имею права. На экспертную комиссию и на Совет оказано было давление с целью недопущения вашего прохождения. Несмотря на это члены экспертной комиссии открыто заявили, что они подают свои голоса за ваше переизбрание. Мы не хотели бы, коллега, чтобы вы думали, что мы причастны к случившемуся безобразию.
А заместитель директора, проводивший заседание Совета по переизбранию в качестве заместителя председателя этого Совета, так разъяснил Камиллу произошедшее:
- К сожалению, сработал неконтролируемый механизм тайного голосования, - и улыбнулся, пристально глядя через стекла очков на забаллотированного доктора наук.
Сам же председатель Совета, он же директор института, неслучайно отсутствовал, уведомленный неким товарищем из высших инстанций о неизбежности того, что случится с заведующим лабораторией института Афуз-заде. Старый академик переживал нынче третий подобный период, когда из науки изгоняют неугодных коммунистическим карательным органам людей. Но тогда, в конце тридцатых и в конце сороковых, исход таких чисток бывал обычно трагическим для их жертв.
В душе Камилла занозой ныла недоуменная обида на коллег, которые, казалось бы, всегда к нему благосклонно относились, и вот, поддавшись давлению, все же проголосовали «против». Обида эта исчезла, когда в конце дня к нему в лабораторию зашла Катенька и плача рассказала, как был подтасован протокол счетной комиссии. Камилл гладил Катеньку по ее русой головке и советовал не оглашать свой протест, не рассказывать о приключившемся никому.
- Только себе навредишь, Катюша, а мне уже здесь помочь нельзя. Да ничего страшного и не случилось! Работу я всегда найду!
Камилл сдал оставшуюся у него в лаборатории красную ртуть по «совершенно секретному» протоколу, причем по поводу испарившейся при маленьких взрывах ртути пришлось писать специальное объяснение: испарилась, мол, при экспериментальном нагреве в боксе под вытяжкой – ищите следы в земной атмосфере. И не знал никто о трехлитровой канистре с красной ртутью, спрятанной в деревенском домике.
Глава 20
Зря был так уверен в своем ближайшем будущем Камилл - работу по специальности он так и не получил. Каждый раз отказ следовал сразу после того, как работник отдела кадров связывался по телефону с некоим вышестоящим учреждением.
Той же осенью был изгнан из своего института и Валентин. В отличие от Камилла у него был приготовлен запасной плацдарм благодаря его жене-еврейке – семья имела шансы получить разрешение на выезд в Израиль.
- Камилл, ты должен срочно жениться на «выездной» еврейке! – уговаривала веселая красавица Анна, валентинова жена, Камилла. – Я могу познакомить тебя с Жанной. Бюст – во!
И никак не могла понять, как не втолковывал ей Камилл, почему, «когда твой народ страдает в изгнании, лишенный элементарных гражданских прав», невозможно эмигрировать, как бы тебя не обижали в этой стране. А вот ее папа, Арон Моисеевич, все понимал и одобрял позицию Камилла.
Камилл информацию о систематическом отказе принять его на работу распространял среди знакомых и даже малознакомых людей, каждый раз сопровождая ее кратким комментарием. По известным каналам уведомление о незатухающей активности живущего в Москве крымского татарина попало к высокопоставленному столоначальнику.
- Значит надо вызывать на профилактическую беседу, - недовольно сказал столоначальник, выслушав краткий доклад офицера, сидящего напротив стола по левую сторону. Недовольство генерала было обусловлено тем, что эту проблему он считал ничтожной.
- Бесполезно - отвечал этот офицер, который знал Камилла так, как своего родного брата не знал. - Все его поведение доказывает отсутствие способности к социальной адаптации. Такие на компромисс не идут. Надо здесь и сейчас решать, как с ним быть.
- А как? – столоначальник пригубил чай из тонкого стакана в мельхиоровом подстаканнике, который ему принесла секретарша. – Гнать из столицы как тунеядца. Статья-то на таких у нас есть, слава богу. Или срок дать, или высылку.
- Дело в том, что у него связи с антисоветскими группами, - заметил другой офицер, который сидел тоже напротив, но справа.
- Ну и что? Боимся мы их, что ли? – столоначальник был старой закалки чекист, не понимал новых веяний.
- Видите ли, товарищ генерал, он же доктор наук, известен в научных кругах. Шум будет нежелательный.
Генерал подумал о тех, числящихся теперь в корифеях всемирной науки всяких там генетиках и физиках, - не этому чета! - которых он в свое время мочил, и никто не смел его упрекнуть в том, что он на допросе бил морду какому-нибудь там академику. Но времена нынче другие, и после паузы он произнес:
- Но он же не еврей, кому он нужен? Крымский татарин какой-то! Не станут из-за него шум поднимать. А? – генерал вопросительно глянул на сидящего справа.
- Товарищ генерал, - сказал тот, что справа, - мы проработаем этот вопрос и поставим вас в известность.
- Ну, тогда добре! – генерал с явным облегчением встал и протянул руку офицерам, давая понять, что разговор окончен. Оставшись один, какое-то время сидел с неподвижным взглядом, обдумывая происшедший разговор, которым он остался недоволен. Дался им этот Заде! Разбирались бы, коли так, сами!
Никакой корысти не было заниматься генералу этим татарином, тут с евреями вопросы решать надо!
Офицеры же пошли в буфет попить чаю.
- Я же сказал тебе, что принимать решение придется нам, - сказал тот, который недавно сидел справа, тому, кто сидел слева.
- Да уж, и в случае чего мы же будем крайние, - недовольно пробурчал тот, что знал Афуз-заде лучше, чем родного брата.
А между тем душа Камилла, выкинутого советской властью на обочину жизненного пути, все более и более приходила в смятение. Он вполне владел своим рассудком, но из-под контроля выбивались эмоции. Молодой мужчина, в ссыльном детстве своем умевший трансформировать невзгоды и обиды в решимость, теперь, во всесилии зрелости, терял себя, у него возникало ложное чувство своей ненужности в этой жизни – потому, может быть, что он оказался вне энергетического поля своего народа, обитал в окружении людей, если и не вполне благополучных, то, конечно, не изгоев, у которых отняли право жить на родине. С этими людьми нельзя было поговорить о главной мучавшей его проблеме, излить им душу - не поняли бы, а, может быть, нашлись бы и такие, которые ответили чем-либо вроде «А зачем вы немцам Крым продали?». И вместе с тем он понимал, что если сейчас он, спасая себя, уедет в Узбекистан к своим, то он лишит своих борющихся земляков той, в значительной степени уникальной помощи, которую он оказывает, проживая в столице. Но и оставаться в Москве, где он оказался лишенным привычной атмосферы научного труда, он тоже не имел сил - энергетика его иссякала, а соратники из Узбекистана или Крыма появлялись все же нечасто. Естествоиспытатель, он понимал, что ему, лишенному любимой работы, нужно окружение тех людей, которые имеют одинаковые с ним корни, с которыми он одних кровей, одной судьбы.
И друг Валентин свалил таки в Палестину…
Со временем понимание того, что все зло от сатанинского «интернационала» приверженцев «мировой революции», от ЦК коммунистов СССР и их метастазировавших по всей планете сателлитов, стало его больной мыслью. «Хорошо бы окружить место очередной кремлевской сходки этих претендентов на мировое господство кольцом из красной ртути», - думал он все чаще и чаще. «И окружающие строения в Кремле не пострадали бы, Дворец съездов рухнул бы сам в себя», - будто подсказывал ему кто-то.
Погубить множество людей…Чем же тогда он, лелеющий такие кровожадные мысли, лучше тех нынешних поселенцев Крыма, которые не стесняются говорить, что надо бы в сорок четвертом расстрелять всех татар?
Однако попытку трезво размышлять подавляла мстительная мысль – «я могу сделать это!».
До поры до времени такого рода болезненные размышления были на уровне тех отвлеченных фантазий, которые появлялись у него в достопамятном Чинабаде, когда он, умирающий от голода мальчишка, мечтал найти на дороге оброненную кем-то лепешку. Потом, однако, когда под влиянием общего потока событий в стране и поступающих из Крыма и Узбекистана сведений об издевательствах властей над его соотечественниками, нервозность московского безработного достигла крайних пределов, он стал вполне серьезно обдумывать возможность уничтожения своим способом тех, кто нес прямую ответственность за все наглеющий по всей планете коммунистический беспредел. И опять же кто-то лукавый подсказывал ему, что да, что он может сделать это.
Он стал ходить в Кремль и убедился, что окружить чем-либо Дворец Съездов нет никакой возможности. Тогда его мысль переключилась на Большой театр, в котором тоже иногда собиралась вся эта свора – здесь проблему «замкнутого кольца» легче было решить. Еще одним объектом было главное здание КГБ на Лубянке – так в народе продолжали называть площадь, на которой стоял главный корпус этого учреждения. «Но этот вариант был бы просто вымещением зла, практической пользы от него не будет», - думал Камилл. Оставался вариант с Большим театром.
Начав серьезно обдумывать этот диверсионный акт, Камилл столкнулся с большой трудностью – как создать замкнутое ртутное кольцо? Прорыть канавку вокруг намеченного объекта не представлялось возможным, да и такого количества ртути неоткуда было взять. Камилл додумался до того, чтобы найти волокно, которое смачивалось бы красной ртутью, пропитать ею нить из этого волокна и найти возможность выложить эту нить вокруг здания. Эта процедура была крайне сложна, но при наличии помощников или хотя бы одного помощника, можно было попробовать это выполнить. Надо было искать подходящее волокно, хотя само существование такового в природе было под большим сомнением.
Оказалось, что обычная шерстяная нить превосходно смачивается этой ненормальной красной ртутью! Но нужны были дополнительные опыты.
И однажды, уложив пропитанную этой ртутью и завернутую в полиэтиленовую обертку шерстяную нить между страницами книги – чтобы не образовалось замкнутое кольцо! – он отправился в лес. Там, зайдя в безлюдную глушь, он выложил на крепком пне кольцо из нити и резво отпрыгнул в сторону. Раздался взрыв, и в небо взметнулась тонкая струя пламени – это древесина вспыхнула необыкновенно горячим огнем.
- Идея работает! – возликовал Камилл.
…На шатком базальтовом карнизе в Злых Щелях два беса из сектора провокаций хохотали, подпрыгивая и похлопывая один другого по спине:
- И этот теперь наш, и этот скурвился! Ну, не думал я, что так легко его возьмем! - торжествовал Лохмач. – Подвезло нам с этой красной ртутью!
- Да, но над ним долго пыхтели наши коллеги из отдела Перспективных Программ. Только после их нелегкого труда мы взяли его! - Косокрыл был скромнее.
- Взяли голыми руками, тепленького! - хохотал бес.
- Все здесь будут! - поддержал Косокрыл своего коллегу, и оба закатились в новом припадке веселья.
Камилл, хотя и уверял себя в моральной оправданности принятого решения, все же мучался сомнениями. Теперь, когда оружие было испытано и задуманное дело стало вполне реальным, Камилл пытался вырваться из кольца мыслей, которые предсказывали ему удачное завершение его недоброго замысла. Он бродил по пустынным ночным улицам и продумывал ситуацию.
«Что лежит в основе моего плана, - спрашивал он себя, - месть или стремление спасти мир? Конечно, избавить мир от коммунистических режимов! Предотвратить худшее! Ведькоммунисты уже захватили почти всю Азию, пол-Европы, в Африке и в Южной Америке их все больше и больше… Я могу прекратить расползание этой раковой опухоли!»
«Но, - возражал он сам себе, - разве уничтожение главных коммунистов уничтожит идею? История учит, что устранять некомпетентных властителей террористическими актами дело бесполезное. Только системные изменения могут направить страну по новому пути».
- Вот бы взорвать Дворец Съездов, когда в нем соберутся все коммунистические вожди, - как бы в шутку сказал он однажды отцу. - А то, смотри, уже полмира прибрали к рукам.
- Нет, мой сын, нет! – жестко отозвался отец, отложив газету, которую он перед этим раскрыл. – Свою задачу утвердиться на всей планете они, коммунисты, осуществить не смогут. Признаки гибели идеи коммунистической экспансии витают в воздухе, но не все их ощущают. Однако есть и ощущаемые всеми обстоятельства, которые указывают на нежизнеспособность так называемого социалистического миропорядка. Это, в первую очередь, гиблая экономика.
Старый профессор встал, взял с полки серванта фланелевый лоскуток и протер очки.
- Так называемая социалистическая система не может накормить своих граждан. И разрушит эту нежизнеспособную систему не Америка, не НАТО, не террорист-взрывник – она подтачивает себя изнутри. Или сами коммунистические бонзы изменят свою экономику и отношение к своим гражданам, или население пойдет штурмовать Кремль и Лубянку.
- Нужна организация, которая поведет на штурм…
- Все будет. Когда плод созреет… Может быть и я доживу.
- А если придется долго ждать? – все с тем же деланно несерьезным тоном возразил Камилл.
- Нет, уже недолго. Но в любом случае что угодно, только не взрывы, не террор, - серьезно произнес отец, - Этот путь Россия уже проходила.
Сказанное отцом совпадало с пониманием проблемы Камиллом - теоретически. Однако он не мог избавиться от мысли, какое огромное удовлетворение он все же получит, когда сможет обрушить огромный зал со всей этой сворой, когда не станет этих всемирных монстров, сеющих ложь и смерть!
«Наказать их, чьи физиономии примелькались, наказать за Венгрию, за Чехословакию, наказать за мой народ!».
Так спасения человечества он хочет достичь или мести?
Проанализировав свое понимание ситуации в мире и высказывания по этому вопросу отца, Камилл должен был признать, что в его настроениях доминирует месть, именно месть. Он жаждет мести, наказания за горе своего народа - это ясно. Но кому мстить?
Уничтожение нации, геноцид - такое преступление не может быть искуплено никаким человеческим наказанием. Разве может повешение нацистских главарей быть искуплением за смерть еврейских детишек в газовых камерах или у расстрельного рва? Разве трупики татарских мальчиков и девочек на дорогах Узбекистана можно искупить казнью Берии и его приспешников?
Нет человеческого отмщенья за преступления против человечности!
За этот великий грех может воздать полной мерой только Божий суд!
Камилл, опытный естествоиспытатель, чувствовал вмешательство во все события, связанные с этой кровавой ртутью, чего-то постороннего, не вписывающегося в парадигму, в систему современной науки. Он пытался найти в допускаемых мыслителями всех времен формулировках хотя бы самое поверхностное определение происходящему с ним и с этим загадочным веществом и не мог найти. И, конечно, беспокоил его вопрос – почему для исполнения зловещего замысла избран он? Кто-то искал, где тонко? Искал изгоя? Обида и унижения способны сделать фанатика и мстителя из любого человека - но почему же именно он?
Ответа Камилл не знал. Он только, желая очистить усилием воли свое сознание от наваждения, пытался убедить себя, что на том этапе, на котором находится его страна, его народ, нужны другие, мирные методы борьбы.
Что касается лично его, то было очевидно, что КГБ всерьез решило с ним покончить. Почему? Помять его, а потом попытаться использовать его в своих интересах органы вряд ли надеялись – не тот материал. Значит, по-видимому, госбезопасность выполняла общую программу по недопущению выхода представителей крымских татар на всемирную арену. Допустили, вот, нескольких, так теперь с ними хлопот не оберешься!
Звериным чутьем органы кагебе выискивали и ликвидировали тех крымских татар, которые могли привлечь к этому поверженному народу внимание мировой общественности – кого убивали в подворотне, кого замучивали в тюрьмах, кому делали инъекцию раковых клеток, а кому перекрывали кислород на операционном столе.
Раньше, отчетливо видя все пороки страны, в которой ему довелось родиться и жить, Камилл с одной стороны полагался на свою пробивную силу, а с другой - надеялся на изменения в политическом климате. Теперь в свете грязных и кровавых акций, проводимых государством против не только крымских татар, но и людей других национальностей, причем тех, кто действовал только из желания улучшить ситуацию в родной стране, он все более разуверялся в том, что человек и его нужды будут уважаться властями когда-либо в ближайшем будущем. Так, может быть, все же красная ртуть?
Глава 21
Зиму Камилл провел невесело. Часть времени уходила на сидение в библиотеке, еще другая часть - на посещение разных учреждений, куда его рекомендовали желающие помочь приятели. Но так как любое трудоустройство предполагало прохождение через Первый отдел, то в конце концов Камилл везде получал отказ. Ситуация была осложнена и тем, что случай с крымским татарином Камиллом был один из многих тысяч – власти в последние годы развернули жестокую охоту на не стелящихся перед нею интеллектуалов любой национальности.
Непонятно было, какую конечную цель преследовали власти, обрекая тысячи подобных Камиллу специалистов на унижения.
Было ли это способом перевоспитания - гуманным способом, если сравнить его с «перевоспитанием» в системе ГУЛАГа. Но от чего желали власти отучить этих людей, умных, грамотных, способных, которые плодотворно трудились и доставляли истинную пользу своей стране? От непримиримости ко лжи, к несвободе.
Или это была злобная месть личностям, пытающимся сохранить хоть какую-то независимость от системы? Да! Пожалуй, это была месть честным, талантливым, успешным со стороны шумливых завсегдатаев учрежденческих и всяких других трибун, безнадежных и завистливых.
Все это не имело социального смысла, но к высшей власти прорывались худшие, хотя и весьма энергичные в своей беспринципности личности. Государство, страна терпели неизбывные потери, ибо недоброе отношение к творческим людям не формировало в этих людях покорность, но, напротив, озлобляло их. А зачем нужны государству озлобленные граждане?
И безработный ученый читал и перечитывал Герцена, Чаадаева, Салтыкова-Щедрина, и это чтение утверждало его в безысходности российской жизни – с одной стороны, а с другой – придавало силы к противостоянию.
Еще Камилл много, как никогда, ходил на лыжах, но и на лыжне в голове крутились все те же невеселые мысли.
Валентин с женой застрял в Европе, на полпути в Америку, где его ожидала престижная работа в одном из университетов. Задержался он по той причине, что вызов на выезд из Советского Союза у него был израильский, а в эту благословенную страну он ехать не собирался. Со Штатами же вышла бюрократическая заминка, которая, как уверял Валентин в своих письмах, должна обязательно благополучно разрешиться.
Камилл не хотел видеть никого из старых приятелей. Приятели звонили ему, справлялись о его бытии, но он отказывался от встреч, отказывался уже и от предложений чем-то помочь. В его положении многие начинают пить, но наш татарин избежал этой участи. Он приводил к себе девушек, новых девушек, которые не знали его преуспевающим гордым ученым, всегда немного пижоном и эпикурейцем. С этими девушками, с которыми он знакомился во время прогулок в парке, в метро, на улицах, он не ходил в театры, не читал им стихов и не рассказывал о чудесах науки. Он ставил на стол бутылку вина, а в магнитофон заправлял бобину с модными танцами или песенками - дешево и сердито! Девицы снимали тоску, помогали забыться, но наутро безнадежная действительность опять являлась во всей своей неизменности.
Вслед за болезненной весной пришел месяц май - предвестник лета. Несмотря на дивные погоды, душевное состояние было скверным. Взгляд его опять все чаще останавливался на дверце стенного шкафа, где над коробкой, скрывающей в себе фторопластовую канистру, стояла другая коробка с купленными в магазине на Арбате мотками шерстяной нити.
Если искать нечто положительное в нынешней жизни Камилла – это избыток свободного времени. Камилл был поистине свободным человеком, он мог распоряжаться своим временем по своему усмотрению, но в рамках, очерченных материальными возможностями и, разумеется, в границах «железного занавеса». В частности, давно хотелось ему побывать на Камчатке, в Долине гейзеров. И деньги пока что на такую поездку были - из тех, что копил на автомобиль. Камилл прикинул, что имеющегося у него капитала хватит на два года скромного существования, и даже подобные поездки позволительны. «Что ж, может быть, и на Камчатку махну! Вот только с кем?» - думал он.
Но пришло понимание того, что для обретения душевного равновесия ему не нужна Долина гейзеров, ему нужен Крым. Видеть свои горы и степь, дышать воздухом отчизны, пить воду, прошедшую сквозь подземные пласты родного Полуострова – вот лекарство от болезней тела и души!
И когда он понял это, он не мог дать себе и дня промедления, ему казалось, что не окажись он немедленно на крымской земле – остановится дыхание. А окончательно решить вопрос с пропитанной красной ртутью шерстяной нитью он еще успеет.
Май месяц был еще в самом начале, и число отъезжающих на отдых к морю еще не достигло должного уровня. Иными словами, достать билет в «мягкий» вагон не составило трудности, и Камилл, только еще накануне принявший решение ехать на родину, нынче уже располагался в пустом купе.
Наутро поезд приближался к Крыму. Вот остался позади Мелитополь, проехали Ново-Алексеевку, показались, а еще ранее были учуяны, воды Сиваша. И эшелон теперь мчался по территории Полуострова. Степь крымская была в цвету. В опущенное окно купе врывался свежий ветер, напоенный запахов трав, на которые богата и поныне Крымская земля - шалфея, полыни, низкоцветущей ромашки и Аллах знает, каких еще Его даров.
Когда поезд приблизился к станции Джанкой, Камилл принял своеобразное решение. Он сошел с поезда, переобулся в кеды и, закинув рюкзак за спину, пошел по Крыму пешком.
Оказалось, что не вся древняя степь распахана, что еще есть в Крыму земли, не тронутые дурным плугом. Камилл шел по ковыльной целине, по чернозему, и тонкая корка на почве похрустывала под его подошвами, будто бы земля была полита хрупкой глазурью, изготовленной из черного сахара. Эта земля была единственным достоянием его народа. Прах предков навечно упокоился в этой земле, здесь время не стерло еще следов, оставленных плугами прадедов, на этой земле еще сохранились, впрессованные временем в нижние ее слои, отпечатки копыт аргамаков и карабаиров, на которых отважные татарские воины мчались за Перекоп, чтобы побить агрессора или наказать предателя, чтобы добыть славы в бою и промыслить боевых трофеев.
Недобрые мысли роились в голове Камилла, который знал, что ежели сейчас ему повстречается милицейский патруль, то, как татарина, родившегося на этой земле, на него наденут наручники и хорошо, если выдворят за пределы «Крымской области», а не то еще прикончат да и зароют в овраге.
От сознания своей беспомощности перед торжествующим на его родине злом у него бешено билось сердце, вызывая тошноту и головокружение. «Ртуть, только эта чертова красная ртуть!», - шептал он.
Но защитные силы разума скоро переместили его чувства в другую реальность, в которой то, что он шел сейчас по крымской степи как изгой, как тать, пробирающийся тайком, казалось невозможным. В той реальности, в которую погрузилось его сознание, он был князем своей Отчизны, вокруг него были его гордые сородичи, умелые воины, умные дипломаты, справедливые правители. Седла на лошадях были великолепны, сабли было отличной ковки, обмундирование было замечательно пригнано, удобно и практично подтянуто. Где они, эти лисьи треухи, развевающиеся полы кафтанов – только продажные дешевки-историки могли нафантазировать такую расхлябанность в своих повествованиях и изображениях.
Да, все было в рамках тогдашних международных отношений - с соседями то дружил Крым, то воевал их, принуждал к выплате репараций и ежегодной дани. А такого, чтобы обманом присоединить, обещать покровительство, ограбить и разорить города и села, изгнать народ - такого история Евразии не ведала до той поры, пока не возросла на ее просторах Империя, прозванная позже Империей Зла…
Камилл с болью в сердце возрождал в памяти столетия славы своего народа. Но что поделаешь, судьба людей и государств подобна вращающейся лестнице – сегодня наверху, а завтра вновь внизу. Что для истории несколько сот лет! Ход истории нельзя остановить, и всякая мощь угасает, меркнет слава, чтобы со временем возродиться снова.
Камилл шагал по древней своей земле, вдыхал ее воздух, крымское солнце палило его, разглаживались морщины на лбу, и уже вместо исторических переживаний его стало занимать созерцание окружающих мирных картин, однако некоторая спутанность сознания оставалась. Вот проскакал на деревенской кляче белобрысый мальчишка лет двенадцати, и Камилл вспомнил, как в далеком отсюда Узбекистане он впервые в таком же возрасте взобрался на такую же клячу. И вдруг осознал, глядя на хлеставшего круп лошади мальчишку, что, видимо, неподалеку появилось жилье. Выскочила откуда-то рыжая собака, которая даже не залаяла, а удивленно воззрилась на чужого человека - посторонние люди редко появлялись на степном хуторе, который завиднелся справа от шествующего по целине татарина.
Жил на хуторе с женой хохлушкой русский Иван, которого в округе все звали Иваном Хохлом, да и сам он так представлялся посторонним, будто то была его фамилия. Поселился Иван у степного оврага давно, еще молодым и с молодой еще женой да с малой дочерью. Сейчас дочь работала в Харькове, а к нему отсылала на лето сорванца-внука, который и прибыл только вот вчера, и по такому делу зарезал Иван нынче овцу.
- Оставайся, сейчас хозяйка потроха жарить будет, - сказал он Камиллу, после того как напоил его холодной колодезной водой.
Камилл поглядел в степь налево, направо, оглянулся назад, потом ответил хозяину:
- Поллитру надо бы раздобыть…
- Так где ее тут раздобудешь, - рассмеялся хозяин. – Да ты не журись, самогонка найдется! Пьешь самогонку-то?
Иван изучающе глядел на гостя из-под растрепанных седых бровей. Был он бородат и бос, в серой рубахе поверх таких же штанов - ну прямо мужик с картины из Третьяковки!
- А чего ее не пить-то? - бодро и приноровясь к говору хуторянина ответил Камилл, который не был таким уж любителем выпить, кроме как по случаю и с друзьями. Сейчас хотелось дербалызнуть - по причине смуты душевной.
Застолье прошло не шумно, но достойно. Мужчины пили за каждого из присутствующих, за ближних, за Крым и за то, чтобы не было войны. Закуска была вкусна и обильна, поэтому хмель не брал. Уже можно бы и не наливать, но засоленные в дубовой бочке по татарскому рецепту помидоры и огурцы очень уж хороши были, и пили уже под незамысловатое:
- Ну, давай! Будем!
Потом потянуло вздремнуть, пристроились тут же под вишнями, на сене, а Одарка заботливо подсунула им под щеки сложенные вязаные телогрейки.
Проснулись подгулявшие часа через два, прошлись по огороду и уселись на пригорке под черемухой покурить.
А небо, между тем, затянуло серыми тучами, только на далеком, видимом с пригорка горизонте, еще голубела полоса.
- Заходите до хаты! Мабуть гроза буде, вон яка хмара! – окликнула мужчин хозяйка, когда на полностью затянувшемся горизонте замелькали отблески далеких беззвучных молний.
Зашуршало где-то не близко, потом накативший ветряной вал обрушился на бугор, где росли кусты черемухи, скатился с него на ячменное поле, катком пронесся по колосьям, пригнув их к самой земле, и вдруг наступила тишина. Стало стремительно темнеть - это тот самый ветряной вал взмыл под небеса и своей возросшей мощью нагромоздил друг на друга облачные пласты, в которых застревал солнечный свет. Над затихшей степью вдруг завился легкий ветерок, принесший какие-то белые пушинки, и округу наполнил особый предгрозовой аромат, знакомый Камиллу еще с детства и который он никак не мог сопоставить с запахами цветов и трав крымской земли - то была, должно быть, усложненная смесь этих цветочных ароматов, разбавленная с испарениями почвы, уже где-то политой небесной влагой, и, главное, с добавками озона и еще других, рожденных небесным электричеством молекул.
Недолго невинный ветерок оставался хозяином пространства между тяжело нависшими тучами и землей. Пришло первое холодное дуновение, потом движение воздуха на несколько секунд полностью прекратилось. С неба стали падать редкие, но крупные капли, как признак неизбежности ливня. Камилл и хозяин, со смехом подгоняя друг друга, поспешили под навес. Миновало еще две-три минуты, сверкнула молния, ужасающий треск грома заставил людей вскрикнуть, и внезапно все пространство оказалось пронизанным плотными ливневыми потоками, которые прижали насыщенный ароматами приземной воздух к грунту, загнали его в поры чернозема, тем самым облагораживая почву и увеличивая ее плодородную силу.
Шум низвергающейся небесной воды не мог заглушить раскаты громов, которые следовали друг за другом без передышки, но которые уже не тревожили сидящих под навесом мужчин, а, напротив, рождали в их душах необъяснимое веселье. Только тетка Одарка притулилась, напуганная, в сторонке и, мелко крестясь, беззвучно шептала молитву. Пацаненок Митька поглядел на бабку и, отойдя от нее, сел рядом с дедом, реагируя на каждый особо яркий блеск молнии и удар грома нервным хихиканьем.
Гроза длилась еще полчаса и поднадоела скрывающимся от нее под навесом людям. Даже тетка Одарка перестала бояться и занялась чем-то по хозяйству.
- Хорошо ты дом поставил, на отдельном бугре, - произнес Камилл, глядя, как дождевая вода стекает с наклонного притоптанного двора. – Глядеть приятно, как потоки дождевой воды протекают ниже плетня.
- Да, но огород сильно затопило, - огорченно заметил хозяин.
Дождь прекратился, тучи отплыли на восток, горячее уже крымское солнце быстро высушило двор. Но деревья и кусты еще долго хранили дождевую воду, которая при порывах ветерка мелкими каплями падала на землю – будто кто-то горсть пшена разбрасывал.
День клонился к вечеру, да и трава в степи была сильно мокра. Поэтому Камилл остался ночевать на хуторе. До сна еще выпили и закусили, потом хозяйка постлала гостю постель на лавке в хате, но Камилл выказал желание спать на сеновале, благо, что на степь, остывшую во время грозы, накатил под вечер теплый воздух.
- Одарка, дай гостю тулуп и одеяло, - велел Иван жене.
Гость и хозяин, прихватив грузный овчинный тулуп и набитое овечьей же шерстью стеганое одеяло, вышли во двор.
- Лягай на телегу, я сухого сена подложу, - сказал Иван. – Я и сам люблю на звезды поглядеть перед сном, - добавил он.
Камилл, не снимая одежды, лег навзничь на расстеленный поверх сухого прошлогоднего сена старый тулуп и долго лежал, не укрываясь, очарованный ночным крымским небом. Хозяева задули керосиновую лампу, светившуюся в окне, и теперь ни единый луч света от земных источников не мешал человеческому глазу созерцать великолепное звездное зрелище. Безусловно, ночное небо в исхоженных Камиллом горах Памира и Тян-Шаня, было такое же, а то и более полнозвездное. Но здесь было свое, родное небо, небо, которое созерцали многие поколения предков рода Камиллова, возлежали ли они на шелковом ложе или на брошенной на траву шкуре, пересекали ли они земли Полуострова на запряженной медленными волами телеге или в роскошном паланкине.
…Утром хозяйка подала на завтрак мясную поджарку с вечернего стола, а еще и свежего творожку со сметаной.
- А то оставайся еще. Одарка на полдник творожных вареников наделает, - соблазнял Иван гостя. Но гость, хоть и большой любитель вареников, уже собрался в путь.
- Спасибо, Иван, за постой и за харч. Сколько я тебе должен? – Камилл уже поблагодарил хозяйку, пожал руку пацану Сашке и собирался расплатиться с хозяином, вышедшим с ним за ворота.
- Не, оставь. Ты ж у меня в гостях.
- Иван…- Камилл понимал, что у хуторянина мало возможностей заработать денег.
- Все, я сказал! – сурово произнес Иван, давая знать, что разговор закончен, и Камилл протянул, прощаясь, руку гостеприимному хозяину, зная, что еще найдет время и завернет в эту степную глушь с гостинцами.
Травы вокруг, успевшие уже выбросить колоски и метелки, были, однако, молоды, шелковисты, податливы поглаживаниям легкого ветерка. Алые маки собрались большими группами, покачиваясь, обменивались впечатлениями. Некоторые представители этого красноголового племени, любители уединения, разбежались по полю, внеся на большое светлозеленое полотно оживляющие штрихи ярких иноцветных пятен. У продолговатых земляных холмиков – то ли останков давних татарских поселений, то ли окопных брустверов последней войны – тесно росли густофиолетовые столбики каких-то незнакомых Камиллу соцветий. Желтые первоцветы уже отошли, но немногочисленными семейками стояли, выставив напоказ свое светлое золото, другие, летние цветы на жестких стеблях. У небольших груд камней, также неведомого Камиллу происхождения, выделялись темной зеленью округлые листья лопухов.
Камилл вспомнил, как в детстве он любил лечь на землю и наблюдать жизнь обитателей трав. И сейчас он присел на корточки, всматриваясь в отдельные стебельки, в одиночные цветки. Вот скрывающаяся в собственном веретенообразном белом домике улитка взобралась к самым щетинкам колоска, своей тяжестью согнув в дугу тонкую зеленую трубочку стебелька, и какой-то жучок, с расписанной разноцветными узорами спинкой, уже с пристрастием присматривается к колоску, обычно витающему где-то на большой высоте над обитателем прикорневой зоны степной растительности. Зеленый кузнечик с черными усами разместился на черном дне красной чашечки мака – присел ли полюбоваться гранеными тычинками, дурманит ли себя маковой росой? И сосредоточенно бегают между трав муравьи, черные и желтые.
С беспричинным вроде бы, счастливым смехом Камилл лег на спину и обратил взгляд на раскинувшееся над крымской степью бирюзовое небо, небо цвета национального знамени крымских татар. Бескрайнее небо, бескрайняя степь, а между ними насыщенный эманациями крымской земли воздух - самый чистый, самый сладкий, исцеляющий телесные и душевные недуги воздух!
Он уже и прежде посещал город, из которого его депортировали в сорок четвертом, заходил в тот самый двор, проходил под окнами веранды, вспоминая в деталях ту ночь, когда под ногами скрипел мокрый от прошедшего дождя песок, и он, десятилетний, шел, держа за руку младшую кузину, к воротам, где ждал их грузовик, чтобы вывезти неизвестно на какие муки - то ли под свинцовые струи армейских пулеметов, то ли под щелчки чекистских пистолетов. Оказалось – везли на медленную гибель от голода и болезней в далекие края, на земли с другим вкусом воды, с другим запахом воздуха. Маленькая кузина, красивая пятилетняя девочка, умерла первой. Потом умерли другие…
- Это ты, Россия, убила моих братишек и сестренок. Зачем ты это сделала, Россия?
И в этот раз он посетил двор, из которого его вывозили в ссылку, побывал также в том доме, где жил до войны и где в квартире единственных оставшихся с той поры соседей ночевал в предыдущие свои посещения родного города. Теперь и этих соседей уже не было – старшие умерли, а молодые переехали в другие края. Только к вечеру пришел он устраиваться в четырехэтажную гостиницу, расположенную в центре Симферополя на месте каких-то снесенных домов – Камилл, старожил города, не знавал прежде здесь такого здания. Сидевшая за стеклянной перегородкой служащая гостиницы дала ему два квиточка, которые Камилл заполнил и отдал ей вместе со своим паспортом. Женщина несколько секунд молча глядела в паспорт клиента, потом, не поднимая головы, вернула его:
- В гостинице нет мест, - наконец глухо произнесла она, не поднимая головы.
- Как это нет мест? – до Камилла не сразу дошел смысл отказа.
Женщина, все также глядя в сторону, проговорила:
- Я не могу вас поселить без разрешения горотдела милиции.
Камилл все понял и даже рассмеялся над своей наивной недогадливостью.
- Ах, вот как! Ну…, - он помедлил. - Ну, соедините меня по телефону с милицией.
Он понимал, что ни с кем его соединять не будут, но, признаться, не знал, что сказать и что делать. Самым желаемым решением было бы сейчас же взорвать эту гостиницу к гнебеней матери вместе со всеми теми, кому, в отличие от него, хозяина этих земель, можно здесь проживать. Но не было под рукой кнопки, которую следовало нажать, да и жалко было бы симпатичную женщину-регистраторшу, которая явно смущена тем, что не имеет права пустить его в гостиницу только потому, что он крымский татарин. Теперь она смотрела в глаза Камилла, и он видел, как покраснело ее лицо, как дрожат губы.
- Может быть, мне обратиться к гостиничному начальству? – спросил он.
- Бесполезно, это такие люди…только хуже будет, - отвечала женщина, расстроенная, кажется, более Камилла, - А я уже имела строгое предупреждение, так что…
Потом, понизив голос, добавила:
- Знаете что, пройдите в коридоре в первую комнату налево. Там тетя Нюра, скажите, что Валентина послала. Она что-нибудь подскажет…
Камилл посмотрел на регистраторшу и ничего не сказав пошел в указанную комнату. Дверь была открыта и пожилая женщина, которая и была, наверное, той самой тетей Нюрой, складывала в стопки отглаженное белье.
- Я от Валентины, - Камилл вошел в пропахшее глаженым бельем помещение.
Женщина взглянула на него и произнесла:
- Подождите меня в фойе, я выйду, как освобожусь.
Камилл сел в кресло в углу, чтобы не встречаться взглядами с регистраторшей. Минут через десять появилась тетя Нюра и поманила его следовать за ней.
– Что, неполадки с паспортом? – спросила она, когда они оказались во дворе, и, не ожидая ответа, сказала: - Если во втором корпусе у коридорной место еще не занято, то будет вам, где переночевать.
На первом этаже второго корпуса служебная комната была не занята и за двойную плату Камиллу была предоставлена койка. Дело было в том, что на каждом этаже имелась такая комната отдыха, но предприимчивые женщины сдавали их нелегально постояльцам, которым в сезон не хватало мест в номерах, а сами устраивались все в одной комнате.
Камилл был вполне доволен, хотя в первую ночь долго не мог уснуть, переживая обиду из-за такого ущемления своих прав. И где? – на своей родине!
Оказалось, что в родном своем городе, где нынче не было ни родственников, ни друзей, ему делать нечего. Во вторник рано утром Камилл распрощался с приютившей его на две ночи коридорной, щедро расплатившись с ней, и пошел на железнодорожный вокзал. Но не к московскому поезду спешил он. Билет на Москву с выездом в пятницу вечером был у него в кармане, теперь же он собирался посетить Ялту и другие места Южного берега, о которых у него с детских лет сохранились яркие воспоминания. Троллейбус на Ялту отправлялся через полчаса, и билеты в кассе можно было свободно купить.
В салоне троллейбуса, который не заполнился и наполовину, Камилл сел на свое место, оказавшееся очень удобным для обзора и справа и слева, и в ожидании отправки машины развернул купленную тут же в киоске местную газету. Заслуживающей внимания информации в газете не было, и Камилл, зевнув, собирался вздремнуть, когда вошел водитель троллейбуса, а за ним билетный контролер. «Хорошо бы не вздумали проверять паспорта», с опаской подумал Камилл, но контролер только надрывал протянутые ему билеты. Камилл вспомнил рассказы знакомых, которых высаживали из курсирующего по Полуострову транспорта и препровождали в ближайшее отделение милиции, если оказывалось, что у приехавшего в Крым крымского татарина не было на руках путевки в дом отдыха или санаторий.
Троллейбус, наконец, тронулся, и сонливость у Камилла прошла. Он с интересом разглядывал открывающиеся вдоль трассы виды, стараясь в новых прозвищах встречающихся по пути населенных пунктов угадать их татарские имена.
Когда проезжали поселок «Перевальное», по настоящему Ангара, он смутно припомнил, как однажды родители вместе с ним ехали из Ялты домой в Симферополь. Из-за поломки автобуса они вынуждены были довольно много времени провести на крошечной автостанции Ангары. Камилл помнил, как стало прохладно и мама надела на него свитер, как потом они с папой по еле различимой в сумерках тропе поднимались на склон горы, как папа вдруг «нашел» в кустах бутылку с виноградным соком и коробку печений – отец любил такого рода игры с малышом сыном…
Справа на дороге появился трафарет с обозначением названия населенного пункта «Верхняя Кутузовка». Камилл не знал, что означает слово «кутузовка» - от «кутузка» в смысле «каталажка» или же от имени славного полководца Кутузова? Нет, второе вряд ли, ведь русские уважают своих полководцев, с какой стати всуе поминать его имя, да еще с суффиксом «ка», да еще «верхняя». Неужели есть еще и нижняя? Это как-то принижает… Камилл, начитавшись в свое время Льва Толстого, относился к Михаилу Илларионовичу с пиететом.
Как же это селение называлось прежде?
И тут же его осенило, что это, видно, старое татарское село по названию Шума. Ну да, это прежняя Шума!
И он рассмеялся, вспомнив, как его мама рассказывала о шалостях своего детства. Приезжал в летний день на своей арбе родственник из деревни Корбекиль, чтобы увезти детей, как теперь сказали бы, «на дачу» в горы. Дождавшись вечера, дети располагались на устланной одеялами телеге, родители ставили рядом корзины с едой - и в путь. Лошадки тянули телегу не спеша, дети сначала возились, то и дело одергиваемые сидящим к ним спиной дядюшкой, потом, когда опускалась ночь, успокаивались и любовались звездным небом, узнавая созвездия, споря о названиях звезд – папа их был учителем гимназии и привил детям знания по астрономии. Сон не шел, хотя дядюшка уже не раз предлагал им поспать – ехать еще долго. Проезжали Ангару, самый высокий и самый холодный пункт на алуштинской дороге. При приближении к Шуме, дети оживлялись, начинал посмеиваться и дядюшка, приговаривая:
- Этменъиз, балалар! Не надо, дети! – он знал, к чему они готовятся.
Когда арба проезжала уже последние дома села, дети начинали громко мяукать, а возница огревал лошадей кнутом, и арба, подпрыгивая на ухабах, быстро покидала территорию Шумы.
Интрига заключалась в том, что, якобы, когда-то соседи накормили жителей Шумы жарким из кошки, выдав ее за зайчатину. С тех пор и появилась эта дразнилка…
«А как теперь дразнят жителей этой Верхней Кутузовки?», с неприязнью подумал Камилл.
…В Ялте Камилл не пошел устраиваться в гостиницу по известной причине, а спросил у местного жителя, где тут можно снять жилье. Местный житель направил его на «биржу» частных квартиросдатчиков. Зайдя по пути перекусить в кафе, он разговорился с соседом по столику, и тот, узнав в нем земляка-москвича, посоветовал ехать в Алупку.
- В Ялте вы снимете койку где-нибудь у черта на куличках, а в Алупке отдыхающих мало, там и жилье качественнее, и цены ниже, - рассказывал Камиллу приобретший уже опыт москвич, и добавил: - Да и природа там лучше - море чистое и горы над головой.
Так или иначе, но Камилл решил послушаться совета, тем более что в Алупке он, кажется, никогда не бывал. Он еще с часик побродил по ялтинской набережной, узнавая балконы в гостиницах, где он когда-то жил с родителями. Нашел он и «Сад Эрлангера», где размещался престижный Дом Отдыха, и вспомнил, как в оранжерее этого «Сада» он собирал и ел клубнику прямо с грядок – для городского ребенка, до того видевшего ягоды только на тарелке, это было незабываемо. В этом «Саду Эрлангера» его папа имел именной номер как деятель культуры, способствовавший превращению разрушающейся усадьбы в престижный Дом Отдыха.
Потом он спустился на пляж, примыкающий к заполненной людьми набережной, оставил вещи на присмотр какой-то расфуфыренной даме средних лет, и разок проплыл до буйков и обратно – вода была еще холодна. Потом, съев пару грубых якобы чебуреков – чего только не станешь есть в нынешней Ялте! – отправился на автостанцию, откуда на маленьком старом автобусе поехал в Алупку.
Ай-Петри, который с территории Ялты видится башенкой над контрфорсом старинного замка в Алупке, действительно, нависал над головой, напоминая величественный трон великана. Но нет, не трон, нет…
Камилл вспомнил строки из сонета Адама Мицкевича:
Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни, Великий Чатырдаг, могучий хан Яйлы. О, мачта Крымских гор! О, минарет Аллы! До туч вознесся ты в лазурные пустыни.Минарет Аллы… Нужно обладать большой поэтической фантазией, чтобы обширное плоское навершие Чатырдага сравнить с минаретом. Однако это название, действительно, очень подходит к Ай-Петри!
Ай-Петри – это вознесшийся над Крымом минарет!
Камилл восхищался горной грядой над Алупкой, любуясь и озаренной солнцем короной Ай-Петри, и загадочностью его абриса на фоне неба, освещаемого ушедшим за гору солнцем, и волшебным мерцанием звезд, окружающих зубчатый контур в ночную пору…
Поселился он в хижине неподалеку от Алупкинского Дворца, пленяющего своим сказочным мавританским стилем. Раз в день спускался он по живописной тропе на маленький и каменистый алупкинский пляж, окунался в холодное море и, получив заряд бодрости, неспешно поднимался в парк. Ночью он долго не мог уснуть, и все же просыпался на рассвете, чтобы выйти в ночную прохладу и, усевшись на пригорке, ждать появления встающего из-за моря солнца.
В последние свои сутки пребывания в Алупке в конце теплой ночи, когда еще только поднялась над горизонтом звезда Чолпан – планета Венера, Камилл взошел на облюбованный им высокий склон встречать восход. С гор дул легкий бриз, неся запах лаванды – там, за Ай-Петри начинали зацветать поля этой травы. На темной поверхности моря, сливающейся у горизонта с темным еще небом, светились огоньки неподвижно лежащих в дрейфе небольших судов – сейнеров и пограничных сторожевиков. Камилл лег, запрокинув голову, на расстеленную куртку и глядел на звезды, пока небо не стало светлеть. В одно из мгновений той поры, когда заалевший горизонт четко выделил границу между бездонным небом и морской гладью, слух Камилла уловил эхом откликнувшийся над горами призыв:
- Алла-у экбер!
Камилл встрепенулся – не слуховая ли галлюцинация? Он оглянулся, словно вопрошая окружающие деревья и кусты, действительно ли был Голос?
И в этот момент вновь, отчетливо и мелодично прозвучало:
- Алла-у экбер!
Камилл вскочил на ноги и обернулся лицом к величественно спокойной вершине Ай-Петри, откуда в третий раз прозвучал священный текбир:
- Алла-у экбер!
Светлая радость наполнила все существо тайно посетившего свою родину крымского татарина. Он расставил в сторону руки, как бы желая обнять ими родные горы, он радостно смеялся. И опять оттуда донеслось:
- Алла-у экбер! - и предрассветный воздух упруго отозвался легким звоном.
Это четырехкратно провозглашенное славословие Всевышнему заполнило все пространство под огромным куполом неба, и в тот же миг проснулась вся Природа – зашуршали листья деревьев, стали перекликаться птичьи голоса, залаяли где-то собаки, заблеяли овцы.
Камилл, все еще не потерявший способности удивляться событиям, которым нет места в научных фолиантах, был потрясен. Он пытался убедить себя, что то, чему он стал сейчас свидетелем, есть галлюцинация, слуховая галлюцинация. Но четырежды неторопливо прозвучавший призыв и сопровождающие его впечатления настолько отчетливо отложились в сознании Камилла каждым своим мгновением, что сомнениям в реальности происшедшего не оставалось места.
…Задолго до описываемых дней, в год десятилетия изгнания с Полуострова его населения, посетил Крым некий иерарх в чине подполковника госбезопасности. Иерарх очень хотел стать полковником, что естественно для подполковников, но странно в отношении иерархов. Да ладно, не об увлекательных карьерах гебистов речь, а речь о том, что случилось после того, как оставшись на ночлег в ночь с четверга на пятницу в Алупке, иерарх рано проснулся и вышел подышать свежим ночным воздухом. Он стоял на веранде прекрасно расположенного дома и любовался открывающейся взору ширью моря, темного в прибрежной части и начинающего белеть вдали. Он обернулся назад, чтобы взглянуть на заалевшую по самому верху зубчатую корону Ай-Петри, и вдруг от этой короны изошел нарастающей громкости звонкий Голос, провозглашавший:
- Алла-у экбер!
За первым призывом последовал второй, и нервно передернулся подполковник, вслушиваясь в зависшее над Алупкой, над всем побережьем, над всем Крымом эхо утреннего эзана. Славящий Бога призыв коснулся, было, души иерарха, но ипостась подполковника взяла верх над душевным порывом, и когда прозвучал третий зов чекист, предполагавший что это уж последний, не удержался от грозного крика:
- Кто это сделал?
Сразу вслед за этим недобрым выкриком в четвертый раз с кристальной чистотой прозвучало:
- Алла-у экбер!
И этот неожидаемый четвертый призыв окончательно потряс немолодого уже подполковника, ударил его в грудь, свалил его на крашенные доски веранды, сдул в дальний пыльный угол. Но быстро вскочил офицер на ноги, нервно отряхивая полы пижамы, и громче прежнего закричал:
- Кто это сделал!
Не получив, естественно, ответа, он тотчас разбудил своего помощника и велел вызвать немедленно всех алупкинских начальников – полномочия у подполковника-иерарха были генеральские. И полетели телефонограммы со скоростью света, как им и положено, и пробудились ото сна офицеры и солдаты, которые – не прошло и часа! - обложили все подходы к массиву горы Ай-Петри – лиса не пробежит! А на саму вершину, откуда по уверениям подполковника-иерарха исходил призыв-текбир, отправился спецотряд чекистов-автоматчиков с заданием взять живьем того или тех, кто орал в мегафон с этой вершины.
Не нашли никого чекисты. Просочились, видно, злоумышленники через заслоны.
На горе и под горой на одну неделю оставили наблюдателей, а войска убыли в свои казармы.
На следующее утро никаких голосов над Алупкой слышно не было. Тогда убыл и иерарх в свои края, и успокоился, было, в нем подполковник. Но в следующую же пятницу записали наблюдатели-звукооператоры тот же четырехкратный призыв с той же вершины, о чем немедленно уведомили подполковника в рясе.
Иерарх кое-что смыслил и в смежных конфессиях. Он уяснил, что текбир разносится над Крымом только по пятницам - в святой для мусульман день. К концу следующей недели скрытно подобрались к горной гряде над Алупкой отряды в категории еще более «спец», и расположились в засадах. Сам подполковник-иерарх в ночь на пятницу тоже прибыл в Алупку, чуток только вздремнул, и задолго до восхода утренней звезды уже стоял, окруженный ревностными помощниками, на веранде того же дома. Он почти был уверен, что злоумышленники не смогли пройти через плотные заслоны на вершину Ай-Петри ни со стороны Яйлы, ни по отвесным скалам. Однако эти хитроумные татары, – а в том, что это были именно татары, никто не сомневался, - эти коварные преступники могли установить свой мощный громкоговоритель где-то в другом месте побережья, где спецвойск не было.
И вот в положенное время над Алупкой, над всем побережьем, над всем Крымом разнесся от торжественных вершин Ай-Петри четырехкратный призыв:
- Алла-у экбер! Алла-у экбер! Алла-у экбер! Алла-у экбер!
Теперь ни у кого не было сомнения в том, что татары установили в расщелине горы японский магнитофон, который раз в неделю включался самостоятельно и выдавал в громкоговоритель хвалящий Бога призыв. А сами злодеи давно покинули Полуостров, потому элитные части и не могли их обнаружить.
Три дня лазали по горному кряжу десять спецотрядов. Три дня искали спрятанные магнитофон и усилитель, обшарили каждую трещину. Тщетно!
И в следующую пятницу, едва забрезжила утренняя заря, пронесся над Крымом священный эзан:
- Алла-у экбер! Алла-у экбер! Алла-у экбер! Алла-у экбер!
Теперь к поиску японского магнитофона подключили отряд чекистов-альпинистов и вертолеты, снабженные мощными прожекторами.
И были на этот раз – ух, находчивы же ученые из гебистских шарашек! – задействованы установленные на вышедших в море миноносцах пеленгаторы звуковых волн, позволяющие с точностью до метра определять местонахождение источника звука.
Отряды альпинистов за семь дней поисков ничего не обнаружили, но их не вернули на места постоянной дислокации: они нужны были для снятия с отвесных скал источника, который обязательно будет запеленгован.
На рассвете в пятницу разнесся над Крымом изумительной красоты и звучания Голос:
- Алла-у экбер! Алла-у экбер! Алла-у экбер! Алла-у экбер!
Через двадцать минут вертолет уже доставил подполковника на борт миноносца. Специалисты-акустики записали утренний призыв к пятничной молитве на всех точках, но дать пеленг не сумели. Звук исходил из протяженной области пространства над вершиной Ай-Петри! Попросту говоря – священный текбир рождался на небесах и, сгустившись над зубцами горы, истинное название которой Минарет Аллы, разносился по всему Полуострову.
Благодарение Аллаху, который не оставил эту священную землю ислама без Своего благословения в те годы, когда не было во всем Крыму ни единого минарета, с которого муэдзин мог бы призывать правоверных к утренней молитве!
И сейчас, в новые времена, по великим праздникам Голос с Минарета Аллы провозглашает текбир – славу Единому и Всеблагому. Чтобы услышать этот текбир чистый душой человек трижды должен произнести на ночь «Ля иля-и иль Алла, Мухаммедун ресуль улла» и выйти в назначенный час под небо Крыма. И если будет на то воля Бога, то услышит он звучащий с возвышающегося над землей и морем Минарета Аллы пятничный эзан.
- Алла-у экбер! Алла-у экбер! Алла-у экбер! Алла-у экбер!
…веселый и решительный хозяин земли крымской Камилл вернулся в Москву с просветленной душой. И на следующий же день пошел к родителям, рассказать о чудесным образом звучащем над Крымом текбире, о том, что родная земля ждет возвращения своего народа.
Глава 22
«Что это такое – красная ртуть? Откуда она? Кто ее подбросил нам, людям? Зачем? Как предложение возмездия? Возмездие, как исправление мира? И выбран я?».
Примерно такие мысли обуревали Камилла, который был теперь настолько душевно здоров, что приходил в бешенство от вопроса:
- Почему был выбран я?!!
А ведь недавно он, действительно, был игрушкой чьих-то замыслов, готов был совершить навязываемый ему свирепый поступок…
Теперь он был независим от навязываемой кем-то воли и рассуждал совершенно трезво:
«Могу я взорвать, уничтожить? Могу.
Почему же я не буду этого делать? Из-за гуманности? Из жалости к заговорщикам-преступникам, из сочувствия к их детям? Боюсь божьего наказания? Совесть замучит?
Нет, не это главное. Главное – глупо! Нецелесообразно.
Ну, взорву я первых и вторых. А на их места придут третьи, которые остались дома и которые вовсе никудышные, неумные холуи тех, кто преуспел. Будет всей стране, всем племенам, населяющим ее, всем инородным сателлитам еще хреновее, чем при нынешних властителях. Третьи и все эти замы – они из тех, кто не сумел подняться выше, и вся их беспринципность им в этом не помогла. К тому же несытые они, эти никудышники.
А на нижних этажах эдакое начнется, такая свистопляска, такое бесовство! И вновь подсиживания, наветы, доносы… И не будет предотвращения народных бед, а будет приближение худшего.
Ну и совесть тоже… И душу свою жаль… ».
Надо было избавиться от канистры с тяжелой красной жидкостью, избавиться от возможности навязываемого искушения.
Почему-то ему казалось, что он должен вернуть эту красную жидкость, эту проклятую красную ртуть в те горные края, в недрах которых она зародилась. Однако добираться с сорокакилограммовой канистрой да с множеством транспортных пересадок в Хайдаркан было обременительно и небезопасно. И он нашел подходящий маршрут в горы Тян-Шаня, нашел прямой авиарейс из Москвы к берегу высокогорного озера.
Горные озера глубоки. Без покачиваний, строго по вертикали устремилась опущенная с одинокой лодки тяжелая маленькая канистра в темную бездну.
«Кто знает, не явится ли когда-нибудь опять эта фляга на свет Божий, извлеченная кем-то из озерных глубин?» – думал Камилл, очень, однако, надеясь, что эта ртуть, к появлению которой на земной поверхности он имел прямое отношение, не окажется никогда больше в руках человеческих.
И, конечно, не мог знать Камилл, что, коснувшись дна на километровой глубине, канистра с красной ртутью, подчиняясь неведомой силе, проникла в грунт, размягчая камень как нагретый металлический шарик толщу коровьего масла.
А те емкости, в которых хранилось загадочное красное вещество на специальном складе Института, при ближайшем обращении к ним оказались пусты. Можно предположить, что чудесным образом опустели они в тот миг, когда камиллова фляга коснулась дна горного озера.
Проникшая же в грунт канистра неудержимо прошивала земную кору, стремясь, казалось, к Ядру планеты, и вдруг завязла в смолистых переходах Преисподней.
В неприглядных интерьерах Злых Щелей чадило. Старший бес был до бешенства огорчен неудачей, но бес, который был старшее, урезонивал его:
- Мы без дела не останемся! Ты приглядись к этим бесхвостым двуногим, ага? Подбросит им Хозяин не красную ртуть, так голубой стронций или серебристый йод, как когда-то желтое золото. Они же, людишки, только чего-то такого и ждут! А как дождутся, так к нам и попадут, а?
Но Лохмач не мог успокоиться, лязгал зубами и бил копытами в камень.
- Какую возможность упустили!
И не ведали черти, что эта самая ртуть теперь оказалась здесь же рядом и уж никак не по воле их Хозяина…
Фторопласт расплавлялся в жару Геенны. Алая ртуть изливалась из продырявившейся посудины и тоненькими струйками затекала в трещины адских скал. И по этой причине трещины стали вдруг яростно разрывать горячие камни, опоры содрогались, рушились арки непрочных чертовых мостков. И грохнулись Злые Щели в бездну, уходящую к самому Ядру, оставив вместо себя Злую Воронку – ни выступа, ни галерейки, ни овринга.
И содрогнулись от того грохота далекие наземные горы, вдавившиеся своими корнями аж в горячую мантию планеты. И добежало это содрогание до Московского Кремля, насторожив краснозвездных стражей подземных кварталов Москвы, давно дожидающихся роскошных лифтов, которые в урочный час должны опустить сверху ценнейших людей страны с их семьями – здесь они могут жить, сколько понадобиться, пока ликвидаторы-смертники будут очищать от стронция наземный город.
И достигло это содрогание полуострова Крым, разбудило оно Старого Лесника. Вышел Лесник в своей длинной белой рубахе в ночь – что еще за напасть? Но ничто уже вроде бы не нарушало обычного спокойствия горного леса, только слышались редкие жалобные вскрики какой-то птицы, да стрекотали ночные насекомые. Поежившись от прохлады, Старый Лесник поднял глаза к небу, нашел взглядом низко опустившийся Большой Ковш и, протащив взгляд вверх, остановил его на всегда неподвижной Полярной Звезде. И неожиданно там, в северной части ночного неба, заслонив собой Полярную звезду, сгустилась устрашающая мгла. И в этой густой мгле возник клубок, превратившийся в огромный черный узел. Он ворочался на фоне звезд, то ли стремясь расслабиться, то ли затянуться еще туже, и вдруг завертелся уходящим куда-то за пространство вихрем. Закружилась голова у наблюдающего это коловращение человека, и схватился он руками за палки изгороди. Черная воронка вращалась с бешеной скоростью, раздулась, но потом вдруг очень быстро стянулась в точку и исчезла. А там, где исчезла темь, стало проявляться голубое сияние - не свет, посылающий на землю свои лучи, а только ярко выделяющийся на темном небе чистый, бирюзового цвета медленно увеличивающийся шар, будто наполненный дневным крымским воздухом. Достигнув размера кроны горной сосны, бирюзовый шар застыл и стал медленно меркнуть, пока не исчез. И все, и опять над потрясенным Старым Лесником простиралось обычное звездное небо, с которого успокаивающе светили на горный Крым три яркие звезды, Три Верблюдицы – пояс поднявшегося над горизонтом звездного Ориона.





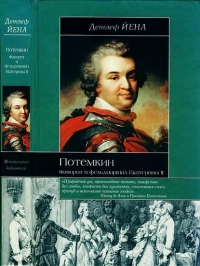

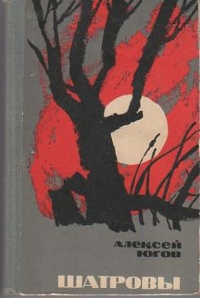

Комментарии к книге «Нити судеб человеческих. Часть 2. Красная ртуть», Айдын Шем
Всего 0 комментариев