Семь смертных грехов. Роман-хроника. СОЛЬ ЧУЖБИНЫ. КНИГА ТРЕТЬЯ.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой...
Анна Ахматова
Глава первая. ВЕЛИКО-ТЫРНОВО. ГЕНЕРАЛ КУТЕПОВ НА РЕКОГНОСЦИРОВКЕ
1
Александр Павлович Кутепов, уроженец северной губернии России, не любил южные города — их расслабляющий зной летом, наводящие скуку дожди осенью и зимой, непролазную грязь дорог и даже благоухающие дурманно-сладкими запахами (все запахи казались ему здесь отравными) цветники, кустарники и деревья.
Таким был черный дымный Севастополь, всякие там Ялты и Алупки, дерьмовый Константинополь, бурлящий, как адов котел, прокаленный солнцем и выжженный до черноты Галлиполи. Или жалкая деревенская столица — это София! Дыра! Поистине дыра. Что может заставить жить тут русского человека? Только судьба...
Пожалуй, некоторое исключение составлял лишь городишко Велико-Тырново, где он разместил штаб своего корпуса. Александр Павлович — с упрямой энергичностью — мог заставить себя жить полностью сегодняшним днем, отдаваться ему целиком. Он не думал о вековых ветрах, пронесшихся над мощными стенами некогда неприступных крепостей и прекрасными дворцами столицы Второго Болгарского царства, — а теперь над замшелыми камнями, остатками обрушившихся стен, — не думал и о короткой человеческой жизни, что и царапины не оставила на всех этих памятниках древности. Чем же занимался командир 1-го армейского корпуса, единственной боеспособной силы бывших вооруженных сил Юга России?
Врангель был далеко. Его громовые признаки не доходили сюда, в сердце Болгарии, даже слабыми раскатами. Наконец-то Кутепов остался один, сам по себе. Он стал командующим реальной силой, и он решал, как скорее пустить ее в дело. Действовавший всегда прямолинейно и резко, он упорно исповедовал свои взгляды, которые до последних времен так и не поднялись над взглядами любого строевого офицера — командира полка, а то и роты, — исповедовавшего лишь культ кулака, силы, атаки в лоб. Теперь Кутепову захотелось, наконец, кинуть в игру и свою козырную карту. Попытаться сорвать банчок, как пишут господа литераторы. Иногда, впрочем, приходила мысль о тщетности всяких попыток, рожденных бездельем, но генерал отгонял подобные мысли легко, считая свои доводы весьма весомыми. Он окончательно разошелся с Врангелем, в котором политик убил генерала и погубил Русское Дело. Кутепову всегда претили его лозунги о «правой политике левыми руками». Ему было противно и левое правительство лидера болгарской крестьянской босоты Стамболийского, которое, если бы не союзнички, царь и военные, давно попыталось изгнать из страны русские воинские контингенты. У них, в Софии, любой «шпак» мог продемонстрировать неуважение к русскому мундиру, толкнуть генерала, публично выступить хоть на площади, хоть в коровнике, именуемом палатой. Думой, парламентом — одно дерьмо! — с требованием выслать из Болгарии белых русских. К счастью, именно в Тырново собирались и противники Стамболийского. Полковник Самохвалов через своих агентов доносил: к открытой борьбе со Стамболийским призывали некие Атанас Буров и Тодор Тодоров, в недавнем прошлом крупные государственные чиновники. Тем лучше! Будет на кого опереться («впрочем, при крайней необходимости: все они дрянцо, все одним миром мазаны!»). И все же на первом этапе жизни в Тырново у Кутепова только вызревала мысль и о борьбе в одиночку, и о походе на Софию. Следовало сначала провести как бы рекогносцировку, да не одну. Необходимо было превратить Тырново в русскую крепость.. В неприступную крепость, где он мог бы и отсидеться, откуда мог и начать широкое наступление с целью захвата всей страны...
Генерал-лейтенант Кутепов поселился на старинной улице, символично, как ему показалось, носившей имя генерала Гурко, одного из русских героев борьбы с турками. Кутепову с полным почетом предоставили помещения в так называемом Русском доме, где, по преданию, находилась вначале ставка прославленного генерала, а ранее — Сарафкин дом, «меняльная валютная контора Димо Сарафина». Однако Александру Павловичу место не понравилось: рядом железнодорожный мост и тоннель — гремят поезда, шумит река. Неподалеку — на площади Батемберга — вечно толчется народ. И возле Народного банка, и банка братьев Сарынеделковых, и возле церкви Святого Константина и Елены. Шумно, суетно! Мышиная возня!
Генерал перебрался по улице Гурко выше, на северо-запад. Для этого были и особые причины: ближе и к Стамболову мосту через Янтру — ближе к пустующим болгарским казармам, на широком поле между улицей Балканской и отвесным скалистым берегом речной петли, где размещались части его корпуса... Улочка была замощена плоскими, одна к одной, серыми плитами. Двухэтажный дом под красной черепицей — верх деревянный, низ из серого камня, прочно врезанный в скалистый холм, косо подпертый для прочности мощными балками, — казался фортом. Кроме окон, заставленных цветочными горшками, и окон эркера, забранного решеткой, была еще длинная лоджия, где сушился красный перец, а в дождливые дни — белье. Улицу по склонам обрамлял довольно высокий цементный бордюр с чугунной оградой поверху. Перед домом, затеняя от солнца окна генеральского кабинета, непостижимым образом зацепившись могучими корнями за скальный обрыв, рос старый тополь, поднявший пышную крону немного выше покатой крыши. Кутепов, которым все чаще овладевали честолюбивые планы, порой сравнивал себя с этим могучим деревом. И он ведь не просто существует в этой богом забытой дыре, он готов к новой борьбе, он еще покажет всем этим генералам-политикам, на что способен. Судьба не случайно поселила его на улице Гурко. И дом указала не случайно. И огромный тополь перед окном ежедневно демонстрировал перед ним свою жизнестойкость. Это был символ, перст указующий, напоминающий о его особой миссии, о необходимости действовать. С лоджии кутеповского дома можно было шагнуть на крышу соседнего дома, прилепленного к скале чуть ниже. По веткам тополя легко подняться на другую улочку.
Оттуда рукой подать и до вершины холма. Мысли о трудности внезапного нападения весьма успокаивали Александра Павловича: не так легко добраться до него, схватить, уничтожить. Злоумышленником мог оказаться и агент Москвы, и местный болгарский большевичок («Их и тут развелось немало, растут, как грибы после дождя!»), а то и свой брат, офицер — марковец или дроздовец, который не мог простить своему командующему какого-нибудь ареста или взыскания за дисциплинарный проступок. Да, в нынешние времена верить не следовало никому. Опасность могла прийти отовсюду, с любой стороны. Впрочем, Кутепов не боялся: считал, за годы испытаний и в России, и в Галлиполи сумел выработать в себе чувство особой интуиции, предупреждающей его загодя о любой опасности, — словно какая-то сигнализация срабатывала в душе. Подозрительного человека Александр Павлович и за версту видел.
Раздобыв подробнейшие, крупномасштабные карты Болгарии и города Велико-Тырново, генерал с утра каждодневно погружался в их изучение, запретив беспокоить его даже дежурному офицеру. Только денщик Бенько мог заходить в кабинет. Федор — прошедший с Кутеповым все российское лихолетье, бои, эвакуацию Новороссийска и Севастополя, галлиполийское житье — был предан безоглядно и самоотверженно, как отцу родному, вере Христовой и самому господу Богу. Бенько появлялся неслышно: пристрастился ходить без сапог, в болгарских цветных чулках-чорапах. Осторожно ступая, приносил круто заваренный чай (Кутепов, не куривший и не выносивший спиртного, не пристрастился и к кофе), масло, сыр, горячие хлебцы; ловко и быстро затачивал кинжалом цветные карандаши, убирал кровать, приносил цивильную одежду, необходимую для ежедневных двухчасовых прогулок хозяина.
Велико-Тырново отражалось в желтых водах реки Янтра. Вырвавшись из пробитого ею в скалах ущелья Устиего (узкое место), Янтра делала несколько причудливых петель, омывая холмы, на которых плотно громоздился город. Холмы соединяли с окружающими долину горами узкие и высокие перешейки. Горы, охраняющие Велико-Тырново, переплетались в гигантские круги и восьмерки. Без сомнения, сама природа построила тут неприступную естественную крепость! Кутепов был доволен. День за днем он продолжал планомерное знакомство с городом. Начал он, конечно, с дальних подступов. На севере — с холмов Трапезица и Царевец, и еще дальше — с холма Гарваиец и ущелья Дервента, где скрывалась Янтра, текущая в сторону города Русе. На юге Кутепов не раз взбирался на Свету гору, где бродил среди развалин монастырей XIII — XIV веков, подолгу стоял перед памятником русским воинам, погибшим в освободительную русско-турецкую войну (отсюда, на западе, был виден и тырновский вокзал, привлекавший его внимание). Посещал он и русское кладбище воинов, умерших в ту войну в тырновском военном госпитале, в местности Пишмана на юго-западной окраине города, по дороге на Софию. Однако центр Тырнова интересовал его больше всего: путь от Русского дома до Стамболова моста, площади Царя Иваци Асена, площади Побед и Поборников, кратчайшее расстояние до казарм и до скоромной и тайной дачи Кутепова, окруженной виноградниками, неподалеку от дороги, ведущей на запад от Тырново к Софии. Кутепова мало интересовала история здешних мест: восстание против византийского владычества и разгром латинского рыцарства, объединившегося в Четвертом крестовом походе. Тем более — коронование вождя восставших пастуха Ивайло, недавняя борьба с османскими турками, когда Тырново пал последним, был разрушен и сожжен. Сюда в 1877 году вошла победоносная русская армия генерала Гурко — вот что представлялось ныне единственно важным!.. Пояснения давал «первый в армии энциклопедист» полковник Шацкий. Квартирьер корпуса заметно обрюзг, потерял и золоченые свои очки, и большую часть показной своей интеллигентности, но по-прежнему был велеречив, набит самыми разнообразными знаниями, которые буквально распирали его. Кроме Шацкого в «прогулках» участвовали Бенько — обязательно! — и кто-либо из адъютантов. Кутепов менял их чуть не каждую неделю, все никак не мог подобрать достойного. Последним назначил капитана Мащенко. Он еще не имел случая проявить себя, но привлек внимание командующего выправкой и поставленным голосом.
Кутепов был отличный, неутомимый и требовательный ходок. Расстояния его не смущали, он знал свои силы и точно рассчитывал время. Спутники всегда безбожно отставали, и он, поджидая их, гневался, не скрывая своего превосходства... В завершение очередной рекогносцировки Кутепов возвращался в свой район, спускался каменными ступенями — не то старой лесенки, не то по пересохшим руслам ручьев к улице Гурко. Стоял под столетниками на отвесном и скалистом берегу, сидел над светло-кофейной водой, думал. Иногда, словно проверяя какие-то идеи, вновь подымался на вершину городского района Вароша или на холм Орловец и снова думал о затаенном, еще никому не высказанном. Случалось, молчание затягивалось, становилось хмурым, грозовым. И каждый раз первым не выдерживал полковник Шацкий.
— Разрешите обратить внимание, ваше превосходительство? — играя красивым баритоном, спрашивал он, выражая крайнюю степень заинтересованности и удовольствия в том, что приобщает высокого начальника к своим знаниям. — Прелюбопытнейшие исторические места.
— А вы не меняетесь, милейший, — без поощрения заметил Кутепов. — Помню, еще во время оно так же изъяснялись... Подробно, — добавил он, не найдя подходящего слова. — Вам один офицер все поддакивал.
— Наоборот, возражал, — осторожно поправил Шацкий.
— И фамилию его помните?
— Капитан Калентьев, ваше превосходительство! — форсируя счастливые интонации, тянулся полковник. — Давненько не встречал. Вероятно, при штабе верховного, позволю поинтересоваться?
— А черт его знает! — откровенно грубо ответил Кутепов и легко стал спускаться по каменистому склону. Он оставался в отличной форме: крутой, плотно сбитый, со строевой выправкой, несмотря на цивильную тройку.
Закончив достаточно основательную рекогносцировку, Кутепов решил, что досконально познакомился с городом, его сильными и слабыми сторонами, и счел необходимым поделиться планами с наиболее доверенными лицами из своего окружения. Совещание было назначено на даче. Начальнику контрразведки полковнику Самохвалову вменялось в обязанность обеспечение скрытности начавшихся переговоров. «До чего ж развился в русской армии дух этаких либеральных совещаний, — думал Кутепов, оглядывая своих комбатантов — генералов «в сюртуках», большинство из которых в отличие от еще бравого Шацкого заметно подрастеряло боевой дух. — За любовь к подобным совещаниям я отрекся от Деникина, презирал Врангеля. И вот теперь — сам! — размышлял он с неприязнью. — Совещание в Филях! Зачем? На кого опереться, кому довериться, если начальник штаба одним глазом смотрит на нас, другим — на Кавказ. Вот он, генерал Достовалов. Выражение его лица: «Чего изволите-с?» — Но пойдет ли он за мной? Станет ли рисковать? Вряд ли, вряд ли! Приказывать бесполезно, уговорить трудно. Придется обмануть — иного выхода нет...» Кутепов понимал, что без совета генералов он не обойдется: без их общего мнения ему не уговорить Врангеля на восстание. В одиночку действовать ему не дадут. И власть захватить генералы ему не дадут, бонопартизм сидит в крови каждого крепко. «Надо ждать, лавировать. Надо перехитрить всех...» Кутепов пригладил ус, чуть подержал в кулаке расчесанную надвое бородку (этот жест все более входил в привычку), сказал, как всегда, коротко, четко выговаривая слова:
— Господа! Положение — тревожное. И со дня на день ухудшается. Генерал Достовалов, прошу! Документы, без комментариев.
Достовалов — как показалось, нарочито медленно — вынул из портфеля кожаную папку, оттуда бумагу. Развернул с хрустом. Сказал, глядя поверх голов собравшихся, точно тревожное положение касалось всех, кроме него:
— Кампания, предводительствуемая болгарскими большевиками и левой прессой, известна, господа. А также сходки и митинги в разных местах страны, начавшиеся весной сего года и достигшие апогея в апреле...
— Да-да! — оборвал его Кутепов. — Переходите к документам!
— Как будет угодно, — холодно ответил Достовалов и опять хрустнул плотным листом бумаги. — Двенадцатого апреля военный министр Гомов вынужден был давать объяснения парламенту. Цитирую. Гомов заявил: «Никакой вооруженной армии в Болгарии нет. Принято до сих пор тринадцать тысяч беженцев и бывших солдат с согласия правительства. Оружие их сложено в наших складах и охраняется нашими солдатами. Прибывшие из Галлиполи по железной дороге две тысячи войск привезли в багаже свое оружие, но оно также отобрано. Содержатся войска генерала Врангеля не на наши средства, а на собственные. К населению относятся любезно, вежливо, и никаких недоразумений не возникает. Отдано распоряжение использовать русских, на полевых работах».
Среди собравшихся прошелестел удовлетворенный шумок. Генерал Достовалов поднял руку:
— Девятнадцатого апреля в парламенте вновь было сделано заявление, содержащее три обвинения в адрес русских контингентов. Имеются в виду три эпизода, происшедшие в Казанлыке, Орханни и еще одном пункте. Надо ли?..
— Нет, генерал! — снова вмешался Кутепов. — Все ложь!
— Однако, ваше превосходительство, — решительно возразил кавалерийский генерал Абрамов, — прежде чем решать то, для чего вы изволили нас вызвать, хотелось бы иметь полную информацию.
Штаб Донского корпуса был расположен отдельно, в Старой Загоре, — и этот вечный самостийник и тут не удержался от своей всегда демонстрируемой независимости.
Кутепов заставил себя сдержаться. Сказал, зло блеснув узкими монгольскими глазами:
— Пустое, господа! В Казанлыке мы никого не расстреливали: ведется следствие. Остальное — обоюдные недоразумения, носящие личный, не политический характер. Обращаю внимание на более важное. Совет министров Болгарии вынес решение. Продолжайте, генерал Достовалов. Коротко, по пунктам.
— Пункт первый, — Достовалов был явно обижен. — Русские должны быть разоружены полностью. Они не могут пользоваться никакими правами воинских частей. Все контингенты принуждаются стать на работу. Второе: болгарское правительство обещает предпринять в дальнейшем шаги к амнистированию этих воинских частей.
Воцарилось молчание.
— Слово вам, полковник, — Кутепов, казалось, обрадовался произведенному эффекту. — Господин Самохвалов возглавляет ныне нашу контрразведывательную организацию — это для непосвященных. Прошу любить и жаловать, — в слове «господин» прозвучало и определенное пренебрежение, которое не смог или не захотел скрыть Александр Павлович, и все это почувствовали. Понял, конечно, и Самохвалов, лысеющий, с растрепанной бородой, играющий всегда под простака, что не раз вызволяло его из сложных и опасных ситуаций и тихо, но верно вело вверх по служебной лестнице.
— По моим каналам получено письмо первого секретаря болгарского посольства в Белграде. — На темном, заостренном, книзу лице Самохвалова не отразилось никаких чувств. — «Коммунисты в стране немногочисленны, — утверждает один из земледельцев, — хотя хорошо организованы и располагают при посредстве Москвы достаточными материальными средствами. При трезвом характере болгар идеи коммунизма не могут найти у нас применения. Для нынешнего, земледельческого правительства коммунисты совершенно не опасны». Теперь иная информация. Вождь коммунистов некий Георгий Димитров заявил на городском митинге в Софии: «Нет такого болгарского рабочего или крестьянина, который бы стрелял в русских рабочих или крестьян». Можете сопоставить, господа. Мы имеем дело с сильным и законспирированным противником. В компартии нам противостоит так называемая военная секция. Она имеет «выходы» на софийского градоначальника Станчо Трифонова и начальника жандармерии полковника Мусанова. Впрочем, тут необходимы проверки. Покорнейше прошу принять к сведению, мы в осажденной крепости, господа. У меня все, — и Самохвалов осторожно опустил на скрипнувший стул свое плотное, налитое скрытой силой тело.
— Эх-хе, — поморщился начальник дивизии, а ныне командир дроздовского полка генерал Туркул, прежний кутеповский любимец, которого уже с последних месяцев в Галлиполи Александр Павлович стал обходить своим благосклонным вниманием; побаивался этого гиганта, более других проявлявшего самостоятельность. Вот и теперь: хмыкает недоверчиво. Убеди такого маршировать в едином строю! Молдаванин, кукурузник, мамалыжник!
— Вы хотите что-то сказать, генерал? — совещание все более раздражало командира корпуса: одичали они на своих болгарских выселках, что ли?! Каждый лезет! И это высшие воинские начальники? Распустились, скоты!
— Так точно, господин генерал, — Туркул поднялся во весь свой гигантский рост, улыбаясь как-то криво, не то нахально, не то по скудости ума откровенно дурачась: — Я не понимаю. Какая, к чертовой матери, крепость, какая военная комиссия?! Почему меня пугают?! И кем?!.. Болгарами?! Местными большевичками, что продают на базарах брынзу? — он коротко рассмеялся и выругался.
— Позвольте заметить, генерал? — тут же взвился Достовалов. — Вы на заседании штаба, а не в кофейной, не в...
— Договаривайте, — лицо Туркула серело, глаза наливались кровью, — хотите сказать, в бардаке, так? — он бухнул кулаком по столу. — Меня это не обижает, и сатисфакции я не потребую, не бойтесь.
— Господа, господа! — послышались голоса, — Фу!.. Как можно?!
— Прекратить! — гаркнул Кутепов. — Немедля! Всем молчать! Всем! Забываетесь, господа генералы. Нас никто не демобилизовывал. Мы на русской армейской службе. Армия не простит и малейших распрей: они губят дело! Вы даже не потрудились узнать, зачем вас собрали, а ведете себя, как распоясавшаяся матросня в большевистском совете. Стыдно, господа! Не ждал... Я намерен ознакомить вас с наметками приказа по корпусу, но прошу, — Кутепов поднял левую изогнутую бровь, посмотрел яростно, переводя взгляд с одного лица на другое, — не перебивать! Не перебивать! Надеюсь, я выражаюсь достаточно ясно? У меня, слава богу, еще есть права.
Восстановив порядок, Александр Павлович сразу же перешел к сути дела. Он всегда считал себя человеком дела — военным человеком, которому не пристало юлить и размазывать, пускаться в рассуждения. Его язык это язык приказов. Четкие формулировки, четкая цель, необходимые средства обеспечения, резервы, запасные варианты. Охарактеризовав обстановку (повторив то, что не сумели как следует объяснить ни Достовалов, ни Самохвалов), Кутепов сказал:
— Нам не удастся отсидеться за высокими горами Болгарии. И пусть никто не обольщается. Мы обязаны действовать. Мы переходим в наступление, господа! Да, да! Болгария ляжет к нашим ногам. Надо заставить ее уважать наши мундиры, наши знамена, господа генералы!
Боже, что тут началось! Кутепов, предвидя некоторые трудности, споры по частным вопросам, был просто потрясен. Каждый из участников совещания находил возражение хотя бы по одному из разделов его плана, вместе они просто уничтожили все им продуманное и взвешенное. Командир корпуса на какой-то миг даже растерялся. И понял, что приказным порядком не добьется ничего (разве что утихомирит еще один скандал). Следует действовать хитро, осторожно, продвигая свои идеи обманом, внедряя их в сознание всех и каждого так же, как учитель внедряет в сознание детей таблицу умножения. Кутепов начал развивать свои планы завоевания Болгарии во второй раз. Дело двигалось медленно, — но ведь двигалось! Его слова рождали подобие мысли в глазах даже такого тугодума, как Туркул. Командир корпуса заговорил об особых благах и преимуществах, которые ждали каждого: известно, участника любого события надо заинтересовать, поощрить, облагодетельствовать... Кутепов подходил к концу своего директивного выступления. Он подумывал уже над эффектной концовкой — в духе бодром, мобилизующем, с обращением к богу и уверенностью в победе, но остановился на какое-то мгновение, — воздуха ему не хватило. Пауза была расценена как финал речи, ибо тут же поднялся ладненький генерал Абрамов и по простоте душевной задал вопрос, начисто разрушивший и совещание, и саму историческую идею командира корпуса.
— А каково мнение главнокомандующего о ваших инициативах? — безмятежно спросил он, не подозревая, какой силы удар наносит Кутепову. Ибо именно тут проходила четкая граница, разделяющая правду и вымысел. Кутепов не имел права схитрить в этом, в главном. Сумев, однако, сохранить полное хладнокровие, он ответил с простецкой интонацией — как о само собой разумеющемся: он завтра же выезжает в Белград с докладом генералу Врангелю, к которому намеревается обратиться уже с общим мнением старших офицеров, какое и должно выработать нынешнее совещание.
— Для подобных действий по Болгарин нам нужен приказ главкома, — безапелляционно заявил Туркул.
Его поддержали остальные.
Первый раунд политической атаки оказался проигранным. Соратники Кутепова не захотели действовать под его единовластным руководством, не хотели брать его в вожди. Может, они вообще не хотели действовать? Что ж! Предстояла встреча с Врангелем, Кутепов хотел избежать этой встречи: недостаточно хорошо знал политическую конъюнктуру в Европе, отношения с союзниками, колебания весов в русском монархическом лагере — и десятой доли того, что могло повлиять на решение главнокомандующего. Кутепов острым нюхом почувствовал: Врангель ослаб, политическая борьба изнурила его, партии и группировки, предпринимавшие попытки перетянуть его на свою сторону, теперь одна за другой отталкивали Врангеля. Он гнется, колеблется, не зная, за что и за кого уцепиться. Еще одна политическая или военная неудача — и он полетит ко всем чертям! Кутепов добьется своего иным путем. Он уговорит Врангеля, запугает его, выйдет из-под его подчинения, в конце концов. Есть и еще — последний! — способ. Крайний, но и его не следует сбрасывать со счетов. Вспомним генерала Романовского, чье устранение в Константинополе так и осталось для всех тайной. Побеждает не всегда умнейший или храбрейший, самый сильный или самый ловкий. Побеждает тот, кто должен победить с согласия Истории, тот, кто ей нужен.
Да!.. Следовало ехать к Врангелю. Ехать в ином, не продуманном, не исследованном еще качестве — похоже, просителем. Не ставить Врангеля перед свершившимися фактами, но обсуждать их и получать приказы, с которыми командир корпуса был заранее не согласен. Главное командование занималось чем угодно, только не русской армией, повышением ее сплоченности, боеспособности, решением способов скорейшего направления ее в дело. Поездка в Королевство сербов, хорватов и словенцев — пропади оно пропадом! — была тратой времени. Но!.. Надо было ехать: следовало добиваться любой ценой одобрения своих действий приказом главнокомандующего. Следовало уговорить «Пипера» возглавить всю операцию, брать барона в свое дело, причем брать главным. Вот как все оборачивалось!..
2
Ох, какой недобрый урок преподал Врангель Кутепову — на всю жизнь останется в памяти! Точно приготовишку на экзамене высек, выставил командира корпуса невеждой, несмышленышем, политическим профаном, видящим не дальше своей улицы Гурко. Врангель и теперь преподавал «науку воевать» по-своему...
Завалящий городишко, наподобие южно-российских, из самых заштатных, с маленькими домиками, крохотным вокзальчиком, двойной колокольней патриаршего собора, встретил Кутепова стремительным весенним дождем. Генерала никто не встречал. Пришлось Федору Бенько бегать под зонтиком в поисках извозчика. Александр Павлович в бешенстве крутил ус, кусал губы; не дай бог придется добираться до штаба в жалкой пролетке, телеге, дрожках. Коня — вот чего ему не хватало. Он пожалел, что не взял с собой ни Достовалова, ни адъютанта Мащенко: тот все же достал бы верховую лошадь для генерал-лейтенанта, ссадил первого встречного офицера, привел из штаба, из интендантства. А теперь и приказать некому. И на улицу носа не высунуть. Не хватает предстать перед бароном мокрой курицей!.. Коня, «полцарства за коня!» — Кутепов недобро усмехнулся. Тут езды до штаба минуты три. Кутепов свирепел от бессилия, непредсказуемости ситуации. Дождь все более усиливался.
К счастью, Бенько подогнал наконец извозчика. Старый брезентовый верх пролетки был поднят, рессоры, похоже, сохранились в целости, но каурый худющий конь с ребрами, как клавиши рояля, понуро опустивший голову, привел генерала в окончательное неистовство.
— Ты кого привел, Федор?! — не повышая голоса, чтобы не привлекать внимания, прошипел Кутепов, чувствуя, что вот-вот сорвется. — Полагаешь, я сяду на этого одра и поеду к главнокомандующему?
— Покорнейше прошу прощения, ваш высбродь! — вытянулся денщик. — Похоже, один на весь город, ваш высбродь! Другого нет.
— Скотина! — Кутепов все же сорвался и крикнул, но тут же чуть понизил голос: — Гони в штаб, дерьмо! Доложишь дежурному: прибыл генерал-лейтенант Кутепов для встречи с командующим, находится на вокзале. Пусть немедля вышлет все, что положено для встречи в армии. Понял? И позаботься местом для приличного ночлега. Буду ждать... И буфета нет, канальи! Скачи! Аллюром, Федор!
Последнее приказание прозвучало словно в насмешку: коняга, несмотря на хлопок кнута, покивал генералу костлявой мордой и медленно зашагал через привокзальную площадь, старательно обходя большую лужу, в которой вскипали крупные пузыри, предшественники долгого дождя...
Кутепов извелся, проклиная и порядки в штабе, и Врангеля, и себя самого, принявшего поспешное решение ехать, не выслав вперед того же Достовалова. Минут через сорок — не раньше — прискакал некий подполковник в сопровождении поручика, державшего в поводу оседланную лошадь. Представился неразборчиво: фамилия непонятная — вероятно, немецкая, мудреная («развел барон вокруг себя немчуру, уж это факт!»). Поручик имел вид неаккуратный: китель с чужого плеча, сапоги замызганные, на правом погоне нет звездочки. Кутепов — службист, хотел было сделать замечание, но раздумал и, лишь крякнув, легко кинул тренированное тело в седло. И — в галоп, с места...
Штаб главнокомандующего (со всеми службами), хоть и занимал единственное в городе трехэтажное здание, имел вид тоже довольно жалкий. Не живое помещение и не воинское учреждение. У входа Кутепова поджидал генерал Миллер. Александр Павлович и Евгений Карлович — вроде бы как друзья — обнялись и троекратно облобызались. Миллер хотел было затеять долгий разговор, но Кутепов, узнав, что Врангель у себя и ждет его, оставив позади нового начальника штаба главкома, быстро поднялся на второй этаж.
Врангель стремительно встал из-за стола и сделал шаг навстречу. Кутепов поразился: время, казалось, летело мимо «Пипера», не оставляя на нем никаких следов. Врангель был в черной черкеске с газырями. На груди — лишь Георгиевский крест; высокий стоячий ворот рубахи скрывал длинную гусиную шею. Шагнув чуть вперед, Врангель остановился в привычной своей позе — подбоченясь левой рукой и сжимая рукоятку длинного кинжала правой. Ждал, глядя на командира корпуса посветлевшими, навыкате глазами, как бы предоставляя гостю самому выбирать церемонию их встречи. Встречи не только начальника и подчиненного, но и конкурентов в борьбе за главенствующее положение в русской армии.
Кутепов, козырнув, представился по форме. Они сели на низкий неудобный диван у напольных часов в углу, возле окна. Ответив на несколько ничего не значащих вопросов, заданных из вежливости, Кутепов, не давая себе расслабиться и отказавшись от кофе и завтрака с дороги, принялся излагать дело, приведшее его к главнокомандующему. Тот слушал терпеливо. Сидел прямо, на самом краю кожаной подушки, глядел, задумавшись, как-то сквозь Кутепова, точно там, позади командира корпуса, видное через окно, и происходило сейчас самое главное. И только находясь рядом, Александр Павлович мстительно заметил перемены, происшедшие в издавна немилом «генерале от политики». Да, Врангель явно сдавал: лицо серое, под глазами мешки, лоб заметно полысел — волосы отступили чуть не к темени. И ему, командующему без армии, поди не сладко живется в глуши. Кабинет обставлен убого. Что у него, деньги кончились, у «Пипера»? Сомнительно! Из Ссудной казны главному командованию кой-что перепало, об этом все газеты кричали. Значит, игра, преднамеренные декорации, дешевый спектакль? Это в его духе — демонстрировать свой аскетизм.
Не отрывая взгляда от окна, Врангель щелкнул крышкой портсигара и закурил, пододвинув к себе низкий круглый столик. «Специально», — машинально отметил Александр Павлович, просто не выносивший в последнее время табачного дыма. Небольшой кабинет окутался плотным облаком. Кутепов заканчивал свое сообщение: Тырново он «берет» легко, тремя колоннами, выступающими одновременно из казарм, из района дачи на Севлиевской дороге и Русского дома... Докладывал, пожалуй, поспешней, чем того требовало дело. И все же не сдержался — извинившись, попросил раскрыть окно: частые головокружения, дает о себе знать контузия, полученная при оставлении Севастополя (никакой контузии, разумеется не было. Просто счел необходимым уязвить «гусака» напоминанием о его бездарном командовании в Крыму и беспорядочном бегстве частей).
Врангель точно не расслышал просьбу. Кутепов повторил ее.
— Конечно, конечно, Александр Павлович! Прошу, сделайте одолжение.
Пришлось гостю вставать и самому выполнять свою просьбу. Кутепов подошел к окну, толкнул раму, с удовольствием вдыхая пахнущий озоном воздух и непроизвольно фиксируя необычную картину. Возле входа в штаб часовой, оставив пост, обнимал полногрудую сербку, которая визжала в голос и смеялась от удовольствия. «Ну и нравы у них тут, в армии!» — злорадно подумал Кутепов.
— Вы закончили, генерал? — спросил Врангель, подчеркивая ставшим внезапно сухим обращением, что тема беседы будет носить исключительно деловой характер. — Вы несколько поторопились со своим визитом. Днями состоится совещание — мы имели в виду вызвать и вас. Но раз вы уже тут, позволю высказать вам несколько постулатов, касающихся русской армии и се положения в Болгарии — в первую очередь.
Врангель встал и, вскидывая острые колени, пошел к столу. Но не сел, а, отдернув зеленую занавеску и открыв карту Европы, остановился подле с видом профессора-генштабиста, приготовившегося прочесть лекцию по тактике для молодых юнкеров.
«Посмотрим, о чем он заговорит, — Кутепов все с большим трудом сдерживал неприязнь. — Начнет прописными истинами сыпать — сорвусь. О Болгарии, видите ли, берется рассказывать! Поторопился с визитом! У меня армия — более тридцати тысяч, у него — один часовой на посту, и тот бабу обнимает... Кабак!.. Приму под козырек и уйду. Витийства выслушивать сил не имею. Желаю здравствовать, ваше превосходительство...»
Кутепов демонстративно откинулся на спинку дивана, какая-то пружина отозвалась странным звуком, похожим на короткий смешок. Врангель покосился, мгновенно определив агрессивное состояние подчиненного и приняв решение игнорировать это состояние. Требовалось доказать этому выскочке, что он полный ноль.
— Первое, дорогой Александр Павлович, — сказал он наставительно, — должен констатировать, что идеи ваши не расходятся с идеями главного командования, выбравшего именно Болгарию для нанесения первого удара. Быстрого и решительного. Как известно, Нейиский договор разоружил Болгарию и запретил всеобщую воинскую повинность. Под ружьем у них не более двадцати тысяч с полицией. Вы абсолютно правы — как солдат... — и поспешил поправиться: — Как полководец. Но как политик вы не учитываете весьма важных факторов. Так называемый земледельческий народный союз, имеющий поддержку масс, уже провел ряд демократических реформ. Массы за него. Несомненно! И определенные русские круги эмиграции, участвующие в совместных с болгарами технических обществах — «Янтра» там, «Арт» и тому подобных. Это весьма симптоматическое явление. Второе — деятельность коммунистов, усиливающаяся день ото дня, направленная и против нас с вами: митинги на площадях, листовки, выступления в парламенте, в газетах. Скажу больше, коммунисты разлагают русскую армию, ведут активную кампанию за репатриацию наших солдат и офицеров в Россию, с которой, разумеется, требуют скорейшего установления дипломатических отношений. Играют и на низменных чувствах людей: русские-де солдаты усиливают экономические трудности страны, увеличивают безработицу. Это вызывает злобу и ненависть, — Врангель прошелся вдоль стола, посмотрел на Кутепова значительно, с презрительным сожалением. — Ваш корпус, генерал, за несколько часов разметал бы всю болгарскую армию. Не сомневаюсь, — главком издевательски хмыкнул. — Но тут же коммунисты подняли бы против вас народ. Вы ведь осознали, как трудно бороться против целого народа, генерал. И победа тут весьма проблематична, согласитесь.
— Я могу согласиться со всем. Но что вы предлагаете, ваше превосходительство? — он подчеркнул интонацией слово «предлагаете».
— Минутку терпения, генерал, — Врангель уже переламывал настроение этого солдафона. Он чувствовал: его воля берет верх, и радовался, что столь скоро укротил самого буйного и неуправляемого из своих сподвижников. — Второе из главных обстоятельств — это союзники, Александр Павлович. Среди своих велико-тырновских гор вы абсолютно забыли про них, выбросили из головы — сознательно или от справедливой обиды. Я понимаю вас. И призываю, вдумайтесь только в один факт. Только в один! Генуя! Союзники сели за стол переговоров с Лениным.
— Тут и необходимо показать миру, что мы есть, что мы — сила, способная к действиям, — с вырвавшимся озлоблением мотнул головой Кутепов, и его глаза угрожающе сверкнули.
Врангель порадовался рано: Кутепов оставался Кутеповым, и даже аксиомы он оспаривал, если они не соответствовали его представлениям, просто сбрасывал со счетов — если они мешали осуществлению его планов. Не дай бог хоть чуть-чуть отпустить вожжи — понесет неизвестно куда, не разбирая дороги, сшибая и своих и чужих... Врангель вернулся от не понадобившейся ему карты и, снова сев на диван, сказал миролюбиво, точно разговор только начинался:
— Давайте-ка по чашечке кофе, Александр Павлович, а? Надо собраться с силами: разговор долгий.
— Чайку, если можно, ваше превосходительство. С удовольствием бы выпил, во рту пересохло.
Врангель позвонил в колокольчик. Казачок внес поднос с походным серебряным самоваром, стаканы, лимон тонкими кружочками, бутерброды с колбасой и сыром, икру, осетрину, маслины, сербские маринованные огурчики, кинул скатерку на столик, мигом поставил два прибора, рюмки, бутылку французского коньяка.
«Недурно, — мелькнула мысль. — Аскет «Пипер» отнюдь не голодает!»
— Подкрепимся, Александр Павлович? — Врангель налил рюмки. — Предлагаю за встречу и сотрудничество. Согласны?
— Ваше здоровье, Петр Николаевич. Хотя я и не пью, как вы знаете. Наши успехи!
Они отхлебнули по глотку и одновременно поставили рюмки.
— Не думайте, что я сгущал краски, Александр Павлович. Я реалист, мне это вредит. Но!.. Все, что я вам говорил, все, что услышал нынче от вас, уже детально обдумывается моим штабом. Скажу больше: приказ главного командования, одобренный совещанием старших начальников, будет в самом скором времени разослан по армии... А теперь почту за необходимость раскрыть и нашу третью карту. В Болгарии существуют реальные силы, противостоящие Стамболийскому. По моему поручению налажены весьма тесные контакты с организацией, именующей себя «Военной лигой». Если наши выступления совпадут, а Лига составит новое правительство, — представляете, генерал, с нас и взятки гладки: правительство, борясь с большевиками в стране, просит нас о помощи. И мы оказываем им эту помощь. Общественное мнение Европы молчит. Союзники молчат. Никто не имеет права хоть в чем-то упрекнуть русских. У нас развязаны руки, генерал!
— Браво, ваше высокопревосходительство! И трижды — ура!
— За успех наших планов! — Врангель долил рюмки. Встал.
— С богом! — Кутепов почтительно чокнулся, отпил еще глоток.
— Закусим, чем бог послал, Александр Павлович. Прошу вас, прошу! Не стесняйтесь, — и он с удовольствием принялся за икру. Прошу прощения, ваше превосходительство, — Кутепов окончательно капитулировал по всем статьям: — Когда полагаете провести совещание? И в каком составе?
— Это в компетенции только генерала Миллера, Александр Павлович. Полагаю, состав узкий: кроме вас нам никто и не нужен, — не преминул польстить Кутепову, но, чтоб не выглядело это слишком уж нарочитым, добавил: — Генерал Витковский, Потоцкий, Вязьмитннов, Абрамов, Ронжин... Ну кто еще? Возможно, Кривошеин... Да, еще Самохвалов, он — наши глаза и уши. После таинственной смерти генерала Перлофа... Вы, конечно, знали его. Говорят, месть, но я уверен, агенты Москвы. Жаль. Абсолютно преданный делу был человек, абсолютно. Глобачев заменить его не может. Пришлось пристегивать к нему в помощь и Самохвалова и рекомендованного мне Климовичем Тарасевича. Вроде бы они всели на хвост некой организации. Но!.. Слова, слова, слова! Дела пока никакого. А ведь мы здесь, в Сербии, со всех сторон окружены откровенными врагами. Хотя это ли не доказательство нашего существования, нашей силы, дорогой Александр Павлович?!
И тут произошло непонятное. Звуки речи главнокомандующего исчезли. Открывался рот, кривились губы, усы, двигались в повелительных жестах руки, а звуков не было! Кутепов отстраненно смотрел на командующего и точно не узнавал его: что-то менялось в нем, что-то ускользающее... Потускнели, утратили всегдашнее волчье выражение глаза. Сухая пожелтевшая кожа плотно обтянула скулы. В речи появилась торопливость. Ведь и слова не дает вставить. Точно молчал месяц. И вдруг пришла ясная мысль: за всю их беседу ни одного слова по-немецки. Ни одного! На славянских Балканах Врангель — русский человек чистых кровей, ведь он представляет тут белую Россию я ее армию. Какой там немец, швед, датчанин?! Русский он, русский!.. Славянин! Вот в чем дело!
В ЦЕНТР ИЗ БЕЛГРАДА ОТ «0135»
«Кутепов в Сремских Карловцах имел встречи с Врангелем, участвовал в совещании высших начальников. Из Болгарии вызывались: Абрамов, Витковский, Достовалов, Туркул, Думбадзе. Присутствовали также Шатилов, Миллер, Вязьмитинов, Глобачев, Самохвалов, Ронжин. Совещание проводилось в конспиративной обстановке как «выработка решения относительно требования болгарских властей, данных в чрезвычайно оскорбительном для армии тоне».
Врангелю был подан рапорт генерала Шатилова. Копию высылаю. Штаб главкома в спешном порядке вырабатывает приказы по Болгарии. В Тырново их повезет Издетский. Мой маршрут — Париж. Полагаю, в связи с открытым заявлением прессы по поводу Генуи Прошу разрешения контакты с «Доктором». Передачу денег небольшими суммами Издетскому продолжаю. Весьма ограничен в передвижениях. Нуждаюсь в помощнике, дополнительном канале связи
0135.».
Приложение.
Копия рапорта генерала Шатилова:
«...Положение русской армии в Болгарии в случае вооруженного выступления земледельцев будет для нас чрезвычайно затруднительно В этом случае нам необходимо соблюдать полнейший нейтралитет, дабы не вызвать к себе новый взрыв вражды со стороны болгарского народа и иностранных держав, этого же требует наш долг по отношению к гостеприимно принявшей нас стране. При этом положение наше будет значительно облегчено, если болгарская армия в этом вооруженном выступлении окажется на стороне короны. Если же она расколется и в большей своей части окажется на стороне земледельцев, то обстановка для нас сложится значительно тяжелее, но и в этом случае я не вижу оснований отказываться от нашего нейтралитета, так как конец борьбы будет знаменовать возвращение к существующему ныне политическому положениях Только в одном случае обстановка может заставить нас выйти из положения нейтральных зрителей, именно, если это выступление будет организовано земледельцами совместно с коммунистами, так как успех в борьбе, одержанный левыми партиями, при этой группировке сил имел бы первым последствием расправы с нами...»
Резолюция на информации:
«Контакт с «Доктором» разрешить. Принять меры к установлению надежной связи «0135» с «Цветковым».
ИЗ ЦЕНТРА В БЕЛГРАД «0135»
«Встреча с «Цветковым» в Софии, парке «Борисова Градина», вторая скамейка справа от входа, первый, третий понедельник с 17 до 18 часов. По средам — кофейня «Варна» на улице Царя Шишмана, второй столик, справа от входа. Ваши приметы «Цветкову» известны. Пароль: «Ужасно разболелся зуб. Не посоветуете ли хорошего дантиста поблизости?» Отзыв: «У меня брат — дантист. Но я у него никогда не лечился».
Центр».
3
— Как можно так воевать, если у нас первой проваливается разведка! — кричал на Достовалова Кутепов. — Я всегда знал: дерьмо этот ваш Самохвалов! Скот и дерьмо! Ему лошадей чистить!
— Но почему — мой? — обиженно возражал начальник штаба, не желающий идти на обострение отношений.
— Ваш, мой — какая разница! Русский офицер дает вонючим болгарам обыскать свою канцелярию и арестовать тайные документы. Да он обязан был отстреливаться до последнего патрона! Он опозорил мундир! Разжаловать его, предать военно-полевому суду!
— Вероятно, гостиница «Континенталь» не лучшее место ни для обороны, ни для содержания разведывательного архива, — пожал плечами Достовалов. — Очередное свидетельство того, что не лучшие офицеры занимают ответственные посты. Остается надеяться, что Самохвалов успел уничтожить наиболее компрометирующие материалы. Когда это произошло, господин генерал?
— Два дня назад, шестого мая. Два дня! А мы узнаем поздно вечером. При такой связи, дорогой мой...
— Возможно, и нам следует принять какие-то меры безопасности?
— Нам! — Кутепов расхохотался. — Пусть только сунутся, я им покажу кузькину мать!
— Во всяком случае, полагаю, необходимо связаться с главным командованием.
— Все они уже и штаны запачкали. Где этот ротмистр, связист главкома? Бекающий, как баран.
— Сдал документы и уехал. Несколько, я бы сказал, поспешнее, чем обычно.
— Проклятье! Мы опять без связи! — Кутепов в задумчивости левой рукой подкрутил ус, огладил бородку. И с нескрываемым презрением посмотрел на своего начальника штаба. Подумал с неприязнью: «Дрянцо. Таскаю его за собой от Орла. Сколько раз за производство в очередной офицерский чин бился. Столько времени минуло, а он все такой же: хвастливый, пронырливый, мгновенно теряющийся в моменты минимальной опасности...» И спросил грубо: — Что намерены предпринять, генерал?
— Затрудняюсь, — как показалось Кутепову, достаточно резко, даже с вызовом, ответил начальник штаба. — Жду ваших приказаний, господин генерал, — Достовалов встал, щелкнул каблуками.
Кутепов, стиснув зубы, откинулся на спинку кресла. Сказал хмуро:
— События будут развиваться быстро. Они опередили нас — факт. Шлите шифром телеграммы Врангелю, Петряеву, координирующие действия. Хотя, по всей вероятности, болгары уже располагают нашим шифром. Отставить телеграммы. Попробуйте телефонировать в Софию. Распорядитесь, чтобы немедля мне доставить все газеты, имеющиеся в городе.
«Стратег. Полководец бумажных сражений! — продолжая стоять, думал Достовалов. — Газеты ему... Бежать надо куда глаза глядят, пока возможность есть, пока всех нас не прихлопнули. Сказать об этом?.. А, ну его к черту! Пусть сам командует «ать-два», раз права такие себе вырвал».
— Что же вы, генерал? — удивился Кутепов, увидев, что начальник штаба еще не двинулся с места. — Нас предали, это ясно. Кто? И что было реквизировано у Самохвалова? Разведчик дерьмовый!
— Я могу быть свободным, господин генерал? Все, что вы приказали, будет исполнено.
— Обиделись? Не время, — Кутепов встал, подошел к Достовалову, протянул руку.
Достовалов с почтением мягко пожал руку командира корпуса, мстительно замечая непривычную растерянность Кутепова, которую тот не смог скрыть.
— Что могло быть в «Континентале»? Как думаете? Это важно. — И повторил: — Очень важно, поверьте.
— Полагаю, в первую очередь, разведданные, по стране. Расположение воинских частей и укреплений, полицейских участков, электрических станций, водокачек, складов оружия, которые Болгария не имела права содержать. Вероятно информация о наших людях и каналах связи Белград — София — Тырново. Возможно, документы главкома о едином плане действий, адресованные царю Борису, долженствующие оказать определенный нажим на правительство Стамболийского и на Генуэзскую конференцию. Плохо, очень плохо! Борис боится Стамболийского, хотя и не прочь скинуть его нашими руками. Если предположить, что все так, как вы говорите, нм в Софии и Белграде удастся вывернуться. Не следует ли нам подготовиться к объявлению общей тревоги? И срочно подумать над приказом?
— Имеющим целью какие действия, позвольте спросить, господин командующий?
— Цель? Идти на Софию, в блоке с недовольными свергнуть правительство. Утвердить Бориса, военную диктатуру — черт его знает! Это дело политиков! В случае неудачи отступать с боями, перейти границу сербов и хорватов.
— Боюсь, что для разработки подобных далеко идущих планов вам понадобится...
— Ну, ну! Сколько?!
— Минимум дня два, господин командующий.
— Так действуйте! Идите и действуйте. Днем и ночью, с напряжением всех сил. Даю вам сутки!
Вечером Кутепов получил удручающее сообщение из Софии. Одновременно с акцией в «Континентале» был произведен обыск и в русской военной миссии, задержан генерал Вязьмитинов. При нем найдены шифры, используемые главным командованием. Полиция немедленно арестовала двух чиновников — болгар, привлеченных к сотрудничеству Вязьмитиновым. Материалы, изъятые у Самохвалова, квалифицируются как документы, изобличающие русских в подготовке государственного переворота.
Предоставленный самому себе (генералы ловко отказывались обсуждать его инициативу, придумывали любой повод отказа от совещаний), Кутепов решил... выждать. Он послал офицера на свою дачу с необычным названием Забележка[1], вокруг которой в виноградниках расположился вооруженный отряд, с приказом сохранять полную боевую готовность. Другой связной на генеральском автомобиле помчался в казармы и вскоре, выехав через южный вход, сумел исчезнуть, оторвавшись от наблюдавших за ним болгарских жандармов. Небольшой группе офицеров, собранных в Русском доме, предписывалось по первому сигналу начать движение на защиту дома командующего. И все же это были не действия, а лишь подготовка к действиям. Потом Кутепов неоднократно жалел об этом: говорил, история Балкан могла пойти по иному пути...
Днем 11 мая в дом, где квартировал командир 1-го корпуса, неожиданно нагрянули жандармы и солдаты, предводительствуемые начальником болгарского гарнизона. Часовой был снят ими с поста. А дежурный офицер конвоя есаул Андреев, отказавшийся пропустить представителей властей, избит и связан. Начальник гарнизона с двумя солдатами, жандармом и человеком в цивильном проникли в кабинет. Кутепов ждал их в форме, стоя лицом к окну и напряженно сжимая нерасстегнутую кобуру браунинга.
— Что вам угодно, господа? — спросил он строго, не поворачиваясь.
Вперед выступил человек в горчичного цвета сюртуке, с острым, выдающимся вперед тонким носом и острым треугольным подбородком.
— Имеется необходимость произвести у вас обыск, генерал.
— По какому праву? — Кутепов резко повернулся. Голос его дрожал от гнева.
— По приказу военного министра. Обыски проводятся одновременно и у других русских военачальников, во всех городах.
— Я арестован?
— Никак нет, господин генерал.
Этот «шпак», слава богу, был почтителен, и Кутепов чуть расслабился, обретая привычную сановность и уверенность. Он прошелся перед офицером и солдатами, стоящими посреди кабинета, всматриваясь в их лица, точно стараясь запомнить каждое. Спросил строго:
— Так что же вам угодно?
— Ключи от стола, шкафа, сейфа, если таковой имеется, просим!
— Все открыто, братушки, можете смело приступать! Может, скажете о предмете поисков, и я помогу вам?
Штатский вопросительно посмотрел на офицера, тихо спросил его о чем-то. Тот пожал плечами. Обыск начался. Работали споро, профессионально. Впрочем, с предельной аккуратностью, так, точно им было предписано не оставлять никаких следов своей работы.
— Вы русский, сударь? — спросил Кутепов, усаживаясь в кресло.
— Не имеет значения, генерал, — ответил «шпак».
— У меня заявление, сударь. Прошу записать и перевести вашему... Тем, кто послал вас сюда.
— Слушаю, генерал.
— Я решительно протестую против всего, что тут происходит, и буду жаловаться — это первое. Второе. Требую немедленно освободить моего офицера: есаул Андреев выполнял долг и препятствовал свершению вашей беззаконной акции... И, наконец, прошу препроводить сюда, вероятно, задержанных внизу мою жену Лидию Кутепову и моего вестового Федора Бенько.
«Шпак» снова пошептался с офицером. Сказал, выразив на маленьком лице улыбку, отчего его носик оказался еще длиннее, а круглые глаза-бусинки прямо-таки засверкали:
— Вашим людям ничто не грозит, генерал. Супругу тотчас препроводят сюда. Бенько мы, к сожалению, не застали в доме. Жаловаться — ваше естественное право. Куда угодно! И кому угодно! Прошу лишь заметить, что ни личности вашей, ни мундиру никакого ущерба причинено не было, — и он стал ощупывать и выстукивать стену в поисках скрытого сейфа.
Вбежала взволнованная, несколько грузная мадам Кутепова. Кинулась к мужу:
— Что же это происходит?! Как можно? Как ты допустил?
— Успокойся, Лидуша, — Кутепов встал, обнял жену за плечо, повел к окну. — Это недоразумение. Все выяснится, не волнуйся, прошу тебя.
— Но!.. Даже турки не позволяли себе ничего подобного... С генералом русской армии?! Это не укладывается в сознании... Как ты можешь сохранять спокойствие? Это ужасно! Такое предательство.
Прошу тебя, Лидуша... Приказываю, в конце концов. Присядь... — Кутепов непроизвольно бросил взгляд в окно и оторопел.
По улице Генерала Гурко бежала группа вооруженных солдат и офицеров, предводительствуемая Федором Бенько. Его солдат и офицеров! Сзади катили пулемет два совсем молодых юнкера. «Ну, все! Сейчас я вам покажу, господа братушки! Запомните встречу с Кутеповым!» — такой была первая реакция командира корпуса. Он увидел, как болгарский отряд, развернувшись в цепь, занимал позицию поперек улицы. Болгарский отряд оказался значительно большим, чем он предполагал, и достаточно хорошо вооруженным.
«Сейчас с обеих сторон откроют огонь, — мелькнула трезвая мысль, парализующая вспыхнувшую радость. — А что произойдет в кабинете? Может, у них инструкция ввиду сопротивления стрелять в меня? В Лиду?» — он устыдился, что первым делом подумал о себе, и крикнул:
— Господа! Остановите их. Мы обязаны предотвратить кровавое столкновение.
Тут вбежал в кабинет еще один болгарский офицер, крикнул с порога не то «пожар», не то «тревога» и исчез.
— Генерал, — торопливо сказал «шпак», доставая револьвер и направляя его на Кутепова. — Прикажите своим... Иначе мы вынуждены будем...
— Уберите револьвер, любезный, — Кутепов сел на подоконник, высунулся по пояс из окна, крикнул: — Взво-о-од! Стой! К но-ге!.. Вольно. Спасибо за службу, молодцы!
— Рад-ст-ать-ся, ваш прс-с-ход-ст-во! — дружно гаркнули снизу.
— Прикажите им, генерал, сдать оружие, — перевел слова начальника Тырновского гарнизона «шпак».
— Ну уж нет, господа. Такой команды в русской армии я не знаю. Решительно!
— Распорядитесь, чтоб все ваши солдаты немедля вернулись в казармы. Ставим вас в известность о столкновении, имевшем место в Забележке. Наших людей встретили ваши солдаты и оказали сопротивление. Поручик, назвавший себя дежурным, стрелял в разведчика Драготинова. Капитан, руководивший позицией в соседней даче, скомандовал стрелять в начальника разведывательного бюро поручика Балабановского. При обыске найден пулемет, двадцать винтовок, ящик с патронами, телеграф, планы Тырново... Русские готовы сражаться с гарнизоном города. Извольте отдать необходимые приказания всем руководимым вами частям и командам. Болгарское командование настаивает на этом.
— Я подчиняюсь силе и во имя избежания дипломатических осложнений, — витиевато сказал Кутепов. — Могу ли спуститься вниз, к своим воинам? — Кутепов увидел сомнение на лицах болгар и поспешил добавить: — Я вернусь, слово офицера! Кроме того, здесь остается моя жена, и не в моих интересах...
Болгарин шепнул что-то «шпаку», и тот перевел с ласковой и гадкой улыбкой:
— Мы просим отдать распоряжение через окно. Конечно, слово русского офицера... Но обыск ведь не закончен, господин Кутепов.
— Черт с вами! Пусть так! — командир корпуса снова высунулся из окна («сказали бы год назад, что он станет командовать, выскакивая, точно кукушка из часовой коробки, — убил бы на месте!»):
— Взво-о-од! — крикнул он. — Походной колонной, с оружием, в казармы... Шагом арш!..
Закончив детальный осмотр дома, извинившись за причиненное беспокойство («Авось еще встретимся, скоты, и я тоже непременно буду иметь случай извиниться за беспокойство»), штатский с особым значением перевел последние слова начальника гарнизона:
— Случившиеся здесь события вынуждают болгарские власти подвергнуть вас, господин Кутепов, домашнему аресту с приставлением охраны.
— Генерал! Генерал я! — крикнул, озлясь от своей беззащитности, командир корпуса. — Прошу запомнить это!
— Хорошо, — с наигранной покорностью согласился проклятый «шпак» и обернувшись, прикрывая за уходящими дверь, кивнул:
— Пусть будет «генерал Кутепов».
— Какой ужасный тип! — возмутилась мадам Кутепова. — Негодяй!
— Большевики! Проклятые! — сказал Кутепов, давая волю ярости...
Впрочем, ничего компрометирующего командира корпуса из кабинета не унесли. Так, пустяки: карту Болгарии, схему города Велико-Тырново, вычерченную Кутеповым после многократных «рекогносцировок», несколько частных писем, по большей части адресованных жене, и ее счетов («уж не шифры ли, — предположили, вероятно, всюду им шифры и коды мерещились»), фотографии, что копились в семейном альбоме, от давних, еще российских, до последних, произведенных в Сербии, при штабе главкома, и в Софии, с генералами и русским посланником Петряевым. Была одна, которой заинтересовались особо: Кутепов в свите царя Бориса. Впрочем, обещали все вернуть... О том, что происходило в это же время в штабе его корпуса, Александр Павлович не знал и волновался. Хотя и утешал себя вопреки собственной же логике: Достовалов — человек достаточно опытный, ему, наверное, удалось уберечь наиболее секретные материалы и — в первую очередь — те мобилизационные планы, которые привез недавно от Врангеля дипкурьер. Не приведи господь, попадут в чужие руки, станут достоянием газет. Что произойдет тогда? Об этом было лучше не думать...
Арест полностью отрезал Кутепова не только от связи со своими подчиненными («с моими воинами», — как говорил он), но и со всем миром. Газеты и всевозможные почтовые отправления доставлять сюда было запрещено. И даже пища проносилась в готовом виде на дом. Кутепов чувствовал себя, как медведь в клетке. Впрочем, раздумывая над происшедшим и анализируя свои действия, он приходил к одному успокаивающему выводу: поступил правильно, не допустив кровопролития на братской славянской земле. Не время. Инициатива принадлежала противнику, нанесшему упреждающий удар. Время еще покажет его правоту, бескомпромиссность его действий — временного отступления во имя великой идеи всемирного славянства. С другой стороны, что идеи, что теории?! Сколько месяцев провел он в практической работе, придумывая тактические решения по мгновенному взятию этого проклятого города и началу большой военной кампании, которая сделала бы Кутепова первым человеком в среде русской эмиграции. Время представлялось упущенным — как ни крути, как ни обманывай себя...
Начальник бывшей Дроздовской дивизии (а ныне полка) , «популярный герой войны» генерал Туркул, находящийся во главе своих испытанных «дроздов» в городе Севлиево, с первых дней пребывания на болгарской земле занимал определенную, четкую позицию. «Наш маленький городок попал под действие разнузданности врангелевцев, — писала местная газета. — Мы стали свидетелями многих сцен, творимых ими и не свойственных нашим нравам и обычаям (насилия над девушками, распространение венерических болезней, скандалы в публичных местах). Генерал Туркул присвоил себе право производить обыски и аресты граждан, заявляя в ответ на протесты, что «настроение граждан его не интересует и он живет здесь самостоятельно».
В настроениях горожан, увидевших ненавистного генерала под конвоем болгарских солдат и жандармов, сомневаться не приходится. Туркул покидал Севлиево по принуждению. До стрельбы и этот боевой генерал дело защиты своей особы («от коммунистов, жидов и продавшихся им болгар») не довел. Не получил приказа от Кутепова, испугался последствий, — кто знает? На казарменном дворе, на окраине городка, был выстроен полк. Генерал Туркул отдал последнее приказание: полку походной колонной следовать на железнодорожную станцию для проводов своего командира.
На привокзальной площади собралось много народа. Из толпы раздавались гневные и издевательские выкрики, свист, улюлюканье. Вместе с генералом покидала Севлиево его жена Софья Антоновна с трехлетней дочерью Тамарой. Туркул, стоя на верхней ступеньке вагона, попытался было сказать речь.
— Все ныне попрано! — крикнул он. — Изгваздано, попрано и заблевано. Но я знаю: мои «дрозды» доведут дисциплину до сверкания. Литые воины сломят врага. Верю!..
Во что верит генерал, оставалось невысказанным: Туркулу решительно предложили зайти в вагон. Чуть позднее берлинская монархическая газета «Руль» так закончила эпизод прощания полка с любимым командиром: «Все плакали. И сам генерал Туркул. И когда вновь назначенный командир полка крикнул отъезжающему: «Ура!» — полк не мог подхватить приветствия из-за громких рыданий...» Трогательная картина!
На следующий вечер после ареста начальник болгарского гарнизона в городе Велико-Тырново принес Кутепову неприятное известие: сам Топалджиков - — начальник штаба болгарской армии — приглашал генерала Кутепова прибыть в Софию под честное слово, что командиру 1-го корпуса гарантируется возвращение в Тырново.
Кутепов и его жена, капитан Мащенко и несменяемый, проверенный вестовой Федор Бенько выехали в столицу и остановились в гостинице «Болгария». Инициатива была вновь вырвана из рук считавшего себя предусмотрительным Александра Павловича. Сначала его уговорили задержаться в отеле на три дня. Потом нанесший ему визит Топалджиков попросил, как о величайшем одолжении, послать в Тырново телеграмму о задержке по неотложным делам. Исключительно для успокоения войск и могущих вспыхнуть нежелательных эксцессов. Кутепов подчинился. Внезапно исчез адъютант.
Утром следующего дня Кутепова подвергли допросу в присутствии Шатилова и Вязьмитинова. Обстановка была напряженной, унизительной. Русским генералам запретили говорить между собой. Лишь отвечать на перекрестные вопросы. В руках Топалджикова и других допрашивающих находились документы, изъятые в разведывательном отделе незадачливого полковника Самохвалова. С их помощью русским генералам предъявлялось обвинение в «попытке свершения государственного переворота».
Вязьмитинов заявил: «Документы фальшивые, они подкинуты Самохвалову».
Шатилов, протестуя против широко организованной провокации, совершенной опытными «каиновыми» руками, в качестве примера привел приказ Врангеля, скрепленный его, Шатилова, подписью и посланный из Дубровника. Шатилов сказал: «Ни я, ни генерал Врангель в Дубровнике не были. Это легко можно проверить через вашу дипломатическую миссию в Белграде. Во время, означенное в приказе, я посетил Софию — что также легко проверить по книгам «Сплендид-отеля», где я в то время квартировал». Кутепов на предложенные ему вопросы отвечать отказался.
Вязьмитинов, оправдывая наличие в канцелярии Самохвалова списка «агентов», пытался представить его перечнем людей, кому следовало нанести пасхальные визиты. Самохвалову же поручалось охранять главнокомандующего во время его визита в Болгарию. Топалджиков выразил недоверие: зачем принимать меры к охране Врангеля в Болгарии, если правительство отказало ему в визе? Кутепов вновь решительно повторил что на задаваемые ему вопросы отвечать не намерен.
Шатилов попросил обязательно запротоколировать: на втором документе правописание букв «П», «С» и «В» не соответствует рисункам, употребляемым им. Попросил карандаш и принялся показывать.
Один из допрашивающих спросил Шатилова: не его ли рукой подписан документ?
Шатилов ответил, что роспись весьма похожа, хотя в ней и есть небольшие отклонения.
Допрашивающий заинтересовался: кто мог бы так похоже скопировать подпись начальника штаба русской армии?
Шатилов заявил, что не имеет об этом никакого представления.
Допрашивающий проронил: нет ли определенного соответствия между его росписью и росписью генерала Миллера, который, как известно, заменил Шатилова на посту по приказу главкома 27-го марта?
Шатилов ответил, что этого он не знает, никогда росписи не сопоставлял — это в компетенции специальной графологической экспертизы.
Вязьмитинов устыдил Шатилова, обвинив его в малодушии. Между ними возникла перепалка, резко оборванная Топалджиковым. Допрос продолжался...
Кутепов, с показным безразличием глядя то на одного, то на другого, думал, как сдали, постарели, измельчали его комбатанты, на которых он мысленно опирался, обдумывая свой будущий поход, проводя рекогносцировки, с огромным трудом стараясь подкрепить боеспособность вверенных ему частей. Все усилия — даром? Перед ним суетились пожилые, усталые, испуганные старички, выгораживающие каждый себя, старающиеся доказать, что они давно не военные, отошли от дел, а то, чем они занимались здесь, в Болгарии, — не больше чем игра. Игра в оловянных солдатиков. Кутепов, испытавший унижение, впервые усомнился в Деле, которому решил посвятить всю свою жизнь, — делу восстановления монархии в России и уничтожения большевизма. Теперь большевизм снова ломал его планы, его жизнь тут, в Болгарии. От этого опускались руки, можно было впасть в отчаяние. Что они хотят сделать с ним? С этими — его бывшими «соратниками»?.. Кутепов, который еще вчера готов был, заменив Врангеля, встать во главе вооруженных сил, находящихся за границей, почувствовал слабость и какое-то безразличие. И уже второпях, с охватившей его внезапно ненавистью, подумал: «Нас допрашивают, унижают, а этот... политик-барон? Он опять в стороне остался, ни при чем вроде. Вот умелец!»
Шатилов и Витковский покинули комнату. То ли сами ушли, то ли их увели, Кутепов не понял. Он остался один на один с Топалджиковым. Начальник штаба армии Болгарии нервничал, не зная, с чего начать трудный разговор. Он перекладывал бумаги и папки, словно разыскивая что-то. Не нашел, видимо. Потер виски и закрыл глаза, показывая, как устал. Затем стремительно выпрямился, встал, спросил:
— Известны ли вам такие фамилии, господин генерал? Александр Цанков, Александр Греков, Христо Калфов? Очень прошу ответить правдиво.
— Простите? Это другое дело, полковник, — усмехнулся Кутепов. — Кто эти люди?
— Руководители антиправительственного союза.
— В первый раз слышу.
— А кого-либо из Военной лиги Союза? Например, подполковника Калфова?
— Не имею чести знать.
— Но ведь он личный адъютант царя Бориса.
— Вы допрашиваете меня? Вновь? Я вновь отказываюсь отвечать. По какому праву?
— Вы арестованы, генерал.
— А ваши прежние заявления о моей неприкосновенности, когда меня вызывали из Тырново? Слово офицера?
— К сожалению, я вынужден выполнять приказы, генерал, — Топалджиков торопливо зашарил по столу, нашел несколько газет, с чувством облегчения потряс ими: — Послушайте, что пишут газеты: «Врангель объявляет войну!», «Ультиматум русских!», «Врангель угрожает нам!», «Недопустимое вмешательство в дела свободного государства...», ну и тому подобное. Мы на пороге братоубийственной войны. По вашей вине, генерал!
Кутепов не без доли аффектации достал из кобуры браунинг, молча положил на стол.
— К чему это? — удивился Топалджиков. — Не надо: мы не требуем.
— Я не отдаю вам своего оружия, а лишь передаю. Честь каждого офицера, не сдержавшего своего слова и не выполнившего долга, требует застрелиться немедля.
— Но, господин генерал!.. — всплеснул руками Топалджиков. — Позвольте, позвольте!.. Я не понимаю...
— Нам не о чем больше говорить, полковник. — Кутепов «твердел», ибо снова обретал себя.
— Принято решение о вашей высылке, генерал. Вы должны выбрать страну — для оформления визы.
— Надеюсь, я получу несколько часов для обдумывания? И это не расходится с законами вашего правительства и вашими личными правилами поведения?
— Ну, разумеется, разумеется... Вам будет предоставлено... Право выбора остается, — бормотал Топалджиков. — Ваш револьвер... заберите его.
— Благодарю за гостеприимство, полковник, — безапелляционно проговорил Кутепов. — Прошу доставить меня к жене. Честь имею! — он нарочито небрежно козырнул и слегка щелкнул задниками сапог...
Посоветовавшись с Лидией Давыдовной, Кутепов местом высылки избрал Венгрию. Ему сообщили, что имеется и румынская виза. Несмотря на круглосуточные посты в отеле «Болгария» и часового у дверей номера, Кутепову удалось через Федора Бенько переправить в Тырново с капитаном Мащенко приказ по корпусу, в котором предписывалось сохранять спокойствие, дисциплину и не поддаваться ни на какие провокации. Своим заместителем он назначал генерала Витковского.
Высылка по непонятным причинам задерживалась. Неизвестный доброжелатель, поднявшийся, вероятно, по трубе, кинул в форточку номера экземпляр газеты «Русское дело». Кутепов прочел заметку жене целиком: «Из галлиполийских рядов, пришедших в Болгарию с открытым сердцем и спокойной душой, выхвачен их живой нерв, вырвана душа. У армии отняли ее вождя, отделили ее большого и достойного человека, высоко и гордо державшего честное галлиполийское знамя. Генералу Кутепову мы обязаны тем обаянием, которое создалось и живет вокруг чистого галлиполийского имени. Пройдут черные дни, и фигура ушедшего от нас русского генерала выявится со спокойной и определенной ясностью. Мы будем ждать. Мы дождемся справедливого суда над черными днями».
— Видишь, Саша, — сказала жена. — О тебе помнят, за тебя, я уверена, борются.
— Мы еще повоюем! — жестко сказал Кутепов. Заметка очень приободрила его. — Еще повоюем! Посмотрим, кто кого!
Болгарский часовой передал генерал-лейтенанту целую охапку цветочных букетов от дам — с лучшими пожеланиями. Зайдя в туалет, Кутепов внимательно .просмотрел цветы: надеялся найти тайное послание, план побега, какую-нибудь дружескую записку, в конце концов. Тщетно! Букеты и впрямь были от дам, черт бы их побрал, дур сентиментальных!
В одиннадцать вечера («Боялись эксцессов на улице, канальи! Русских боялись — не иначе!») появились два болгарских офицера с заявлением, что генерала решено отправить на греческую границу. Протестовать было поздно. Стоило ли? Да и какая, в сущности, разница?! Кутепов решил, что доедет до Адрианополя, а оттуда — через Салоники — в Белград: необходимо повидать главкома, чтобы разобраться в происходящем.
Предоставленные ему места оказались в вагоне второго класса. Кутепов опять сорвался. Офицеры пожимали плечами: не наша компетенция. Спор прервал пронзительный гудок паровоза. Чертыхаясь, Кутепов полез по ступенькам. Федор Бенько чуть ли не на ходу втаскивал генеральские кофры и чемоданы, шляпные коробки мадам.
Правая рука Стамболийского доктор Даскалов — министр внутренних дел — телеграфировал руководителю правительства, находящемуся тогда в Генуе: «Шпионская акция врангелевцев приняла огромные размеры. Захвачено много архивов тут и в Тырново. Население потрясено и возмущено черной неблагодарностью против нашего общества».
Стамболийский 19 мая дает жесткое распоряжение Даскалову: «Поведение русских отвратительно. Счастье, что вовремя раскрыли их планы... Действуйте решительно, и очистим Болгарию от грозящей опасности. Всех виновных солдат и офицеров вон из Болгарии! Не оставляйте русских солдат и офицеров в Софии...»
Вместе с Кутеповым было арестовано и выслано из Болгарии более ста врангелевцев, из руководящих — Шатилов, Вязьмитинов, Туркул, Скоблин, Попов, князь Голицын, полковник Думбадзе, Лисовский, Алатырцев и другие. Газета «Русское дело» запрещена. Была ликвидирована военная миссия. Арестован денежный фонд русского командования.
Происшедшие события заставили выступить с заявлением и генерала Врангеля. «За последние дни в известной части прессы поднят шум по поводу якобы готовящегося нового военного наступления генерала Врангеля, — заявил он. — Версия эта настолько нелепа, что ее не стоит и опровергать. Я неоднократно уже заявлял, что единственная моя цель — обеспечение жизни моих старых соратников... пока господь не даст им возможность снова послужить родине. В настоящей политической обстановке о каких-либо приготовлениях к вооруженному выступлению говорить не приходится. Все мои усилия направлены лишь к тому, чтобы улучшить материальное благосостояние моих товарищей по оружию... Одновременно начавшаяся в последние дни и ведущаяся по разным мотивам травля моих соратников и меня в Польше, Чехословакии, Болгарии, Сербии и Англии, травля, ведущаяся как частью прессы, так и некоторыми левыми группами, имеет одни общие источники — и материальные и духовные...»
Врангель посылает в Болгарию генерала Миллера. Задача у Евгения Карловича весьма сложна: он должен не только дезавуировать телеграмму главнокомандующего в адрес Стамболийского, содержащую прямые угрозы («...Болгарское правительство, в сознании своего бессилия, ищет опоры у тиранов России и в жертву им готово принести русскую армию. Преследуемые клеветой и злобой, русские воины могут быть вынуждены сомкнуть ряды вокруг своих знамен. Встанет вновь жуткий призрак братоубийства. Бог свидетель, что не мы вызвали его»), но и утихомирить широкие слои общества, обеспокоенные действиями командира 1-го корпуса и документами, изъятыми у полковника Самохвалова.
Миллер заявил, что приехал для «устранения недоразумений и создания нормальной жизни галлиполийцам, которые должны быть сохранены для будущей России, ибо, как только падут большевики, эти контингенты явятся единственной организующей силой русского корпуса». Миллер не уставал повторять: русские воинские контингенты не станут участвовать в политической жизни страны, останутся нейтральны при всех обстоятельствах. Врангель-де издал об этом специальный приказ.
Двинулся в «наступление» и новый командующий 1-м корпусом. Генерал Витковский подал резкую жалобу прокурору Тырновского окружного суда на продолжающуюся дискриминацию русских людей — их обыски, избиения, аресты, введение комендантского часа с восьми часов вечера, запрещение ездить по железным дорогам и т.п. «Из всех перечисленных фактов выявляется крайнее бесправие русских в Болгарии, что создает беспримерный случай в истории культурных государств», — заканчивал жалобу Витковский.
Русский посланник Петряев принял срочные меры к сокращению числа высылаемых и облегчению их участи. На какое-то время обстановка нормализовалась.
В ЦЕНТР ИЗ СОФИИ ОТ «0135»
«По сообщениям наших друзей, Миллер кроме миротворческих деклараций привез в Болгарию секретные приказы Врангеля от 16 августа номер 2642 и номер 2641, содержащие попытки новой мобилизации сил армии, ряд дипломатических акций, направленных на установление прочных контактов с военно-фашистской партией с целью военного переворота.
Миллеру рекомендовано: 1) «... вслед за переворотом и занятием армией крупнейших центров Болгарии на условиях официального признания русской армии готовность представить Болгарию в качестве исходного пункта для войны с Советской Россией. В новое правительство должен войти в качестве военного министра русский генерал. 2) Необходимо выработать совместно с представителями болгарских партий список лиц, подлежащих аресту и преданию военно-полевому суду русских войск. 3) Представить через дипломатического курьера план важнейших нервных узлов столицы: арсенала, телеграфа, радиостанций, водопровода, банков и т.д. 4) Составить воззвание к населению Болгарии, указав в нем, что мы не вмешиваемся во внутренние дела Болгарии. 5) Составить мобилизационный план для призыва всех русско-подданных до пятидесяти лет, проживающих в Болгарии».
Одновременно послан приказ Шатилова, в котором русским воинским контингентам предписывается выступить в поход через Адрианополь по получении телеграммы, содержащей слова: «В добрый путь». Некто должен договориться с начальником Адрианопольской греческой дивизии о пропуске русских войск через грекоболгарскую границу в районе Мустафа Паша — Хебичево и Свиленград.
Контакты с «Доктором» и «Цветковым» прошли успешно.
Издетский исчез во время арестов врангелевцев. По данным, требующим перепроверки, бежал в Венгрию либо Италию. Не исключено спецзадание Климовича.
0135».
Надпись на информации:
«Хорошо бы опубликовать последний секретный приказ Врангеля на страницах какой-либо газеты — «Работнически вестник» либо «Земледельско знаме». В последней — предпочтительней».
Глава вторая. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ОБОРИЩТЕ. ЦЕПЬ СОБЫТИЙ
1
Белые генералы хотели укрепить армию. Но солдаты, да и многие офицеры противились этому. Их взгляды изменялись. Многие хотели домой, добивались возвращения на родину. Начиналась и усиливалась борьба между своими...
Александр Михайлович Агеев родился в 1893 году в станице Клецкой Войска Донского. Окончив Новочеркасское реальное училище, он поступил в Военно-медицинскую академию, где проучился всего два года из-за начавшейся войны. Движимый патриотическими чувствами, Агеев поступает на ускоренные казачьи курсы и через полгода получает направление в действующую армию. После ранения и эвакуации на Дон Агеев добровольно примыкает к белому движению. Он — адъютант генерала Каледина, приближенный Краснова и Сидорина, пользующийся их полным доверием. Брат известного П. М. Агеева, бывшего одно время деникинским министром. После эвакуации армии из Крыма А. М. Агеев уезжает на Балканы, затем — в Прагу. В Софию возвращается совместно с генералом Гнилорыбовым. Принимает активное участие в деятельности обществ «Совнарод», «Красный Крест» и их печатных органов, агитируя за репатриацию в Советскую Россию. Совершает поездку в Москву с делегацией казаков. Вернувшись, становится представителем Красного Креста, редактором газеты «Новая Россия», пропагандирующей идею возвращения на родину. Миссия Агеева была игрой со смертью, и он хорошо знал это...
Один из беженцев, бывший журналист, знавший погибшего, вспоминал:
«Александр Михайлович был редкой души человек. Я знал его еще в Константинополе. Он бедствовал, как и все. Потом мы случайно встретились в Софии, в городском саду. Я поклонился, он подошел, протянул руку: «Где работаете?» Я пожал плечами: служил на книжном складе грузчиком — какая это работа? Слезы. «Знаете ли вы о существовании Союза возвращения на родину, на улице Графа Игнатьева?» — «Слыхал. Детище большевиков». — «Это не так, сударь. Во главе его стоят люди, за которых я могу поручиться. К нам идут сотни. Тысячи пишут, хотят вернуться». — «А вы?» — «И я. Я редактирую газету Союза «Новая Россия». Знаю, вы голодаете. Я не большевик, можете поверить. Я смогу помочь вам. Пишите в «Новую Россию», как вы писали в белые газеты, — на местные темы, на злобу дня. Если вы своим именем пока не решаетесь сотрудничать с нами, я законспирирую вас. Подумайте хорошенько, торопить не стану. Давайте работать вместе». Агеев был молод, статен, энергичен, ему и тридцати пяти еще не исполнилось. Я согласился на его предложение, и, смею думать, мы несколько сблизились. Оплату я получал построчно, пол-лева за строку. Я смог одеться и жить сносно. Мое положение еще больше укрепилось с тех пор, как Александр Михайлович помог мне снять комнату в доме по улице Добруджа, где квартировал сам. Он возвращался домой поздно, чем-то взволнованный, нервный. На мои вопросы прямых ответов не давал. Отшучивался. Видно, не вполне доверял...
Между тем как-то вечером, недавно совсем, явился незнакомый мне господин и спросил, не у меня ли Агеев оставляет ключи от комнаты, столов и книжных шкафов. Я ответил, что ключей у меня нет и я прекращаю разговор, потому как не имею честь знать гостя. Господин ретировался. Лица его я не запомнил. Росту он был среднего, одет в шинель, — весьма потрепанную, как мне показалось, — других примет я не заметил. Вообще-то я не придал этому визиту особого значения: отмечу, что к Александру Михайловичу люди приходили и рано утром, и днем, и вечером... Вскоре появился он сам. Точнее, забежал на минуту, чтобы попросить меня сопроводить его по одному адресу. Я, разумеется, дал согласие. В извозчике, который нас ждал, находился приятель Агеева, капитан Ивашков. По дороге я счет необходимым рассказать им о госте. Рассказ не вызвал с их стороны ни одного вопроса, что, признаюсь, меня несколько удивило. Мы проехали улицей Априлов и остановились возле одного дома. Его окна были темны. Агеев подошел к подъезду, принялся с силой стучать в окно. Ответа не последовало. «Я так и знал, — сказал Агеев, — Попрятались как мыши».
Между тем Ивашков уехал.
«Прошу: идите домой, а я — дальше, — неожиданно попросил Агеев. — Если не приду ночевать, то завтра до полудня не выходите и никого не впускайте».
Мы попрощались и разошлись. Я ждал Агеева до четырех часов пополудни. Уже стемнело, когда в окно кто-то застучал, громко и требовательно. Я увидел Ивашкова с револьвером в руках. Возле дома стоял мотор без огней. «Слышали? — прошептал Ивашков. — Александр Михайлович убит». — «Убит?!» — вскрикнул я. «При смерти. Надежд никаких». — «Не отвезете ли меня к нему?» — «Пока нельзя: он без сознания. У вас его ключи?» — «Никак нет».
Все же он зашел в комнату Агеева, осмотрел все и поспешно уехал.
Распространялись самые противоречивые слухи. По первым — убийцы принадлежали к монархической офицерской организации, мстили «продавшемуся большевикам», согласно вторым — его убили свои же с целью грабежа. Полиция начала следствие, искала убийц. На вокзале проверяли отъезжающих. Была обещана награда в 10 тысяч левов — тому, кто укажет след злоумышленников. Вновь проводились массовые обыски и аресты русских, журналистов из газет «Русь» и «Казачьи думы». Власти собирались закрыть все русские издания.
Выстраивалась такая версия аттентата. Агеев находился в помещении Земледельческого казачьего союза, с представителем которого Корешковым работал в тесном контакте, о чем мне неоднократно говорил. Он вышел в два часа пополудни, нанял фаэтон и распорядился везти себя к дому. Извозчик тронул лошадей. В это время неизвестный, стоящий на тротуаре, на углу улиц Оборищте и Мэрфи, выхватил револьвер, выстрелил в Агеева в упор и пустился бежать через дворовый проход на Регентскую улицу. Перепуганные лошади помчали. Пуля попала в пах, Александр Михайлович потерял много крови, но все же он нашел в себе силы доехать до отеля «Болгария», где размещался представитель российского Красного Креста, и без помощи со стороны сумел подняться на третий этаж. Ему была сделана перевязка, и он был перевезен в больницу.
Через полчаса на место происшествия явились представители полиции. Один из свидетелей с уверенностью сообщил: покушавшийся — молодой человек, лет двадцати пяти, темнолицый, одет в непромокаемое пальто и мягкую шляпу. Градоначальник Трифонов сам допрашивал задержанных. Все газеты цитировали его слова: «Мы не желаем, чтоб русские устраивали в Софии убийства. Нам довольно своих преступников. Мы не желаем превращать Болгарию в арену решения внутренних русских споров». Болгарское правительство подтвердило: поскольку ни мотивы преступления, ни личность убийцы не известны, оно отказывается от массовых репрессий.
Агееву удалили пулю, но состояние больного оставалось крайне тяжелым. К нему никого не пускали. У дверей палаты и в коридоре бессменно дежурили его знакомые и сотрудники газеты.
Придя ненадолго в сознание, Александр Михайлович попросил меня, чтоб к нему привели некоего Лебедева. Позднее Лебедев опубликовал письмо, где подробно излагал суть этой беседы и подчеркивал: Александр Михайлович никогда большевиком не был, но всегда оставался верен принципам демократии. Незамедлительно выступил в печати и бывший сотник Виктор Капитонович Попов, якобы бессменно находившийся при раненом, хотя, по-моему, он появлялся лишь дважды. Он сообщил, что приписываемая Агееву долгая беседа с Лебедевым является вымыслом. Свидание длилось всего три минуты, притом в тот день ввиду тяжелого состояния раненого и частой потери сознания врачи даже не разрешили властям устройство очной ставки с предполагаемым убийцей.
Агеев скончался девятого. Газеты продолжали уверять читателей, что Александр Михайлович являлся агентом русской монархической организации и был убит за то, что продал эту организацию болгарским властям. По другой версии, руководя репатриацией в Советскую Россию, Агеев засылал туда агентов Врангеля и диверсионной группы генерала Покровского, к которой сам принадлежал. Так на страницах прессы впервые появилась эта зловещая фамилия. О Покровском сведения были весьма скудны. Офицер-летчик на румынском фронте, он служит в Добровольческой армии, где, прославив себя жестокими расправами с пленными, был произведен из капитанов в полковники и генерал-майоры. По данным полиции, Покровский, связанный с берлинскими монархистами, руководил некоей боевой организацией. Он готовил и отправлял в Россию специальных лиц для поступления в Красную Армию с целью шпионажа. За активную деятельность на этом поприще великий князь Николай Николаевич будто бы наградил генерала бриллиантовыми запонками...
Болгарские газеты совершенно запутались с Агеевым: получалось, он одновременно и большевик, демократ, эсер, и хорошо законспирированный белый, агент Врангеля и Покровского. Стараясь совместить несовместимое, одна из газет («Русь», кажется) написала, что Агеев был «редиской», — снаружи красный, внутри белый.
Между тем пышные похороны Александра Михайловича камня на камне не оставили от измышлений газетных жуликов. Панихиду по православному обряду было решено служить в церкви Святой недели. Улицы заполнены народом. Шеренгой у входа выстроена болгарская стража. За ними — толпы русских людей, члены «Совнарода», «Красного Креста», работники газеты «Новая Россия», болгарские коммунисты. На похоронах было очень много цветов, венков и красных знамен. После окончания службы оркестр исполнял «Интернационал» и «Вы жертвою пали». Звучали прощальные речи. От имени болгарских коммунистов выступил Тодор Луканов, от синдикального союза — Георгий Димитров. В последний путь Александра Михайловича провожали тысячи граждан».
2
«Русские и болгарские большевики мстят за смерть Агеева и наносят ответный удар Врангелю! — писали правые газеты. — Они навели полицейских агентов на след генерала Покровского и его группы...»
Первым в поле зрения полицейских агентов попал некто Анзар Бойчаров: его приметы соответствовали «образу» человека, стрелявшего в Агеева. Бочаров вывел сыщиков и на других сотрудников генерала Покровского. Их приметы были разосланы по стране, по железнодорожным станциям, пристаням, жандармским и пограничным постам. Софийский градоначальник Тодоров, упустив группу из Софии, правильно предположил, что генерал имеет два реальных варианта бегства: через болгарско-сербскую границу или через Варну к морю. Он принял экстренные меры по задержанию шайки. После трех дней поисков Тодоров напал на след Покровского — тот двигался на запад, к Македонским горам, и остановился в местечке Кюстендил, чтобы, отдохнув, перейти границу...
В десять часов вечера полиция окружила дом, где укрывались врангелевцы. Большую помощью оказал полиции член банды Артемий Соколов. Он добровольно явился в градоначальство и заявил, что по приказу Покровского должен был первым стрелять в Агеева, но, поскольку он испугался, его заменили другим членом организации — Перепечиным Александром Кирилловичем. Немедля задержали и Перепечина. Он рассказал, что в группе генерала в Кюстендиле находятся: генералы Покровский и Улагай, убийца Агеева Анзар Бойчаров, ротмистр Крутчевский, агент Улагая Рамазан Школахов и ординарец Покровского Васецкий. Все хорошо вооружены... Вслед за Перепечиным еще в Софии удалось арестовать Крутчевского, Школахова и человека, который прибыл из Варны и назвал себя Бороком Бжечаковым. Все они подтвердили свою принадлежность к террористической организации Покровского. А черкес Бжечаков давал еще и «нитку» к Варне.
Но кто же находился в Кюстендиле? Весь день полиция, окружив дом, где прятались люди генерала, вела наблюдение. И лишь один человек показал себя — ординарец Покровского Васецкий. Он направился в лавку, но, чтобы не спугнуть всю группу, решили его не задерживать.
С наступлением темноты полицейские сузили цепь, приблизившись чуть ли не вплотную к окнам и входу. Несколько человек крикнули одновременно: «Покровский, сдавайтесь! Вы окружены!» В ответ прогремели выстрелы. Началась перестрелка. Внезапно раздался звон разбитого стекла, вылетели рамы из двух окон, находящихся в противоположных стенах дома, и на землю вывалилось несколько человек и, перелезши через забор, побежали в сторону леса. Одновременно велась стрельба и через раскрытую дверь. Полиция, ворвавшись в дом, сумела задержать Бойчарова — убийцу Агеева (его опознал извозчик Янев, которого нанимал Александр Михайлович), Васецкого и Бжечакова. Улагай бежал в сторону вокзала. Покровский, отстреливаясь и ранив полицейского Куюмджиева, сумел оторваться от преследователей и скрылся в лесу. Он приблизился к сербской границе и чувствовал себя уже в безопасности, но случайно наткнулся на болгарский пост и был задержан. Назвавшись вымышленной фамилией, Покровский отказался предъявить документы, вступил в спор с пограничниками и успел выхватить пистолет. Один из стражников ударил генерала штыком. Другой ранил генерала выстрелом в грудь из револьвера. Виктор Леонидович Покровский был отвезен в больницу, где через три часа скончался.
Улагай же, сумев миновать Софию, добрался до Белграда.
В Кюстендиле задержали также некоего Максимовича — представителя одной из монархических организаций, субсидирующей группу Покровского, — и курьера Власова. У Власова был отобран рапорт Покровского на имя генерала Барановского, проживающего в Белграде. Покровский шифром просил уведомить Кутепова и Витковского, что не может обеспечить организацию оружием: все добровольческие начальники так или иначе отказывают ему. Он сообщал, что приобрел моторную лодку на сорок пять человек, с мощным двигателем, при помощи которой можно перевозить в Россию «наших людей и оружие». Относительно Варненской базы он имел беседу с генералом Богаевским. «Плохо с деньгами, — упрекнул его генерал. — Но раз предприятие задумано, не грех применить для его финансирования и грабеж. Банки Гайдукова и других должны пожертвовать. Если нет — надо ударить. От удара по банкам посыпятся искры из глаз у всей братии. Вместе с искрами посыпется и то, что нам необходимо, как воздух...»
Все нити заговора вели в Варну, где оказалась раскрытой вся организация Покровского, которого покойный Агеев в одной из своих статей назвал садистом и нахалом, «янычаром Врангеля и Климовича». Болгарские власти арестовали генерала Дражевича — офицера для связи с главнокомандующим, полковника Буряка — командира готовящейся десантной группы на Кубань, полковника Бабкина — начальника лодки «Христо Ботев», на которой собирались десантировать врангелевцы. В Варне находилось разведывательное и информационное бюро организации, группа, снабжающая агентов фальшивыми паспортами. Имелась и специальная группа во главе с неким Морозовым, которая занималась запугиванием, избиением и пытками репатриантов. На их языке это называлось «лечить заблудившихся»...
Позднее в Софийском окружном суде началось дело «об убийстве Агеева» — неведомые силы торопили свести все происшествие к обыкновенному уголовному преступлению, совершенному по невыясненным мотивам. На скамье подсудимых оказались: убийца Агеева — Анзар Бойчаров и его сообщники — бывший ротмистр Артемий Соколов, бывший капитан российской армии Александр Перепечин, бывший ротмистр Сергей Крутчевский. Следствие представило убедительные документы и заявления свидетелей. Подсудимые признались в убийстве Агеева, а также в подготовке покушений на руководителей советского Красного Креста и Союза возвращения на родину.
Внезапно к суду пропал общий интерес. Газеты будто по команде перестали печатать отчеты о его заседаниях, свидетели исчезали, меняли и забирали назад показания, позволяли легко сбить себя адвокатам. В конце концов из свидетелей остался... один извозчик Янев. Он продолжал упрямо твердить, что Бойчарова узнал сразу, этот господин и стрелял из револьвера в его седока. Так же внезапно суд заявил: заседания откладываются на двадцать дней из-за отсутствия свидетелей. Прокурор Михайлов соглашается с подобным решением. Наступают новые времена. У болгарских властей масса проблем. Сейчас им не до врангелевцев...
Белогвардейцы, не замедлив воспользоваться моментом, переходят в наступление. Генерал Ронжин делает заявление Высшему административному совету в Болгарии, где вновь опровергает подлинность документов, якобы посланных штабом главного командования: «Генерал Кусонский телеграфирует, что все это подлог и что ничего генералом Миллером не посылалось. То же самое сказал генерал Витковский. Он поклялся, что в первый раз слышит об этом чудовищном и нелепом плане...»: «В глубоком сознании лежащей на мне ответственности я совершенно официально заявляю, что ни генерал Врангель, ни кто-либо другой ни в каком заговоре не были и все документы, это устанавливающие, являются бесчестной подделкой. Я не знаю, где нам искать защиты?.. Только гласный суд может раскрыть ту чудовищную клевету и провокацию, жертвой которой стала русская Армия. Мы, все русские начальники, предстанем перед этим судом и просим, если нас считают опасными, взять всех под стражу...»
Вслед за ним жалобу министру юстиции подает генерал Витковский — от имени 1-го армейского корпуса и от себя лично. Генерал сетует на варварские обыски, производимые в штабе и у него дома жандармами и прибывшими из Софии агентами, отобравшими у него служебную переписку. «Я был вторично арестован и доставлен в Софию в сопровождении поручика тырновской жандармской дружины Балабанского к полковнику Топалджикову. Тот, к крайнему моему удивлению, предъявил ряд документов, якобы отобранных у меня в Тырново и содержащих планы нашего выступления против правительства. Я заявил, что это подделка и провокация. Мне бросилось в глаза, что подделанная удачно буква «В» имеет после себя точку, каковую я на резолюциях никогда не ставлю. К сожалению, мимолетное ознакомление с инкриминированными мне документами не дает возможности представить несомненные и объективные доказательства наличия в этом деле подлога со стороны коммунистов, с целью вызвать гнев болгарского народа». Командир 1-го корпуса просил о скорейшем назначении судебного следствия.
Пользуясь нерешительностью и попустительством правительства Стамболийского (которого после Генуи правые газеты обвинили в сговоре с русскими большевиками), врангелевцы наглели: все больше укреплялись их связи с реакционными партиями и политическими лидерами, готовившими военно-фашистский переворот.
Врангель думал о сохранении боевых кадров, о максимальном сокращении реэмиграции. Он отдал распоряжение: применять к беглецам все средства, вплоть до устрашающего террора... чтобы деятельность Союза возвращения на родину не перекинулась на другие страны. В первую очередь на Королевство сербов, хорватов и словенцев...
3
По поручению совета общины русских казаков, живущих в маленьком сербском городке Сремска-Митровица, в Софию вызвался поехать Иван Сергеевич Хлусов. Когда друзья стали его отговаривать от рискованного странствия, Хлусов сказал: «Пусть я сгину, но узнаю: как там люди живут и что делают, чтоб всем нам по домам вернуться»... В Софии он довольно быстро нашел улицу Графа Игнатьева и дом под номером тридцать три. Приняли его хорошо, с почтением. В обеих комнатах было шумно, людно, стучала пулеметной дробью ремингтоновская машинка, хлопали двери, приходили и уходили посетители. Председатель Союза познакомил Хлусова с представителем Красного Креста — Корешковым. Не спеша, толково поговорили о жизни в постылой эмиграции, о трудной дороге домой. Дали ему устав Союза, объяснили: Союз зарегистрировал его в министерстве внутренних дел Болгарии, и посоветовали сделать то же в Белграде. Хлусов согласился, а Корешков предупредил: могут и отказать — Врангель в дружбе с королем Александром, следует провести разведку. Хлусов и с этим согласился: был он мужик спокойный, рассудительный, наделенный от природы казачьей сметкой.
Хлусов тяжелыми руками листал устав. Корешков, раскрыв какую-то страницу, читал: репатрианту разрешается беспошлинно провозить на родину — верхней одежды три предмета... постельного белья шесть смен... полотенец двенадцать... одеколона... перстней с камнями... колец... браслетов... золотых и платиновых изделий... книг и печатных изданий... золотой монеты и иностранной валюты... Иван Хлусов усомнился: уж не шутят ли здесь над ним? Но нет, широкое лицо Корешкова оставалось серьезным.
— Это какое же золото у нас, голоштанных? — спросил Хлусов. — Еще турки до нитки, почитай, всех обобрали.
— Может, не всех, — усмехнулся представитель «Совнарода». — Кой-кто на черный день и в мошну спрятал. Но имущество могут с собой везти, пропустят. Объясните там всем у себя в Сербии.
— На этот счет не беспокойтесь. Объясним, — твердо сказал Хлусов...
Приехав в Белград, Иван Сергеевич немедля направился в министерство внутренних дел, где его принял Вассо Лазич — секретарь отдела защиты интересов государства (проще сказать, департамента полиции). Он был любезен, внимательно ознакомился с привезенным уставом и обещал полную поддержку столь благородной миссии. Посоветовал вернуться домой: потребуется, вероятно, два — три дня для изучения и согласования нового документа.
Рано утром Хлусов был арестован на вокзале Сремской-Мнтровицы полицейскими агентами «по телеграфному распоряжению министерства внутренних дел, обвиняющему его в коммунистической пропаганде».
— Но я вчера был в министерстве! — изумился Хлусов. — У господина Лазича. Он одобрил...
Один из агентов сбил Хлусова с ног. На запястьях щелкнули наручники.
— Россия в руках коммунистов, а кто сманивает людей туда — сам коммунист, — назидательно проговорил второй жандарм, по-видимому, старший. — Идите, Хлусов.
В квартире у него был произведен тщательнейший обыск. Но и в Митровицкой тюрьме Иван Сергеевич продолжал думать, что произошло досадное недоразумение...
Его перевезли в Белград, в городскую полицию, где поместили в глухом каменном каземате без окон. Первый допрос проводили шеф полиции Любиша и правая рука начальника врангелевской контрразведки Климовича — полковник Тарасевич. Любиша предупредил с угрозой:
— Помните, Хлусов. У нас выкручивают руки, выламывают ноги и убивают, если арестованный пытается скрыть правду.
— За что я арестован?! — крикнул Иван Сергеевич. — Я не понимаю. Объясните же!
— Ты захотел, чтобы все русские покинули страну, приютившую вас, и переехали в красную Россию. Ты предал своих соотечественников, сволочь!
— Но, господин Вассо Лазич... Болгария, — нервно пробормотал Хлусов. — Они... Там... За что же меня?
— Ты — комиссар, красная свинья. Ты был в Москве и получил инструкции, — Тарасевич ударил арестованного по лицу. — С кем должен был здесь работать? С кем?.. Говори!
— Я не был в Москве. Я ездил в Софию. Клянусь, господин полковник.
— Я тебе не господин, сволочь! Говорит: «Ваше высокоблагородие».
— Невиновный я, ваше высокоблагородие. Чем хотите поклянусь: никакой я не агент. Я — казак, обо мне в Митровицах вам всякий расскажет.
— Ты — предатель! — повторил Тарасевич. — Русскую армию продал! — и, повернувшись к начальнику полиции, сказал устало: — У меня пока все, господин Любиша.
Вошли жандармы, начали избивать Хлусова...
Допросы и пытки продолжались ежедневно. Били по лицу, по телу плетьми из воловьих жил, ногами в пах и под ребра — доводили до потери сознания, до глубоких обмороков и уходили, оставив окровавленного. Иногда на несколько дней голого бросали в «челию» — сырой каменный мешок величиной не более квадратного метра. Тарасевич требовал выдачи всей организации по репатриации. Так продолжалось месяц. Ивану Сергеевичу казалось, он уже не чувствует боли. Палачи после зверских побоев стали обливать его холодной водой.
Спасли Хлусова земляки. Обеспокоенные его долгим отсутствием, они обратились к комиссару полиции. Про «дело» Хлусова узнала левая печать, готовая в канун избирательной кампании в Скупщину предать гласности любой скандальный провал правительства и прежде всего полиции. Несколько газет напечатали (без подписей!) письма земляков Ивана Сергеевича. Последовал приказ внутренних дел: произвести срочное расследование. Хлусов, давший подписку о неразглашении происшедшего, был выслан в Болгарию. Власти объявили: по проверенным сведениям Иван Сергеевич Хлусов жив и находится вне пределов Королевства сербов, хорватов и словенцев.
Союз возвращения на родину был образован также в Венгрии, но правительство и здесь быстро ликвидировало его, в течение нескольких дней арестовав всех членов правления.
В ЦЕНТР ИЗ БЕЛГРАДА ОТ «0135»
«3а беженцами, желающими вернуться на родину, в Софии ведет наблюдение контрразведчик поручик П.Никольский, В городской управе Белграда — бывший одесский сыщик, ныне полковник Е.Тарасевич и ротмистр И.Знаменский.
Врангель вновь укрепил связи с болгарским антиправительственным военным комитетом. Вернулись многие русские, депортированные в мае. Петряева встречали торжественно. Армии вновь переданы склады военного имущества. А. И. Гучков, поддерживая Врангеля из Берлина, 25 декабря пишет: «Насильственный переворот является единственным и последним средством спасти русские контингенты в Болгарии... и сегодня переворот еще возможен. Теперь или никогда».
Семнадцатого марта под номером 2104 издан секретный приказ от имени Ронжина, принадлежащий Миллеру:
«Генералу Полякову. В настоящее время во вверенный мне штаб поступают из Болгарии списки офицеров и солдат, которые, по имеющимся на месте сведениям, записались в большевистский Союз возвращения на родину.
Принимая во внимание: 1) что точное установление лиц, записавшихся в означенный Союз, является весьма важным в интересах армии и 2) что представляемые ныне списки, составленные на основании непроверенных и неполных сведений, в некоторых случаях даже без указания частей, в коих состоят подозреваемые, не дают возможности для окончательного суждения по этому вопросу и принятия соответствующих мер, в связи с этим — необходимо теперь же принять меры к установлению точного порядка при учете лиц, изменивших своему воинскому долгу, что в свою очередь дает возможность главному командованию применить в отношении их соответствующие меры воздействия. Полная безнаказанность в этом отношении может привести к неблагоприятным последствиям и лишить сдерживающих начал малоустойчивые элементы. Ввиду этого, по приказу главкома, прошу Вашего распоряжения о представлении всех сведений о членах, записавшихся в Союз и о безотлагательной и возможно полной просеке этих сведений, где личность каждого хорошо известна его сослуживцам по части и начальству. По собрании достаточных для окончательного суждения материалов Вам надлежит, по рассмотрении их, собственной властью разрешить вопрос о виновности подозреваемых, после чего... всю переписку об офицерских чинах и солдатах препровождать мне для исключения виновных от службы в дисциплинарном порядке властью главкома. Последнее правило надлежит соблюдать и в отношении офицеров, состоящих на беженском положении». Ронжин приказал: «В недельный срок предоставить список всех чинов группы, записавшихся в Союз, с подробной мотивировкой в отношении каждого лица для принятия его превосходительством решений». Подписано генерального штаба полковником Зайцевым.
От имени Полякова приказание немедля пошло по частям. Привожу приказ № 85, адресованный генералу Попову в Стару 3агору:
«Представить списки с подробно мотивированными сведениями не только на тех офицеров и казаков, фамилии которых значатся в списках, объявленных в нескольких номерах газеты «Новая Россия», но и записавшихся в последнее время в Союз возвращения. В будущем генерал приказал о каждом из записавшихся в Союз немедленно доносить в Управление. В приложении дан список лиц, возвращающихся на родину. Приказ подписан генерального штаба полковником Ситниковым». Врангель призывает: «Все больные и слабосильные могут вновь вернуться в лоно орлов, где получат приют для отдыха».
В Сербию прибыли Улагай и Кутепов. 8 ноября Врангель издает приказ о назначении Кутепова в распоряжение главнокомандующего. Кутепов продолжает интриговать. Посетил по «личным делам» Берлин, Будапешт, где встречался с Хорти. Его «лекция» в Монархическом совете посвящена положению в русской армии («спайка частей поразительная, ни большевистских, ни сменовеховских течений нет»), положению в Болгарии («коммунисты, укрепившиеся после Генуи, натравливают на нас общественные круги и правительство, которое прибегает к самым нелепым мерам, вплоть до провокации»). «Лекция», на которой присутствовали и представители прессы, носила отвлекающий, дезинформационный характер, имеющий целью оправдать дальнейшие действия Кутепова и его подчиненных генералов. Что произошло между Врангелем и Кутеповым, что определило их стычку (несомненно!), которая даст о себе знать о дальнейшем далеко идущими последствиями, нуждается в уточнении. Полагают повторение истории Врангель — Деникин.
На Ваш запрос сообщаю: Туркул обосновался в Софии, торгует газетами в центре города. Его жена — официантка фешенебельного кафе на бульваре Дундуков. Старательно демонстрируют переход на положение беженцев. Потребуется наблюдение.
«Цветков» полностью натурализовался.
0135»
Глава третья. ВРАНГЕЛЬ И ЕГО ДИПКУРЬЕР
1
За время службы дипкурьером у главнокомандующего возникла особая традиция; вернувшись после поездки и приведя себя в порядок (Врангель не выносил расхлябанности и «моветона» даже в условиях сербского городка), Венделовский наносил визит шефу. Остатком прежней жизни и теперь, вероятно, казался Врангелю его личный посланник — Альберт Николаевич, — всегда подтянутый, хорошо одетый и выбритый, спокойный, почтительный, знающий себе цену. Дипкурьер привозил почту, письма для главнокомандующего, газеты разных стран и направлений. Его суждения относительно политического момента отличались умением по деталям воссоздать картину целого, анализировать явления...
Нынче Врангель впервые принимал Венделовского не в Сремских Карловцах, а на купленной не так давно Топчидерской даче, которую охраняли денно и нощно караулы кубанских лейб-казаков. На даче среди прекрасного парка находились шофер личного авто, два . товара, ординарцы, адъютант. Часто навещала Петра Николаевича миловидная, худенькая, жизнерадостная, похожая на английскую мисс, далекая от дел и от политики жена Ольга Михайловна. Привозила детей — Петра, Наталью и Елену. Врангель всегда оставался любящим мужем и отцом. Казалось, был рад сбросить ярмо политического деятеля и командующего, стать «простым человеком». Большую часть свободного времени посвящал Петру: ему исполнилось двенадцать лет, его ждала военная карьера. Дай бог, чтобы она сложилась! Недаром род Врангелей в разных странах представляли четырнадцать фельдмаршалов и бессчетное количество генералов разных армий... Пока характер и внешность сына не радовали Петра Николаевича: коротко стриженный мальчик, невысокий, в галстуке и сером костюмчике с короткими рукавами. Лицо подвижное, доброе, даже, пожалуй, безвольное — влияние материнской породы несомненно. Но для подготовки настоящего солдата, слава богу, еще есть время.
Визит Венделовского начался с осмотра виллы. Врангель не скрывал радости — провел по столовой и гостиной, показал кухню, вывел на балкон, чтобы гость мог полюбоваться открывающимися отсюда красотами. В просторном кабинете расположились друг против друга, утонув в мягких креслах. Врангель, желая подчеркнуть полное доверие к своему дипкурьеру, не сел за письменный стол. Они не виделись более десяти дней, и Альберт Николаевич коротким, пристальным взглядом оценил патрона. Мало изменился «болярин Петр»: высокая, стройная фигура джигита в серой форме казачьего войска, длинный кинжал, узкий ремешок, стягивающий в рюмку тонкую талию, гордо посаженная голова с всегдашним выражением превосходства. Только с близкого расстояния можно было увидеть мазки, что оставляло время. Осунулось, пожелтело костистое лицо, посветлели глаза, серебро коснулось коротких усов, и — что особенно поразило Венделовского! — разгладились резкие, повелительные складки между бровями. Тонкие губы с чуть отвислой нижней непроизвольно вздрагивали, кривились. Это был Врангель и... не Врангель. «Укатили сивку крутые горки», — подумал Альберт Николаевич с внезапным состраданием: главком всегда хорошо относился к своему дипломатическому курьеру, был против бесчисленных его перепроверок, устраиваемых контрразведчиками, считал человеком интеллигентным, из своего круга, не разрешал себе ни строевого тона, ни излишнего, показного покровительства.
Как обычно, после возвращения разговор начинался с подробного рассказа Венделовского о своих вояжах — о том, что видел, о жизни европейских столиц, о настроениях народа и армии. Казачок приносил затейливый серебряный поднос с гравировкой, небольшой серебряный самовар, чайный прибор, вазочки с вареньем, домашним печеньем и восточными сластями, коньяк и рюмки.
— Здоровье и успехи вашего превосходительства! — провозглашал Венделовский.
— За успех дела, которому мы служим! — уточнял гл а в нокома ндующи й.
Они чокались.
Врангель непременно сам разливал чай, подчеркивая полную, почти дружескую интимность их встречи. Альберт Николаевич, последний маршрут которого шел к Парижу, а затем, через Берлин, к Софии, начал рассказ с поездки по столицам. Венделовский не скрывал озабоченности: русскую эмиграцию раздирают распри (позволил себе даже пошутить: «Если на садовой скамейке четверо русских, трое из них — обязательно представители разных партий»).
От раскола не удержалась даже православная церковь. Русские политические деятели в Берлине и Париже составляют два лагеря, сплотившиеся вокруг великих князей, каждый старается перетащить на свою сторону армию (Врангель, сомкнув тяжелые веки, прискорбно покивал: да, приходится отбиваться всеми способами). В то же время лидеры левых организаций заявляют, что русской армии уже нет, а есть беженские колонии и трудовые артели в разных странах, которые добывают средства к существованию своими руками. (Врангель усмехнулся недобро, нахмурив высокий от залысин лоб: мы-то знаем, что это не так).
— Армия жива, но после самоубийства Перлофа разведка захромала на обе ноги. Климович — стар, ленив. Его помощники — бездарь! Ни одного творческого человека, заплечных дел мастера и только... Я решил: сделаю все, чтобы армию не вовлекли в политическую борьбу. Жду и в зависимости от дальнейших шагов великих князей стану принимать решения, оставляя за собой свободу действий, разумеется... Но что пишут и говорят о лидерах западноевропейских стран — суммарно, пожалуйста.
— Можно сказать однозначно, ваше превосходительство. Лидеры европейских правительств больше всего боятся своих народов. Реальной помощи нам ждать неоткуда. Если только от Торгово-промышленного союза.
— Но попробуйте возьмите от них хоть полтинник! — Врангель хлопнул ладонью по острому колену. — У меня денег на армию нет, если отбросить все пустые обещания и рассчитывать только на себя. Но я рассчитываю, рассчитываю, точно банкир, председатель акционерного общества. Как меня уже изволили назвать в прессе. Я предъявил иск пароходной компании, потопившей мою яхту «Лукулл». С подлецами надо бороться, наказывать их. — Врангель порывисто поднялся с кресла, пошел к столу за спичками, закурил сигару, глубоко затягиваясь. — Дело тянется долго, но я его выиграю, — высоко поднимая тонкие ноги в мягких, без каблуков, сапогах, он зашагал по кабинету. — Адвокат Вуччино доказывает: «Лукулл» — военное судно, его гибель не подлежит рассмотрению гражданских судов. Присяжный поверенный Ратнер, представляющий мои интересы, убедил судейских, что яхта в момент катастрофы не выполняла военных акций. Я получу компенсацию. Рассчитываю тысяч на двести лир.
— Не сомневаюсь в победе, ваше превосходительство, — Вендсловский восхищенно улыбнулся. — Насколько я осведомлен, дело широко не оповещалось в прессе.
— Бескровные победы достигаются только в тиши залов и кабинетов, мой друг. Дело пока отложено. И я вас прошу...
— Что вы, что вы?! — ужаснулся Венделовский. — И под пыткой ни слова.
— Никогда не сомневался, — Врангель, взяв большую пепельницу, вновь уселся напротив Венделовского и хитро, с несвойственным ему прищуром улыбнулся. — Есть у меня и еще порох в пороховницах. Ссудная казна. Там кое-что осталось, — Врангель не удержался от победного хохотка: — Власти не разрешили дальнейшую распродажу и увоз ценностей. Но... Я и тут натянул им нос! Председатель нашей колонии в Каттаро Сахаров при своих поездках... — Врангель сделал паузу, точно остановил себя вовремя, чтобы не называть мест распродажи. Затянувшись сигарой, он продолжил поспешней:
— Сахаров... увозит и продает кое-что небольшими партиями.
— Но ведь комиссия общественных деятелей...
— Эти?! Тизенгаузен, Гензель и Сахаров обвели их вокруг пальца, как детей. Проценты по закладам давно превысили стоимости залогов. А раз так, комиссия постановила, — он достал из сафьянового бювара бумагу:
— Я прочту, разрешите, дорогой мой? Исторический документ! Когда-нибудь опубликуют, и все смеяться станут. Я не с начала, чтоб не утомлять вас, — он приблизил к глазам несколько листков, скрепленных булавкой: «Нет оснований воздерживаться от продажи просроченных закладов, ибо дальнейшая отсрочка требует больших расходов на хранение...» И вот еще: «Вырученные от продажи суммы поставлено расходовать под общественным контролем исключительно...» Каково?
— Если разрешите? — Венделовский встал, склонил голову: — Я предложил бы тост за нашу победу. Ура!
— Прозит! — сказал Врангель с удовольствием и поспешно заговорил — горячо, форсируя голосом особо важные слова, испытывая удовольствие от того, что он еще не сказал и сейчас скажет, вновь удивит, потрясет, заставит ахнуть своего подчиненного!
«Боже, как он много говорит! — внезапно выкристаллизовалась мысль, и Вснделовский понял, что изменилось в главнокомандующем: — Ведь он и слова не дает мне вставить. Болтун. Просто стал болтуном в этой глуши. Ему и поговорить тут не с кем».
Врангель рассказывал о своей поездке, которую он совершил недавно в сопровождении Сахарова по Каттарской бухте... В это время раздался осторожный стук в дверь. Из-за тяжелой портьеры выглянул ротмистр Знаменский — злые желтые глаза, тараканьи усы. Приблизившись, склонился к уху главнокомандующего, зашептал, косясь на Венделовского. «Вот заместитель Перлофа, — подумал дипкурьер. — Не ровня, не ровня. Этот пожиже и пониже. Да и школа не та».
— Чего вы бормочете, Знаменский? — недовольно бросил Врангель. — Докладывайте! Тут свои. И заново! Я ничего не понял.
Сложившись едва ли не пополам, Знаменский сказал громче:
— Отмечено резкое расхождение между Кутеповым и Достоваловым.
— Изъяснитесь точнее, ротмистр!
— Слушаюсь! — Знаменский хекнул, прочищая горло. — Их отношения испортились после болгарских событий, хотя оба генерала служат совместно еще со времен Орла и Харькова.
— Не повторяйтесь! — Врангель встал. Выпрямился и ротмистр. Он оказался не ниже главнокомандующего. — Так. Что дальше?
— Разгорелся скандал. Генерал Кутепов обвинил начальника штаба в присвоении ценностей симферопольского банка. Изъятие их, действительно, происходило под наблюдением генерала Достовалова. Это проверено.
— Хватился! Не поделили? Ха-ха! Узнаю Кутепова, — Врангель оживился, посмотрел на ротмистра доброжелательней: происшествие, порочащее Кутепова, его радовало, было на руку. — Распорядитесь от моего имени: пусть назначается следствие, авторитетная комиссия.
— Генерал Достовалов отбыл в Берлин.
— Кто послал?! — гаркнул Врангель, топнув ногой.
— По личным надобностям, господин главнокомандующий. С пути прислал генералу Кутепову телеграмму следующего содержания: «Бегу от вашей бездарности».
— Чем занимается в Берлине?
— Пристраивается к редакции журнала «Война и мир». Цель не ясна.
— Не ясна, не ясна... — повторил Врангель, обдумывая новость, которая и радовала и озадачивала его. — Так, ротмистр. Отряжайте человека в Берлин, пусть войдет в контакт с Достоваловым — безотлагательно! Следствие прекратить во избежание скандала. И найдите Кутепова: я приму его в три часа пополудни. Все! Можете быть свободны!
Проследив, как, ступая на носки, выходит ротмистр, Врангель продолжал мерить кабинет широкими шагами, видимо, думая над новостью. Зажег потухшую сигару и сказал не то себе, не то Венделовскому:
— Все не могут поделить награбленного, друзья! Один другого в любой момент съест. Достовалов!.. Хм! Еще один писатель на мою голову, увидите, Венделовский. Есть захочет — и продаст нас за полушку.
— Но Кутепов, Кутепов, — наивно заметил Альберт Николаевич. — Необузданный характер! В такой напряженный момент — зачем? Неосторожно. Наши враги, получив информацию о ссоре генералов, не замедлят воспользоваться ею и раструбят по всей Европе.
— Абсолютно точно! Мне только и дел что мирить одичавших сподвижников, — Врангель показно рухнул в кресло, точно сломался, откинулся, прикрыв тяжелые веки. Сказал: — Ну, оставим. Расскажите, наконец, как вояжировали. — И снова не удержался, заговорил о том, что его волновало сейчас более всего: — Но, Александр Павлович, милейший! Одна ошибка за другой, одна за другой!.. Что делать? Пока он нужен. Хотя бы для того, чтобы прошибить его твердым лбом закрытые для нас двери. — И вдруг проговорил буднично, жалостливо — словно вырвалось, не сдержался: — Вокруг все меньше людей, милейший дипломат. Остаются, увы, только самые верные.
Это был уже совсем незнакомый Венделовскому Врангель. Тут следовало думать. Возможно, случилось нечто, пока он ездил с диппочтой, не содержавшей на этот раз ничего заслуживающего внимания. Где произошло? В Белграде?.. О Софии и Париже он получил достаточную информацию от «Доктора». Всеми силами следует задержаться здесь, чтобы разобраться. Хотя бы неделю пробыть в Сремских Карловцах. Так и надлежит строить свой рассказ о последней поездке — устал, одному трудно, нервы расшалились.
— Если разрешите, ваше высокопревосходительство, чтобы развлечь вас, я начну с одного разговора, услышанного в коридоре вагона? — сказал тот, кого Врангель называл Венделовским. — Разговаривали наши соотечественники. И оба, судя по выправке, которую не в силах изменить ни время, ни сегодняшнее наше положение, военные. Один значительно старше. Полагаю, в чинах. Он спрашивает молодого: «Вот вы твердите: коммунисты, коммунисты! Еще немного — и вы пойдете служить им, расстрелявшим вашего отца?» А второй отвечает: «А если бы, простите великодушно, ваш отец попал под трамвай, вы не ездили бы в трамваях?..»
Против ожидания, Врангель не усмехнулся, не рассердился — похоже, просто пропустил мимо ушей. Оказалось, не так. Подумав, смежив веки, он сказал весьма серьезно, даже обеспокоенно:
— Коммунизм разлагает армию. Да что армию — всю нашу эмиграцию! Ни к чертовой матери!.. Знаете, Альберт Николаевич?! Стены кабинета давят на меня, — капризно сказал Врангель. — Приглашаю на прогулку. В саду и расскажете все — договорились? — и пошел к дверям.
Под ногами, как ледок на утренних лужицах, похрустывал ракушечник, которым были посыпаны аллеи. Ветви на деревьях подрезаны шарами, кусты затейливо подстрижены, цветы на клумбах искусно подобраны. Делом занимался знающий человек. Но рассказывать на ходу Венделовскому оказалось весьма сложным: главнокомандующий шагал широко, по-цаплиному, брезгливо ставя тонкие и длинные ноги, нимало не беспокоясь, успевает ли за ним дипкурьер. Венделовский то и дело сбивался с ноги, убыстрял шаг, временами пускаясь следом чуть ли не вприпрыжку. Рассказ получился сбивчивый, какой-то растрепанный. Впрочем, действительно ли интересовался Врангель его рассказом? Зачем ему нужны были несущественные подробности поездки дипкурьера? Альберт Николаевич многократно анализировал свои «сказки Шахерезады» и вопросы главкома и не находил никаких «крючков», проверок и перепроверок. Видно, дело обстояло наипростейшим образом. Оторванный от мира, заключенный в сербской дыре, Врангель по-человечески страдал от своей изолированности. Белград был захвачен русскими монархистами. Пусть отличающимися друг от друга (как они не уставали декларировать), но на деле оголтелыми, безоглядными шовинистами, сторонниками восстановления монархии в России. Глухие, слепые, пропитанные ненавистью старики. Врангель не мог доверить им ни своих планов, ни — тем более! — дела сохранения армии. В Белграде он оказался одинок. В Париж, Берлин, Будапешт он не мог переехать, поскольку его «воины», его «витязи» оставались на Балканах. Отсюда и его лозунг — «Армия вне политики», за который он пытается спрятаться. Кто его окружает здесь? Солдафон Кутепов, которого он опасается не без оснований? Хитрец Шатилов? Обленившийся, равнодушный разведчик Климович, растерявший все, не приобретший ничего, думающий лишь об обеспечении своей старости? Осанистый и напыщенный Петряев, владеющий шестнадцатью языками и не могущий ныне употребить с пользой хотя бы одного? Долгорукий, Львов, Сергей Николаевич Ильин — «правая рука» и правитель канцелярии главкома? «Топчидерский маршал», считающий себя великим конспиратором, направляющим и смягчающим политику Врангеля, — они разбегутся кто куда, едва окончательно опустеет Ссудная казна... Да, он изолирован.
— Итак, я слушаю, мой дипломат, — напомнил Врангель, оторвавшийся от не слишком веселых своих мыслей и вышагивающий впереди Венделовского, несмотря на все старания дипкурьера идти в ногу с главнокомандующим.
— Не очень даже представляю, что может особо заинтересовать ваше высокопревосходительство, — выравнивая дыхание, проговорил Венделовский, стараясь идти рядом. — Прибыл в Прагу, сдал почту военному агенту, на другом вокзале пересел на будапештский поезд и по пути попал в очередную забастовку. Сутки сидел в заплеванном станционном здании, страшась за документы, не зная языка, боясь провокации. В Будапеште провел еще сутки в обществе полковника фон Лампе. Затем София. Впрочем, о Софии можно сказать особо. Я ужинал у генерала Ронжина: мы собирались поиграть в карты. Был и начальник болгарской полиции. Ронжин, как бы между делом, спросил его: «Вы ведь не будете чинить препятствий к переезду границы нашему курьеру?» Тот улыбнулся: «Разумеется. Господин Венделовский может свободно продолжать свой путь». Ронжин, улучив момент, шепнул мне: «Не верю им, ограничусь малой почтой. К вам будет приставлен наш человек». Возле перрона меня встретил некто Сеньков, в форме санитара. Очень он за мной ухаживал, был предупредителен сверх всякой меры, занес в купе багаж. Отказался от чаевых и быстро сфотографировал меня в окне вагона. Это уже второй случай, ваше высокопревосходительство. Какой-то тип фотографировал меня в Берлине. И тоже возле поезда. Я не сомневаюсь — за мной охотятся большевики. Но этот, рекомендованный генералом Ронжиным? И знаете, что примечательно, ваше высокопревосходительство? На станции Субботица я был задержан сербскими жандармами, которые вынесли из вагона мой чемодан, обыскали меня и... обвинили в принадлежности к международному большевизму.
— Нонсенс, — остановившись, повернулся резко Врангель. — На каком основании?
— В чемодане находилось несколько советских газет, продажа коих в Королевстве запрещена, а в Германии — свободна. Я взял их по просьбе вашего высокопревосходительства. Их мне передали в последний момент, и они не попали в «дипломатическую вализу». Случайно.
— Промах, Альберт Николаевич.
— Согласен, непростительная оплошность. Но далее! Несмотря на мои протесты, я был препровожден опять-таки в Берлин, где вновь подвергся допросу. Мне объявили, что я не Венделовский, а известный террорист Каменский, направляющийся в Сремски Карловцы, чтобы убить... генерала Врангеля.
— Действительно смешно.
— На мое счастье и фон Лампе, и Климович, оказавшийся в Берлине, сумели удостоверить мою личность. Евгений Константинович объявил: в задержании — ничего случайного. Было получено сообщение о готовящемся аттентате, и мои фотографические карточки разослали повсюду.
— Грустно... Ах, Климович, Климович! Где его хваленый нюх? Возможно, кто-то работает под нашу разведку и по-прежнему весьма интересуется почтой? Ваши соображения?
— Весьма трудно вояжировать одному, ваше высокопревосходительство. Необходима подстраховка.
— Но вы не ответили на мой вопрос.
— Я затрудняюсь. Есть десяток предположений.
— Извольте изложить их письменно. А пока поездки в Софию отменяются. Остается маршрут Париж — Белград и обратно — через Вену и Будапешт. Тут мы сумеем прикрыть вас, — Врангель посуровел; рассказ возвращал его к повседневным заботам — заговорам, политике, борьбе: — Есть еще что-нибудь, стоящее внимания?
— Так точно! Убит Агеев, возникло шумное дело Покровского в Болгарии. Арест Хлусова — в Белграде. Все грубо, прямолинейно, грязно. Дипломатические просчеты и их последствия абсолютно не вызывают у меня сомнений.
— Да-а, — протянул Врангель раздумчиво, внутренне соглашаясь с курьером, хотя признаваться в том, что обе болгарские акции шли, по существу, без его ведома, ему не хотелось. Словно проверяя Венделовского, он поинтересовался его отношением к царю Борису — о нем ходят самые противоречивые разговоры. Каков он, сын царя Фердинанда Первого? Декоративный правитель или реальный политик, дальновидный, хитрый, умный и образованный?
Альберт Николаевич имел четкое и не упрощенное представление о Борисе Третьем, держащемся постоянно в тени, делающим нужную ему политику чужими руками. Но стоило ли делиться с Врангелем правдой, и кому эта правда была нужна теперь? Врангелю? Для чего? Для установления запоздалого контакта? С какой целью, если он первоначально выбрал Александра и сербскую ориентацию! До проверки ситуации любой ответ не годился. Но времени для раздумий не было, и Венделовский сказал простодушно:
— Схема его правления элементарно проста. Ему надо сберечь трон и передать его по наследству. Все! Отсюда — исключительная скрытность своих планов при широко демонстрируемой любви к своему народу и даже показному демократизму.
— А задачи? Чего он добивается?
— Любви своего народа, ваше высокопревосходительство. И, надо сказать, не без успеха. О правителе ходит масса рассказов, похожих на былины, на легенды о «народном царе».
— Ну-ка, ну-ка, — Врангель заинтересован. Он даже замедляет шаги, направляясь к беседке. — «Народный царь»? Истории известны аналоги.
— Вы имеете в виду императора Александра Первого?
— А вы стали читать мои мысли, Альберт Николаевич. Присядем. Я заинтересован! Более того — заинтригован! Продолжайте!
— Царь Борис живет якобы очень скромно. Любит болгарскую природу и много путешествует, почти без охраны. Вот пример. Возле женщин, работающих в поле, останавливается авто. Выходит царь, просит испить водички. Его узнают. Борис беседует с женщинами. Они жалуются ему на тяжелую жизнь. «Всем нам туго, — вздыхает царь. — Страна окружена недругами. «Черный хлеб» — плохо, но черные косынки вдов — хуже». Женщины крестятся, некоторые пытаются поцеловать его руку. Но Борис сам целует руку какой-нибудь старушке. Вокруг ликуют... Или еще история. Мальчик и девочка выходят на лодке в море. Начинается буря. Перепуганные дети тщетно зовут на помощь: никто не решается вступить в борьбу с гигантскими волнами. Но вот рокот мотора. Смелый и решительный человек спасает мальчика и девочку. Когда катер пристает к берегу там уже огромная толпа! Человек бережно передает детей родителям, которые со слезами на глазах благодарят спасителя и благословляют его. «Ведь это царь наш!» кричит кто-то. Следует еще сцена общего умиления.
— Недурно! — восклицает Врангель. — Молодец. Есть чему поучиться, а? Ну, рассказывайте, рассказывайте!
— Таким случаям несть числа, ваше высокопревосходительство. Заменив машиниста, царь как-то вел поезд из Софии в Пловдив и предотвратил крушение; избежал чудесным образом не менее десятка покушений, хотя всюду ходит и ездит без охраны; не гнушается пожимать сотни рук и раздает деньги до тех пор, пока не показывает вывернутые карманы: ничего, мол, нет, всем одарил своих подданных.
Врангелю рассказанное понравилось. Он продолжал требовать все новых подробностей, деталей. Тут внезапно выбежала из боковой аллейки, катя обруч, дочь Врангеля — Елена. Она запыхалась, раскраснелась. И смутилась от внезапной встречи: знала Венделовского. Именно Альберт Николаевич недавно привез ее и брата Петра сюда из Брюсселя. Стройная и подвижная Елена с детским, мягким выражением лица, становилась, к сожалению семьи, все более похожей на отца. Тот же удлиненный овал лица, светло-серые, чуть навыкате глаза, высокая, точно сплюснутая фигура. Тут кровь барона оказывалась несомненно сильнее, забивала хрупкую красоту и женственность матери. С природой и богом не поспоришь! Оставалось лишь надеяться: подрастет — с наступлением девичества, может быть, изменится, похорошеет. Ловко схватив обруч, Елена сделала книксен и, став совершенно пунцовой, дружески поздоровалась с Венделовским, спросила, не сдерживая радости:
— Вы здесь? Надолго ли, Альберт Николаевич?
— Трудно сказать, мадемуазель: дела, дела.
— А если я попрошу рара? Неужели мы не сможем и сегодня поиграть в фанты?!
— Боюсь, Елена Петровна...
— Фу! Вы плохой. Рара, распорядитесь, прошу вас. Пожалуйста! Альберт Николаевич такой выдумщик.
— Елена, пожалуйста, оставь нас, — сурово сказал Врангель. — Закончив дела, Альберт Николаевич обязательно зайдет.
— Сегодня? — напористо спросила девочка — характером Елена походила на отца. — Обещаете? А потом...
— Если позволят обстоятельства, — уже совсем строго перебил ее Врангель. — Ты задерживаешь нас.
— Я понимаю, — сдержанно ответила девочка. — Простите, рарД. До свидания, Альберт Николаевич. Мы рады видеть вас всегда.
— Спасибо, Елена Петровна. Сердечный привет вашей матушке и Петру Петровичу. Мы увидимся. И придумаем самую замечательную игру. Обещаю.
— Ах, дипломат, дипломат! — вздохнул командующий то ли с одобрением, то ли с осуждением. — Вы очаровали мое семейство. Только и слышу: «Венделовский, Венделовский!» Что мне делать?
— Вы же знаете, ваше высокопревосходительство, я готов служить вам на любом посту. Только воспитатель детей из меня не получается.
— Вы потрясающий человек! — это было высшей оценкой подчиненного в устах Врангеля. Он хотел сказать еще что-то приличествующее моменту, но из-за кустов аллейки, где скрылась Елена, вновь появился ротмистр Знаменский, сделал непонятный жест, не то подзывающий главкома, не то призывающий его к тишине. Врангель подчинился — это было удивительно.
Послышались приглушенные голова. До Альберта Николаевича долетали отдельные слова: «Кутепов»... «Витковский»... «ситуация»... «Александр Цанков»... «меры»... Венделовский, дабы не мешать конспиративному разговору, отошел в сторону. Для себя он определил: Болгария, новые важные события начались или вот-вот начнутся.
«Золотой таракан» — как окрестил Альберт Николаевич Знаменского — отступил бесшумно, гравий не хрустнул, и ветка не шелохнулась. Врангель вернулся к дипкурьеру. На его отчужденном, замкнутом лице прочесть что-либо было невозможно. Таким главком становился в наиболее ответственные часы жизни — Венделовский знал это. Подозрения Венделовского подтверждались: Болгария! Да, что-то произошло именно в Болгарии.
— Господин Венделовский, — сказал Врангель прежним любезным тоном (вот она, выдержка!). — К сожалению, события, происшедшие внезапно, меняют мои планы. Срочно, без вызова, прибыл генерал Витковский с важным сообщением. Просит аудиенции.
— Какие будут приказания мне, ваше высокопревосходительство? — не выказывая никакого любопытства, спросил дипкурьер.
— Будьте готовы. Утром я найду вас. Есть задание: в Париже разыскать этого купчишку... хм... Шабеко. К нему повезете письмо.
— Желаю здравствовать, — Альберт Николаевич коротко поклонился, щелкнул по-военному каблуками, понимая, что главком хитрит.
Врангель протянул ему руку для пожатия, милостиво и покровительственно кивнул.
2
День и вечер утомили Врангеля. Особо вечер — совещание с генералами по поводу болгарских событий. События уже неслись лавиной по склонам софийской горы Вятоша, по всей стране, требовали четкого отношения к ним: власть берут военные, они свергают леваков, «стамболистов», для борьбы с коммунистами им наверняка понадобятся русские воинские контингенты... А недавно русских солдат травили. Оскорбляли мундиры офицеров, подвергали аресту генералов, лишали оружия и знамен... «Мои воины полны справедливого гнева, — думал Врангель. — Трубы запоют — и в бой, орлы! Как только отдам приказ... А если приказ задержать? Станет ли ждать его Кутепов, Туркул, тот же Витковский? Да они за два дня зальют кровью Болгарию, казня и правого и виноватого. А «просвещенный мир» обвинит в этом Врангеля. Да-да! Меня, меня! С другой стороны, история предоставляет шанс выправить положение русской армии. Сначала в Болгарии, потом на Балканах, потом, глядишь, и в Европе на «русских орлов» вынуждены будут смотреть по-иному». Он сумеет вновь спаять их железной дисциплиной, святыми лозунгами и кинуть на освобождение России от большевиков. Из ручейков образуются мощные, неудержимые реки, сметающие все на пути. История дает ему возможность вновь подняться. Упускать эту возможность — преступление.
Врангель всегда оставался сами собой. Политик, игрок, борющийся всеми средствами за единовластие. Не случайно девизом рода Петра Николаевича были слова: «Ломаюсь, но не гнусь». («Не гнусь» — не очень хорошо звучит по-русски, но Врангель двусмысленности здесь не чувствовал). К дневнику, заброшенному еще во время оставления Крыма, он твердо решил вернуться теперь. Сделать записи постоянны ми, наподобие тех ежедневных трехразовых закаливающих прогулок при любой погоде, которые он проводил в одно и то же время независимо от того, где находился.
Задумано — сделано. Петр Николаевич искал нужную цитату и нашел ее у масона Витте. Она как нельзя лучше подходила к идее его жизни, выражала его кредо. И даже подчеркнул, чтоб сразу бросалось в глаза.
«На чем, в сущности, держалась Российская империя? — писал Витте, и каждое его слово наполняло Врангеля чувством гордости, — Не только преимущественно, но исключительно своей армией. Кто создал Российскую империю, обратив Московское полуазиатское царство в самую влиятельную, наиболее доминирующую, великую европейскую державу? Только сила штыка армии. Не перед нашей же культурой, не перед нашей бюрократической церковью, не перед нашим богатством и благосостоянием преклонялся свет. Он преклонялся перед нашей силой...»
Но, как ни парадоксально, главнокомандующий не часто обращался к записям. Дело было вовсе не в нехватке времени, — в Крыму красные уже и к Севастополю подходили, а он выкраивал минуту, чтобы не забыть нечто необыкновенно важное, что расшифровать следовало позднее в полном объеме. И ныне происходили события, требующие глубочайшего анализа. Почему же он охладел к дневнику? — спрашивал он себя и не находил ответа. Вот вчерашний разговор, стычка с Кутеповым, отнявшая больше часа. Не первая, не последняя. Ничего нового. Tausend Teufel![2] Ни доводы, ни контрдоводы, ни сама жизнь ничему не научили бравого «Кутеп-пашу». Горбатого могила исправит. Болгарские события, арест и высылка должны были научить его хоть чему-то? Напрасно! В провале придуманной им операции освобождения Болгарии он винит всех («Меня, нерешительного, в первую очередь») от адъютанта, не сумевшего задержать жандармов, ворвавшихся в дом, до Самохвалова, позволившего захватить секретные документы («Действительно, мог бы приказы сжечь и сам застрелиться, трус!»), и всех генералов штаба, из которых ни один не решился сыграть «Другя, в поход собирайтесь» — поднять полки в защиту героев, которым Болгария посмела нанести несмываемое оскорбление. О чем писать? Факт пустого спора не стоил и строчки в дневнике!..
Имелась и еще одна мысль. После самоубийства фон Перлофа Врангель, тщетно искавший ему достойную замену, не был уверен в безопасности ни дома, ни документов, ни своей особы. Стоило ли доверять сокровенные мысли бумаге? Ведь каждое слово, начертанное рукой главкома, становилось документом. А во враждебных руках? Обличительным документом!..
Сидя за столом, перед раскрытым дневником, Врангель размышлял о готовящемся военном перевороте в Болгарии. В который раз думал он о расстановке сил, симпатиях и антипатиях европейского общественного мнения и о выгоде — стратегической и политической, что получит лично он. И еще о том, что Кутепов становится просто невозможным. Пора укрощать! И чем раньше, тем лучше. Что осталось в его жизни главным?.. Главным по-прежнему оставалась надобность сохранить армию. Вопреки всему и всем. Логике, местным законам, международному праву, агитации левых, вмешательству в вопросы командования правых и церкви, день ото дня усиливающемуся соперничеству великих князей. Вопреки упадку духа в частях, растущему стремлению вернуться на родину. Наибольшую опасность своему Делу Врангель видел нынче в «партийной сваре». Он был реалист и не мог не считаться с враждовавшими политическими течениями, отчетливо видел и оценивал каждое из этих течений («русла высохших рек», — презрительно называл он их про себя). В глубине души Врангель считал себя монархистом. Поэтому и демонстрировал надпартийность. Он уже сумел провести свою военную организацию сквозь два глобальных раскола (на зарубежном монархическом съезде и в среде зарубежной православной церкви), не позволил уничтожить армию и правительству Стамболийского. Он по-прежнему оставался творцом политических событий. В его руках политика становилась искусством достижения невозможного...
Врангель обмакнул перо и, повинуясь внезапному порыву, записал наверху страницы: «Требуются виртуозные ходы шахматиста для осуществления политических целей, умение мгновенно и тонко разбираться в людях. В каждом и в массе. Надо видеть над головами всех — и ярче, и глубже. И даже на неудачах воспитывать в себе незыблемость духа...» Отложил перо, задумался: на каких, собственно, неудачах? Ситуация нынче донельзя благоприятная. Военные, идущие к власти в Болгарии, — источник иного сотрудничества, возможность получения новых и весьма основательных льгот. Армия возродится, русские люди консолидируются вокруг главного командования. Торгово-промышленный комитет отвалит миллионы. Манташевы, Гукасовы. До вашей нефти рукой подать! Мы вам ее возьмем, но деньги вперед, господа! Сколько уже заплачено банкирам и заводчикам русской кровью! Сколько раз кидал он полки в наступление не потому, что этого требовала стратегическая обстановка. Интересы «торгашей» и их заморских покровителей, требующих авансы зерном, нефтью и углем пароходами, были для него важнее.
И вдруг внезапно, рожденная далекой ассоциацией, возникла четкая, зримая картина. Страшная, как кошмар...
Это произошло в туретчине, когда Врангель после долгого перерыва прибыл в Галлиполи, чтобы произвести смотр войскам. Он приплыл на «Лукулле». У скалистого, крутого берега, подле старого маяка харкнула пушчонка. Поросшая жесткой, как проволока, травой тянулась к югу серо-зеленая равнина. Ветер гнал туман. Над туманом всходило тревожное медно-красное солнце.
«Ур-р-ра-а!» — по-фельдфебельски гаркнул Кутепов, стоявший во главе группы генералов возле причала. Его вразнобой поддержала свита.
Врангелю показалось, начало не предвещает ничего хорошего. Кровавое солнце, белые кресты, стоящие на кладбище, точно рекруты в строю, несколько десятков солдат поблизости от причала — в залатанных гимнастерках, исхудавшие, покрытые язвами и нарывами. Не отменить ли церемонию, спланированную по случаю его приезда? И решительно отогнал непрошенную мысль: так долго и трудно добивался разрешения у союзнического командования — полки ждут встречи, ждут его. Конечно, он знал, в каком положении оказались его «горные орлы», те, которых он отвез за три моря, пообещав в скором времени вернуть в Россию под победный грохот барабанов, с развернутыми знаменами. Знал, что солдаты голодают, что французы сокращают и сокращают пайки, что, несмотря на военно-полевые суды и палочную «философию» Кутепова, дисциплина падает, имеются случаи дезертирства, самоубийства, бандитизма, — об этом ему докладывал фон Перлоф. Но то, что Врангель увидел своими глазами, превзошло все его ожидания. Армии не существовало! Лучшая ее часть, ее ядро, бывшие марковцы, дроздовцы, корниловцы превратились в толпу, в сброд, в деморализованную массу, где с трудом можно было отличить офицера от солдата.
В палаточном лагере горнисты сыграли построение. Пришел в какое-то упорядоченное движение человеческий муравейник. Батальоны выстраивались в каре. Врангель ждал, делая вид, что его всецело занимает рассказ генерала Штейфона, и только непрекращавшееся потренькивание шпоры выдавало его нетерпение.
Брови главкома были сдвинуты, рот сжат, голова вскинута. Взгляд поблекших от злобы глаз — поверх голов свиты. Он понимал: выглядит нелепо в своей блистательной парадной форме, при орденах и золотом оружии, — многие офицеры, стоящие перед ним в выгоревших гимнастерках, порванных и неумело залатанных мундирах, стоптанных сапогах, с красными и черными обожженными солнцем лицами, в серых от многочисленной стирки бинтах имеют не меньшие, чем он, отличия. Но почему многие из них без крестов и медалей? Не отсюда ли начинаются развал дисциплины, анархия, губившие русскую армию еще во время войны с Вильгельмом, с большевиками?.. Врангель хотел было подозвать Кутепова. Но тут понеслись вдоль строя громоподобные команды: «Рав-няйсь!.. Смир-но! Рав-нен-на-пра-во!.. Гос...да офицеры!..»
Врангель быстро двинулся вдоль строя — высокий, надменный, решительный, сумевший перебороть только что владевшее им настроение яростного нетерпения. Ухал духовой оркестр. Стонали трубы.
— Орлы! — кричал на ходу главнокомандующий. — Приветствую, орлы! Привет, непобедимые! Привет вам! Непобедимые!..
И вдруг, точно споткнувшись, Врангель остановился. Стоящий перед ним в строю немолодой солдат покачнулся и рухнул лицом вниз, под ноги главнокомандующему... Каре ахнуло... Замешательство длилось менее секунды. Врангель, не задумываясь, перешагнул через потерявшего сознание и двинулся вперед, стараясь не убыстрять шаги.
Тут же упал унтер-офицер из второй шеренги. Еще один... И строй поломался. Началось нечто невообразимое, люди падали, как снопы на жнивье под сильным ветром. Падали сзади и спереди. Солдаты и офицеры падали в голодном обмороке. Их оттаскивали за ряды, которые все время сдвигались. Плац охватывал беспорядок, неразбериха. Музыка смолкла. Стало совершенно нестерпимо — гулкие звуки падающих тел в наступившей тишине. Врангель продолжал шагать вдоль строя, уже не зная, как ему следует вести себя теперь, и что предпринять в дальнейшем.
— Смир-р-ра! — зверино закричал сзади Кутепов. — Равняйсь!.. Смир-р-ра!.. К церемониальному аршу!
— К церемониальному маршу! — тренированно запел чей-то другой голос. Его подхватил третий, четвертый, и на плацу опять все пришло в движение — полки перестраивались. — По-рот-но! Ди-стан-ция!.. На одного линейного!.. Первая рота! Ма-а-арш!..
Бухнул оркестр. Врангель остановился, тяжело дыша, дико повода глазами. Приблизился Кутепов. От растерянности он не находил что сказать, тяжело и гневно сопел, усмиряя дыхание.
— Позор! В корпусе бардак, — горько сказал Врангель.
— Виновные будут наказаны. Можете не сомневаться! — Кутепов принял под козырек.
— Отставить! — сухо приказал Врангель. — Надо принимать сверхсрочные меры. Вы, что же, весь корпус мне переморить собираетесь?! Через два часа совещание на «Лукулле». Кончайте поскорей это безобразие, генерал...
Картина постыдного парада в Галлиполи стала тускнеть, затуманилась и исчезла. Врангель усмехнулся: тогда надежд было больше. И виновных он нашел быстро — Кутепов, казаки-самостийники, Штейфон, тучный генерал Артифексов, французские «вожди» Пелле и Шарпи. Кого винить сейчас? Он давно остался один. И все понимают это. Кто не готов кинуть в него камнем?.. Но есть еще Болгария. Только Болгария сможет поправить его пошатнувшиеся дела, поднять упавшие акции.
3
Сербский король Александр срочно вызвал Врангеля на аудиенцию. Новость почему-то принес начальник контрразведки — хитрая бестия. Это настораживало...
Генерал Климович ждал главкома у входа в кабинет при штабе. Сидел задумавшись. И поднялся не по-строевому: или заметил не сразу, или независимость с первых минут демонстрировал. Врангель, пропуская его, с одного короткого взгляда оценил состояние своего сподвижника. Контрразведчик похудел, потерял сановность, выправку. Серое, нездоровое лицо. Под глазами густые тени, скулы торчат, как у покойника. Руки вялые, слабые. И чуть влажные — неприятно. Врангель неприметным жестом провел ладонью по зеленому сукну стола, спросил стоя, не приглашая сесть и гостя: когда ждет его король Александр.
— Вы приглашены на три часа пополудни, господин главнокомандующий, — Климович не принимал боя, давая понять, что свое участие в организации аудиенции обсуждать не померен. — Я распорядился: мотор ожидает, и, если угодно будет отправиться в ближайшие полчаса, мы доберемся до Белграда без спешки.
— Я готов, — Врангель продолжал стоять, опершись боком о стол, глядя в ускользающие глаза контрразведчика. — Но прежде вопрос, Евгений Константинович. Что известно о мотивах столь спешного вызова короля?
— Могу лишь высказать предположение.
— Извольте, — Врангель сел наконец, сделав разрешающий жест сесть и подчиненному.
— Вероятно, болгарские события.
— А какова реакция короля?
— Не могу знать.
— Послушайте, Евгений Константинович! — Врангель, вспыхнув, поднялся. Встал и Климович. — А не кажется ли вам, что вверенный вам департамент работает из рук вон плохо?
— Совершенно согласен с вами, ваше высокопревосходительство. Я лишился лучших людей.
— Ротмистр Знаменский окончательно выявил свою бездарность. Он превосходно берет под козырек и щелкает каблуками, но и к простейшему анализу фактов не готов, — Врангель умел всегда точно определить момент, когда пора было давать задний ход, чтобы не перегнуть палку.
— Заменим, — будто бы с облегчением согласился Климович, подумавший не без злорадства, что ротмистр — лучший из его людей, делает заметные успехи в сыске, что его «освещение» каждого шага главнокомандующего — лучшее тому доказательство. — Есть у меня некий Монкевиц, классом выше. Будете довольны.
— А есть ли новости о деле Перлофа?
— Удалось установить его связь с неким французским коммерсантом, торговцем коврами.
— Каждому из офицеров хочется в наших условиях подработать, генерал.
— Их контакты имели место в Константинополе и в Белграде. Мы разрабатываем эту линию.
— Разрабатывайте, разрабатывайте! — обидно усмехнулся Врангель. — А мне вашего Монкевица давайте. Это первейшее дело. Абсолютно проверенный должен быть человек!
Они вышли на улицу. Увидев довольно потрепанный автомобиль с пропыленным и порванным брезентовым верхом, Врангель недовольно хмыкнул: вонючим и тихоходным моторам он всегда предпочитал неутомимых дончаков или ахалтекинцев, запряженных в невесомый, хорошо подрессоренный шарабан, сопровождаемый казачьим конвоем. Климович ощутил его недовольство и понял причину. Сказал, оправдываясь:
— Англичане. Сделали представление: казачьи эскорты вашего высокопревосходительства на улицах Белграда вызывают протесты в Скупщине.
— Скоро вы меня под чехлом возить станете, — горько усмехнулся Врангель. — Ah, merde alors![3] Недавно я сам выбирал, на чем ехать к королю. Однако давайте к нашим делам! Причина вызова? Жалобы, доносы? Интриги Кутепова? Или восстание в Болгарии?
— Полагаю, последнее. Вероятно, потребуется наше активное вмешательство. Поддержка Цанкова. — Левая щека Климовича дернулась, что обычно предшествовало язвительной реплике. — Кутепов воспитывает офицерство докладами. Тезисы их не отличаются особой оригинальностью: пора свергать большевиков. На армию рассчитывать нечего: солдаты «прогнили и опаскудились», офицеры забыли о чести. Ядром должны стать батальоны идейных воинов. Интервенции следует придать характер национального похода под водительством великого князя Николая Николаевича.
— Вон на кого рассчитывает Александр Павлович. Торопится, как всегда торопится. Однако какова последняя информация из Софии?
— В ночь с восьмого на девятое июня переворот свершился, — Климович произнес это так, словно события произошли по его команде. — Партии Военной лиги подняли армию. Правительство Стамболийского перестало существовать. У власти кабинет, во главе с Цанковым. Премьер скрылся, министр внутренних дел Даскалов бежал за границу, ряд видных земледельцев арестован, имеются убитые.
— Политическое лицо кабинета?
— Деятели, представляющие военно-фашистские клубы союза «Народный сговор», опираются на крупные финансовые, торговые и промышленные круги.
— А коммунисты? Не запахнет ли в Болгарии гражданской войной?
— Полагаю... При наличии наших войск...
— Лишенных командования! — вскричал Врангель. — Надо действовать немедля, безотлагательно! Плод падает в руки. Надо напомнить Цанкову, что мы союзники. Хотя он и допустил наше недавнее поражение, пальцем не пошевелил, чтобы помочь русским офицерам... Ладно, забудем. — Врангель выпрямился, замолчал, прикрыв глаза рукой, задумался.
— Ваши приказания, господин главнокомандующий, — заметив приближающееся здание дворца, почтительно проговорил Климович. — Нужна ли вам связь с Цаиковым? С царем Борисом?
— А вы знаете, что такое подлинный царь Борис?
— Крестник нашего императора. Были реальные предпосылки... Мог стать зятем Николая Романова.
— Но позиция его? Теперешняя, при перевороте?
— Царь Борис в перевороте не участвует демонстративно. Говорят, скрывается где-то, — Климович знал явно меньше Венделовского. Или хитрил по своей обычной привычке.
— Да, предпосылки! — сказал, точно обрезал, Врангель. — Он немец, генерал! Принц Сакен-Кобург-Готтский! И про меня говорит — немец. Это политика, ясно? Внешне я стараюсь не контактировать с ним без крайней нужды. Помните об этом.
— Но связь с царем мог бы осуществить преданный вам человек. И если вы облечете меня своим доверием, такая связь будет немедля установлена.
— Связь? — очнулся Врангель. — Да, конечно! — сказал он азартно и тут же, увидев королевский дворец и будто вспомнив, куда и к кому едет, добавил, не сдержав возникшего внезапно нервного напряжения: — Впрочем, потом, генерал! После встречи с Александром, после. Я приму необходимые решения, узнав, чего хочет от нас сербский король. Подождите меня... э... — главнокомандующий, продолжая размышлять о своем, не подумал и на миг о том, что неэтично заставлять генерала неизвестно сколько времени ждать его в автомобиле.
Климович сделал вид, что не заметил бестактности Врангеля (ему был понятен взлет честолюбия командующего — политического игрока и военного, стремящегося играть роль в балканской политике), выслушал просьбу равнодушно и, улыбнувшись, сказал, что конечно же он дождется командующего в кофейне ресторана отеля «Москва». — Знаете, пожалуй, вам нет смысла дожидаться меня, Евгений Константинович, — ответил Врангель.
— Как прикажете, — равнодушно согласился Климович, думая, стоит ли ему сейчас сказать все, что он узнал о генерале Достовалове, или выбрать более подходящий момент.
— Прошу исполнить еще просьбу, Евгений Константинович. Мне необходим генерал Ронжин. Озаботьтесь, пожалуйста, этим.
— Будет исполнено, — улыбнулся Климович, решив, что должен нанести Врангелю ответный удар уже сейчас, немедля.
Автомобиль остановился у дворца, окутавшись зловонной гарью. Врангель вышел — прямой, точно манекен. «Зря отпускаю, — мелькнула запоздалая мысль. — Иду даже без адъютанта — несолидно. Посидел бы и генерал в королевской приемной, не исхудал бы. Все равно. Он и Ронжина искать, конечно, не станет, zum Teufel!»[4]
— Одну секунду, ваше высокопревосходительство, — Климович, вылезая, не попал ногой на ступеньку и чуть не упал.
Врангель посмотрел сурово, через плечо: не выносил, когда его задерживали и он рисковал опоздать на важную встречу,
— Достовалов... Считаю своим долгом, — невольно заторопился контрразведчик под взглядом серых глаз главкома, выражающих ненависть и презрение. — Его перекупили большевики. Вот-вот он начнет давать показания против нас.
— Ну и займитесь им, нейтрализуйте. Как у вас там принято. Учить вас?! Не перекладывайте на других хотя бы свои дела.
Новость не задела внимания главнокомандующего. Он не дал себе даже труда вдуматься в реальную опасность. Врангель направился ко входу во дворец, глядя прямо перед собой и словно не видя ничего, не обращая внимания на гигантов-часовых. Он мгновенно забыл о Климовиче — было у него и такое качество.
Врангель, сопровождаемый дежурным генералом, демонстративно замедленно шел анфиладой парадных залов, отмечая про себя большое количество и новой хорошей мебели, и дорогих напольных ваз, и старых картин, и ковров с высоким ворсом, заглушающих шага, огромных зеркал, цветов повсюду — на столиках, колонках, каминных полках и даже на штофных и шелковых занавесках и обоях. Без сомнения, Александр Карагеоргиевич, король сербов, устраивался здесь надолго, не считаясь со средствами. Врангелю интересно было, куда его ведут. Обычно Александр принимал главнокомандующего полуофициально, в отдаленной «кофейной» комнате, где встречался лишь с приближенными людьми двух сортов: с теми, кому покровительствовал, или с теми, отношения с которыми не следовало афишировать. В последнее время пронырливые газетчики, особенно левого направления, ухитрялись проникать во дворец, минуя солдатское оцепление, и использовали надежных информаторов, у которых покупали за одну цену и правду и ложь. Стоило какому-нибудь газетному листку тявкнуть — и сразу (один за другим! один за другим!) запросы в Скупщине. И во дворце следовало сохранять особую осторожность.
Генерал вел Врангеля в королевский кабинет. Что ждало его там? Чрезвычайное сообщение? Важная встреча с неким третьим лицом? Одно не вызывало сомнений: он, главком, был нужен. Срочно. И одно уже давало Врангелю определенное преимущество.
Обе половинки дверей кабинета, покрытые блестящей белой краской и густым золоченым орнаментом, распахнулись. Генерал исчез. Врангель шагнул вперед. Александр поднялся из-за огромного стола, уставленного многочисленными предметами бронзового чернильного прибора, фаянсовыми фигурками и барочными безделушками, скорей всего не имеющими никакого полезного применения.
Встреча произошла посреди кабинета. Врангель с ощущением приближающейся неприятности занял предложенное ему кресло, приготовился к защите, ожидая, что скажет Александр, и рассматривая его со всей почтительностью, на какую оказался способен. С момента их последней встречи («дай бог памяти, она ведь и случилась не так давно, месяц-полтора назад») во всем облике тридцати четырехлетнего короля произошли разительные перемены. Вчерашний не слишком уверенный в себе офицер, в пенсне, с округлым мягким лицом и острым подбородком, чуть выступающим вперед, стал подлинным монархом. Движения его приобрели плавность и медлительность. Жесты — царственную выразительность. Перед Врангелем стоял человек, которого он не знал, которого видел впервые. И уже с первых фраз этот неизвестный поставил главкома в позицию оправдывающегося, хотя в голосе короля звучали добрые, явно покровительственные интонации. Впрочем, начало разговора не предвещало грозы: Врангель ждал вопросов Александра и внутренне был готов ответить на любой из них. Больше того, имел Врангель и заготовленную заранее идею, которую собирался использовать. Но!.. Это для особого дня — сегодня еще рано выбрасывать своего козырного туза... Последовала серия вопросов о здоровье, делах, реконструкции Топчидера, семье, планах на осень и тому подобное. Врангель отвечал учтиво, достаточно односложно, давая понять Александру, что отлично понимает свое нынешнее место и в его дворце и в его королевстве и ждет того, ради чего король назначил ему срочную аудиенцию. Но Александр почему-то не мог или не хотел пока говорить об этом, основном. Врангель намеренно переменил позу — сел неудобно, на кончик кресла, готовый вот-вот подняться, показывая монарху свою независимость и то, что время их былых доверительных разговоров кануло в Лету. Протест был принят. Александр перешел к информации о трудностях и тяжелом политическом положении страны: об укреплении армии, пограничной стражи и администрации, строительстве дорог с помощью русских солдат, о дипломатической борьбе. Информация сопровождалась постоянным рефреном: «французский посол сказал», «французский посол посоветовал», «как неоднократно подчеркивал посол», — до противного. Александр не скрывал, кому он поклоняется, обязан поклоняться.
— Французский посол и на вас жаловался, барон, — Александр внимательно посмотрел на гостя, и лицо его отвердело, приняло упрямое и жесткое выражение, которое он уже выработал при общении со своими подданными — выражение властителя людей, населяющих его страну.
— Чем я не угодил французскому послу? — смиренно спросил Врангель, отводя глаза и позволяя себе чуть-чуть расслабиться, полагая, что король переходит к основной теме аудиенции.
И ошибся. Александр ушел от ответа, делая вид, что строит русскую фразу и забыл какое-то слово — чрезвычайно важное.
— Како се то зове на русском? — пробормотал он, фальшиво улыбаясь. — Опростите.[5] — Александр, хорошо владеющий русским языком, намеренно вставлял отдельные сербские обороты или коверкал произношение некоторых слов всякий раз, когда испытывал затруднение в беседе или умело разыгрывал его. — Ну, хорошо, мы вернемся к французскому послу, уступив очередь послу Великобритании. Если вы не возражаете, барон?
Врангель пожал плечами, делая вид, что продолжает рассматривать инкрустированный перламутром ящичек для сигар. Александр, мельком проследив за его взглядом, не предложил Врангелю «гавану» с золотым ободком, которую любил более всех сортов: Александр торопился. Аудиенция складывалась не так, как он хотел. Этот молчаливый командующий русской армией, безразличный, готовый согласиться с любым его монаршим решением, почему-то раздражал сегодня Александра.
— Английский посол говорит, что ваши люди снова начали продажу серебра и другого имущества, принадлежащего казне и частным лицам. Уверены смо у то[6].
— Английский?! — Врангель горько рассмеялся. — Англичане берут у нас серебряные монеты наряду с американцами! У армии нет иного выхода. Армия должна жить. Без средств главного командования ее растащат по кускам, разорвут, уничтожат. Вы говорите о «частных лицах»? Возможно! Два, три, десять, сто человек будут ущемлены. Но Россия простит нам все!
— Хорошо, хорошо. К чему так горячо, барон? Курите. Успокойтесь: главная проблема впереди. Она требует... как это?.. холодной головы, мудрости и... сердца. Я опять забыл русское речение. Курите. Слушайте меня насколько можно внимательно... Яко мие жао[7]. Наш сосед, царь Борис Третий, весьма боится своего Стамболийского. Зато не един пут[8] договаривался с вами, генерал, прогнать его. Я долго закрывал глаза на ваши переговоры за моей спиной. Да, да! — повысил голос король, предупреждая отрицательную реакцию Врангеля. Выразительным и коротким монаршим жестом Александр пресек даже его попытку возразить. — Не надо лишних слов, Петр Николаевич (обращение по имени еще больше насторожило Врангеля). Мы достаточно осведомлены о событиях, произошедших в Болгарии. Я не знаю, что они сделали со Стамболийским, не знаю, какую точно позицию займет Цанков. Но твердо знаю позицию царя Бориса. Она не изменилась даже тогда, когда громили наших людей; он оставался безучастным зрителем, не так ли? Он плохой союзник... Не сме да буде ни трунке сумье[9].
— Я никогда не переоценивал царя Бориса, — сказал Врангель.
— Отлично! Хочу напомнить наш не очень давний разговор. Я уже предупреждал вас, барон, против вмешательства русских генералов в жизнь стран, приютивших ваши армии, — Александр подумал, как нанести удар, но удар не смертельный, а лишь сбивающий с ног. — Теперешняя ситуация в Болгарии стократно сложнее, барон. На Лозаннской конференции Стамболийскому дали понять: его игры с коммунистами вызывают гнев Европы. Он не успел отреагировать — его захотели прогнать. И у ваших генералов есть все основания отомстить болгарской черни, не так ли? Как это говорится: «За глаз — глаз, за зуб — зуб»?
— Мои генералы больше трех лет спасали Европу от большевизма, — мрачно сказал Врангель, все еще не понимая, куда клонит король. — Они достойны лучшей доли, уверяю вас, ваше величество.
— Возможно! Возможно! — Александр точно отмахивался от возражений главнокомандующего. — У меня нет желания обидеть русских, — и задумался, посмотрел настороженно, с прищуром, пол у поверну в голову к плечу: — У вас есть идея? Предложения, определяемые сегодняшней обстановкой, барон?
Так, нежданно, без всякого усилия, в мгновение ока, изменилась ситуация. Наступало его, Врангеля, время. Теперь или никогда! Представится ли еще возможность кинуть в большую игру свою карту? Но не рано ли? Врангель мысленно перебрал свои козыри. У власти в Болгарии — друзья, они обязательно захотят опереться на его армию. Это — факт. Русские воинские контингенты, что бы ни вещали, нужны французам. При их помощи они станут и дальше давить на правительства не только Сербии и Болгарии, но Чехословакии и Венгрии. И по-прежнему держать неподалеку от границ Советской России реальную боеспособную армию — на случай европейских осложнений. Вот они, его козыри. Достаточно ли? Мало? И что еще задумал Александр? Причину срочной аудиенции он еще не высказал. Но время пришло. Жребий брошен!
— Разрешите высказать суждение по поводу одной исторической реалии, овладевшей моим умом. Находящей все большее подтверждение в нынешней европейской жизни и политике. Буду краток, ваше величество. Если моя идея найдет отзвук в сердце вашем, смогу в ближайшие дни представить подробный доклад.
Александр кивнул милостиво, чуть удивленно, но не скрывая заинтересованности. Он с симпатией относился к русскому командующему. У Врангеля было чему поучиться — и не стыдно поучиться! И он сам, хозяин нового государства, не считал зазорным заняться изучением военных действий конной армии генерала на Маныче и под Царицыном, эвакуации стотысячной армии из Крыма, всех его дипломатических ухищрений в Константинополе, расселения боеспособных частей на Балканах, заботы Врангеля о будущих офицерских кадрах. Да и многого, многого другого! Александр уважал русского, хотя характер генерала, его независимость, его спесивость — весь его облик — стали раздражать короля, и тут уж он ничего не мог с собой поделать. Ему, например, доставляло истинное удовольствие ставить главнокомандующего на место, все чаще подчеркивать границу, их разделяющую. В то же время Александр понимал, что определенные круги Европы и Америки продолжают поддерживать командующего. Врангель же со своим штабом находился в зависимости от монарших интересов Александра. В любой момент — как сегодня хотя бы — король мог вызвать его на беседу, проинструктировать, потребовать определенных решений. Все этой выглядело запутанным, весьма сложным и отнюдь не упрощало жизнь.
Кофе подала им очень красивая, темнолицая, совсем юная девушка в красных, тонких шальварах и расшитых золотом курточке и тюбетейке. Время шло. И шло впустую. Первым очнулся Врангель. Он решительно отставил чашечку и, как бы подводя черту, отделяющую то, что было, сказал:
— Ваше величество, разрешите вернуться к не высказанной мною идее, представляющейся весьма плодотворной, — голос его звучал уверенно, твердо, намеренно неторопливо.
— Да, да, барон. Я слушаю, слушаю, — Александр с трудом освобождался из плена своих мыслей.
— Итак, суть программы — провозглашение вашего величества владетелем русского престола («слово плохое «владетель», но главное — не дать ему опомниться и перебить себя»). Вы близки к дому Романовых. Вы — монарх, вождь славян, мечтающий об объединении их. Ваше имя популярно и любимо всей просвещенной Европой («он уже нетерпеливо поеживается. Не дай бог, вскочит: все погибло!»). Не отвергайте, умоляю. Да, да, владетелем! После гибели Николая Романова, исчезновения князя Михаила, непопулярности Николая Николаевича, князей Кирилла и Димитрия... Ваша сестра Елена Петровна, жена безвременно погибшего на поле брани князя Константина Константиновича... Их сын при вашем регентстве... Эту идею поддержат влиятельные люди, Франция. А я ставлю под ваши знамена всю русскую армию!
— Но позвольте, позвольте! — Король был явно не готов к подобному предложению: заманчиво, но нереально, если учесть, что он должен сейчас сказать Врангелю, передать ему как приказ. Он поднялся и заходил по кабинету. — А вы подумали о реакции русских великих князей, барон?
— Они — нули, ваше величество. Во всех смыслах — политическом, финансовом, военном. Они заняты лишь взаимной враждой. Мы организуем новый поход Антанты, ваше величество! Силы, способной противостоять нам, нет.
Александр остановился, точно отрезвев, и мгновенно сбросил притягательную фантастику внезапного предложения, от которого приходится отказывать, не открывая русскому и десятой части правды.
— Стой им вам на расположенье...[10] Однако сожалею, милейший барон. Ныне, в эти катастрофические дни... Нажалост не могу ништа да урадим...[11]
Появление в речи короля сербских слов Врангель воспринял трагически: он понял, что его идея отвергнута — и непонятно почему. Стоило ли выяснять это, уговаривать политически слепого и безынициативного недоноска, на которого влияют десятки людей разных направлений? Врангель встал.
Тонкие королевские усы, оттеняющие розовые, сердито сжатые губы, удивленно приподнялись. Круглые, как у совы, глаза из-под пенсне смотрели грозно и требовательно. Александр занял свое место в кресле, сказал голосом, глухим от возникшей обиды:
— Разговор не окончен, барон. Прошу слушать меня. Постарайтесь понять правильно и не возражайте: все, что я должен сказать, не просьба, не пожелание — это приказ. И не только мой.
— Слушаю, ваше величество, — Врангель, забывая об этикете, становился вновь прежним Врангелем — генералом. — Хотя само слово «приказ», признаюсь, меня удивляет.
— Вы можете не выполнять его. У реду, поступите према свом нахоженью, али имайте в виду, да я не одгварам за последнице[12]. В таком случае, вам и вашему штабу придется искать приюта в другой стране, яко мне жао...[13]
— Я готов со всем вниманием выслушать приказ вашего величества и постараться понять, чем вызваны столь ультимативные требования.
— Есть факты, барон, сообщая которые, я облекаю вас полным доверием, и, надеюсь, они не выйдут за стены этого кабинета, барон.
— Благодарю за доверие.
— Итак. Ваши полки в Болгарии... Со дня на день там может начаться резня. Сторонники Стамболийского, коммунисты и возбуждаемый ими народ, серьезная сила. Они не сломлены. Гражданская война у моих границ, согласитесь, может иметь непредсказуемые последствия. Я не хочу непредсказуемости. Я за стабильность на Балканах. Это требует разъяснений?
— Нет, ваше величество. Но простите мое удивление: возможно, все же я не слишком хорошо информирован. Может ли правое правительство не устраивать монарха соседней державы? В каком случае его больше устраивает правительство левых группировок? Простите мою неосведомленность. Еще раз простите.
— Ваша политическая дальнозоркость на этот раз изменила вам.
«Все-таки он скотина. Зарвавшаяся! — подумал Врангель. — Монарх карликового государства. Чем меньше государство, тем больше о себе думают. И я обязан выслушивать эти разглагольствования на грани оскорблений. Может, он нарочно хочет вывести меня из себя? Не дождется! Tausend Teufel!..» Думать так было успокоительно: помогало сдерживаться. Пусть его болтает. На миг пришла даже мстительная мысль: Болгария Данкова с его, Врангеля, помощью захватывает Югославию, сажает на ее трон в Белграде послушного представителя княжеского рода Обрановичей, Вуйковичей — бог знает кого: их на каждом клочке балканской земли по десятку на гектар. Александр низложен. Он бежит, он схвачен. Интересно, сумеет ли он с подобным спокойствием и безучастностью выслушать все то, что скажет тогда ему Врангель?! Мысль эта, удобная, спасительная, был, однако, тут же отринута. Прагматик, политический реалист, Врангель не позволил себе даже на мгновение сосредоточиться на том, что не имело никакой практической ценности, не существовало в приказах, планах, в самых отдаленных разработках.
— ...Итак, барон, я перехожу к заключительной части беседы, — будто издалека донесся голос Александра, и Врангель напрягся, целиком превратился в слух. Сработал инстинкт, который не раз проявлялся в труднейшие моменты, в острейших критических ситуациях.
Александр замолчал. Закурил сигару, окутался дымом. Видно, и ему не легко и не просто давалась аудиенция. Что-то сдерживало его, мешало. Представлялось не слишком простым и однозначным.
— Итак, — повторил он, снимая неожиданно пенсне, близоруко глядя на гостя совершенно совиными, ставшими детскими, беззащитными глазами. И вновь замолчал, тщательно вытирая стекла специальной замшевой салфеткой. Обдумывал что-то или просто старался выиграть время. — Мы заканчиваем. Я должен быть кратким. Государству сербов, хорватов и словенцев очень важно, что происходит в Болгарии. Я хочу... Я ищу своей выгоды и обязан влиять — поскольку могу! — на события, происходящие там. Так вот. Я предпочитаю слабую Болгарию во главе с левым правительством земледельцев сильной Болгарии, которой верховодят агрессивные военные, генералы, стремящиеся к реваншу и аннексиям. Но главное — царь Борис. Допускаю его союз со Стамболийским, но не с Цанковым... Борис — хитрая бестия, и мы все долго недооценивали его. Вам понятно? Вижу, поняли. Теперь мой приказ и ваша задача, барон. Ни один русский отряд не должен поднять ружья в защиту Цанкова. Ни один солдат! И ни один офицер — даже в роли советника. Вы должны, нет — вы обязаны уже сегодня издать подобный приказ.
— Но несовершенные средства связи...
— Я помогу вам. Но учтите: я имею своих людей в Болгарии. Меня информируют обо всем, что происходит там. Я не хотел бы разочаровываться в вас. Это весьма испортит наши добрые отношения. Я способен и на их полный разрыв. Прошу учесть и это прискорбное для меня обстоятельство.
— Это ультиматум, ваше величество?
— Да, если вам угодно. Више вас не морам задржаваты. Хвала на посеты[14] , — Александр, милостиво кивнув и не подав руки, прошел за стол.
Врангель принял под козырек. Аудиенция была закончена неожиданным и неколебимым приказом, опрокидывающим абсолютно все планы русского штаба и его, личные, планы. Тут было над чем подумать. А времени подумать король Александр ему не давал. Но Врангель был подлинно военным человеком. Он сразу четко определил две возможности, два своих ответных хода в создавшейся обстановке. Первый — немедля оставив Сремски Карловцы, перевести штаб в Болгарию и начать «свой поход». Второй — принять приказ Александра к безоговорочному исполнению. Каждый из этих ходов приводил его к поражению — надежд на ничью не оставалось. Не оставалось... Он проигрывал.
Врангель плохо помнил, как вышел из королевского дворца, как шел по улице Князя Михаила — главной магистрали молодой столицы, — совершенно запамятовав, что в кафе «Москва» его ждет Климович. Что мог теперь сделать постаревший контрразведчик? Чем ему могли помочь великие князья? Кутепов, ставший внезапно покорным? Марковцы или дроздовцы? Нет, сегодня никто практически не мог помочь главнокомандующему. Врангель впервые понял, ощутил, что его борьба подошла к концу. Конечно, можно сделать вид, что он продолжает существовать, что его по-прежнему поддерживают определенные силы и определенные круги, располагающие большими средствами... Надо жить, надо -заставить себя верить в чудо. Другого выхода нет и быть не может. Его раздавили. Его словно уже и не существует больше...
Глава четвертая. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦВЕТКОВ и СЫН»
1
«Цветков» срочно вызывал «0135» на встречу...
Их первое свидание на скамейке в парке «Борисова Градина» в Софии прошло согласно инструкции Центра. Венделовский увидел сорокалетнего человека, скуластого и круглолицего, с добродушным улыбчивым лицом, ртом, полным золотых зубов, с довольно большой лысиной наподобие тонзуры, окруженной необыкновенно легкомысленными, вьющимися черно-седыми пушистыми волосами. Встреча была предельно короткой. Обменялись паролями — перепроверили друг друга, — уговорились о месте и времени следующего контакта (ресторан при отеле «Мажестик» каждое второе воскресенье с трех до четырех пополудни — самое людное в это время место, просто затеряться в толпе обедающих). «Цветков» обещал ко второй встрече обзавестись надежными явками, винился, что не смог сделать это сегодня. Венделовский спросил о связи. Связной пока не прибыл, но старый варненский канал существует. Не слишком быстрый, зато надежный. Поговорили и разошлись.
Следующая встреча оказалась сорванной. Венделовский, придя в ресторан «Мажестик», наткнулся на генерала Артифексова (как он очутился в Софии? Когда приехал, ведь еще позавчера бездельничал в Сремских Карловцах?) в сопровождении двух господ. Генерал не заметил дипкурьера (или сделал вид, что не заметил?); Альберт Николаевич прошел через другой зал, миновал «Цветкова», изучавшего французскую газету, и выше через кафе на другую улицу.
В третий раз они снова встретились в «Борисовской Градине». Шел дождь, парк был пуст. Наняв извозчика, они поехали на явочную квартиру. «Цветков» хорошо говорил по-болгарски. Извозчик долго крутился по центру, выполняя его приказания, и это тоже понравилось, — коллега показывал себя прирожденным конспиратором. Закружил и Венделовского, а ведь Альберт Николаевич считал, что достаточно хорошо изучил столицу Болгарии. Одобрил Венделовский и выбор квартиры, расположенной в бельэтаже, имеющей вход с улицы (каменные ступеньки, козырек, чугунные, затейливой вязи перила — богатый вид) и запасной, незаметный — с переулка, через глухой внутренний двор. Над «Цветковым» три комнаты пустовали, в двух жили сестры-старухи, владелицы дома, и их дальняя родственница. По легенде «Цветков» был человеком состоятельным, владел конторой оптовой торговли овощами и фруктами, которые закупал в Болгарии и перепродавал в другие страны. Неудобство состояло лишь в том, что им обоим предстояли довольно частые поездки. То один, то другой покидал Софию. Просто необходимым оказывался некто третий, не только заместитель каждого, но и «почтовый ящик». И, конечно, их резала связь. Центр сообщал, что сотрудник направлен.
За плечами Гошо «Цветкова» к тому времени оказалось уже столько событий, что вполне и на две человеческие биографии хватило бы. В одиннадцатом году помощника типографского наборщика призвали в армию. Потом начались балканская и межсоюзная войны. Доблестная Плевенская пехотная дивизия, где он служил, стойко сопротивлялась сначала английским, потом сменившим их, французским частям. Позиционная война изменила свой характер, как только перед фронтом плевенцев появились русские части. Болгары не хотели стрелять в «братушек», освободителей от турецкого ига. Имелись случаи братания, которые рассматривал военно-полевой суд. Усилилась антивоенная пропаганда. Осенью восемнадцатого года войска Антанты на Балканском фронте начали теснить немецкие и австро-венгерские армии и вскоре предприняли общее наступление. Их противники бежали, бросая в места прорывов болгарские дивизии. Положение болгар становилось трагичным: велики были потери, не хватало оружия, снаряжения, боеприпасов и продовольствия. Росло число дезертиров и сдавшихся в плен. Однажды ночью бежал из полка в родной Пловдив и Гошо «Цветков». Но недолгим оказался его отдых. Революционный социалистический комитет решил: его место под другой фамилией на фронте. Гошо вновь оказался солдатом пехотного полка, старающегося сдержать позиции в районе Струмицы и Костурно, где продолжались бессмысленные жестокие сражения, исход которых должна была решить не столько антантовская авиация, сколько антивоенная пропаганда. После одного из боев болгары оставили позиции, покатились назад. «На Софию! На Софию! — раздавались призывы. — Долой кровавую монархию! Долой немцев и их слугу Долгоносого![15] Месть им за сметь товарищей!» Солдаты несли с собой оружие. В окрестности столицы, у села Владая, их встретил болгарский юнкерский полк, артиллерия и немецкие пулеметные команды, получившие приказ «задержать дезертиров». Произошла самая кровавая сеча — болгары убивали своих... Однако броска на Софию не получилось. Солдаты разбежались по домам. Социал-демократическая партия не смогла организовать силы и добиться победы. Время было упущено.
«Цветков» вернулся в Пловдив на полулегальное положение. Приказ партии был: собирать и покупать оружие, прятать в надежных тайниках. Военная организация, разделенная на пятерки, приступила к изъятию оружия из тайных государственных складов. Болгария по Нейискому мирному договору была разоружена, гарнизоны распущены, их оружие без учета свезено на плохо охраняемые склады. Военной организацией в Пловдиве руководил боевой унтер-офицер, коммунист Гошо «Цветков». Окружные военные организации подчинялись Центральной военной комиссии при ЦК партии, софийские товарищи весной двадцатого года поручили именно группе Гошо, проявившей себя захватами оружия из складов, новое, чрезвычайно важное задание: осуществить захват оружия, которое Контрольная комиссия Антанты решила отправить армии Деникина, — оружие, забираемое вроде бы на переплавку, из Варны отправляется в Крым.
Был разработан план экспроприации. Решили проводить операцию ночью, на пути к Варне, в месте, где паровозы, преодолевающие подъем, снижают скорость. Руководители группы проверили все детали на местности, оборудовали временный тайники, проверили инструменты. Осталось ждать из Софии сообщения, каким поездом и в каких вагонах повезут оружие.
И вот, наконец, состав уже на пути к Варне. Максимум за десять минут Гошо и три его товарища должны были снять пломбы, выбросить часть ящиков с оружием на откосы, где их принимали члены другой пятерки, и вновь запломбировать вагоны. Операция была проведена блестяще. Самым сложным, как ни странно, оказалось навешивание новых пломб, требующее навыков и точности. Деникин лишился около ста винтовок, нескольких сотен гранат, тридцати пистолетов. Так начиналась «железнодорожная война» против белых. Группа «Цветкова» провела более десяти таких изъятий...
Потом Гошо направили в партийную школу при Центральном Комитете. Он слушал лекции Васила Коларова, Георгия Димитрова, Ивана Недялкова — первого представителя КПБ в Исполнительном Комитете Коминтерна. Арест во время транспортировки новой партии оружия, избиения и пытки в тюрьме. Суд приговорил «Цветкова» за преступление против государства к восьми годам тюрьмы. Попытка побега, сорванная провокатором. Ужесточение режима, строгий надзор, наказания, кандалы. И новая попытка — во время перевозки свидетелем на процесс группы софийских коммунистов. «Цветков» не имел к той группе никакого отношения, и его, под охраной двух солдат, депортировали обратно уже через день — настолько очевидно оказалось его неучастие в делах софийцев. Пользуясь беспечностью и неопытностью обоих новобранцев, Гошо по пути к вокзалу уговорил их сделать небольшой крюк, чтобы у бывшего однополчанина выпить по стаканчику доброй ракии. Хозяин закусочной был знаком «Цветкову» по военной секции. И встретил гостей добросердечно. Гошо пошел якобы в туалет и исчез. От жены хозяина он получил костюм, пальто, шляпу, переоделся и скрылся через запасной выход. Он жалел конвоиров, простых деревенских парней, далеких от политики, — их ждала нелегкая судьба, но иного пути у него не было. Проведя несколько суток на другой конспиративной квартире, пока товарищи готовили ему документы и деньги, он был направлен в Варну. На перроне его должна была встречать высокая девушка с каштановой косой, в белом платье и с желтым зонтиком. К приходу поезда она уже ждала Гошо, на пароль ответила четко. Он не удержался и поцеловал ее. «Цветков» находился среди своих...
Варну в те годы можно было сравнить с Константинополем, где сосуществовали «свои» и «чужие», противостоящие друг другу люди, мирно сидящие в одних ресторанах и кофейнях, жившие в одних отелях. Варна стала воротами, через которые густо шло двустороннее движение. Из Советской России на Балканы и через Балканы — в Европу нелегально пробирались коммунисты. Везли агитационную литературу, типографское оборудование, средства для революционной борьбы. Возвращались на родину делегаты коммунистических партий, курьеры. Тем же путем проникали на Запад посланцы Дзержинского. Из Варны на утлых суденышках в Крым и на Кавказ отправлялись болгарские коммунисты, за которыми охотилась полиция, — их ждали пытки, суд и всегда один приговор: смертная казнь. Их подкарауливали контрразведчики, жандармерия и пограничная стража, которой услужливо помогали вчерашние противники, ныне союзники — сторожевые суда французов и англичан. На свой страх и риск, безоружные, на утлых лодчонках под рваным парусом, а то и на веслах отправлялись к родным берегам сотни солдат и казаков, направленные на пополнение армии Врангеля и решившиеся вернуться к родным хатам. Прятались в окрестностях, возле пристаней, в трюмах старых барж, заржавевших буксиров.
Через Варну широким потоком шло вооружение и снаряжение белых армий. Корабли везли не только винтовки, пулеметы, но и тяжелое вооружение — орудия и танки. Здесь свили гнездо резиденты Дезьем бюро и Интеллидженс сервис, болгарских военно-фашистских групп. Здесь находились и эмиссары белой России. В случае новой интервенции от Варны — кратчайший путь десанту на Кавказское или Крымское побережье. Сосредоточение большого количества войск и техники прикрывалось разговорами о блокаде коммунизма, который через Балканы намеревается проникнуть в Европу...
У коммунистической организации забот хватало. Гошо «Цветков» работал в Варне матросом на моторно-парусной лодке «Спасатель» — быстроходной, вмещавшей два десятка человек. «Спасатель» вполне оправдывал свое название. Не одну сотню людей избавил от верной смерти, не один десяток наирискованнейших партийных поручений выполнил. Приписанный к Варненскому городскому морскому музею, кораблик мог почти беспрепятственно ходить по Черному морю любыми маршрутами. «Мы ищем новые редкие популяции морских рыб» так отвечал каждый из экипажа в случае задержки. Оружия на «Спасателе» не было. Запрещалось иметь при себе даже личное. Спасение самого «Спасателя» зависело лишь от скорости его хода, темноты или тумана да профессорского вида капитана, действительно специалиста по рыбам и работника музея, коммуниста Богомила Стайкова, одного из руководителей варненской организации компартия.
Однако во время очередного рейса, когда «Спасатель» уже «чистый» — возвращался после выполнения задания, неподалеку от входа на акваторию порта их остановило судно морской полиции. Изучение судовых документов и почти пустого трюма ничего не дало. Полицейские собрались уже уходить, но младший офицер, внезапно остановившись, стал пристально разглядывать «Цветкова», словно стараясь вспомнить что-то. Он сделал несколько шагов поближе, не спуская с Гошо испытующего взгляда, потом, обескураженный, улыбнулся, махнул рукой и перешел по трапу на свой катер. Взревев мотором, вспенив воду, полицейское судно помчалось в сторону маяка.
— Знаешь его? — спросил Стайков, — Вспомни. Пройди весь путь и все встречи с полицией. Тебе ведь не надо объяснять?
— Дай мне десять минут, Богомил, — сказал Гошо. — Я не припоминаю его, но надо хорошо подумать.
— Мы высадим тебя на Галате. Переночуешь в лавке «Ени Кале». Не выходи до тех пор, пока за тобой не придут. Мы должны навести справки. Рисковать не имеем права.
Через неделю «Цветкова» перебросили в Новороссийск. Гошо оказался в Москве. Его принимал немолодой седой болгарин, коренастый, с темным лицом и голубыми глазами, представитель Болгарской компартии в Коминтерне, назвавший себя Методием Русевым. Это была не настоящая его фамилия: коммунисты-эмигранты часто брали псевдонимы ради безопасности семей и для нелегальной работы на родине. Гошо хотел учиться и одновременно требовал партийной работы. Его поселили в гостинице «Люкс» в маленьком номере с молчаливым пожилым болгарином в полувоенной форме, с настороженным, загорелым лицом, натруженными большими руками и «ныряющей» походкой. Он хромал на левую ногу. Звали его Димитр из Тырново. Вопросов не задавал и вскоре ушел. Не вернулся и ночевать. Утром он разбудил Гошо, сказал:
— В десять тебя ждет Коларов, первый номер от лестницы направо. Понял? — и, сняв сапоги и френч, рухнул на кровать. И мгновенно заснул, задышал ровно.
Коларова «Цветков» знал. У Василя был усталый вид. Гошо рассказал о себе, о ситуации в Болгарии.
— Положение тяжелое, — вздохнул Коларов, — а будет еще трудней, Гошо. Фашистская Болгария собирает силы. Они уничтожат Стамболийского, возьмут власть, — Коларов быстро записал что-то на одном из листков, веером лежащих на столе. Лицо его размягчилось, морщины на лбу разгладились, в зеленоватых глазах появилась добрая усмешка. — А здорово вы оружие у белогвардейцев воровали, — сказал он. — О твоих военных операциях здесь знают.
— В Москве? — удивился «Цветков». — А кто?
— Кто, — усмехнулся Коларов, — это неважно. Кому надо, тот и знает. И благодарит за активную помощь Красной Армии. Завтра пойдешь на Лубянку, — он протянул Гошо листок, на котором сделал надпись. — Отнесешь. Тут все сказано: время, номер комнаты, к кому. А сюда приходи в воскресенье. Цветана нас обедом накормят. Жена у меня — знаток болгарской кухни. С едой в Москве, сам знаешь, трудно, но она волшебница...
Гошо стал студентом трехгодичного коммунистического университета, но не смог закончить и первого курса. Нарастание тревожных событий в Болгарин требовало срочного возвращения ряда партийных товарищей. Уехал и Василь Коларов.
— Наши силы нужны родине, — прощаясь с Гошо, сказал он. — Бели мы дадим победить себя монархистам, они зальют страну кровью крестьян и рабочих. До встречи, Гошо! Думаю, обстоятельства потребуют и твоего присутствия.
Возвращение «Цветкова» на Балканы проходило более сложным путем, чем путешествие на утлой лодчонке через штормившее Черное море, и продолжалось оно несколько месяцев. За это время он изучил немецкий язык: в будущем ждали его нелегальные разъезды не только по Болгарии, но по Австрии, Венгрии, Югославии, Румынии. Один бог знал, куда могли занести его нелегальные дела!
На немецком говорили во всех этих странах. Гошо понимал сербскохорватский, знал турецкий, свободно изъяснялся и по-русски.
Его направили в Вену (тогда-то и стал «Цветковым»). Он снял две комнаты в центре, объяснив хозяйке, что довольно высокая цена его устраивает потому, что приехал он, чтобы возглавить управление австрийским филиалом отцовской конторы, которая занимается ввозом фруктов и овощей (фирма «Цветков и сын» была уже зарегистрирована у властей. Два энергичных и знающих дело помощника для установления связей в торговом и финансовом мире уже ждали приезда «шефа»). Гошо устанавливал контакты, выдавая себя за преуспевающего, довольного жизнью рантье. Дела фирмы неожиданно пошли хорошо, торговый оборот стал расти. Появилась возможность открыть филиалы в Софии и Белграде. Оттуда регулярно поступали в Вену свежие овощи и фрукты, брынза и йогурт, куры, гуси, индюшки. Торговая фирма «Цветков и сын» создавала надежное прикрытие. Кого могло удивить, что «Цветков», обладающий широкими деловыми связями, часто разъезжает по Балканам, откуда идет основная масса его товара.
Хорошо работалось Гошо в родной Болгарии. Тут были старые друзья, проверенные партийные товарищи, на которых можно было опереться. Но тут было и опаснее всего: его могли узнать и в Софии, и в Пловдиве, и в Варне. «Цветков» изменил внешность: покрасил волосы, отрастил пышные усы, за которыми тщательно ухаживал. Походка у него выработалась медленная, солидная, скрывающая фронтовое ранение. Право «выхода» «Цветков» имел лишь на Богомила Стайкова, который работал теперь в Софии, в Центральной Военной организации партии. Только он знал «Цветкова»-коммерсанта. У них была надежная явочная квартира. Была связная — девушка с толстой косой, что встречала в свое время Гошо на варненском перроне, — старшая дочь Стайкова...
Одному из членов Военной организации удалось проникнуть в высшие административные и военные круги, устроиться на службу в министерство внутренних дел. Это был литератор Иончо Белев. Он помог внедриться еще нескольким коммунистам: С ними начали сотрудничать болгары-патриоты: штабной полковник Сергей Копаранов, главный бухгалтер военного министерства Христо Топалов, делопроизводитель Илия Пчеларов, работник военно-политического отдела Петр Кынев, Трифон Георгиев, Борис Бумбаков — из министерства железных дорог. Установив контакт с начальником радиотелеграфа Антоном Слоневским, ЦК болгарской компартии стал обладателем секретных шифров и получил доступ к тайной документации армии, высоких политических, дипломатических и руководящих полицейских чинов. Многие коммунисты-подпольщики благодаря Военной организации сумели ускользнуть из-под ареста, избежать провала групп, захвата ее членов.
Через группу Христо Боева (Тома Измирский, Радослав Габровский, Иван Станчев)[16] Военная организация получала информацию о переписке различных ведомств правительства с командованием врангелевских войск. Через привлеченного к работе белого офицера, настроенного против использования русских в гражданской войне в Болгарии, капитан Димитр Тодоров сумел перехватить письмо Врангеля к военно-фашистскому руководству. Тырновцы Тихомир Кукумявков, Никола Попов с помощью офицера Николая Горюнова сняли копии с секретных документов штаба Кутепова о подготовке заговора. Опубликованные газетой «Работнически вестник» архисекретные документы врангелевцев позволили Совету министров Болгарии принять решение о высылке из страны более трех десятков генералов и о разоружении 1-го корпуса, которое из-за половинчатости политики Стамболийского выполнено не было (на правительство «давили» чуть ли не все европейские державы)...
Гошо «Цветков» приступил к новому задания Центра: установить связь со своей агентурой, действовавшей в штабе Врангеля.
2
«...Цветков» вызывал Венделовского на встречу. Оба уже знали о военно-фашистском перевороте и бегстве Стамболийского. Цветков рассказал:
— Главные заговорщики из фашистского «Военного союза», «Народного сговора» и «Конституционного блока» девятого июня вечером собрались на квартире генерала Русева на улице Степана Караджа, чтобы согласовать состав правительства. Премьер-министром определили Цанкова. После споров внутреннее министерство отдали Русеву, финансов — Тодорову, земледелия — Молкову, железные дороги — К а засову, военное министерство — Вылкову, иностранных дел — Калфову. Полковники Вылков и Калфов притворно пытаются отвести свои кандидатуры по причине принадлежности к армии и личных отношений с царем, но затем соглашаются.
— Почему?
— Оба — агенты Бориса. Только Вылков — ограниченный исполнитель, а ловкий, лукавый Калфов корыстолюбив и амбициозен. Как адъютант он хорошо знает царя, многому научился у него. «А что мы станем делать, если царь откажется подписать указ о перемене правительства?» — неожиданный вопрос Русева вызывает споры. «Наши головы не дешевле головы царя: его голова одна, а наших десять!» — кричит Казасов. Было около трех часов после полуночи. «Еще пятнадцать минут, господа, и армия начнет действовать», — урезонивает всех Рачев. И действительно, вскоре раздается короткая пулеметная стрельба, взрывы гранат. Заговорщики ждут, многие не могут скрыть волнения. В четыре часа появляется подполковник Велчев, докладывает: «Операция проведена в соответствии с указаниями». Значит, все правительственные учреждения захвачены, члены кабинета арестованы. Кроме скрывшегося Стамболийского и его правой руки Даскалова, уехавшего ранее в Прагу. Теперь — к царю! Цанков и несколько его сторонников на двух автомобилях направляются во дворец, в сопровождении гвардейского эскадрона. Перед «парком Враня» все выходят. И... исчезают. Появляются в Софии лишь в середине дня с подписанными царем указами. Вот вся моя информация.
— Могу дополнить, — сказал Венделовский, потерев висок, точно от нестерпимой головной боли. — За полную точность не ручаюсь: требует проверки. Источник оказывал мне услуги, хотя информация идет через вторые руки. Итак, начальник караула пропускает приехавших — их же знает каждый солдат — к парадному входу. Полковник Цанев приказывает вызывать управляющего. Тот получает приказ: доложить его величеству, что премьер-министр Болгарии хочет ему представиться. «Господин полковник, — сдавленным голосом отвечает управляющий, — его величество спит, я не смею разбудить его». — «Не пойдешь добром, заставлю силой», — настаивает полковник. Управляющий, поклонившись, уходит. И надолго. Положение становится тягостным и унизительно-конфузным. Конвойный эскадрон отводят за ограду. Цанев открывает дубовую дверь, и все оказываются в вестибюле. Дверь во внутренние покои закрыта, но вскоре появляется управляющий, объявляет, что царя нет во дворце. Вероятно, он вышел в парк! «Он врет! — взрывается Цанев. — Пожалуйте за мной, господа!» Широкой мраморной лестницей все поднимаются на второй этаж. Их встречают царские адъютанты майор Сиклунов и капитан Драганов: царя нет во дворце — на рассвете он отправился в парк на охоту. Им не верят: почему, в таком случае, долго отсутствовал управляющий? Заговорщики требуют, чтоб им показали царские спальни. Адъютанты ведут их по комнатам.
— Почти как у Дюма, — замечает «Цветков».
— Почти, — соглашается Венделовский. — Покои пусты, но повсюду следы их владельца. Цанев продолжает грубо допрашивать адъютантов, но те твердят: царь на охоте. Убедившись, что Бориса во дворце нет, обескураженные члены нового правительства выходят во двор. Прислуга, отправленная на поиски монарха в парк, возвращается ни с чем. Положение трагикомическое. Уже утро. Что происходит в Софии, Цанков не знает. После короткого совещания решают искать монарха до одиннадцати, после чего возвращаются в столицу. Цанев рассылает по парку разъезды для поиска Бориса. Безрезультатно! Цанков связывается по телефону с кем-то из своих соратников. Вероятно, просит совета или старается прояснить политическую ситуацию. После звонка — одиннадцать уже наступило — решено ждать еще полчаса. И тут слышится приближающийся конский топот. Галопом мчится княжна Надежда. Не обращая ни на кого внимания, она скрывается во дворце, следом — адъютанты. Капитан Драганов под нажимом заговорщиков соглашается провести их в покои сестры царя. Княжна бледна, испугана. «Ваше высочество, — с обидой говорит Цанков, — Стамболийский низложен, Я — председатель нового правительства. Со мной — коллеги, прибыли для представления главе государства и ждем более четырех часов. Мы утверждаем, что царь был уведомлен о нашем визите, но, несмотря на это, покинул дворец. Это вынуждает нас вернуться в Софию, снять ответственность за все неожиданности». Княжна в панике: «Я ничего не знаю... Царь, наверное, на охоте... Подождите, господа, я разыщу... Он вас примет... Подождите». Все опять выходят во двор, прогуливаются по парковой аллее. Их догоняет адъютант: царь возвратился, он переодевается и сейчас их примет. Борис абсолютно спокоен. Извиняется, что заставил их ждать, словно речь идет о десятиминутной задержке, говорит: «Как только я узнал о софийских событиях, я пошел в лес, чтобы обдумать их развитие. Альтернативы мрачные, господа. Что вы хотите сказать мне? «Цанков с почтением повторяет то, что уже говорил княжне. Он уверен, что царь одобрит их акцию. «Я уже не царь, — лукавит Борис. — После случившегося, что остается от прерогатив главы государства, от его права обдумывать каждый шаг и поступать в соответствии со своим разумом и интересами народа? Я уже не царь, господа». — «Вы — царь болгар, ваше величество, никто не дерзнет это оспаривать!» — восклицает премьер. Монарх, хитря, возражает! «Когда установленный законами порядок нарушается, функция главы государства лишаются смысла». Начинается спор без конца и края. Первым не выдерживает Цанков. Он ставят вопрос прямо: с кем царь, с армией или против. Жребий брошен, новое правительство выполнит свой долг и без монарха. Последствия этого падут на династию. Цанков достает заготовленные указы и кладет их на стол. Общее молчание. Наконец Борис со словами; «Помогай вам бог, желаю успехов нашему отечеству, прошедшему черев столько испытаний», — подходит к столу и подписывает указы. Данков просит царя немедля вернуться в Софию. Борис обещает, прощается и исчезает в своих апартаментах. Все! Теперь проанализируем: эпизод в «парке Враня» — комедия или действительное стремление не участвовать в событиях?
— Умелая комедия! — горячо восклицает «Цветков».
— А дружеский визит в сопровождении сестер к Стамболийскому, интерес к его работе и новым проектам?
— Машина переворота пущена, и Борису это известно.
— Доказательства?
— Операция началась в три ночи. Телефонная связь в руках путчистов. Столица спит. Если бы Борис не знал о перевороте, он спал бы во дворце, а не прятался в парке.
— Логично. Кто же извещал его о событиях?
— Без сомнения, Вылков и Калфос, те самые, что решительно отказались от участия в новом кабинете.
— Скорей всего они. Так... А почему Борис прятался от Данкова?
— Пребывание его в лесном тайнике, как мне кажется, имело две задачи. Свидетельствовало о непричастности к перевороту и позволяло дождаться победы той или иной стороны. Он только играет в нерешительность. Это неколебимый человек. Для своих тридцати лет личность незаурядная. Действует умно, расчетливо, очень тонко, политически дальновидно.
— Лавирует, умело руководя и Стамболийским, и Данковым, и «Военным союзом».
— Против газетных утверждений одинаково далек я от германофильства, и от англо-саксонской ориентации. Ищет дешевой популярности, ловко изображает «народного царя», любимца народа. Фаталист: ездит повсюду без охраны. Чрезвычайно скрытен.
— Мудро. Ты хорошо изучил своего монарха. Итак, в Болгарии власть захватила реакция. Думаешь ли о реальном сопротивлении со стороны Земледельческого союза и компартии, их способности поднять народ?
— Если земледельцы и компартия договорятся. Там много расхождений.
— К сожалению. Уверен, что и врангелевцы поддержат Данкова.
— Есть ли опасность для нас?
— Только в случае арестов людей, контактировавших с Военным отделом партии.
— Советую: немедленный переход на нелегальное положение и отъезд хотя бы на время. Я еду в Париж. В Белграде буду через четыре дня. Там и встретимся, дружище...
В ЦЕНТР ИЗ ПАРИЖА ЧЕРЕЗ «ДОКТОРА» ОТ «0135»
«Стамболийский с отрядом охраны и группами селян принял бой близ своей дачи в Славовице после неудачных попыток захватить Пазарджик. Был арестован капитаном Харлаковым в деревне Голак, препровожден в городские казармы. Военному министерству была послана телеграмма: «Во исполнение приказа я арестовал премьер-министра, но по дороге из Пазарджика на автомобиль напали крестьяне , похитившие Стамболийского. Я приказал преследовать нападавших. Мы идем по их следам». Во второй телеграмме, посланной на следующий день, говорилось: «Преследуемый и нагнанный бывший премьер-министр Александр Стамбалийский во время оказанного сопротивления был застрелен на местности Эледжик. Капитан Харлаков». Преднамеренное убийство санкционировано и организовано правительством. Болгария, лишенная международных амбиций, устраивает Александра больше.
Следует ожидать немедленных репрессий против советских организаций Красного Креста и «Союза возвращения на родину». Дело против убийц Агеева прекращено. В пригороде Плевны зверски убит уполномоченный Красного Креста Митрофан Васильевич Шелепугин. Труп найден в виноградниках. При осмотре обнаружены: пулевая рана в висок, ножевая — в сердце и в спину, ноги исполосованы. Жертву пытали. Корешков и Корецкий от имени советской миссии Красного Креста официально заявили протест.
По просьбе генерала Ронжина новое правительство реабилитировало всех чинов русской армии. Как невинно пострадавшим, им разрешено вернуться в Болгарию. Приказано возвратить все бумаги и документы, принадлежавшие главному командованию и штабу корпуса.
Репатриация будет тормозиться всеми способами: убийствами активистов, арестами, запугиванием. По распоряжению министра внутренних дел Русева создана комиссия по расследованию деятельности миссии Красного Креста. Газеты печатают «проверенные сообщения» о связи миссии с болгарскими коммунистами, о детальных планах коммунистического переворота в стране.
На улице Милоша в Белграде банковский служащий пять раз выстрелил в авто сербского премьера Пашича. Пашич ранен в левую руку, плечо. Стрелявший схвачен. Серьезные политические мотивы отсутствуют. На Дворской улице Врангель, шедший в сопровождении двух адъютантов, был остановлен русским полковником, кричавшим: «В Севастополе вы обещали повести нас спасать Россию. Мы поддерживали вас. На нас большая вина. Но на вас, генерал, грех, великий грех!»
0135».
В ЦЕНТР ИЗ СОФИИ ОТ «ЦВЕТКОВА»
«Усиление фашистской диктатуры вызвало выступления многих районов Болгарии, руководимые компартией и левой частью БЗНС. Создан ревкомитет — руководством Коларова, Димитрова. Благодаря недостаточной координации, слабой работе в армии, несогласованным забастовкам на железной дороге, почте, телеграфе восставшие вынуждены перейти к обороне. Цанков, требуя помощи, разослал приказ о мобилизации русских контингентов: «Предлагаю немедленно, по барабану, мобилизовать казаков и русских, заявив им, что насилия к ним применено не будет, но что, если они желают спасти свою жизнь, они должны принять участие в борьбе. С гибелью нашей погибнет и русская эмиграция». Черные сотни во главе с генералами Абрамовым и Макаровым, полковником Гребневым, мстя болгарам за недавние унижения, уничтожали крестьян и рабочих. Особо «отличились» отряды бывших марковцев, дроздовцев в районе Перника, Пловдива и Старой Загоры; в Введенском округе — отряд генерала Курбатова, сооруженный и переодетый в болгарскую форму; отряд капитана Романова; отряд из тысячи человек, разбивший восставших при Фердинанде. Шестьсот казаков, получивших оружие, выступить отказались, заявив, что будут при необходимости лишь защищаться. Белогвардейцам объявлено: они получат по сто левов за каждый боевой день, по пятьдесят — за небоевой. В Болгарию приезжал Кутепов, останавливался в русском посольстве.
К концу сентября фашисты потопили восстание в крови. Тысячи убитых, раненых, брошенных в тюрьмы, взятых в плен. Часть бойцов перешла границу Югославии. Пытаясь оправдать свою деятельность, правительство заявило о «захвате тайного циркуляра Коминтерна», в котором, согласно договору между Стамболийским и Раковским, в Болгарии должна была быть провозглашена республика и образовано рабоче-крестьянское правительство. В подготовке революции штабом являлась советская миссия Красного Креста. Фашистские агенты Цанкова произвели налет на здание миссии и «Союза возвращения на родину». Ничего компрометирующего не найдено, хотя специальная комиссия во главе с градоначальником Г.Кисьовым приложила все усилия, чтобы доказать «правильность действий правительства перед общественным мнением». Оба здания опечатаны. Ряд активистов «Совнарода» и Красного Креста под охраной отправлен в Варну для высылки в Советскую Россию. Миссия обратилась к представителю Лиги наций. Компартия запрещена, ушла в подполье. Разрешена новая организация по работе среди русской эмиграции. В Пловдиве создано общество «Карай, братушка», состоящее из наиболее реакционных элементов.
Указание о сведении всех контактов до минимума принял к исполнению. Товарищи эмигрировали благополучно, за исключением Асена Венкова, схваченного к убитого «при попытке к бегству». Цанковцы готовят показательный процесс. Прокурор требует смертной казни.
Считаю возможным продолжение работы в Софии ввиду полного отсутствия «засветки». Проверено неоднократно.
Цветков».
Резолюция на информации:
«Цветкова временно оставить. Контору перевести в
Вену. Всемерно ускорить подготовку и переброску «Джона».
В ЦЕНТР ИЗ ПАРИЖА ОТ «ДОКТОРА»
«Самопровозглашение Кирилла императором всея Руси решено им, поддержано окружением, направляемым Викторией Федоровной. Николай Николаевич к борьбе не готов. Скорее всего ограничится еще одним заявлением. Армия, на словах решительно поддерживающая Николая, к действиям не способна: главком упорно отстаивает позицию «вне политики», Кутепов не обладает достаточной полнотой власти.
По сообщению «0135», встреча с «Джоном» не состоялась. «0135» безуспешно пытается поменять место службы.
Работа затруднена отсутствием постоянной связи «0135» в Белграде.
Примечание 1 на информации:
«Необходима резка нота по поводу болгарского Красного Креста и репатриации. Возможно непосредственное обращение к Нансену».
Примечание 2 на информации:
«Действия фашистов вызвали недовольство Нансеновского комитета. Болгарская полиция вновь напала на миссию Красного Креста. Дом обыскан, сотрудники трое суток содержались под домашним арестом. В Варне арестовано местное бюро «Совнарода». Имели место многочисленные случаи побоев и издевательств над русскими людьми, готовыми вернуться на родину. Министр Хр.Калфов вынужден был сделать заявление: «Болгарское правительство не противодействует бывшим воинам вернуться, чины полиции, допустившие инциденты в Варне, понесут заслуженное наказание». По сообщению «Цветкова», Калфов не наказал, а лишь переместил градоначальника из Варны. Полагаю, следует продолжить наблюдение и дипломатическое давление. Репатриация без документов нежелательна: возможна засылка к вам агентов.
М. Трилиссер».
Глава пятая. ПРЕТЕНДЕНТЫ. «TERTIUM NON DATUR»[17]
Существовало только два кандидата на русский престол — великие князья Николай Николаевич и Кирилл Владимирович. Оба отнюдь не безусловные претенденты на трон Романовых. И все же знатные, самые родовитые из оставшихся в живых представителей династии. Казалось, «Tertium non datur», третьего не дано. И взяться третьему неоткуда. Однако внезапно стали возникать и другие претенденты. Об одной из первых авантюристок стоит рассказать: история ее типична для тех лет политической неразберихи, экономических стрессов, малых военных конфликтов, возникающих тот тут, то там чуть ли не во всех частях света...
1
В царском доме Романовых Кирилл Владимирович в годы детства считался «enfant terrible»[18] : вечно с ним происходило что-то экстраординарное, вызывавшее неудовольствие великого князя Владимира Александровича — его отца и тревогу Марии Павловны — его матери, мечтающей о карьере для Бориса и Кирилла.
Кирилла определили в Морской кадетский корпус. Пришло время — произвели в мичманы гвардейского экипажа с назначением флигель-адъютантом к императору. Продвижение по служебной лестнице не требовало никаких усилий или рвения: оно было предопределено фактом его рождения в великокняжеской семье. В должности вахтенного офицера он плавал на крейсере «Россия», на эскадренных броненосцах «Ростислав» и «Пересвет». На «Адмирале Нахимове» — уже старшим офицером.
Началась русско-японская война. Кирилл и Борис прославляются... фантастическими кутежами. Однажды Борис, оскорбленный замечанием генерала Куропаткина, командующего русской армией, выхватил саблю и оцарапал Куропаткину нос. Дело с трудом замяли. Начало января 1904 года Кирилл, произведенный в капитаны второго ранга, встретил на «Петропавловске» — прикомандированным к штабу известного флотоводца и ученого, адмирала Макарова. В один из первых дней службы адмирал сказал Кириллу — так, чтобы слышали и другие, находящиеся на мостике: «На берегу вы — великий князь, здесь — офицер. А я командующий эскадрой. Прошу учесть и хорошо запомнить».
После гибели «Петропавловска» Кирилл спасся в числе немногих. Он выплыл и кричал: «Я — великий князь! Спасите! Спасите, и вам хорошо заплатят!» Мольбы о помощи возымели действие. Кирилла подобрал катер «Бесшумный». Происшедшее так потрясло капитана второго ранга, что он тотчас покинул театр военных действий.
В ноябре 1908 года, под влиянием честолюбивой матушки (в этом смысле она ничуть не уступала его будущей жене), Кирилл уже вновь во флигель-адъютантах. На следующий год он — старший офицер крейсера «Олег». Вольнослушателем оканчивает Николаевскую морскую академию и с января 1914 года вступает в командование крейсером «Олег». В память войны и словно в насмешку над тысячами погибших героев его награждают Золотым оружием и серебряной медалью.
На фотографии тех лет — молодой, вполне знающий себе цену человек. Холодное, продолговатое лицо с тонким прямым носом и слегка оттопыренными ушами, боковой пробор по ниточке, надменный взгляд, небольшие усики. И при этом что-то легкомысленное, несерьезное во всем облике. От человека, запечатленного на фотографии, можно ждать любого поступка, от великого до смешного. Чему тут удивляться? Кузен Николая II, шафер на его свадьбе. Поехал в гости к брату императрицы Эрнсту Людвигу и — опять скандальное происшествие! — отбил у него жену Викторию, дочь герцога Саксен-Кобург-Готского, в браке — великую герцогиню Гессен-Дармштадтскую. В семействе Романовых переполох. Императрица и император в гневе: женитьба без разрешения! Кирилл выдворяется из России на три года. От счастливого брака у него рождаются две дочки: Мария — в 1907 году, Кира — в 1909-м и долгожданный сын Владимир — в семнадцатом, еще до революции. В мировую войну прощенный Кирилл вступает контр-адмиралом.
Февраль Кирилл встречает в необычной для члена великокняжеского семейства и командира гвардейского флотского экипажа роли. Он поднимает красный флаг над дворцом, приказывает прикрепить к груди каждого офицера и матроса по пышному красному банту и, встав во главе колонны, ведет ее к Таврическому дворцу — -присягать Родзянке на верность Думе (этот опрометчивый шаг, продиктованный легкомыслием, большая часть монархической верхушки не простит ему никогда). Уже в казармах гвардейского экипажа, по воспоминаниям очевидцев, великого князя вновь подхватывает «революционная волна». Вероятно, боясь лишиться командной должности, он забирается на табурет, окруженный толпой матросов. Зачитывается послужной список «гражданина Романова». Кирилл с табурета обращается к подчиненным! «Мне безразлично, в каком чине и на какой должности я останусь, хотя бы и командиром роты, но только прошу вас оставить меня в офицерском
Впрочем, сориентировавшись, великий князь с семьей, его братья Борис и Андрей вовремя удирают от революции в Финляндию. С определенными средствами, что позволяло им переехать на юг Франция, приобрести виллу на модном курорте. Не побуждай его Виктория Федоровна к борьбе, может быть, этих средств и хватило надолго. Но! Жребий брошен! Борьба, так борьба...
В годы эмиграции Кирилл Владимирович во всем оставался верен себе. Будущее, казалось, ничуть не занимает его. Великий князь любит, когда его узнают окружающие, приветствуют при встречах и проводах, фотографируют, рукоплещут, забрасывают цветами. Он оставался — по крайней мере продолжал считать себя таковым — спортсменом, вечным фаворитом, всеобщим любимцем и баловнем судьбы, любителем красивых и легкодоступных женщин. Он гонял в красном открытом авто с недозволенной скоростью. С неизменным удовольствием принимал журналистов любых направлений, подолгу беседовал с ними, отвечая на вопросы о прошлом, настоящем и даже будущем русского государства, по настоянию жены неизменно отводя себе главенствующую роль, намекая на особые и чрезвычайно важные событий, которые вот-вот грянут.
Великий князь Кирилл жил на фешенебельной вилле в районе Канн, И это обстоятельство тоже определенным образом оказывало влияние на все его поступки, его настроение — на всю линию его поведения. Если бы не Виктория Федоровна. О, если б не жена, охваченная внезапно развившимся честолюбием...
Промчавшись прекрасной дорогой над голубовато-зеленым морем, Кирилл Владимирович остановил красный спортивный автомобиль у высоких кованых ворот. Тут неторопливо прохаживались два молодца в крагах и одинаковых клетчатых костюмах. Металлическая ограда окружала виллу. Кирилл пружинисто выпрыгнул, не открывая дверцы, вошел через калитку. Тут поджидал его статный генерал Волошин — красиво посаженная голова, широкие плечи, строевая походка.
— Где мадам? — поинтересовался Кирилл, чувствуя себя отлично в новом костюме из белой фланели.
— Ее высочество больше часа изволят заниматься живописью.
— Совещание когда?
— Через час и три четверти.
— Вы свободны, генерал, — Кирилл пошел дорожкой, посыпанной гравием и ракушечником. Мимо фонтана, вдоль аллеи широколистных платанов, закрывавших от всепроникающего солнца стрельчатые окна двухэтажной виллы, к веранде с мавританскими колоннами — часть окон была задернута полосатыми маркизами.
Пышноволосая Виктория Федоровна, не отрываясь от мольберта, подставила мужу щеку для поцелуя. Холеное лицо ее было безмятежно-спокойно. Лишь посмотрела коротко, чуть косящим беглым взглядом, в котором были одновременно и вопрос и отгадка. От этого взгляда Кирилл всегда терялся: Виктория, казалось, уже знала, когда он станет рассказывать правду, когда сочинять фантастические истории своих путешествий. А что выдумывать, например, сегодня? Гонял как бешеный над Лигурийским морем, играл в гольф, пытался завести очередную любовную интрижку. У Кирилла — мамины черты характера. Не случайно галантные приключения великой княжны Марии Павловны часто были предметом пристального внимания газет, в результате которого одним журналом были опубликованы даже стихи: «Я не дама демимонда. Я принцесса Трапезонда. И зовусь Pani Marie...» Далее шло описание посещения матушкой одного из петербургских ресторанов. Журнал, правда, закрыли, но что из того? Его успели прочесть повсюду. Скандал, скандал!..
— Есть ли новости, дорогая? — рослый Кирилл словно стал ниже.
— Побойся бога, Кики. Я весь день дома, а ты разъезжаешь по дорогам. Какие новости, Кики?.. Позволь спросить об этом у тебя.
— К сожалению, сегодня абсолютно ничего интересного. Просидел три часа у скучнейшего графа Бобринского. Не зря его прозвали «патриотический барабан» — таким и остался. Заставил отобедать — полный набор блюд русской кухни. Не терплю!
— Антипатриотизм в твоем положении, Кики, исключается, — Виктория уже выстраивала в уме пятичасовое отсутствие мужа.
«Обманывает, как обычно, — подумала она равнодушно. — Но к Бобринскому заезжал. А потом, вероятно, Канн». Спросила: — Не встречал ли кого-нибудь из наших? — задавая подобные вопросы, Виктория наслаждалась замешательством мужа.
— Представь, нет, дорогая. Чтобы развеяться, решил проехать в сторону Тулона. Красивейшие места! Неповторимые! Лента дороги вьется, огибает зеленые мысы. А вокруг — олеандры, серебристо-зеленые оливковые рощи. И дома под черепичными крышами, белые виллы, особняки, пансионаты...
— Но ты уже рассказывал мне о дороге на Тулон, Кики. И не раз.
— Просто сегодня я подумал: надо уговорить тебя поехать со мной. Ты написала бы прекрасный пейзаж.
— Да-да, конечно, — рассеянно проговорила Виктория Федоровна. — Ты не забыл про совещание? Будешь обедать?
— Нет, нет! Благодарю тебя, дорогая! — Кирилл, державший ухо востро, чуть расслабился: допрос, по-видимому, кончался. — Представь, новость! Состоялась дуэль! Из-за будущего государственного устройства и престолонаследника. Представляешь, чудаки! Аристократы! Трубецкой ранен в руку, легко. Шпага Пичетти поцарапала его, но старик — молодец, не так ли?
— Комедия, — пожала плечами Виктория. — Весьма симптоматичная. Кто рассказал ее?
— Кто? Ах, да!.. — Кирилл принялся переставлять плетеные кресла на веранде. — Кто же мне рассказал? Бобринский? Нет, не он. Я останавливался возле магазинчика, чтобы купить сигар. Там?.. Но кто же? Запамятовал... Из головы вылетело — сейчас вспомню!
— Не утруждай себя, Кики, — милостиво успокоила мужа Виктория Федоровна. — На следующей неделе обещали посетить нас Мария и инфанта Беатриса. Я получила извещение.
— О! Это замечательно! Очень рад!
— Надо достойно встретить их. Кики, — холеное лицо Виктории стало суровым.
— Наша вилла — вполне достойное место, дорогая. Все будет прекрасно. И... еще масса времени, — Кирилл вновь успокоился. — Я, пожалуй, пойду к себе: надо переодеться, подготовиться к совещанию.
Виктория встала из-за мольберта — высокая, стройная, прямая. На лице — маска. Сдержала себя не без труда. Сказала с внезапным превосходством:
— Есть приятная новость. Князь Кантакузен из Америки обещает двадцать тысяч долларов. Надо подумать, как наилучшим образом распорядиться ими. Возможно, следует собрать всех наших сторонников из разных стран.
— Умница! — вскричал Кирилл, обнимая жену. — Екатерина Великая! Ты у меня — Великая! Торжественно заявляю: отныне принимаю все твои советы.
— Ох, Кики! Прическа, — Виктория мягко высвободилась из мужниных объятий. — Иди, пожалуйста.
— Жду тебя в кабинете, моя любовь!
— Пусть твой любимый Граф проверит, всем ли выписаны пропуска на сегодня.
Кирилл всячески афишировал свою доступность. Однако пропуск из канцелярии, от «первого секретаря», капитана второго ранга по фамилии Граф, был обязателен, без него кованые ворота не открывались. А бдительный секретарь-финн отлично знал свои обязанности!
Великий князь направился к себе в кабинет. Сегодня Кирилл ждал лишь наиболее приближенных соратников: все упиралось в деньги. Проклятые деньги! А тут еще эта Мария, эта Беатриса! Этикет, светские разговоры, улыбки, недавнее прошлое — двор, праздники, торжественные выходы свиты, фрейлины, собственный конвой, большие и малые приемы. О боже, боже! Надо думать о другом. Подходит время говорить о создании сообщества, особого совета, что ли. Об организации газеты, вероятно. Надо учиться политической борьбе. У кого? У всех!.. А дядя Николаша? Он меня не признает, осуждает... и собирает единомышленников. Отмалчивается, затаился. Как Гришка Распутин называл его? «Дубина стоеросовая»! Умел наповал ударить словом. А ведь Николаша подобрал Гришку, и уж от него — через Вырубову — два шага до царского дворца... Когда Николашу с главнокомандующего долой и — на Кавказ, как он говорил? «Поехал о Кавказ пятки чесать...» Ха-ха!
Несмотря на всегда опущенную штору, в кабинете было светло и душновато. Вошла Виктория Федоровна.
— Не люблю людей шатающихся, колеблющихся, сомневающихся. Это перебежчики, их надо гнать сразу. Кики.
Ты о ком, любовь моя?
— . Обо всех, кто нас окружает. -Политика будущего русского царя, — она многозначительно подчеркнула слово «будущего» и испытующе посмотрела на мужа, — разделяй и властвуй.
— Во всем согласен с тобой, дорогая. Но сначала нам, вероятно, надо собрать всех сторонников, не так ли? И провести им смотр.
— Я солидарна с тобой. Кики, — Виктория Федоровна не нашлась, что возразить, и улыбнулась мило, с восхищением: делала вид, что умеет признавать и чужую правоту. Среди самых разнообразных, было у нее и такое свойство характера.
Осторожно постучав, вошел капитан второго ранга Гарольд Карлович Граф. Доложил буднично, без всякой флотской лихости:
— Изволили прибыть: граф Бобринский, генерал Бискупский, господа Остен-Сакен и камергер Мятлев. Покорнейше прошу распоряжений вашего высочества.
— Пусть подождут, — сказал Кирилл.
— Просит аудиенции вашего высочества и господин Снесарев, журналист.
— Продажное перо! — высказалась Виктория. — И нынче опасен. Передайте, у меня ответственное совещание.
— Слушаюсь! — капитан второго ранга Граф, неслышно ступая, исчез...
Теперь наступало время активных действий. Этого требовали от Кирилла Владимировича его соратники, убеждали его, что обязан тотчас переходить к выполнению уже намеченной программы. В очередном интервью Кирилл заявил бесхитростно и с завидной твердостью: «Вскоре народ и армия узнают о моем Манифесте, который им докажет, что я воодушевлен самым либеральным духом милосердия и что наша партия, игнорируя принятые в прошлом политические решения, стремится лишь к восстановлению законности и порядка...»
Это высказывание прозвучало не слишком громко, не слишком ясно. Что за партия? Какова ее программа? От каких прошлых политических решений она намерена отказаться? Ждали Манифеста. И он появился. Как обещал Кирилл — в двух вариантах — к народу и армии.
«Русский народ — взывал великий князь. — С того губительного дня, когда Пресветлый Государь император Николай Александрович, обманутый предателями, покинул Всероссийский Престол, наша дорогая Родина изведала непосильные страдания, познала позор порабощения чужою, ненавистною силой, увидела Алтари свои ’оскверненными и, окровавленная, обнищала. С вершины могущества и силы Россия низринулась в темноту.,. Посему и за отсутствием сведений о спасении Великого князя Михаила Александровича, я, как старший, в порядке Престолонаследия, член императорского Дома, считаю своим долгом взять на Себя возглавлен не русских освободительных усилий в качестве Блюстителя Государева Престола, впредь до той поры, когда весть о злодейском убийстве Государя Императора Николая Александровича и Наследника Цесаревича Алексея Николаевича будет опровергнута, или, если сей надежде не суждено осуществиться, впредь до того дня, когда Земский Собор провозгласит Закон ног о Государя... Да будет дано мне, родному Внуку Царя-Освободителя, отдать свою жизнь за спасение всего русского народа…
Кирилл».
«Российское воинство! К тебе, Великая Сила, прославившаяся в чреде веков на светлых путях служения Родине, обращается ныне слово Мое... Нет двух русских армий! Имеется по обе стороны рубежа Российского Единая русская Армия, беззаветно преданная России, ее вековым устоям, ее исконным целям. Она спасет нашу многострадальную Родину! Молю Бога о том, чтобы, просьбе моей вняв, верховное командование над Русской Армией принял Его Императорское высочество Великий князь Николай Николаевич, а до тех пор надлежащие указания будут ей преподаны Мною, при участии испытанных и доблестных военачальников же, заслуживших благодарность России. Русское воинство! Поведи вновь Россию к свету!..
Кирилл».
Обращаясь ко всем верноподданным, он объявлял:
«Настало время создания общемонархического национального объединения, возглавляемого единым Правительством верховного Вождя; разногласия и грызня порождают смуту, на которую русский народ смотрит с нескрываемым недоумением...» Он приказал совершенно прекратить какие бы то ни было выпады или хотя бы малейшие инсинуации по отношению к великому князю Николаю Николаевичу.
Идея продумана, сформулирована — доброжелательная инициатива исходит от него. Открыто он ни на что не претендует, ждет: пусть выскажутся великий князь Николай Николаевич, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Определит наконец свою позицию и главком Врангель.
Монархисты, разделившись, митингуют и топят друг друга в потоках речей. Пошло это еще с 1918 года, когда ВМС поручил сенатору Корево[19] произвести изыскания о правах наследования престола. Со стариком пришлось изрядно помучиться, и он заявил: претендент — Кирилл. Это дало право Кириллу заявить о намерении объявить себя в скором времени русским императором. Законники из ВМС ответили, что без согласия Николая Николаевича поддержать притязания великого князя Кирилла не смогут. Кирилл заявил, что будет действовать самостоятельно. Ему доложили: ВМС посылал депутацию к Марии Федоровне, к Николаю Николаевичу — результаты неизвестны.
Высокие родственники помалкивают. Тем хуже для них!
Кирилл снова собирает в Ницце своих сторонников. Люди проверенные — поддерживают его. Часто, правда, овладевают совершенно иные интересы: промчаться на новом моторе по Лазурному берегу, поиграть в гольф. Но Виктория Федоровна всегда начеку. Честолюбивая жена — главная пружина того, что много лет будет называться «борьбой за русский престол».
Находясь в родстве с румынским королевским домом и еще имея в своем распоряжении определенные денежные фонды, она мечтает о русской короне, готова к борьбе за нее, а уж «Кики», если понадобится, и в штыковую атаку пойдет. Виктория Федоровна — умная, властная, энергичная — побуждает Кирилла к новым действиям. Под ее диктовку великий князь обращается с письмом к Павлу Родзянке (что делать, надо искать поддержку повсюду, даже в среде противников императорской власти):
«...Пора не разговаривать, а действовать, но такова уж русская повадка, говорим мы много и громко, но ни до чего не можем договориться. Я не вменяю это никому в вину, такова уж наша природаt но, став на свой путь, я не строю себе иллюзий... В настоящее время я призываю прекратить распри. Всеми способами необходимо завязывать сношения со страдальцами в России и тем подготовить почву для наших совместных действий... И только при создании дружного национального курса, при взаимной моральной поддержке друг друга, я буду в состоянии руководить делом и получу требуемые для этого средства.
На подлинном Собственной Его Величества рукой написано:
Неизменно к Вам благосклонный Кирилл...»
Послана телеграмма и генералу Врангелю:
«Я, как блюститель государева престола, неизменно рассчитываю на наше творческое сотрудничество, единодушие в великом деле спасения России. Высылаю Манифест.
Уважающий вас Кирилл».
Врангель ответил осторожно и витиевато: «Телеграмма Вашего Императорского Высочества мною получена, и я приношу всеподданнейшую благодарность за оказанное мне внимание... Я, как и громадное большинство моих соратников, мыслю будущую Россию такой, как того пожелает русский народ, пламенно веря в то, что народная мудрость вернет Россию, как и 300 лет назад, на ее исторический путь. Ваше Императорское Высочество уже ныне, на чужбине, без участия русского народа предрешаете этот вопрос. При этих условиях я не вправе обещать Вашему Императорскому Высочеству то сотрудничество, которое Вам угодно было мне предложить. Долг каждого русского человека — принести посильную пользу России. Хочу верить, что, посвятив себя заботам о моих соратниках, временно променявших шашку на лопату и винтовку на плуг, я внесу посильную лепту в общее дело служения родине... Вовлечение армии в политическую борьбу при неуверенности в поддержке Европы и Америки, при неясности построения будущей России, может скомпрометировать не только имя великого князя и династию, но и монархический принцип вообще...» .
Врангель обратился к «дяде Николаше» с просьбой дать указания. Врангеля придется еще завоевывать...
Братья Борис и Андрей, живущие поблизости, на юге Франции, его союзники. На «защите русского престола» Мария Федоровна, Николай Николаевич, принц Ольденбургский, герцог Лсйхтенбергский. Дмитрий Павлович — как обычно, без позиции, хотя, будучи в гостях у Марии Федоровны и английского короля, заявил, что «вступать в открытую борьбу с Кириллом в эмиграции не собирается и предоставит решение этого вопроса Земскому собору». А тут еще этот русофил Марков-2 со своим заявлением в берлинской газете: «Русский царь должен быть рожден от православной матери». Сторонники Кирилла выступают с возражением — Мария Павловна приняла православие.
Время идет» деньги тают. Виктория недовольна. Ясности никакой... Кирилл выступает с Манифестом.
«Великий князь Кирилл Владимирович — внук императора Александра II и двоюродный брат императора Николая II, — являющийся по праву первородства старшим в императорской семье Романовых, объявляет себя блюстителем Российского Престола. Соглашаясь возглавить отныне движение, направленное к восстановлению порядка в Россия, он выражает надежду на то, что император Николай II жив и вернется к верховной власти.
Если же окажется, что Его Высочества наследника цесаревича Алексея Николаевича, а также Великого князя Михаила Александровича нет в живых, Великий князь Кирилл Владимирович созовет Земский собор, который и предложит утвердить его в законных правах... Писано в Ницце 12 сентября 1922 года».
В Манифесте употреблены громко и торжественно звучащие слова: «К тебе, Россия, обращаюсь», «старший по первородству», «оглянись на прошлое, русский народ», «молю Всевышнего...» Каждая фраза била в цель, как хорошо пристрелянное ружье.
Великому князю Николаю Николаевичу отводилась роль предводителя русской армии.
Шестнадцатого ноября 1922 года из Парижа отозвался оскорбленный второй претендент: «...Упоминание моего имени Кириллом Владимировичем... последовало без соглашения со мной... И я подтверждаю свою готовность стать во главе русского национального движения, когда меня позовет весь русский народ».
Что значит «весь русский народ», Кирилл не понял. Зато хорошо понял другое: начинается борьба. Долгая и упорная, многотрудная, с использованием всех средств...
2
Великий князь Николай Николаевич — сын генерал-фельдмаршала, героя борьбы с турками Николая Николаевича (старшего) и великой княгини Александры Павловны, внук Николая I — был вторым претендентом на российский престол. В душе конечно же он считал себя первым. С большими правами — и по закону, и по военным заслугам перед государством, и по тому положению, которое много лет занимал при императорском дворе, являясь наставником Николая II. Старейший в доме Романовых, он еще в 1913 году высочайшим повелением был объявлен главой семейного совета. Его биография по сравнению с биографией «выскочки» Кирилла — «Кирюхи», как презрительно называл его в эмиграции, — выглядела основательной, внушительной. Военная карьера — достойной.
Июнь 1871 года. Пятнадцатилетний Николай зачислен юнкером в Николаевское инженерное училище. Через год, произведенный в прапорщики, он командирован в учебный пехотный батальон. Еще через год — в учебный кавалерийский эскадрон. Затем — слушатель Николаевской академии Генерального штаба, которую оканчивает с серебряной медалью.
Николай — флигель-адъютант его императорского величества. В начале турецкой войны 1877 года Николай Николаевич назначается офицером для особых поручений при генерале Драгомирове. За отличие во время переправы через Дунай и взятие Систовских высот награжден Георгием IV степени, за атаку и занятие Шипкинского перевала — золотым оружием. В 1877 году он полковник, командир эскадрона в лейб-гвардейском гусарском полку, в 1884 году — командир этого полка. Далее — производство в генерал-майоры и командование кавалерийской дивизией, производство в генерал-лейтенанты. В 1901 году Николай Николаевич назначен инспектором кавалерии. В 1905 году он — главнокомандующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, председатель Совета государственной обороны.
Великий князь внушителен. Двухметровый гигант, галантный кавалер, приятный собеседник. Румяное узкое лицо, быстрая, решительная походка. Знает, можно сказать, весь офицерский корпус Петербурга. Любимец гвардии. Страстный любитель охоты — лошадей и собак. О нем ходит множество рассказов. Порой весьма любопытных, не лишенных пикантности. Например, как его, пьяного и голого, снимали с крыши; как он, пьяный, поднялся на Эйфелеву башню и, балансируя на железной балке, спел «Боже, царя храни»; или как одним лихим ударом снес голову любимой борзой, носился по огородам, давил скот, лупил арапником егерей во время охоты на Знаменке, в окрестностях Петергофа. Сослуживцы отмечают его жестокость, грубость обращения с офицерами и нижними чинами, ерничество и матерщину. Считавший себя любимцем армии, он чрезвычайно внимательно следил за своей внешностью. Бородка и усы с чуть загнутыми вверх концами, фуражка, надвинутая низко, лихо, почти на нос — таков был облик первого офицера, которому многие старались подражать.
В молодости привязался Николай Николаевич к одной царскосельской купчихе — настолько, что готов был предложить ей руку и сердце. Но для женитьбы полагалось ему получить позволение брата, царствующего Александра III. Тот выслушал романтическую историю хмуро, ответил категорично: «Со многими дворами Европы я в родстве, но с Гостиным[20] не был и не буду». Николай Николаевич ожесточился еще более. Позднее он женился на Анастасии, дочери черногорского князя Николая Негоша. О чем необходимо сказать особо.
Негош — отец Милицы, Анастасии и Зорки — жил в Цетинье. Прирожденный актер, играющий в простоту и добродушие, изображающий типичного черногорца (в национальном костюме и шапочке — «Капице»), он был хитрым и дальновидным политическим интриганом, любимым занятием которого было ссорить дипломатов и играть в «большую политику». Его дом — узел интриг.
Благодаря дружбе с Александром III, Милица и Анастасия были обласканы в России. Обе окончили Смольный институт, приняты при дворе. Милица была выдана замуж за туберкулезного Петра — брата Николая Николаевича, подолгу жившего в Египте, бросившего военную службу и занявшегося архитектурой. Анастасия — за принца Юрия Лейхтенберского, который большую часть времени проводил за границей, не скрывая своей связи с известной куртизанкой. Бросив Юрия и разведясь с ним, Анастасия выходит замуж за Николая Николаевича. Верные и преданные дочки («черногорские соловьи» — как их звали при дворе) добиваются денежного содержания для отца — на организацию отборных частей, которые будут сражаться за Россию. Из Петербурга в Цетинье ежегодно посылается два миллиона. Анастасия и Милица приближены к императрице Алисе, но с появлением при дворе Распутина превратились в ее злейших врагов. Несомненно, и карьера великого князя, уговаривавшего племянника «прогнать гнусного мужика», под влиянием подобных высказываний подверглась жесточайшим испытаниям.
Русско-японскую войну Николай Николаевич встретил, как и подобает старшине императорского дома, не при театре военных действий. Инспектор русской кавалерии находился в Петербурге. Только нелюбовь царицы помешала ему уже тогда стать главнокомандующим армией. Сам Бог уберег его от позора.
После поражения в русско-японской войне ему, главе Совета национальной обороны, поручена реорганизация армии. Николай Николаевич часто ездил во Францию, на маневры. Он неоднократно заявлял о своих антинемецких настроениях: «Мир будет жить без войн, когда Германия, поверженная раз и навсегда, будет разделена на маленькие государства, забавляющиеся своими крошечными королевскими дворами». Стоило ли удивляться, что, несмотря на противодействие императрицы и тогдашнего военного министра Сухомлинова, Николай Николаевич все же стал верховным, главнокомандующим, — как только началась война с немцами. В последний час пятнадцатого дня мобилизации Николай Николаевич покинул Петербург и отправился в полевой штаб в Барановичи. Великий князь и его свита ждали на платформе прихода царя, который должен был попрощаться с главнокомандующим. Николая II не было, он так и не появился. Прозвучала прощальная молитва, все сели в вагоны, и состав тронулся...
Жизнь верховный вел довольно спокойную и размеренную. Лишь иногда поезд главнокомандующего совершал дальние маршруты — для совещаний с командующими фронтов. Думал искренне, что он и только он ведет русские армии в бой. О нем писали газеты: о его воле, суровой энергии, смелости. И мудрости... А он был простодушен, внешняя твердость и жестокость скрывали порой внутреннюю нерешительность, неумение командовать, отсутствие полководнического дара. Он остался хорошим кавалеристом. Мог быть командиром эскадрона — ну, полка, в крайнем случае. Но не мог стать крупным военачальником: не было данных.
Поражение русских армий Самсонова и Ренненкампфа потрясло Россию. Пожалуй, один лишь главнокомандующий оставался спокоен. Он сказал генералу де Лагишу — военному атташе: «Мм счастливы принести такие жертвы ради наших союзников».
Прогерманская партия обвиняла в поражениях главнокомандующего. Тот — Ренненкампфа, немецких шпионов и «гнусного мужика» Распутина. Он даже отдал приказ штабным офицерам: «Если же Григорий Ефимович появится в Ставке или хотя бы в прифронтовой полосе, повесить его на первом суку с последующими извинениями перед царской четой». История распорядилась иначе. Николай II, сместив дядю с поста, сам возглавил русские войска. «Дядя Николаша» был назначен наместником на Кавказе и командующим Кавказского театра военных действий. Можно сказать, высылка. Отрекаясь от Престола, император Всероссийский, словно спохватившись, вновь назначил великого князя главнокомандующим. Временное правительство это назначение отменило.
Оскорбленный Николай Николаевич удалился Крым, в собственное поместье Чаир...
Крымское побережье было довольно плотно заселено представителями императорского дома. В Ай-Тодоре, во владениях Александра Михайловича, жила Мария Федоровна, в белокаменном Дюльбере — царская семья. За Симеизом шли дворцы и усадьбы графа Милютина и Воронцова-Дашкова, дворец Юсупова. Имением Дюльбер, в четырех верстах от Алупки и в тринадцати от Ялты, белым двухэтажным домом, окруженным парком, владел великий князь Петр Николаевич. Неподалеку Чаир — поместье Николая Николаевича. Временное правительство словно забыло о царственных особах, скрывающихся в Крыму в надежде переждать «беспорядки».
И все же однажды отряд солдат, ведомый молодым человеком в полувоенном, приблизился к воротам имения великого князя. Было раннее утро. Уже четко прорисовывалась в светлеющем небе вершина Ай-Петри. У подножия горы серела татарская деревушка Кореиз. Дорога ко дворцу шла через обширный, отлично ухоженный парк. На дорожках с обеих сторон скамейки. Поля роз, неведомые тропические растения, цветущие гиацинты. Деревья высажены так, чтобы не заслонять перспективу гор, селений и садов, белый минарет в Кореизе. Поднималось солнце. В имении все спали.
Солдаты заняли всех входы и выходы. Молодой человек, одетый в широкий френч и краги, с пенсне на горбатом носу, вошел во дворец с небольшой группой вооруженных солдат. Николая Николаевича попросили встать с постели. По имеющимся донесениям — объяснил командир, почему-то очень волнуясь и теряясь, — тут зреет заговор: работает радиостанция, между царскими дворцами снуют автомобили. Великий князь сказал, что подчиняется приказу Временного правительства: пусть обыскивают дворец, хотя о заговоре ему ничего не известно.
Были осмотрены все помещения. Солдаты, которым приказали не топать и вообще производить как можно меньше шума, принесли в кабинет свои трофеи — много охотничьих ружей разных систем, коллекцию кавказского оружия, большой ларец с частной перепиской, драгоценности. Оружие и переписка были изъяты. Личное имущество оставлено. Молодой человек извинился за причиненное беспокойство, неловко поклонился, едва не потеряв пенсне, и увел свою команду.
Позднее поступили сведения из других поместий. Недостаток выдержки проявила Мария Федоровна. Пытался протестовать и великий князь Александр Михайлович, адмирал. Ему пригрозили арестом, и он, испугавшись, смирился с обыском.
Потом власть взял татарский курултай. Потом пришли в Крым немцы — «швабы». Выставили караул. Не то для охраны бывшего верховного главнокомандующего от разных банд, не то для содержания его под домашним арестом. Николай Николаевич наотрез отказался принять их генерала. Все это напоминало спектакль...
Из добровольцев был сформирован «отряд особого назначения» для охраны великого князя — около ста офицеров армии и флота, организована служба связи, три пулеметных отделения, автомотоциклетная группа. Николай Николаевич приободрился. Собрав добровольцев, вышел к ним в черкеске с тремя Георгиевскими крестами, сказал, произнося каждое слово с ударением: «Я рад видеть вас, господа офицеры. Ваше присутствие дает мне возможность вновь надеть русский мундир, который я всегда носил с гордостью...» В знак особой признательности завтрак и обед для караула накрывался в княжеской столовой, несколько ранее завтрака и обеда Николая Николаевича.
В горах и на лесистых склонах раздавалась ружейно-пулеметная перестрелка. Романовы беспокоились: и в тихом Крыму происходят беспорядки. Прислуга говорила о неизбежном «возвращении в Крым коммунистов и комиссаров — большевиков».
По приказу английской королевы из Константинополя в Крым 19 ноября 1919 года были направлены два миноносца. Группа английских моряков, предводительствуемая русским офицером, высадилась на Ливадийском пляже. Мария Федоровна приняла их и пригласила на завтрак. В Константинополь она ехать отказалась, передала лишь письмо в Лондон.
В конце марта на рейде Дюльбера остановился английский дредноут «Мальборо» (довольно частый гость в Крыму). Моторные катера причалили к так называемой «Юсуповской пристани». Английская морская пехота и отряд особого назначения обеспечивали посадку. Три дня «Мальборо» стоял на рейде. За три дня погрузились все Романовы. Жили в Петербурге — рядом, жили вместе в Крыму. В эмиграции их пути стали расходиться. Мария Федоровна с дочками Ксенией и Ольгой направилась в Копенгаген. Николай Николаевич — в Италию. Потом переехал в Антиб на Ривьере (Южная Франция), где уединенно жил с семьей на вилле брата Петра. Николай Николаевич почти никого не принимал. Выезжал редко: избегал встреч и даже фамилию сменил — на Борисов. Что означала подобная конспирация, что вызвало ее — неизвестно.
Двухэтажная вилла Николая Николаевича «Thenard» с видом на море имела достойный вид. Внизу спальня, гостиная, небольшой кабинет. Столовая вмещала человек десять — двенадцать, собиравшихся к обеду или завтраку.
В те годы Ривьеру облюбовали многие великие князья: Андрей и Борис Владимировичи, Александр Михайлович, Дмитрий Павлович, герцог Лейхтенбергский, принц Ольденбургский и другие. Если бы не Мария Федоровна, которая приберегла у себя на родине, в Дании, большие средства, знатным родственникам Романова пришлось бы худо. Вдовствующая императрица помогала из Копенгагена. Не всем, только самым любимым.
Между Каннами и Ментоной образовалась своеобразная русская колония. Тысяч пять человек, не меньше, из наиболее ловких и состоятельных разбогатевших на войне, сумевших вывезти свои капиталы. Нищие русские здесь не задерживались. Имевшие небольшие средства мечтали о приобретении пансиона, занимались комиссией при продаже и найме вилл, зарабатывали посредническими операциями. Жили смирно, аккуратно посещали русские храмы.
Иногда случались и скандалы. Некий Лафорж, собрав десяток конторских служащих и лиц неопределенных профессий, объявил себя князем Витенвалем. Он заявил, что к нему обратился «горный кавказский народ» с просьбой быть его королем, на что он дал согласие и теперь провозглашен «Королем закавказским, владетелем Майкопа и Ферганы» — о чем немедленно издал манифест. И ведь поверили. И русские, и представители ряда иностранных государств, вступившие с ним в деловую переписку. Бывший сторож русской церковной библиотеки в Ницце Долуховский, пожалованный в... герцоги, занял должность министра внутренних дел. Другие, награжденные фантастическими титулами, составили «кабинет министров». Он приказал изготовить карту своих владений, орден «Розового слона» и обратился во всевозможные организации и канцелярии, в том числе и к русскому послу в Париже с просьбой признать его и принять меры к изгнанию большевиков из его королевства.
Анекдот! Новоиспеченный король между тем уже назначил день свадьбы с фигуранткой из парижского мюзик-холла, которой пожаловал титул герцогиня Ферганской. Ко дню коронования в русском соборе в Ницце были заказаны придворные костюмы и две короны стоимостью в три миллиона франков. Это показалось подозрительным французской полиции, и она арестовала всех сподвижников Лафоржа. О скандале предпочли поскорее забыть. Кому приятно вспоминать о том, как тебя оставили в дураках?!
В 1923 году великий князь Николай переехал в имение Шуанья в двадцати с лишним километрах от Парижа. По одним данным, имение принадлежало родственнику и его супруги. По другим, он купил его за большие деньги, полученные от продажи уникальной прадедовской коллекции самоцветов.
По приказу Пуанкаре великого князя по приезде в Париж встречал почетный эскорт зуавов. Газеты, описывая это событие, захлебывались от восторга: «Франция признала его высочество!», «Французы горячо приветствуют Николая Николаевича Романова, называя его „монсеньор ле гранд дюк!”»...
Шуаньи Николаю Николаевичу понравилось: напоминало Россию, старинную дворянскую усадьбу — двухэтажную, с двумя десятками просторных комнат, надворными постройками, флигелями. Позади — вековой, запущенный парк с дорожками, поросшими травой, с густыми зарослями кустов. Усадьба из серого камня, окруженная высокой каменной оградой. У наглухо закрытых железных ворот — помещение для охраны. От ограды к дому — короткая аллея платанов и каштанов. У подъезда — крыльцо с каменными вазами. Стеклянная дверь в переднюю. Столовая внизу. Широкая двухмаршевая лестница на второй этаж, где находился кабинет великого князя.
На барской половине жили: Николай Николаевич с великой княгиней, три офицера с семьями (сливки петербургской аристократии): граф Георгий Шереметев, — офицер, кавалергард; сын известного богача и мецената, адъютант князь Оболенский и доктор Мелама — военный врач. Старые слуги — повар, камеристка, садовник, прачки, два шофера. Гвардейский офицер Апухтин, ординарцы гвардейских казачьих полков, личная охрана, руководимая полковником Ягубовым, из офицеров-дроздовцев (Самоэлов, Жуков, Нилов, Неручев, Тряпкин[21] и другие). В Шуаньи поселился и агент Surete Generalе (полиция общественной безопасности) для охраны monsieur lе Grand duc (а может, и наблюдения за ним). В одной из пристроек к усадьбе была оборудована церковка — иконостас, сделанный из темного дуба, простые иконы, простая церковная утварь. Священник приезжал из Парижа. Пел дьячок. В торжественные дни — хор из казаков и прислуги. Иногда — бывшие военные хоры, приглашаемые из русских ресторанов.
Всего в обслуге состояло более тридцати человек. Хозяйство велось бестолково, денег, — особенно в первые годы, — не считали. За стол на обеих половинах усадьбы (барской и для челяди) садилось ежедневно до полусотни едоков. Продукты покупали в деревушке Сентена. (Усадьбу неподалеку от деревушки занимал, между прочим, известный генерал Краснов, все более увлекающийся созданием романов). Содержание «двора» и «резиденции» стоило Николаю Николаевичу десятки тысяч франков в месяц, но создавало видимость сохранения определенной власти, устойчивости положения за границей, соблюдения всех, даже и исписанных положений и правил, требуемых для monsieur le Grand duc.
Наличных денег вечно не хватало. Заведующий «финансовой частью» великого князя барон Вольф продавал золото, бриллианты, фамильные драгоценности. Изредка снабжал средствами и «посол» русского дипломатического корпуса, Гирс, все еще представляющий Россию в Европе.
Николай Николаевич оставался охотником, лошадником, собачником. Те же манеры — постоянно повышать голос, произносить слова с ударением, угрожая. Та же (несколько показная, наигранная теперь) энергия и скрываемая внутренняя нерешительность. Но люди, общающиеся с бывшим верховным, замечали: сдает, теряет гвардейскую выправку, временами, перестав следить за собой, сутулится, устает от посетителей, приходящих кто с решением политических проблем, кто за советом, рекомендацией, кто просто за субсидией. Адъютант Оболенский пускал, конечно, не каждого. Без его доклада Николай Николаевич не принимал никого. Но сколько времени отнимали еще и совещания по государственным вопросам, организация противодействия «этому выскочке, этому молокососу Кириллу».
После того как Эррио сменил Пуанкаре, он дал понять, что князь Романов во Франции лишь частное лицо. Николай Николаевич обиделся. Затем разгневался и заявил: «Или Париж увидит меня как официально признанного Верховного главнокомандующего русскими армиями, или совсем не увидит». Какая-то русская бульварная газетенка, претендующая на остроумие, назвала Николая Николаевича не «Grand duc», а «Гранд ин-дюк». В левых кругах русских колоний прозвище понравилось, привилось.
А тут еще господа сподвижники. Требуют выходить на борьбу с «Кирюхой»[22], тянущимся к трону; активно отстаивать свои законные права, немедля обращаться к русскому народу и армии. Следовало принимать решения.
Николай Николаевич отмалчивался, тянул, «прятал лицо». Тут было отчего потерять голову! Великая княгиня Анастасия умна, расчетлива, но и ей доверять во всем не стоит: легковозбудима, истерична — ей власть и престол ночами снятся. А родственники? Посоветоваться с кем? Даже «Сандро» — двоюродный брат, великий князь Александр Михайлович, человек, казавшийся близким, говорил всем: «Николай Николаевич превосходный строевой офицер, но теряется во всех политических положениях... его манера повышать голос и угрожать наказанием не производит желаемого эффекта. Кодекс излюбленной им военной мудрости не знает никаких средств против коллективного неповиновения. Можно только удивляться простодушию этого человека»... А императрица-матушка? Сидит на своих миллионах в Копенгагене и молчит, будто воды в рот набрала. И на Манифест «Кирюхи» достойно не отреагировала. Что у нее на уме — поди разберись!...»
Не раз обращался к Николаю Николаевичу и Врангель. Все более прямо и откровенно призывал великого князя к действиям, к объединению монархического движения, хотя подчинение армии бывшему верховному искусно обставлял всяческими оговорками: он ведь и сам был главнокомандующим. Еще в Сремских Карловцах Врангель охотно дал интервью Полю Эрио, корреспонденту парижской газеты «Le Journal». «В свои сорок четыре года, — отмечал журналист, — генерал сохранил удивительную гибкость. Изгнание не изменило его. Его костистое лицо осталось молодым и улыбающимся. Он носит по привычке форму кубанского войска, и на его серой черкеске пришпилен орден св. Георгия, а на шее — «Владимир» с мечами. Он с горестью говорит о необдуманных интригах и происках эмигрантских кругов, которые на руку лишь большевикам...
Поль Эрио: Какую роль будете играть вы?
Врангель: ...«жду момента, считая, что солдаты, которые до сих пор считают его главнокомандующим, пойдут за ним...
Поль Эрио: Считаете, что ваша армия, разбросанная по разным странам, всегда готова идти против большевиков?
Врангель: Вполне.
Поль Эрио: Как может быть освобождена Россия? Внутренний взрыв или освобождение извне?
Врангель: Это будет зависеть от тех затруднений, которые будет переживать Россия, и от поведения великих держав... Что касается меня, у меня нет другой цели, как помочь моим товарищам по борьбе вернуться в Россию. В течение трех лет я звал соотечественников без различия партий объединиться вокруг армии. Это не удалось, но я не теряю надежды, что настанет день, когда голоса разума заставят русских эмигрантов забыть партийные различия, которые делают тщетными все наши усилия, и тогда они все заговорят одним языком. Много раз я уже заявлял, что, если кто из русских, пользующихся доверием армии, сгруппирует вокруг себя все антибольшевистские силы, я к нему присоединюсь с моими войсками. Если великий князь Николай Николаевич, связанный своим прошлым с армией, сможет быть таким человеком, то я буду одним из первых, кто представит себя под его водительство. Но я не поступлю так, если эта инициатива будет исходить от великого князя Кирилла Владимировича, который претендует на трон и которому я отказался подчиниться. Я заявлял твердо и неоднократно, как, впрочем, это думали и Корнилов, и Деникин, и Колчак, что мы не можем брать на себя предопределение судьбы будущей Россия. Только сам народ может это сделать... Никакая политическая партия не имеет права посягать на волю несчастного многомиллионного русского народа...»
Прочитав интервью, Николай Николаевич воскликнул: «Еще один демократ отыскался»! — и выругался.
Русские газеты немедленно начали высказываться по поводу заявлений Врангеля, называя пресловутый аполитизм командующего «худшим видом политики». В критику главнокомандующего дружно вмешались монархисты разных мастей и оттенков. И первым — Марков. Группа монархистов-офицеров явилась в Белграде к престарелому генералу М. А. Драгомирову и потребовала возглавить союз, имеющий целью захватить армию. Старший группы заявил: «Покуда Врангель во главе армии, она никогда не будет в наших руках». Поднялась целая кампания. О недавнем кумире стали писать критически. И о ребяческом тщеславии Врангеля, полуцарском церемониале выходов, любви к овациям и ношению на руках.
Врангель издал несколько приказов и циркуляров, понимая, что тучи над его головой сгущаются. Поставив на Николая Николаевича, нетерпеливо ожидая от него активных действий и заявлений, он уже начинал бояться оказаться между двумя стульями. Несмотря на давнюю неприязнь, он пишет генералу Краснову. Ответ приходит со значительной задержкой, оправданной поездкой генерала в Берлин:
«...Я понимаю Монарха как лицо, стоящее над партиями к объединяющими партии... Я не состою в монархической партии, и если я пользуясь иногда органами ее для распространения своих идей, то по неимению средств распространять их иным путем... Я не разумею под Монархом никого из лиц, на которых указывают монархисты, ибо эти лица уже загубили и монархию и Россию... Я полагаю Монарха, как... сурового исполнителя долга перед Родиной. Я сознаю, что такого Государя нет, но его нужно найти и воспитать... Сейчас Россия — это только Ваша Армия, Вами сохраненная и расселенная теперь в Болгарии и Сербии... Лично я ничего не хочу. Я считаю себя человеком конченым, умершим. Новое мне чуждо; старое, которое дорого мне, непонятно новым людям. Приспособляться не умею, а в лозунгах изверился... Поставленный на какое-либо место, я принужден буду молчать — и это будет хуже для дела. Я счастлив иметь возможность откровенно писать Вам и счастлив был бы лично, с глазу на глаз поговорить, но думаю, что мой приезд в Сербию или Болгарию возбудит страсти, взволнует понапрасну казаков, а это нежелательно.
Примите уверения в совершенном моем уважении и преданности…»
Не следовало и обращаться; подвела надежда: живет в двух шагах от Николая Николаевича, встречаются — конечно, мог бы и посодействовать, и поддержать. Зря обращался, зря...
Ухудшились отношения Врангель — Кутепов. Кутепов-паша оправился от шока, вызванного болгарской высылкой и провалом своих военных планов. Споры возникали чуть ли не по любому поводу. В конце 1923 года Врангель объявил, что отказывается от политического руководства и остается лишь во главе армии. Он лишил Кутепова должности помощника главкома, хотел удалить в отставку. Пришлось вмешаться Николаю Николаевичу. Стало ясно, откуда дует ветер...
Врангель был раздражен, обижен, утомлен. Генералы всегда рассматривали его как парвеню, выскочку в генеральских погонах; вакантные места вокруг Николая Николаевича поспешно занимались, военно-административные должности оказывались разобранными. Дальнейшее ясно: обвинение в ряде военно-политических ошибок — и убирают «за штат». Врангель вновь находят силы к борьбе за себя. Он издает приказ об организации нового союза (объединение русской армии — ОРА), который призван сцементировать все воинские силы, в первую очередь — офицерство в эмиграции. Врангель заявляет: Союз остается в Сербии до тех пор, пока на Балканах будет находиться хотя бы одна русская воинская часть. Признавая, что центр эмиграции переместился в Париж (Шуаньи), Врангель подчеркивает: «Я передаю армию и себя в полное и безоговорочное распоряжение того, кто в течение Великой войны был Верховным главнокомандующим и имя которого связывается у армия с ее заветными чаяниями».
Великий князь благосклонно принимает ОРА под свое покровительство и... назначает генерал-лейтенанта Александра Павловича Кутепова первым заместителем Врангеля по вновь рожденному объединению. Петр Николаевич понимает: его победа — пиррова. Он не выиграл сражения. Кто-то обязательно и вскоре бросит в него новый камень. Кто?
3
Этот августовский день 1924 года начался для великого князя Николая Николаевича как обычно. Он встал по привычке рано и вышел на прогулку в сопровождении кудлатого пса Макса и одного из охранников, державшегося почтительно позади. Великий князь ни о чем не думал. Просто шел без всяких мыслей, привычно выполняя свой маршрут, в котором доктор Малама давно определил уже и расстояние и скорость чуть ли не каждого шага. Великий князь не обращал внимания и на то, что происходило вокруг, в парке, этим солнечным утром. Макс убежал куда-то. Мыслей не было. Не было и воспоминаний. Не было ни радости, ни сожалений. Не было ничего. Великий князь существовал сейчас как одно из деревьев в парке. Только и разницы — человек двигался.
Внезапно поблизости, над головой, в ветвях тревожно закричала птица. Не запела, не зачирикала — именно закричала: «пи-ить-пилдык! пи-ить-пилдык!» И снова: «пи-и-ить! пи-ить!» Николай Николаевич остановился. Настроенный мистически, верящий в приметы, наговоры, чудеса, он перепугался, счел непонятный птичий крик дурным предзнаменованием. Делая вид, что поправляет ворот куртки, и оглядываясь на охранника, перекрестился.
Охранник, неправильно истолковав его жест, приблизился на несколько шагов, оказался рядом.
— Покорно прошу прощения, ваше высочество! Могу быть полезен? — заученно отбарабанил он, вытянувшись в струнку — так, что, казалось, вот-вот вспорхнет.
— Макс! Макс! — заметив отсутствие собаки, зычно крикнул Николай Николаевич. — Где собака, э... милейший?
— Ротмистр Чалых, ваше императорское высочество! Разрешите найти?
— Да-да, ротмистр. И поскорее: я возвращаюсь.
Обнажая ряд мелких, острых желтых зубов — что означало, вероятно, самую приятную из изменившихся в арсенале офицера верноподданнических улыбок, — Чалых гаркнул:
— Буд-спол-но, ваше имп-со-во! — лихо козырнул и вломился в кусты.
Николая Николаевич хотел было вернуть ротмистра («К пустой голове руку прикладывает, болван!»), но не успел и рта раскрыть, как тот исчез. Только хруст кустов слышался. Великий князь не прошел и ста метров к дому, как Чалых, благоговейно прижав Макса к груди, догнал своего хозяина. Опустив пса со всевозможной осторожностью, ротмистр вытянулся стрункой, сдерживая и усмиряя дыхание.
— Благодарю, голубчик, — у великого князя от дурных предчувствий пропала охота «цукнуть» офицера, забывшего, чему его учили. Может, ускоренного военного выпуска? Вероятно. Хотя на интеллигентика не похож.
— Всем ли вы довольны, ротмистр?
— Так точно, ваш-им-ство! — гаркнул Чалых. И добавил радостно: — Пятьсот франков в месяц на всем готовом — покорнейше благодарим, ваше императ-ское выс-чес-тво!
— В гвардии?
— Так точно! По контрразведывательной части.
— Не задерживаю. — Великий князь свистнул пса и зашагал к дому. — Понабрали болванов! — И с удовольствием выругался. Матерщина несколько успокаивала его.
Позавтракав, Николай Николаевич стал ждать Оболенского. Ровно в десять адъютант приносил почту, выслушивал распоряжения, делал доклад. Князь слушал внимательно: ждал чего-то плохого после сегодняшней прогулки, таинственного исчезновения Макса, зловещего крика неведомой птицы. Но пока ничего настораживающего не было. Даже наоборот — прислала верноподданническое письмо группа офицеров, оно приободрило Николая Николаевича, который заставил адъютанта прочесть его вторично. Запомнились слова: «...когда это будет указано Вами», «основоположник великой борьбы», «повергнуть к стопам выражение наших верноподданнических чувств и почтительнейше доложить»...
— Конец еще раз, — приказал он адъютанту.
«К Вам, неоспоримому Верховному Вождю русских воинов и всех истинно-русских граждан, рвутся все наши сердца. С нетерпением ждем мы часа, когда Ваше Императорское высочество, обнажив меч, повелит нам пойти вперед к победе, а с Вами она будет, в это мы глубоко верим», — Оболенский прочел медленно и умолк.
— Обнажив меч, — сказал Николай Николаевич и задумался, с сомнением, покачивая головой. — Легко им... «Повелите...» Не так это просто. Надо, чтоб все, весь народ разом воскликнул: «Приходи, князь!» Да... А то много желающих предводительствовать. Это мы знаем.
Адъютант посмотрел на великого князя с удивлением. Таким он увидел Николая Николаевича, пожалуй, впервые — задумчивым, нерешительным, словно бы даже испуганным.
Ворвался в кабинет разыгравшийся Макс, кинулся к хозяину, радостный.
— Ты куда, скотина?! — крикнул Николай Николаевич и так поддал носом сапога псу под живот, что тот отлетел в сторону и, повизгивая от боли, полез было под тахту. — Пшел вон! — Великий князь, огромный, привычно грозный, вскочил, гаркнул яростно: — Вон, Макс!
Завтракали в час пополудни — как было заведено в Шуаньи. Сегодня присутствовали князь и княгиня Трубецкие, Шереметев, барон Вольф, приехавший накануне генерал Лукомский, доктор Малама, личный шофер поручик Апухтин. Разговор шел ленивый, пустой. Николай Николаевич жевал угрюмо, снова весь во власти охвативших его недобрых предчувствий.
Граф Гришка Шереметев предался воспоминаниям о полковом празднике, на который изволил пожаловать сам государь император. Генерал Лукомский рассказывал о мемуарах, которые счел необходимым написать в назидание потомкам, но его не совсем вежливо прервал Вольф, сказавший, что Врангель продолжает продавать Петербургскую ссудную казну. Разговор перешел на командующего русской армией, засевшего на Топчидерской даче, за которую плачено не меньше миллиона динаров, о его честолюбии и властолюбии. Насколько Кутепов проще и открытей, он — солдат, дай ему армию — больше и думать не о чем. Барон Вольф вновь умело повернул разговор: вчера вернулся из Парижа, вращался в деловых сферах. Повсюду говорят об установлении дипломатических отношений с Советской Россией: смерть большевистского вождя — Ленина не вызвала ожидаемых Европой осложнений в борьбе за власть и волнений в народе. «Россия предлагает выгодную торговлю, господа промышленники и финансисты обгоняют политиков и диктуют им нормы поведения!» — подал реплику Трубецкой. «Именно, — согласился Вольф. — Волна самодовольства и эгоизма захватила буржуазию Франции. Печать утверждает в сто глоток, что ныне Франция — самая великая духовная держава мира. Каково, ваше высочество?»
Николай Николаевич не ответил. Сделал вид, что не слышал вопроса. И уж разгорался спор: признает ли Франция Россию? Великий князь и тут не поднял глаз, не подал реплики — в противоположность княгине Анастасии, которая с присущей ей горячностью утверждала: Франция — издавна верная союзница Российской империи, большевики и до сих пор — немецкие агенты, изменить нам — изменить себе. Спор угас. Тут вновь появился Оболенский. Появление его в столовой было несвоевременным, неположенным, чрезвычайным. Николай Николаевич нахмурился, сдвинув черные брови, посмотрел грозно, но кивнул, разрешая прервать завтрак.
— Чрезвычайное известие, ваше императорское высочество.
— Говорите, поручик.
— Тридцать первого августа великим князем Кириллом в Кобурге, в замке Эдинбург опубликован Манифест, — он достал из голубой сафьяновой лапки листок, прочел: «Всем чинам армии и флота, всем верным подданным и всем объединениям, верным Долгу и Присяге, присоединиться к законопослушному движению, мною возглавляемому, и в дальнейшем следовать моим указаниям».
Обедающие застыли. В наступившей тишине нестерпимо громко звякнула вилка, выпавшая из руки Анастасии.
— Есть еще что? — погасшим голосом спросил Николай Николаевич.
— «Положение о корпусе офицеров императорских армий и флота». Газеты, указывающие на сообщение великого князя о получении им больших денежных сумм без указания источника.
— Да он — что?! Рехнулся? — подняла голос княгиня. — Я предупреждала: добром его происки не кончатся!
— Анастасия, прошу вас, — сказал хозяин Шуаньи, начиная подниматься. И, встав, постучал ладонью по столу: — Все ясно, господа! Прошу высказываться. Кратко — ввиду внезапности положения, могущего стать чрезвычайно серьезным. Слово вам, генерал.
— Благодарю за доверие, ваше высочество, — Лукомский встал. — Первостепенным делом считаю созыв Военного совета. Он определит реальные силы, активизирует их. Известно, наших неизмеримо больше, но необходим смотр, — Лукомский произнес все эти слова одним махом, задохнулся и заторопился еще больше:
— Совет потребует решительного отзыва сторонников князя Кирилла и окончательно определит позицию Врангеля в этом вопросе, — генерал щелкнул каблуками, кивнул и опустился на место.
Барон Вольф оказался еще более краток:
— У великого князя Кирилла, по моим данным, серьезных денег нет. И получить их неоткуда. Свой бюджет он тратит на себя и на двор. Его партии остаются крохи.
— Благодарю, — кивнул милостиво Николай Николаевич. — Вы, граф Шереметев.
— Считаю необходимым совместное выступление с вдовствующей императрицей, направленное против действий, не совместимых с вековыми устоями самодержавия. Пригвоздить к позорному столбу, опубликовать воззвание к русским людям.
— Хорошо бы одновременная публикация от имени Высшего монархического совета, — подсказал кто-то.
— Совершенно согласен, — продолжал Шереметев. — Позволю добавить: и заявление православной церкви. Это уничтожит узурпатора окончательно!
— Права на вашей стороне, ваше высочество. Настало время кричать, бить в колокола, звать народ на площадь, — надсаживаясь от показного восторженного подъема, сказал Трубецкой. — Стоит прозвучать вашему слову — и русские люди отдадут себя беззаветному служению вам! Скажи слово, вождь!..
Его нетерпеливо перебила великая княгиня:
— Вспомните тезоименитство великого князя! Были генералы, митрополит Евлогий, премьер Коковцев! Три великих князя, два посла!
— Помним, помним! — раздались голоса.
— И море телеграмм. От четырех королей, от Марии Федоровны, от Марии Павловны!..
— Герцога Орлеанского, — подсказал Лукомский.
— Кирилл прискакал, будто его звали! Какая бесцеремонность, какое нахальство! Разве не так, господа?
— У Кирилла была одна задача, — сказал Шереметев. — Если бы вы, ваше императорское высочество, согласились с его «местоблюстительством», он готов был отказаться от всякой военной и гражданской деятельности. Он говорил мне. — Почувствовав, что сболтнул лишнее, Шереметев поспешил пояснить: — Не понимаю, почему именно меня он избрал для своего посольства. Вероятно, встретился на пути первым.
— А подумай, — безжалостно сказал Николай Николаевич. Все это время он стоял, опершись кулаками о стол, а тут сел, закинув нога на ногу, барабаня пальцами. Не спуская тяжелого взора с графа, добавил, произнося слова медленно и с ударением: — Потому, граф Георгий, что почувствовал: тебе может довериться. А почему — не знаю. И удивляюсь более твоего (в минуты сдерживаемого гнева великий князь неизменно переходил на «ты», и этого обращения боялись все). Подумай, может, еще чего вспомнишь?
— Все сказал, ваше высочество! Как на исповеди — вот святой крест!
— Допустим, — многозначительно сказал Николай Николаевич. — Но впредь па-а-прашу! Докладывать обо всем вовремя! Тэк-с!.. А что мы знаем о его ближайших соратниках? Прошу высказываться. Поручик Оболенский, фамилии!
Все напряженно молчали.
— Главнейшим сторонником является граф Алексей Бобринский, бывший губернатор Галиции.
— Алешка шумен, но бездельник, за что и получил кличку «барабан», — сказал Николай Николаевич и недобро оглядел собравшихся. — Далее.
— Генерал Доливо-Долинский, — провозгласил поручик.
— Прозвище «барбос», — сказал Николай Николаевич. — Славен службой в контрразведке украинской, польской и других. Имеет опыт.
— Камергер Мятлев...
— Боже! — воскликнула княгиня. — Он же рамолик, у него разжижение мозга!
— Стана, — с упреком остановил жену Николай Николаевич, довольный тем, что именно она оказалась самой сообразительной и поняла, чего он хочет. — Зачем же так уничижительно?
— Да, да! — продолжала Анастасия, и темное лицо ее стало злым, ожесточенным. — Нам не пристало их уважать. Кто еще? Да! Этот чухонец, граф, сухопутный моряк!
— Он и русского языка не знает, — добавил Шереметев.
— Его на флот не пустили!
— Генерал Бискупский...
— Могу сказать, — вступил в разговор Лукомский. — Ему дела до России, как до Абиссинии.
— Красавчик!.. И мезальянс с этой певичкой Вяльцевой, вспомните! Он давно сам себя скомпрометировал! — послышались голоса.
— Между прочим, — закончил Лукомский, — весьма характерен и другой факт. Он, Врангель, Скоропадский — однополчане, все офицеры лейб-гвардейского конного полка.
— И все — немцы! — воскликнула Анастасия.
— Ну, почему же немцы? — удивился великий князь.
— Да по всему! — отрезала жена. Немцы и немцы!
Против такой убедительной логики возразить было трудно.
— Князь Ширинский-Шахматов, — читал список Оболенский, — сенатор Корейво, граф Остен-Сакен, газетчик Снесарев...
— Продажная душа! Такого и за две копейки любой купить сможет! — закричала потерявшая над собой контроль Анастасия и, не ожидая грубого окрика мужа, которого знала достаточно, быстро вышла из столовой.
— Господа! — великий князь снова встал, выпрямился, но сделал паузу, ожидая, пока за женой закроется дверь. — Сообщаю, что я намерен действовать. Наш адмирал совсем потерял голову. Ему, пьянице, на бочке только и плавать. Мы должны остановить его. И обдумать план немедля. Прошу проследовать в кабинет. Необходимо подвести итоги. Сделав шаг, Кирилл, несомненно, пойдет дальше.
— Позволю спросить, что имеет в виду ваше императорское высочество? — осторожно спросил Трубецкой.
И тут, нарушая этикет, за хозяина внезапно ответил барон Вольф — голосом спокойным и уверенным:
— Он объявит себя императором России. И доберется до денег, принадлежащих Романовым. Да-с, господа. У кого власть, у того и деньги. У кого деньги — у того и власть. Это мнение, не раз проверенное историей.
Гости перешли в кабинет — большую комнату с двумя окнами и застекленной дверью, выходящей на зеленую площадку, имевшую справа плавный пандусовый спуск. На площадке были высажены кусты и деревья, стояли несколько плетеных кресел и круглый столик со стульями под матерчатым грибком, где князья, если позволяла погода, пили по вечерам чай с вареньем.
Три стола находились в кабинете. Первый, рабочий, напоминал стол в Ставке верховного главнокомандующего в Барановичах. Второй, с лампой, блокнотами, карандашами, папиросницей и пепельницей. — посередине кабинета, на большом ковре, окруженный тремя глубокими кожаными креслами. В углу — двухтумбовый стол с документами и корреспонденцией. Рядом — книжный шкаф. На стенах — виды России в гравюрах и литографиях. К чему такое количество столов в одном помещении, — не знал никто. Все же он был чудной, «дядя Николаша»...
На совещании решили: великий князь выступает с протестом против узурпаторских действий Кирилла («Кирюха» есть повелитель банды пьяниц и дураков», — прозвище данное противнику, употреблялось все чаще и чаще), обращается с письмом о необходимости совместных действий к матушке-императрице. Верным соратникам Николая Николаевича поручается налаживание связей с монархическими кругами. Общие усилия «николаевцев» должны быть направлены на разоружение и перевербовку «кирилловцев».
Барон Вольф решительно напомнил о Врангеле и получении возможно большего количества денежных сумм — задаче наипервейшей. И заметил с усмешкой: «Филипп Македонский считал, что даже осел, нагруженный золотом, может перешагнуть стены любой неприступной крепости».
Высказывание знаменитого грека, прозвучавшее несколько двусмысленно (почему осел? Имел ли барон в виду нечто конкретное?), задело собравшихся. Но каждый успокоил себя: к нему это не относится, у Вольфа в голове на первом месте всегда деньги. Финансист! Они всегда себя умнее остальных считают...
Проводив гостей, Николай Николаевич сел за рабочий стол и задумался. Его мысли были далеки от того, что он должен написать Марии Федоровне. Он вспомнил утреннюю прогулку, тревожный крик птицы, свои тяжелые предчувствия, которые — увы! — сбывались. В прежние времена при его дворе обязательно находился святой, предсказатель, гадатель по звездам или по травам и болотной воде, с которым можно было посоветоваться, найти успокоение, укрепить веру в себя. Теперь такого целителя около него не было.
Мысли о деле, ради которого он сидел за письменным столом, разбегались, улетучивались. Он уже забывал о совещании и том, ради чего все еще находится в кабинете. Пугающая тишина окружала великого князя. Его словно окутали ватой, не пропускающей звуков. Может, он спит? Да и жив ли он? Где он, в чьем доме? В чьей стране?.. И вдруг в полной тишине возник, стал приближаться и нарастать знакомый, страшный птичий крик: «пи-и-ить!», «пи-и-ить!» Николай Николаевич почувствовал: немедля должен встать, спуститься на первый этаж, выйти в парк. Да что же это, господи?! Он истово перекрестился на угол, где висела его старая, походная икона. В этот момент, постучав, вошел адъютант.
— Где вы пропадали, Оболенский? — произнес мирно Николай Николаевич, надеясь, что с приходом адъютанта страхи и видения исчезнут.
— Ваше императорское высочество. Я стучусь уже в который раз! Полагал, вы отдыхаете. Может быть, заснули. Пришел князь Белопольский.
— Проси, проси же! — оживился великий князь, думая: «Вот кто поможет написать письмо Марии Федоровне». — Введи, — Николай Николаевич кивнул на стеклянную дверь, пояснил: — Лишние глаза мне не нужны сейчас.
Через минуту на зеленой площадке показался Вадим Николаевич. Но он ли это? Перед великим князем стоял худой, состарившийся бородатый господин, в великоватом ему, несколько подержанном костюме, с морщинистым лицом и руками, благоговейно прижимающими к груди соломенную шляпу. Николай Николаевич милостиво протянул руку, и князь Белопольский, склонившись, пожал ее с чувством глубокой благодарности.
— Куда вы исчезли, князь Белопольский?
— Все вояжировал, ваше императорское высочество, — с нескрываемой признательностью за прием и беседу, которой его удостаивали, ответил Белопольский: — Белград, София, Берлин. Имел искреннее стремление примкнуть к монархическому движению. Но мое прошлое, полное ошибок молодости... Его никто не забывает, к сожалению. И повсюду я как белая ворона.
— Да, да, это так, — наставительно произнес великий князь. — Поистине вы долго пребывали как путник, заблудший в пустыне. Как солдат, отбившийся от своего полка. Такое сразу не забывается.
— Справедливые слова. Мне возразить нечего, ваше высочество.
— Древний род, давший родине столько достойных имен, столько доблестных офицеров... Светлый человек, приближенный ко двору... Фу! Как это возможно?! Еще шаг в либеральном болоте... Да вы чуть не социал-демократом были готовы себя объявить! Связали имя свое с думцами, с самим Милюковым и его присными... Раскачивали вековые устои государства нашего, трон царский. И когда?! Когда весь русский народ боролся с врагом, не щадя и жизни своей.
— Вы правы, правы абсолютно. Но повинную голову и меч не сечет. Я перед вами, ваше высочество. Возьмите хоть и мою жизнь, располагайте мною полностью.
— Я — солдат, князь. И прошу простить мою резкость. Я не люблю перебежчиков, — Николай Николаевич сделал вид, что задумался, и сурово посмотрел на спутника.
— Вы вправе судить так, — совсем смешался Белопольский, понимая, что от нынешнего разговора целиком зависит его эмигрантское будущее. — У меня нет слов, нет оправданий. Только одна просьба — поверить в мою искренность, ваше высочество. Сама жизнь раскрыла глаза мои! Словно пелена с них упала, я проснулся зрячим и увидел подлинное место свое. Мой долг — служить лишь монархической идее. И я вернулся с повинной головой, готовый безропотно принять любую кару.
«А ведь он краснобай порядочный», — мелькнула мысль, и Николай Николаевич тут же подумал о том, что Белопольский, спасенный им, может стать верным, до своей жизни преданным ему слугой. Остановившись и грозно посмотрев сверху вниз, он будто смилостивился и сказал с некоторым даже пафосом:
— Вы правы, князь. Прочь сомнения, колебания. Ваше место тут. Я зову вас к борьбе — становитесь под мои знамена. Служите им верно и самоотверженно.
— Благодарю, благодарю вас, ваше высочество. Клянусь, я оправдаю ваши надежды, — осчастливленный Белопольский несколько раз поклонился и даже как-то странно шаркнул ногой, словно желая таким образом подкрепить свои клятвы.
— Если помыслами вашими ведает Бог, и он наставил вас, верю, вы сумеете стать на верный путь и очиститься от скверны. Вы человек нашего круга, вы были больны, не иначе. Эти думские кампании, якобинские злобные статьи и речи против государя... Что это, как не тяжелая болезнь?!
— Полностью согласен с вашим высочеством. Смею уверить, ваш диагноз подтверждается полностью. Ваше поразительное проникновение в суть явлений, в души человеческие... Они потрясают! Болезнь сжигала меня. Я был как безумный. Много лет я брел во мраке... Но тут... Ваши милостивые слова... Надежда, которую я получаю... Ваше благородство и порыв милосердного человеколюбия... рождают веру, что я могу еще возвратиться на путь истинный. Благодарю! О, как я вас благодарю!
— Хорошо, хорошо, — уже тяготясь этим говорливым господином, сказал Николай Николаевич. — Я принимаю вас в число своих сторонников. Тут вы имеете возможность показать все свои способности полностью.
— Этот час я не забуду! Вы спасли меня, ваше высочество. Я готов быть подле вас в любом качестве. Я — преданный слуга ваш!
— Рад... Весьма, — сказал хозяин Шуаньи, беря гостя под руку и ведя его по зеленой площадке. — У нас тут, знаете ли, новости.
— Наслышан, ваше императорское высочество. Поэтому и примчался с надеждой. — Он улыбнулся. Во рту у него зияла дыра — не хватало двух передних зубов, верхнего и нижнего.
— Благодарю, князь. Не сомневался, да-с. А у меня к вам дело. Нужно составить от моего имени два письма — вдовствующей императрице и Врангелю. Могли бы вы оказать мне содействие?
— Отдаю себя в полное распоряжение Вашего высочества. Я готов, разумеется, и сейчас.
— Тогда не будем терять ни минуты, — наставительно сказал Николай Николаевич, — прошу, князь...
4
Если царей нет долго, их привозят из других стран. Они штурмуют чужие столицы во главе своих армий. На худой конец их просто выдумывают.
Пока великие князья Николай и Кирилл собирали сторонников и дискутировали, кто вправе занять русский императорский престол, из небытия появилась первая претендентка. Впрочем, она появилась несколько раньше, но покровители не торопились «обнародовать» ее: ждали благоприятного момента, обрабатывали нужных людей — готовили почву. Надо было действовать беспроигрышно, наверняка. Ибо речь шла не только о власти, речь шла одновременно и об огромных деньгах династии Романовых, хранящихся в европейских и американских банках. Точная сумма вкладов неизвестна, скрыта. Но заинтересованные лица знали: игра, как говорится, стоила свеч...
На сцену выводится «чудом уцелевшая от гибели» великая княжна Анастасия Николаевна, дочь Николая II. Именно выводится, ибо следы ее обнаруживаются еще в конце февраля 1920 года...
Согласно документу берлинской полиции 17 февраля в восемь утра патрули извлекли молодую женщину из Ландверканала близ Бендлербрюкке. Она была одета в холщовую рубашку, черное платье и высокие сапоги. Обер-инспектор Гейнц Грюнеберг рапортовал об этом по начальству, известил и городские газеты. Два врача освидетельствовали неизвестную и, признав ее душевно-больной, поместили сначала в госпиталь «Элизабет», а затем в дом умалишенных в предместье берлина Дальдорфе.
Полтора года самоубийца пребывала в безвестности. Затем произошел эпизод, который и стал причиной дальнейших событий. Надзирательница больницы Вейц принесла в комнату, где лежала спасенная, немецкий журнал «Иллюстрирте цейтунг» от 23 октября 1921 года, на первой странице которого был напечатан портрет трех дочерей последнего русского императора, в том числе и великой княжны Анастасии. Там же, в статье под интригующим заголовком «Правда об убийстве царя», высказывалось предположение, что Анастасию спас от расстрела и вылечил от ранений какой-то крестьянин. Соседка по палате Мария Пойтерт обнаружила поразительное сходство той, что находилась рядом, с дочерью русского монарха.
Вскоре Пойтерт покидает дом умалишенных. Она является в русскую церковь. Во дворе встречает ее бывший ротмистр кирасирского полка Швабе, продающий листовки монархической организации «Двуглавый орел». Пойтерт сообщает ему о «царской дочери», которую уже много лет «прячут в больнице». Монархические круги крайне заинтересованы: «Анастасию» перевозят на квартиру некоего доктора Грюнберга. Ввиду опасности, которая может ей угрожать ежедневно, квартиру Грюнберга охраняет специальная группа из русских офицеров-монархистов. Начинается паломничество немецкой и русской аристократии. Вчерашняя самоубийца называет себя Анастасией, родившейся 18 июля 1901 года в Царском Селе, чудесным образом уцелевшей в Екатеринбурге и бежавшей с помощью некоего большевика Чайковского. Анастасию навещают генералы Людендорф и Гофман, бывшие кайзеровские министры фон Кюльман и фон Ягов, принцы из дома Гогенцоллернов, личные эмиссары английского короля Георга V, французского президента Пуанкаре, болгарского царя Бориса. Приезжает великая княгиня Ольга Александровна, баронесса Бусгевден — фрейлина двора, бывший царский камердинер Волков, небезызвестный Жильяр — учитель при наследнике, специальные посланцы Николая Николаевича и Кирилла Владимировича. Командующий рейхсвера
Лахузен приставляет к «Анастасии» сотрудницу абвера Ратлеф-Кайльман[23], выдающую себя за человека, увлеченного литературой и искусством.
Рассказы «Анастасии» постепенно обрастают подробностями: к ней будто бы возвращается память. Она заявляет, что уцелела, спрятавшись за спину сестры Татьяны, ее спас солдат из охраны Чайковский, с которым ей удалось бежать в Румынию. Там она вступила в брак со своим спасителем и 5 декабря 1918 года родила мальчика, крещенного по католическому обряду. В августе следующего года Чайковский был убит на улице Бухареста (еще одна тайна!). Боясь за свою жизнь, «Анастасия» старалась изменить внешность, носила на лице специальное приспособление, придававшее несколько иную форму носу и рту. При венчанье она назвала себя Анной Романской. Ее ребенок остался в Румынии у верных людей, адрес которых она назвать боится.
«Анастасию» забирает в свое поместье в Южной Германии принц Лейхтенбергский, бывший флигель-адъютант царя. Начинается новая серия интервью и аристократических приемов. «Княжна» вояжирует по курортам и дворцам, в ее честь устраиваются банкеты, цель которых поддержать претендентку на русский престол и не дать заглохнуть «уральской трагедии», используемой в антисоветских целях.
«Великая княжна Анастасия больна и совершенно не в состоянии рассказывать о царской семье и о том, что случилось с нею, — объясняет всем герцог Лейхтенбергский. — Однажды ночью в полусне она стала говорить о «дяде Мише» и княгине Брасовой, жене великого князя Михаила Александровича. На другой день ей показали фотографию, на которой была изображена квартира царской семьи. Она тотчас же все узнала, стала рассказывать о цвете материи на мебели, окраске ковров и обоев. Это и многое другое не оставляет сомнения в том, что перед нами подлинная Анастасия Николаевна».
В прессе множество сообщений: в судьбе «Анастасии» обещали принять участие великий князь Андрей Владимирович (брат Кирилла), великая княгиня Ксения Михайловна — ныне Ксения Лидс, жена американского мультимиллионера: а у бывшего жандармского генерала Спиридоновича после встречи с «Анастасией», как свидетельствовал французский журналист, «на глазах были слезы».
О признании царской дочери сообщили великие князья Александр Михайлович, Георгий, Константин и Мария Павловна, сын врача Глеб Боткин, который в детстве часто играл с Анастасией. «Анастасия», проходила курс срочной обработки. Ее учат царственному поведению, знакомят с альбомами фотографий императорской семьи и видами Петербурга, Царского Села, Петергофа. За всем этим видны руки опытных режиссеров.
Раздаются сравнительно робкие голоса противников «воскрешения». Великий князь Дмитрий Павлович заявил: «Он не знает, кто может скрываться под именем Анастасии Чайковской, но он не сомневается — это не дочь Николая II». Бывший русский поверенный в делах Саблин также утверждал, что не может быть и речи о спасении Анастасии Николаевны. Скептично настроены и русские монархические круги Лондона. Французский корреспондент «Пари миди» передавал из Москвы: большевики считают смешным известие о спасении Анастасии.
Наконец, с материалами собственного расследования дела выступает бывший товарищ председателя Петербургского окружного суда К. И. Савич. По своей инициативе два с половиной месяца он проводил тщательное расследование в Берлине: допрашивал множество людей, изучал документы, имевшиеся в полицей-президиуме, И он «счел общественным долгом своим разоблачить ту кампанию, которая ведется с целью ввести в заблуждение эмиграцию. Тщательная проверка дает мне право утверждать: женщина, числящаяся в актах полиции «неизвестной», ничего общего с великой княжной не имеет».
Савич рассказывает журналистам, каким образом он оказался причастным к делу «Анастасии»:
«...В период, когда я жил в Берлине, ко мне позвонил В. Коростовец, ранее служивший по ведомству иностранных дел, а в настоящее время причастный к английской и американской печати, и попросил меня приехать завтракать. Приехав к Коростовцу, я застал у него, кроме его супруги, бывшего украинского гетмана Скоропадского и известною хирурга, С.М.Руднева, которому принадлежал в Берлине так называемый «Момзен-санаторий». Руднев сообщил, что у него находится больная, судьба которой необычна. Это — дочь русского царя, чудом уцелевшая в екатеринбургской бойне, с огромными трудностями добравшаяся в Берлин и ныне пользующаяся уходом и лечением в его санатории[24]. На мой вопрос, какие имеются доказательства, Руднев убежденно заявил: первое: — у нее на теле несомненные следы штыковых ран; второе — зубы выбиты прикладом; третье — на животе следы порохового нагара от производства в упор выстрелов; четвертое — больную опознала княгиня Ольга Александровна. Что касается забывчивости больной, утери ею знания русского и английского языков — это объясняется нанесенной ей в голову раной. Несмотря на то, что следствием судебного следователя Соколова, по поручению адмирала Колчака был установлен факт убийства всех четырех дочерей императора... я не исключил возможного случая. В качестве председателя Союза бывших русских деятелей я и решил приступить к расследованию».
Далее К .И. Савич пересказывает уже известную «одиссею» царской дочери — от берлинской полиции, больницы и дома умалишенных до квартиры инспектора Грюнберга (отнюдь не доктора, — утверждает он), поместья Лейхтенбергского и «Момзен-санатория», где он впервые встретился с «Анастасией» и лично ее опрашивал. «Ни одно из данных мне доказательств не подтвердилось, — пишет К. И. Савич. — Штыковых ран на теле нет. Доктор Грефле удостоверил, что рубцы — результат хирургического вмешательства на почве туберкулезного процесса (ни одна из царских дочерей туберкулезом не страдала). Зубы Чайковской не были выбиты прикладом. Они были удалены берлинским дантистом Розенцвейгом по просьбе Чайковской. Дантист удостоверяет, что зубы у его пациентки были скверные, запломбированные плохим местечковым врачом. Таких пломб у царской дочери не было! Нагар на животе? Ведь царскую семью расстреливали в одежде... Да и патроны теперь из бездымного пороха. Рана на голове? На мой вопрос доктор Руднев уклончиво ответил, что рентгенизации она не подвергалась... Как я выяснил, никто из опознавших ее лиц не мог с достаточной точностью утверждать, что «неизвестная» — великая княжна Анастасия Николаевна. Если и шла речь о сходстве, то скорее с великой княжной Татьяной Николаевной... Одни из видных берлинских чиновников полицей-президиума, ознакомившись с ходом моего расследования, саркастически заметил: «Мы знаем, она не дочь императора. Ну что ж! У нас есть четырнадцать претендентов на престол. Пусть будет пятнадцать».
В 1928 году, правда, Анастасия Чайковская вновь «воскресла». Она ездила в США к госпоже Лидс (великой княжне Ксении Александровне). В газете «Теглихе Рундшау» с защитой прежней версии выступил герцог Лейхтенбергский, устроивший свидание «Анастасии» с великим князем Андреем Владимировичем, который «признал свою маленькую кузину и уполномочил герцога заявить об этом в печати». Другую версию разработал частный детектив Мартин Кнэп, который установил: под именем Анастасии Чайковской скрывается некая Франциска Шанцковская, позднее взявшая себе имя Анны Андерсон, — женщина без определенных занятий из семьи разорившегося фермера, появившаяся в Берлине в 19-летнем возрасте. Она работала ключницей в хозчасти главного полицейского управления, затем стала шифровальщицей, осведомителем на одном берлинском военном заводе, где случайный взрыв гранаты контузил ее, в она исчезла до... появления в Ландверканале[25].
В ЦЕНТР ОТ «0135»
«Манифест объявлен всенародно 31 августа.
Ему предшествовало заседание Земского собора кирилловцев. Основные организаторы: Бобринский, Мятлев, Бискупский, Граф. Журналист Снесарев потребовал встречи с Викторией Федоровной, спросил ее напрямик: «Какой манифест вы желаете иметь? В пользу сына или мужа?» — «хочу иметь второй». Собор проголосовал за Кирилла. Курьезное событие: через день в Кобург, куда перебрался монарх окончательно, явился местный губернатор (возможно, нацеленный кем-либо из «николаевцев») и потребовал расписку в том, что Кирилл не станет заниматься политикой в Баварии. Раскол среди монархистов достиг предела. Активизировался Николай Николаевич. При нем создан штаб или Верховный совет. Военной организацией будет руководить он сам. Политическую сторону берет на себя Коковцев. Беженские дела — Совет послов во главе с Бирсом. Сделано два заявления. Николай считает акт Кирилла «лишенным всякой законной силы, порочащим честь романовской семьи и преступным». Николай «принимает на себя руководство через главнокомандующего (соглашение с Врангелем достигнуто) как армией, так и всеми военными организациями». Кирилл объявил дядю вне закона, указав, что «приказы Николая Николаевича Романова имеют совершенно частный характер и относятся лишь к тем лицам и группировкам, которые не признают императорской власти и вообще монархического принципа». Издан сборник высочайших актов императора Кирилла I, где содержатся распоряжения по «гражданской части», «по военной части», «о Государственном Совещании». Заключает сборник текст присяги. Превращение в «Императора Кобургского» отпраздновано приемом верноподданных, торжественной присягой. Каждому жаловали следующий чин. Производятся назначения, увольнения, повышения. Однако Кирилл по-прежнему мало популярен в монархических кругах, среди офицерства, в среде Торгово-промышленного союза. Нужда в деньгах будет постоянно толкать его на всевозможные авантюры. Императрица-мать не торопится субсидировать нового императора. В ответ на письмо Николая объявила шаг Кирилла «преждевременным», от которого «у нее болезненно сжалось сердце».
Приказ Николая направлен Врангелю: «...Для полного объединения в моем лице всех военных я принимаю на себя руководство всеми военными организациями. Приказания военным частям мною будут отдаваться через главнокомандующего. Все начальники отделов, частей, военных учреждений, военных заведений, военных организаций, а также председатели офицерских союзов и объединений будут назначены мною лично. Приказываю главнокомандующему объявить настоящее распоряжение всем, кому принадлежит, к точному и неуклонному исполнению.
Великий князь Николай Николаевич.
16 ноября 1924 года. Шуаньи».
Краснов и Трепов имели аудиенции у фельдмаршала Гинденбурга. Немцы готовы сотрудничать при условии отказа от сотрудничества с французами. Коковцев доложил о слабых контактах с французскими монархистами. «Доктор» подтверждает наличие во Франции движения общественности к установлению дипломатических отношений с Советской Россией. Переговорам Давбор-Мусницкого с Треповым всячески препятствовал генерал Перемыкин, который связан с Дефензивой[26].
Долгое молчание Николай компенсирует всевозможными интервью, где излагает программу переустройства России: будет совершен государственный переворот, он — диктатор, при нем исполнительный орган — директория из шести человек. Далее — созыв сенатах совещательными функциями и созыв Земского собора из всех сословий, который призван избрать царя. Государственный переворот совершает офицерская организация (называется «Народная стража»), переброшенная в Россию на аэропланах и машинах в районы Москвы и Ленинграда. Отвлекающие удары наносятся на Кавказе и Дону. Быстрота должна обеспечить успех плана.
Кирилл готовится ко второму монархическому съезду. Выдвинут проект создания при «императоре» «Государственной думы». Проектом занимается комитет (князья Волконский, Крупенский, Шаховской). В комиссию по беженским делам входят граф Остен-Сакен, сенатор Корейво, граф Толстой-Милославский. В военную — генерал Романовский. полковник Дурново, каперанг Граф. Денежной частью заведуют граф Бобринский и полковник Шавров. Идут разговоры о поездке Виктории о Америку с целью получения субсидий. Контрагент пока неизвестен. Брат Кирилла Андрей удостоился монаршей милости: его жене, балерине Кшесинской, пожалован титул «графини Красинской».
Изоляция Врангеля от армии «николаевцами» и выдвижение Кутепова активно продолжаются. Офицерский союз преобразуется в новую боевую организацию армейской эмиграции. Главком неоднократно подчеркивает, что его место в Париже, куда перемещается центр всех антибольшевистских сил. Признание Советской России Францией окончательно подорвет позиции и престиж белогвардейской клики, затруднит работу военной организации. Признание Англией уже нанесло удар антисоветским силам, усилило террористическую деятельность эмигрантской контрреволюции. По замыслу Врангеля новый союз — армия, разбросанная по разным странам, возглавляемая единым командованием под вывеской гражданского объединения, — организация чисто военная. В готовящемся уставе говорится: «Сущность положения о РОВСе[27] заключается в том, что с русской армией объединились в составе этого Союза все те воинские организации, которые желали быть с нею в связи. Этим организациям сохранены их названия, порядок внутреннего управления и самостоятельность во внутренней жизни». Во главе Ревсоюза стал главнокомандующий Врангель — Кутепов держат все нити новой организации. У них списки, знамена, деньги. Генерал Миллер от имени главкома заявил: «Существование Союза есть факт не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня».
«Кирилловским» генералом Болотовым в Белграде сделана попытка организации офицерского союза под лозунгом «Вера, Царь, Отечество». Приказом № 82 Врангель вновь запретил офицерам принимать участие в политических организациях. На совещании старших офицеров, вызванных в Белград, Врангель заявил: «Борьба за родину не кончена, и, вставая по призыву царя, русская армия, ныне в изгнании, в черном труде, как некогда на поле брани, отстаивает честь России. Пока не кончена эта борьба, пока нет верховной русской власти, только смерть может освободить русского воина от выполнения долга. Этот долг для меня, стоящего во главе остатков русской армии, — собрать и сохранить русское воинство за рубежом России. ...Мы, старые офицеры, служившие при русском императоре в дни славы и мощи России, мы, пережившие ее позор и унижение, не можем допустить, чтобы, прикрываясь словами «Вера», «Царь», «Отечество», офицеров вовлекали в политическую борьбу».
«Вестник Высшего монархического совета», подводя итог, оставил последнее слово за собой, объявив, что приказы Врангеля не могут касаться монархистов, ибо русский монархизм не политическая партия, а широкое, народное движение.
Считаю, рождается крепкая военная организация, сохраняющая наиболее боеспособные кадры русской армии. 1 сентября Российской общевоинский союз признан официально созданным. Руководство РОВСом принял Николай Николаевич.
Прошу инструкций на случай переезда Врангеля в Париж.
0135».
Надпись на информации:
«Судя по сообщениям из европейских стран, эта военная организация весьма многочисленная, состоящая из людей профессионально обученных, действительно станет сильным и опасным оружием против Советской Республики. Вероятней всего, руководителем РОВСа в скором времени станет Кутепов. В настоящее время живет в Париже с женой, малолетним сыном и денщиком на улице Дюрбиго. Имеет еще одну конспиративную квартиру в 12-м городском округе «для работы», ибо, как заявил одному интервьюеру, «время вооруженной борьбы с большевиками впереди. Пять отделов РОВСа дислоцируются во Франции, Германии, Чехословакии, Польше, Югославии. Генерал Добровольских возглавляет отдел в Финляндии, полковник фон лампе — в Венгрии. Отделения имеются в Персии и на Дальнем Востоке».
Резолюция на информации:
«Необходимо усилить постоянное наблюдение.
Менжинский».
Глава шестая. КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ
1
Приезжая в Париж, Венделовский никогда не останавливался дважды в одном отеле. Ах, как он любил этот городок, прелестный в любое время года, в любое время дня! И как редко мог позволить себе появляться здесь, а тем более задерживаться. Впрочем, в последнее время, когда Врангель изо всех сил старался не впасть в немилость у великого князя Николая Николаевича, количество поездок дипкурьера через Париж, в Шуаньи, значительно увеличилось. Гостиница не должна была быть ни слишком бедной, ни слишком роскошной. Всего на одну ночь. Только на одну ночь. Рано поутру постоялец съезжал.
Венделовский не жаждал встреч со своими «земляками». Он старался не посещать ни район Пасси — центр обнищавшей эмиграции, ни авеню Ваграм и Мак-Маго и близ пляс Этуаль. Его не привлекали рестораны. Обходил он стороной и православный собор Александра Невского на рю Дарю, где в большом дворе — точно так же, как недавно в посольском доме, в Константинополе, — вечно толпились сотни орущих и жестикулирующих людей, по-прежнему не понимающих, что произошло с ними, потерявших все и ставших никем в чужом огромном городе, в чужой и чуждой им стране. Даже книжный магазин Сияльского («Всегда в продаже литературные новинки и наборы художественных и пасхальных открыток!») не привлекал его из-за боязни наткнуться на кого-то из крымских или константинопольских знакомых. Венделовский старался скрывать, что он русский. Его французский язык не вызывал сомнений.
...От Сены поднимался голубоватый туман, по утрам на набережной пищали крысы. Букинисты и художники с умело скрытым презрением поджидали случайных покупателей. Венделовский бродил по «своему» Парижу. Он поднимался на Монмартровский холм по крутым, узким, извивающимся улочкам, по лестницам с железными перилами, мимо одноэтажных домов с зелеными палисадниками, балконами, полными цветов и виноградной лозы, закрывающей стены и даже черепичные крыши. Здесь смешивались в пеструю ватагу, в шумную гурьбу проститутки и сутенеры; художники, пристроившиеся с мольбертами в самых неудобных местах; богомольцы, чинно поднимающиеся к подножию белокаменной чудо-церкви Секрс-Кёр; торговцы поделками, талисманами и фальшивыми кораллами; туристы из разных стран, стремящиеся посмотреть на город сверху. Иногда Альберт Николаевич завершал прогулку на Монпарнасе, где пересекались бульвары Распай и Монпарнас и была столица духа Парижа. А сердец у города было три: площадь Конкорд, собор Нотр-Дам и район l’avenue de l’Oрега. Как-то забрел он на кладбище Пер-Лашез. На скамейках с вязанием сидели старушки. Дети играли между фамильными склепами. К Венделовскому внезапно подошел пожилой, интеллигентного вида человек в хорошем пальто с плюшевым воротником и мягкой фетровой шляпе, поинтересовался: правда ли, что здесь можно заранее купить в вечное пользование четыре квадратных метра? Человек не внушал опасений. Лицо открытое. Встреча явно случайная... «Думаю, можно, — беспечно сказал Венделовский. — Но не дешево: соседи по вечности именитые». — «Браво!» — улыбнулся прохожий, и они расстались.
Венделовский знакомился с Парижем: ему предстояло здесь работать.
Бывали дни, когда назначалась встреча с «Доктором». Тогда его прогулки приобретали лишь одну цель: проверить, что за ним нет «хвоста», запутать, сбить с пути самого опытного шпика, уметь улизнуть при любой ситуации. И только убедившись, что позади «все чисто», следовало идти к «Доктору». Встречи были уже не столь часты: коллеги встречались в заранее условленных местах, прибегая при крайней нужде либо к телефону, либо к посыльному. Инициатива всегда принадлежала Венделовскому, ибо он никогда не мог достаточно четко определить время своего появления в Париже.
«Доктор» владел антикварным салоном в двух больших комнатах с зеркальными витринами на первом этаже четырехэтажного доходного дома на авеню Мак-Магон, неподалеку от площади Звезды. Роллан Шаброль был близок к деловым парижским кругам, занимался оптовой продажей ковров, представляя во Франции турецкую фирму «Сулейман Гамидов, Клермон и сын». Деловые люди, знавшие его по Константинополю, находили, что он по-прежнему, как всегда, подтянут, элегантен, а его красивое оливковое лицо неизменно излучает радушие. Вот только пробор на смоляных волосах исчез, — стал зачесывать волосы назад, открывая высокий лоб, очки в роговой оправе появились, придающие коммерсанту выражение солидности, веса, самоуверенности. И название фирмы изменилось. Главой, судя по всему, стал какой-то турок, оттеснивший Клермона с сыном. Но мало ли как складываются торговые дела! Турция стала независимой, дельцы обогащаются быстро: производители у них и главный рынок у них. Кемаль Ататюрк, отвоевав страну, серьезно занялся экономикой. И Роллан Шаброль в каждом разговоре с постоянными покупателями подчеркивал: конъюнктура нынче другая, от пестрых ковров у него в глазах рябит, глаза испортил, пришлось и очки заказывать, а главное дело сейчас — антиквариат. И полюбившееся ему коллекционирование. Собирает для себя датский и севрский фарфор. За любой статуэткой готов по всей Франции ездить. Ни одной распродажи не пропускает. Шаброль не скрывал: главные поставщики салона — русские аристократы, главные покупатели — американцы, нахлынувшие в Европу и готовые приобретать все, что продается, даже родовые средневековые замки, которые они по камушку тащат к себе за океан. Вещи в его «салоне» были расставлены и развешаны со вкусом: иконы в серебряных окладах, старинные гравюры, серебряные ковши и братины, самовары, золотые табакерки, резьба по дереву, бронза, малахит и эмаль, вологодские кружева и вышивки, оренбургские пуховые платки, русские пейзажи — все это выдавалось за реликвии, принадлежавшие знатнейшим семьям России. Торговал Шаброль и мебелью (все гарнитуры не позже середины прошлого века, разумеется); часами малыми и большими, напольными; экзотическими изделиями из кости, кожи, дерева, вывезенными из колоний; охотничьими ружьями; входившими в моду фотоаппаратами; орденами и знаками отличия.
В салоне Шабролю в качестве эксперта помогала мадам Пино — интеллигентного вида плоскогрудая, ширококостная женщина неопределенного возраста. Мадам свободно говорила на трех языках, любила только свою работу, легко отличала подлинник от копии или подделки. За телефонным аппаратом у витрины сидела очаровательная мадемаузель Натали, темноволосая, сероглазая, с тонкой до умопомрачения талией, широкими бедрами и высокой грудью — точно с рекламного объявления «Matin». Глупа как пробка. «За красоту и держу, — говорил покупателям Шаброль. — Натали привлекает клиентов и приносит мне счастье...»
Венделовский поинтересовался, может ли он доверительно обращаться к мадам или мадемуазель в случае отсутствия хозяина. Шаброль рассердился: «Как ты мог подумать?! Разведчик! Мадам вне игры, а с этой куклой как приманкой еще работать и работать».
Шаброль снимал квартиру на втором этаже, над «салоном». Квартиры сообщались железной винтовой лестницей, ведущей из темной кладовки на кухню. При желании лестница легко маскировалась и снизу, и наверху. Жил антиквар скромно: маленький кабинет при спальне, столовая, которую украшали стеллажи (за стеклами их красовались севрские илатские статуэтки), кухня, имевшая выход в темную прихожую и на лестницу, позволяющую спуститься в неширокий переулок. Квартира была выбрана и оборудована по всем правилам конспирации. Альберту Николаевичу была представлена Иветта Бюсси, приходящая служанка, в обязанности которой входили ежедневная уборка квартиры, покупка продуктов и приготовление завтрака и ужина (с семи до девяти вечера хозяин, как истый француз, обедал в ресторане). Иветта Бюсси — сорокалетняя, с непривлекательным лицом «из толпы», на котором выделялись лишь широкие скифские скулы, и была помощником Шаброля, его связью, его ушами и глазами...
Ох и смеялся Роллан: «Ты не дурак — из трех женщин выбрал для сотрудничества Натали! Надежное прикрытие! С такой один раз где угодно покажешься — и все, «засветка» без сомнения». Альберт Николаевич поинтересовался, откуда она взялась. Шаброль, не распространяясь, ответил, что оказал Натали довольно серьезную помощь, избавив от неприятностей с полицией, — она оказалась замешанной в некрасивой истории еще в Константинополе. Шаброль объявил ее дальней родственницей, «выкупил» в союзнической комендатуре, перевез в Париж, взял к себе на работу. Натали бесспорно предана ему и из благодарности готова на любую услугу. Пока она не нужна, но кто от чего застрахован? Может, окажется необходимой. Натали, как он заметил, уже успела приворожить одного покупателя. С военной выправкой и тугим кошельком. Зачастил, через день обязательно появляется. Покупки, правда, пустяковые, но отношения у них начинают складываться, он демонстрирует полное преклонение перед ее красотой. Не иначе, хочет любовницей сделать. По справкам, которые Шабролю удалось навести, ухажер — человек весьма интересный, со связями, широкими знакомствами. Может, и пригодится, хотя сейчас в нем нужды нет. Надо «законсервировать», глаз не спускать. Искусство шпионов в том и состоит, чтобы всегда иметь нужного человека под рукой, чтобы иметь возможность пустить его в дело...
Каждая их встреча на авеню Мак-Магон диктовалась делом, которому они служили. Обмен информацией, передача материалов в Центр, проверка их и перепроверка каналов связи, смена кодовых трафаретов, страховка, встреча и проводы посланцев из России. При всей ценности информации, которой располагал Венделовский-дипкурьер, связь во время его разъездов оставалась узким местом. Ему приходилось передавать материалы через «Цветкова» либо через «Доктора», иногда используя и другие каналы — через специальных курьеров, встреча с которыми была каждый раз довольно рискованной. Минутная задержка, непредвиденное обстоятельство, пустяковая авария мотора — да бог знает еще что! — и из-за нескольких выпавших, искрошившихся кирпичей летит в тартарары с таким трудом и самоотвержением возведенное здание.
Работать становилось все труднее. Рождались всевозможные антисоветские блоки, организовывались пакты, подписывались тайные соглашения. Дух политического диалога, с трудом установленный в Генуе, был предан забвению. Советской России вновь угрожали интервенцией. Начало широкой вражеской кампании было положено ультиматумом Керзона — шагом дипломатическим, с целью расшатать укрепившееся международное положение России. И тут же — вооруженные полицейские акции: валет на торговую миссию в Лондоне, погромы советских представительств в Пекине и Шанхае, разрывы дипломатических отношений. Общие стремления империалистов не допустить Советскую Россию на конференцию в Лозанне.
И вот — убийство Воровского
2
... Конференция в Лозанне работала трудно. «Приглашающие державы» (Англия, Франция, Италия), обращаясь к представителям Японии, Греции, Румынии, Югославии и Турции, заявляли: на Востоке наступил окончательный мир. Кемалистская Турция, выигравшая войну у англичан и греков, настаивала на отмене режима капитуляции! Империалистические державы' пытались сломить Турцию. Россию приглашать на конференцию не хотели. Но под давлением общественного мнения пришлось объявить, что советскую делегацию пригласят лишь на период обсуждения вопроса о черноморских проливах. Первым в Лозанну прибыл Воровский. Следом, уже после открытия конференции, — советская делегация во главе с Чичериным. Она решительно выступила за суверенитет проливов, подчеркивая экономическое и стратегическое значение их для России, требовала закрытия для военных кораблей и полной свободы для торгового мореплавания. Турция, испытывая давление Англии и Франции, отказалась от поддержки советских предложений. Проект по проливам был передан совещанию экспертов, куда советские представители допущены не были.
В конце января Керзон, от имени союзников, вручил Турции текст договора с ультимативным требованием подписать его в четырехдневный срок, иначе переговоры будут прекращены. Турция отвергла ультиматум. Англичане тут же покинули Лозанну, следом — другие делегации. Перерыв продолжался два с половиной месяца. Это было время тайной дипломатии, активизации турецкой реакции и ответных действий Кемаля. Союзникам Турция представила контрпроект. Вынужденные вновь сесть за стол переговоров, империалисты решили во что бы то ни стало запретить советской делегации участие в работе. В ход пошли недипломатические приемы, предварительные ультимативные требования, угрозы. Газеты печатали клеветнические материалы. Почта приносила письма, в которых советских дипломатов предупреждали о физической расправе. Прибывший в Лозанну Воровский был незаконно лишен дипломатических привилегий и прав члена делегации. При полном невмешательстве швейцарских властей он ежедневно подвергался травле.
Вацлав Вацлавович писал в Москву: «...они просто решили отвергнуть мои доводы и не допустить нас на конференцию, о чем довели до сведения швейцарского правительства... Нас хотят выжить если не мытьем, так катаньем».
Продолжались «мелкие чудеса» в резиденции советского дипломата: внезапно то гас свет, то отключалась подача воды. Возле отеля «Сесиль» было замечено частое появление группы лиц, которые били стекла, кричали по-русски: «Убирайтесь, пока целы!» Почта, адресованная Воровскому, тщательно просматривалась. За советскими дипломатами велась открытая слежка. Правительство Швейцарии прекратило официальные отношения с советской делегацией, не принимая мер к ее охране. Тотчас выступила белая эмиграция. Шестого мая группа хулиганов ворвалась в приемную резиденции и потребовала встречи с Воровским. Специальный корреспондент РОСТА Аренс не без труда выдворил их. Кто-то крикнул: «Мы силой заставим вас уехать!» Полицейских на посту не было.
«За этими хулиганящими мальчишками слишком ясно чувствуется чужая сознательная рука, возможно даже иностранная, — писал Воровский через Берлин Чичерину девятого мая. — Швейцарское правительство, хорошо об этом осведомленное, ибо все газеты полны этим, должно нести ответственность за нашу неприкосновенность».
Учитывая обстановку. Советское правительство девятого мая отдало распоряжение Воровскому покинуть Швейцарию. Вацлав Вацлавович, не получив его вовремя, считал, что присутствие в Лозанне советского представителя необходимо для дела.
...Как выяснилось на суде, бывший капитан врангелевской армии, близкий родственник российского шоколадного фабриканта, Морис Конради появился в Лозанне утром десятого мая. Сняв номер в отеле «Европа», он узнал, что русские дипломаты завтракают, обедают и ужинают там, где живут, — в отеле «Сесиль». Около восьми вечера, зарядив браунинг, он занял столик в ресторане «Сесиль» и заказал коньяк. Попросив метрдотеля принести какой-нибудь свежий иллюстрированный журнал и вступив с ним в разговор, назвал себя майором французской армии. Делая вид, что с интересом просматривает фотографии, он все время поглядывал на входную дверь. В этот момент в зале появились Воровский и Жан Аренс, заняли столик у окна. Вскоре к ним подошел секретарь полпредства Иван Дивильковский, принесший вечерние газеты. Они сделали заказ. Дивильковский и Аренс разговаривали. Воровский молча смотрел в окно.
Официант принес ужин. Свет в зале почему-то не зажигали. Сухопарый Конради, беседуя с метрдотелем, вновь и вновь заказывал коньяк, продолжал наблюдать за советскими дипломатами. Зал ресторана пустел, но музыканты за пальмами продолжали играть. По соседству с рестораном, в бильярдной, слышались голоса игроков и хлесткий звук шаров.
В четверть десятого Конради решительно отложил журнал и встал. Метрдотель подумал, что французскому майору необходимо выйти — позвонить по телефону, возможно, он не мог уйти, не расплатившись. Конради быстро подошел к Воровскому, доставая из бокового кармана пиджака браунинг. Остановившись за спиной Вацлава Вацлавовича, он выстрелил ему в голову, заорав: «Вот вам, коммунисты!» Иван Дивильковский кинулся на убийцу, но тут прозвучало еще пять выстрелов — два в Дивильковского и три в Арсена, который с трудом, но все же вынул из кармана револьвер, однако выстрелить был уже не в силах.
Убийца пытался перезарядить браунинг, но метрдотель потребовал немедленной сдачи оружия. Конради бросил браунинг на ковер. Сел, закинув ногу на ногу, крикнул: «Вызывайте полицию! Я подожду!» Испитое лицо его выражало крайнюю степень отупения. И тут же сорвался со стула, кинулся к оркестру, схватил испуганного дирижера за руки, приказал: «Траурный марш! Траурный марш по большевикам! — и вновь заорал: — Я — Вильгельм Телль. Я спасаю человечество от большевиков!» У него был вид явно помешавшегося.
В луже крови лежал мертвый Воровский.
НОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР ПРАВИТЕЛЬСТВУ ШВЕЙЦАРИИ
От 16 мая 1923 года
(передано по телеграфу от имени Чичерина)
«...Из последних сообщений безвременно погибшего В. В. Воровского с полной несомненностью явствует, что швейцарскими властями ни в малейшей мере не были приняты элементарные меры предосторожности для охраны российского делегата и его сотрудников, несмотря на то, что со стороны некоторых преступных элементов Швейцарии раздавались по их адресу угрозы. Делегации из представителей этих элементов удалось даже проникнуть к российскому делегату с явно враждебными намерениями. Хотя эти факты были известны швейцарским властям, последние оставили российского делегата и его сотрудников беззащитными... Правительство РСФСР выражает уверенность, что будет проведено строжайшее расследование... что Правительство Швейцарии не уклонится от своего международного долга дать полное и всемерное удовлетворение России. И не замедлит с ответом».
Правительство Швейцарии неуклюже попыталось оправдаться и уйти от ответа. 8 июня была передана вторая нота правительства РСФСР, не признающая удовлетворительным ответ Швейцарии. Российское правительство серьезнейшим образом предостерегало швейцарское правительство от последствий его не поддающегося квалификации поведения и оставило за собой право на получение полного удовлетворения.
Двадцатого июня 1923 года ВЦИК и СНК приняли «Декрет о бойкоте Швейцарии».
Пятого ноября в кантоне Во, в зале казино, начался суд над Конради. Огромная толпа белогвардейцев и фашистов, составлявшая большинство публики, всячески мешала разбирательству дела. Прокурор Капт, неожиданно для присяжных, принялся защищать убийцу. Адвокаты обвиняли во всем русскую революцию и квалифицировали действия своего подзащитного как «справедливую личную месть».
Впрочем, и на этом импровизированном спектакле произошла сенсация: в качестве свидетеля первым был допрошен генерал Достовалов, начштаба генерала Кутепова и командир Конради, который неожиданно для всех обвинил армию Врангеля в терроре и грабежах.
Такого, пожалуй, белая эмиграция не переживала со времен бегства из Константинополя генерала Слащева. Врангелевцы вспомнили: еще в начале года в газете «Голос России» появилась статья генералов Достовалова и Лазарева о врангелевском терроре на Балканах, гае рассыпалось о кошмарных условиях, царивших в беженском лагере в Салониках: голоде, бесправии, малярии. произволе комендантов, о команде опричников из казаков, верой и правдой служивших за паек и жалованье; о запрещении собраний, чтения газет. Вечно пьяный лагерный полицмейстер Алпатов останавливал каждого встречного и заставлял петь «Боже, царя храни». Был составлен список неблагонадежных, в котором оказались генералы Достовалов, Лазарев, полковники Генштаба Александров и Старосельский, сибирский промышленник Кубрин и многие другие. По подозрению в большевистской пропаганде в тюрьмы были посажены Достовалов; Лазарев, Кубрин, поручик Лебедев. Достовалову объявили, что его сошлют на один из греческих островов для ломки мрамора, и только вмешательство командующего войсками в Македонии спасло его от каторжных работ. Представитель Врангеля в Афинах потребовал от обоих генералов расписку в том, что они «обязуются никогда не заниматься большевистской или какой-либо иной пропагандой». Генералы ответили на шантаж обращением в газету «Накануне». В конце концов Достовалов и Лазарев были освобождены. Представитель Лиги Наций помог им получить визы для въезда в Германию через Италию.
Генерал Достовалов перешел в наступление и бросил вызов самому Врангелю. Достовалов писал: «После уничтожения остатков армии его последние, оплачиваемые им сотрудники превратились просто в шайку разбойников, пускающих и ход всякое оружие от клеветы до ножа включительно против тех. кто не желает подчиниться их указке... Никакой врангелевской армии или штаба Врангеля в действительности не существует. Осталась озлобленная кучка бандитов, не способных ни к какой созидательной работе, догнивающая на Балканах, отравляющая воздух Греции и Сербии, существующая только потому, что враги России не теряют надежды воспользоваться их услугами в тот час, когда они вновь захотят залить кровью Россию...»
Вслед за ним, со статьей «Жертвенный подвиг (Правда о Галлиполи)» выступил генерал Лазарев, обвинивший в поддержании обстановки террора, царящей в корпусе, генерала Кутепова.
Следованию принимать меры: обиженных нельзя было уже ни закупить, ни запугать. Оставалось либо устранить обоих, либо опорочить. Следовало поискать в прошлом Достовалова и Лазарева компрометирующие материалы. В штабе Врангеля поручили, помнится, кому-то глубокую проверку и забыли, вероятно. И вот дождались! Появилась новая статья генерала Достовалова — «Охотники за черепами». Тут уж все было описано подробно и обстоятельно: провоцирование кемалистов; заговор против Франции (ликвидация французского гарнизона в Галлиполи, захват вооружения, снаряжения и лошадей, движение походным порядком на Андрианополь и далее — в Болгарию); проект захвата Константинополя (атака в тыл английскому и французскому гарнизону, чтобы сковать их и дать простор действиям галлиполийского корпуса и казачьих частей с островов); «Варфоломеевская ночь» в городе — по рекомендации Кутепова и с согласия Врангеля (французы заблаговременно узнали об этой авантюре, приняли меры, и пригрозили Врангелю); заговор в Болгарии; разработка авантюр в Сербии. Достовалов не побоялся сказать, кто эти «истинно русские люди», выступающие от имени эмиграции: Врангель, Кутепов, Миллер, Штейфон, силой и гнетом навязывающие свою. идеологию офицерству, старающиеся сколотить отряды карателей и бросить их в пекло новой авантюры.
Статья генералов произвели огромное впечатление и вызвали отклики в эмигрантской прессе: словно эхо прокатилось по газетным полосам. Многие не верили в искренность «прозрения». Считали, генералы льют воду на мельницу противников главнокомандующего, пытающихся опорочить и сместить его. Но снова и снова выплывали детали распродаж Ссудной казны, кораблей Черноморского флота, словно кто-то дирижировал антиврангелевской кампанией.
Врангель, считавший, что благодетельствовать следует в первую очередь врагам — друзья останутся друзьями, пожинал плоды старого своего заблуждения. Он остался один. И даже великий князь Николай, к ногам которого он положил армию, не торопится к нему на помощь: Врангель был просто генерал — один из многих других.
Но Врангель не сдается. Он предпринимает объезд частей, кадетских корпусов, юнкерских училищ, расположенных на Балканах. Он выслушивает традиционные приветственные речи, принимает цветы и самодельные подношения, выступает сам, призывая верных сторонников постоянно быть на страже и зорко следить за врагами русской армии. О генералах и их статьях — ни слова, будто таких никогда не существовало.
Против своего подчиненного с опозданием выступает и Кутепов. Он заявляет: Достовалов повинен в исчезновении ценностей из сейфов в Симферопольском государственном банке на сумму более ста миллионов рублей. Во время эвакуации из Крыма по прибытии в Галлиполи им начато было расследование, однако дело по распоряжению Врангеля было прекращено «во избежание скандала, неудобного по условиям времени». Опять вина перекладывается им на главкома.
В ЦЕНТР ИЗ СОФИИ ОТ «ЦВЕТКОВА»
«В сентябре компартия и земледельцы вновь попытались объединить силы, подняли восстание. Две недели народ сражался против фашизма. Правительство Цанкова вынуждено было привлечь на помощь русских белогвардейцев. В Видинском округе кутеповцами командовал генерал Курбатов. В районе Тырново жестокостью отличилась рота капитана Романова. Русские воинские подразделения участвовали в подавлении восстания в окрестностях Софии, Варны, Пловдива, Старой Загоры. Кутеповцы считают акцию своим реваншемг». Начальник группы в Старой Загоре доносит, что «отдал приказ раздать оружие и цивильным русским на случай гражданской войны...»
Тридцатого сентября было сообщено о подавлении восстания. Более двух тысяч убито, многие ранены, пять тысяч взято в плен, брошено в тюрьмы. Часть эмигрировала. Гражданская война окончилась поражением. Убит видный деятель компартии Панайот Цвикев. В Праге наемным убийцей Цицонкоковым застрелен Райко Даскалов. Репрессии продолжаются повсеместно. Правительство объявило, что захвачен «циркуляр Коминтерна», в котором говорится, что революция была спланирована Москвой. Ее начинала общая забастовка железных дорог, почт и телеграфа» Земледельцы должны были исполнить договор, заключенный в Генуе Раковским и Стамболийским, подразумевающий совместное выступление с коммунистами и захват власти. В полицейских кругах есть сведения, что вожди компартии Болгарии Георгий Димитров (под именем подрядчика Строянова) и Василий Коларов (инженер Канбарджиев) бежали в Сербию.
Приказ Врангеля рекомендует шефу русских белогвардейцев генералу Абрамову «дальнейшее улаживание отношений с болгарским правительством». Предписывается произвести перерегистрацию и проверку «основного ядра» врангелевцев — из числа воинских контингентов на Балканах. Кутеповский корпус тает. В Донском корпусе осталось 602 офицера, 1843 бойцов и 113 чиновников.
Правительство решило ликвидировать «Совнарод» и миссию Красного Креста, что вызвало недовольство Нансеновского комитета и желающих репатриироваться. После убийства Шелепугина полиция совершила нападение на софийское отделение миссии. Арестованы сотрудники бюро «Совнарода» в Варне, Габрово, Русе. Предпринята попытка репатриации без документов на корабле «Игнатий Сергеев» (700 человек. Не исключаю засыл в этой партии и контрреволюционеров с диверсионными и шпионскими целями). Здания миссии Красного Креста и «Совнарода» опечатаны. Назначена комиссия во главе с градоначальником Г. Кисьовым, поручено изучить архивы, «найти компрометирующие данные», подтвердить правильность своих действий для успокоения мирового общественного мнения. Ничего компрометирующего не найдено. Фашистские власти разрешили создание в Пловдиве новой черносотенной организации по работе среди реакционной эмиграции — «Карай, братушка», призванной способствовать делу •нового сближения болгар и русских».
Выезжаю в Вену — Белград. Необходим очередной контакт с «0135», координация действий дальнейшей помощи Достовалову, Добровольскому[28].
Цветков».
...И вот, наконец, судят убийц Воровского.
Первым дает показания командир Конради Е. Достовалов.
Его допрашивают с пристрастием, под угрожающие крики и шум зала, набитого бывшими его подчиненными. Достовалов бесстрашно заявляет: «Об офицере Полунине давно ходили слухи, что он занимается противобольшевистской контрразведкой. Конради — безвольный человек, простой исполнитель, раб отживших идей, мнящий себя сильной личностью... Советы решили освободить Россию от вторжения иностранцев. Представителями патриотической идеи в России являются ныне не сторонники белой эмиграции, а большевики. Русские монархисты имеют ничтожное количество сторонников».
Показания давал и генерал Добровольский, живущий в Берлине. Характеризуя главнокомандующего, он, понимая, что подобное высказывание может быть для него опасным, даже смертельно опасным, говорит: «Врангель всегда был откровенным авантюристом, преследовавшим не благо России, а свои личные цели. Террор белой армии был гораздо хуже ответного красного террора. Я — старый монархист, не социалист, не большевик и тем не менее ищу лишь момента, когда смогу вернуться на родину... Во всех столицах Врангель содержит агентов. Существует организация бывших офицеров-врангелевцев, получающих средства от монархистов и отчасти от иностранных правительств...»
Защита кинулась дезавуировать показания генералов. Добровольский был объявлен немецким шпионом. Против Достовалова судейские применили ставший уже старым прием: на заседании были оглашены заявления двух офицеров, в которых упоминалось «известное ограбление» Симферопольского банка и казначейства, массовый расстрел пленных латышей. Звучало это все не очень убедительно. Да и фамилии офицеров, выступивших с разоблачениями, показались всем явно вымышленными. Для того чтобы окончательно опорочить в глазах присяжных Достовалова и Добровольского, в суд по предложению защиты вызвали некоего генерала Клевера. Состоялась очная ставка. Клейтер вел себя безобразно: шумел, оскорблял своих бывших комбатантов, называл их изменниками родины, которых следует предать суду военного трибунала. Достовалов ответил, что Клейтер — клеветник и что ему следовало бы набить физиономию. Добровольский поддержал товарища: за клевету в армии принято расплачиваться кровью. Опять вышел спор, перебранка. Присяжные не могли разобраться в том, что происходит на этом странном суде, где русские генералы оскорбляют друг друга, как портовые грузчики, прокурор требует освобождения убийцы, адвокаты говорят не о подзащитных, а всячески порочат свидетелей и нападают на неизвестные им законы Советской России. При голосовании пять присяжных ответили: Конради не виновен, четверо — утвердительно. По уголовному Уложению кантона Во для осуждения судимого необходимо было иметь две трети голосов. Суд вынес оправдательный приговор.
Морис Конради, чувствующий себя героем, вышел на свободу и немедленно удостоился чести быть приглашенным в охрану Николая Николаевича...
3
— Плохо их дело, если даже генералы прозревают, — сказал Венделовский, отложив газету.
— Жаль, что подобные метаморфозы не происходят в каждом эмигранте, — отозвался Шаброль.
Снова необходимость свела их вместе на улице Мак-Магон. Был слякотный февральский вечер. Мелкий дождь сеял с утра, затушевывал дома и деревья зыбкой фиолетовой пеленой. Роллан уже имел новые инструкции «Центра» для «0135», но не торопился. Захотелось за многие месяцы посидеть за чашкой кофе, поговорить откровенно о чем угодно со своим человеком. Ему трудней, чем французскому коммерсанту с состоятельной клиентурой: он всегда среди ярых антисоветчиков. «Позднее подумаем и все обсудим», — подумал Шаброль.
— Ехал я в Париж, — улыбнулся чему-то своему Альберт Николаевич. — И представьте, сосед — пожилой француз — во мне русского распознал. Не часто такое бывает. Прелюбопытный тип. И беседа получилась прелюбопытной: характеризует отношение рантье к русским эмигрантам.
— Русские свалились во все страны как снег на голову, а французы такого не любят. И мириться с этим не хотят. Для них все другие — sales etrangers, поганые иностранцы. Я имею в виду определенные круги населения: лавочники, чиновники, мещане — мелкая, средняя, да и крупная буржуазия.
— Послушайте, что говорил старик. Вы, русские, непонятный народ, с полным отсутствием стремления к ассимиляции. Отчего? От гордости? Откуда у метеков[29] гордость? Почему вы все такие странные? Почему, зарабатывая в месяц четыреста франков, вы проживаете восемьсот? При встречах вы кричите, размахиваете руками, не обращая внимания на окружающих; шляетесь друг к другу ежедневно в гости без всякого повода, тогда как нормальные люди делают это два-три раза в год? Почему спорите без конца о том, что было и что будет, и не интересуетесь тем, что происходит сейчас? Почему каждый день едите свои каши, борщи и кисели, завтракаете и обедаете когда придется, в то время когда все нормальные люди садятся завтракать в двенадцать тридцать, а обедать — в половине восьмого? Почему? Что возразишь?
— А зачем возражать? — лениво, в растяжку, проговорил Шаброль.
— Думаете, подсадная утка? Исключается!
— Верю вашему опыту. Но разве вы способны переубедить его? Я знаю таких французов. В Константинополе их звали презрительно «сержами» — надменные люди, считающие себя пупом земли, избранной нацией. Такие есть не только в военной среде. Чем он занимается?
— Проверяете?
— Ну нет. — Шаброль поднял газету, упавшую с кресла Венделовского, прочел без выражения: — Температура в Париже на три градуса ниже нормальной. На Эйфелевой башне нормальная. Вероятна облачность и дождь. Тут все ясно! Цены на продукты? На рынке повышение на мясо, птицу, молоко и масло. Бильярдная академия — Rue des Italics против «Лионского кредита», — лучшие бильярдные профессора. Сеансы ежедневно до часу ночи. Вы играете, Альберт Николаевич?
— Обучен.
— Хотелось бы сразиться. Хоть часок погонять шары. Эх, мамочка моя, мама! И еще, знаете, хочется мне по-русски выругаться — крепко, ядрено.
— Выругайтесь, облегчите душу. Вам хочется перейти к делу? Выругайтесь — и перейдем.
— Давайте — по странам? Начнем с вашей вотчины. Ну и Болгария — коротенько, — Шаброль по привычке потер лоб, заговорил по-французски, истинно по-парижски перекатывая во рту звук «р».
— К сербам пожаловал граф Добринский, представитель августейшего государства престола по делам русских подданных. Произвел перерегистрацию офицерства. К нему хлынули желающие получить должность. Добринский, не ожидавший ничего подобного, кричал: «Надо обождать! Соблюдайте конспирацию, господа, конспирацию!» Правительство Пашича готово начать переговоры с советским правительством в целях его признания.
— К этому они придут! — на лице Шаброля появилась обычная насмешливая улыбка. — Но для нас с вами это ничего не изменит. Пока нас не хлопнут или не отзовут с почестями на отдых или, в интересах дела, на Дальний Восток, скажем. Нет, не думайте! Я не скулю.
Странно: столько времени они были знакомы, делили и успехи, и опасность, а все никак не могли перейти на «ты». Такое случается порой и с самыми общительными людьми.
— Что еще у Врангеля?
— Разыгрывается второй акт трагикомедии, начавшейся еще в Севастополе. Тогда барон съел Деникина. Теперь Кутепов теми же методами — Врангеля. Он получит РОВС — и тогда все. Им приближен полковник Монкевиц Николай Августович. В свое время — начальник пехотной дивизии, затем заведовал особым отделом штаба главкома, но недолго. Умен, ловок, подтянут, всегда хорошо одет, любит шикарно пожить, обладает манерами опытного дипломата. Приметы — высок, глаза заметно косят, походка плавная.
— Полагаю, второй Перлоф, а? «Внутренняя линия?»
— Вероятно. При Кутепове.
— У нас ожидают Кутепова. В связи с РОВСом. Но о РОВСе — особый разговор.
— Выдвигается Сергей Николаевич Ильин — правая рука Врангеля.
— Знаю. Начальник Знаменского.
— Всегда в тени. По натуре — конспиратор, не выносит хвастливой болтливости главкома, направляет топчидерскую политику по привычному руслу. Посредничает между местоблюстителями и топчидерским полководцем. К нему трудно пробраться. Я, во всяком случае, пока без ключа.
— Врангель сдает армию великому князю.
— Н-нда-с... Довоевался. А еще что примечательное?
— Драка у церковников неприличная. Они ни в чем не хотят уступать претендентам на престол — ругань, поклепы, публичные оскорбления.
— Центр напоминает: используя даже враждебные газеты, мы должны поддерживать ссоры претендентов и их сторонников. Пусть ругаются. В полемике они выболтают не один секрет. Переходим к Болгарии.
— Там, как грибы после дождя, продолжают рождаться черносотенные организации. Воинские контингенты, называемые «рабочими артелями», переводятся на казарменное положение. Дисциплина, наряды за неподчинение. Обыски и аресты. Контрразведка указывает цанковской полиции, кого арестовывать из тех, кто записался в репатрианты. У «Цветкова» через связников есть постоянный контакт с подпольщикамн-коминтерновцами.
— Это хорошо! Ну, ну?.. — Шаброль обрадовался, засмеялся. — От це гарно!
Сейчас будете еще смеяться. Эмиграция испытала очередное потрясение. Арестованы главный интендант и его заместители — полковники Якуба и Непомнящий, работающие под покровительством начальника снабжения армии генерал-майора Ставицкого. Спекуляция и контрабанда. Получение в Константинополе предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Болгарию, открытие восьми торговых предприятий, доход с которых они клали в своих карманы. О, наша бедная Россия! Софийское акцизное управление дозналось, что в киоске, содержащемся в Русском доме, производится беспатентная продажа табака и кремней для зажигалок. Болгары озлились не на шутку, ибо спички у них — государств венная монополия. Штраф в триста тысяч левов, арест полковника Непомнящего, газетные страсти. Ни Ронжнну, ни Абрамову дела потушить не удалось. Полиция произвела ряд обысков и прихлопнула всю лавочку. Один Якуба, прихватив содержимое своего сейфа, успел удрать. Его арестовали — уже без средств. Ожидается шумный процесс. Так работают верхи армии в изгнании.
— Если Врангель спекулирует серебром, чем они хуже? — и, посерьезнев, Шаброль провел рукой по волосам, словно меняя настроение, спросил: — А мы? Сможем использовать ситуацию?
— Вероятно, вкупе с полковником Муравьевым?
— Это какой же?
— Правая рука Климовича в Крыму. В Галлиполи проводил дела Щеглова, Успенского и других, охранял Врангеля. В Сербии через него шла аттестация военных и штатских, он решал право выдачи виз. А теперь сбежал, прихватив сто тысяч динаров и списки агентов, засылаемых в Союз. Если так — будет продавать себя подороже.
— О! Это дело другое! — Шаброль насторожился мгновенно: — Что известно? Где он?
— По неуточиенным данным — в Италии, у Муссолини.
— Будем спешно уточнять — и через Центр, и по всем другим каналам. Пока Муравьев не распродал агентов, надо его поймать. Это ясно. А с торговым делом можно и процесса подождать. Как?
— Задание принимается. Кутепов поможет. Ему поручена доставка Муравьева, а при невозможности — ликвидация.
— Нужен не труп, а документы, — жестко сказал Шаброль. — Кутепов обманет Врангеля.
— У меня при Кутепове есть человек, мой карточный должник. Надеюсь на него.
— Еще одну-две подстраховки иметь не мешает. Представьте, список врангелевских агентов в руках Дезьем бюро или Интеллидженс сервис. Они немедля перевербовывают русских, едущих по домам. Тут и внедрения не требуется. Простите, не хочу поучать вас.
— Не волнуйтесь, Роллан. Все, что можно предпринять, сделаю. Возьмите под контроль Францию, сообщите в Центр.
— Завтра у меня связь, будет передано. Кстати, у нас появляется еще одни сильный противник — полковник Вальтер Николаи. О нем знаете?
— Знакомился со «всемогущей черной разведкой». Начальник контрразведки при Людендорфе. После поражения Германии от услуг Николаи отказались, архивы никого не интересовали. Николаи собственноручно перетащил все сорок восемь тысяч секретных дел в имение знакомого в Восточной Пруссии. И тут за архивом началась охота. Николаи уговорил бывшего представителя Крупна Альфреда Гугенберга предоставить ему в издательстве «Шерль» надежное хранилище. Позднее с помощью пятнадцати офицеров он перевез архив в Берлин, где создал агентурное бюро, — как заученный урок ответил Венделовский.
— Добавлю, после приезда выяснилось: не хватает более трех тысяч дел, и все относящиеся к Бельгии. Их выкрал профессор Бюллюс, руководитель бельгийской разведки, — добавил Шаброль. — Блистательная операция!
— А что вы знаете о Николаи сегодня, Роллан?
— Немецкие промышленники открыли ему неограниченный кредит. Их интересуют новые рынки на Ближнем и Среднем Востоке, Балканах, в Чехословакии, Австрии, Польше. Агенты Николаи вживаются на территориях, оккупированных союзниками, проводят террористические акты, внедряются в государственные организации.
— Исчерпывающие данные. А русская эмиграция в Германии сегодня?
— Центральная группа — высшее офицерство, царские сановники — «Русское собрание» с сенатором Римским-Корсаковым и Марковым во главе. Имеют денежные средства. Из «Собрания» выделилась группа «Союз возрождения России» — наиболее активная часть. Бесперспективна: полное непонимание происходящего, обскурантизм. Группа работает среди титулованных. Налажен контакт с деморализованными офицерами бывшей армии Авалова -Бермонта[30], ландскнехтами, готовыми служить кому угодно. Вторая группа -«Русская артель» сенатора Белгарда. Далее кадетские организации светлой памяти Набокова и Гессена. Они располагают значительными материальными средствами, но их руководители инертны, бездеятельны. Значительных сил не имеют. На самом левом крыле социалисты-революционеры, группирующиеся вокруг своих газет. Кроме писания разного рода антисоветчины, ничем не занимаются. Еще надо учесть наличие в Берлине разных групп украинских националистов Скоропадского, петлюровцев, Винченко. Они достаточно сильны и активны, имеют связи в немецких политических и экономических кругах.
— Чем же закончим наш обзор?
— Еще одним интересующим меня господином. Вы давно бывали в Варшаве?
— Проездом с однодневной остановкой. Не так давно.
— Маршалковская — шикарная, людная, шумная! Остальные улицы узки, мощены булыгой. Приземистые дома, дощатые заборы. Провинциальный шик. И все в форме — армейские, швейцары, посыльные, дворники, продавцы газет. По-моему, и чистильщики сапог и извозчики.
— Точная картина, Роллан.
— Запольная улица, гостиница «Брюль» — Информационное бюро савинковцев.
— Uwaga[31], Альберт Николаевич! А не встречался ли вам некто Сидней Рейли? Знаете такого, слышали?
— Представьте, видел в Варшаве. И с биографией знаком. Родом из Одессы, фамилия матери как будто Розенблюм. Заимев шурина ирландца, стал Рейли Келлэгреном. Жил в Петербурге, занимался комиссионными делами, был завербован англичанами. Честолюбив, энергичен, храбр. Обаятелен, нравится женщинам. «Наследил» не в одном заговоре против советской власти, но неизменно уходил. Доверенное лицо Черчилля. С начала гражданской...
— Был отправлен к Деникину, потом к Савинкову.
— Как видите, мы старые знакомые. Но вот Рейли снова возле Савинкова. Почему?
— Прежде чем сказать: «не знаю», разрешите уточнения. Уроженец Одессы — точно. По одной версии, ирландцем стал благодаря отцу — капитану. По другой — браку с дочерью ирландского дворянина. В Порт-Артуре занимался шпионажем в пользу Японии. В мировую войну под видом немецкого морского офицера проник в высокий германский штаб и выкрал секретные коды. Затем, поручиком королевского саперного батальона, был прикомандирован к английскому посольству в Петербурге. Прекрасно говорит по-русски.
— Рейли не зря появился в Варшаве. Он нацелен против нас. Я в этом уверен. На нас — через свою агентуру в России.
— Возможно... До Константинополя я работал в Вене, — сказал Шаброль задумчиво. — Там профессионалов, как клиентов в бардаке. И все знакомые. Только кто на кого работает, можно лишь догадываться. Узнаю, по наводке из Центра, рядом со мной разведчик английский. Он полагает, я француз, на Англию работаю, на Италию, мало ли еще на кого. Приклеиваюсь к нему. Вижу: скуповат. Я за него плачу, нет проблем. Однажды встречаю — торопится, под мышкой портфель, а мне его ой как посмотреть надо. Уговариваю приятеля зайти в одно злачное место на десять-двадцать минут: время обеденное. N’est-ce-pas? Не так ли? Заходим. А стол накрыт, и нас ждут. Потом он повез меня к своей женщине. Мы и там пили — долго. Ночью он обнаружил, что портфель чужой. И мгновенно протрезвел: крепкий парень. Я его успокаиваю. Напомнил, что когда брали такси, мы заезжали на какую-то улочку близ Трокадеро и он на миг выходил к человеку, который уже ждал его возле входа. Он все допытывался, с портфелем ли выходил, но я ответил, что не помню. Он позвонил куда-то своим. Его успокоили: портфель с документами на месте, ничего не пропало. Я стал для этого человека лучшим другом.
— Ну, и?.. — Венделовский недоуменно посмотрел на Шаброля.
— Не поняли? Хорошо! Мой человек, разумеется, обменял портфели. Все бумаги, явки и коды были перефотографированы, портфель отвез туда, откуда он был взят владельцем, человек хорошо расплатился с таксистом, у которого на часок выпросил автомобиль. Так никто ни о чем и не догадался. Это самое важное — чтоб никто ничего не заподозрил. С этими портфелями вечно столько историй. Почему обязательно портфель? У меня никогда не было портфеля. Всегда обходился карманами, своей любимой палкой с набалдашником — в нее можно было вложить больше, чем в толстый портфель.
— А тот человек?
— Он был тесно связан с Рейли.
— Оценим задание Центра, и я накормлю вас первосортным ужином.
— Принимается единогласно, — кивнул Венделовский.
Задание Центра целиком касалось РОВСа, быстро набирающего силу и влияние на самую боевую часть русской эмиграции. Тут Роллан по праву как бы становился старшим. Инструкции шли к нему, штаб РОВСа находился в Париже. Он, конечно, был опытнее Венделовского, больше работал за границей — в разных сферах, да и по возрасту старше. По должности. И по званию, вероятно...
В поле зрения чекистов РОВС попал сразу же после организации. РОВС подчинял себе белые организации на территории Франции, Финляндии, Польши, Данин и Голландии, фашистской Италии, Испании, Англии и Швейцарии, даже в Египте, Сирии и Персии. Он настораживающе легко поглощал всевозможные офицерские объединения: союз Георгиевских кавалеров, черносотенные общества и совершенно беспартийные объединения бывших участников войны. Группы РОВСа располагались вокруг границ Советской России — это было видно наглядно. Его штаб делился на отделы. При нем существовала и своя разведка, и руководство боевыми группами, и пропагандисты, и отдел, занимающийся подготовкой смены — кадетскими и юнкерскими учебными заведениями, всевозможными военными курсами. Настораживало и усиливающееся стремление заменить Врангеля Кутеповым. Главком был фигурой достаточно самостоятельной. Кому понадобилось поставить на его место солдафона, умеющего лишь стать во фрунт? Великому князю, которого обошел «на повороте» племянничек и который сам нуждается в поддержке? Вряд ли. Тут крепкая рука какой-то империалистической державы. Данные об этом уже поступали в Центр, но они содержали предположения, косвенные свидетельства, данные, полученные из третьих рук. Во всем следовало разобраться...
Диалог гостя и хозяина превратился в монолог Шаброля. Он говорил короткими фразами, отрывисто, с паузами:
— Работу дипкурьера придется заканчивать, Альберт Николаевич, перебираться к штабу РОВСа. Два условия. Переход осуществить только с главнокомандующим, пока он у власти, вы — при нем. Второе. Товарищ, который заменит вас. Ему надо помочь. Человек достаточно опытный, но работал по иной линии. Специфике надо обучать. Он найдет вас в Белграде.
— Не лучше ли в Митровцах? Меня могут погнать куда-то.
— Не беспокойтесь, Альберт Николаевич. Это его проблема.
— Отлично.
— Центр напоминает: раскол эмиграции, поиск лояльных людей. Практические задачи: протоколы заседаний, фотографии, секретные циркуляры. Особое внимание — международные связи ровсовцев. Какими путями, через кого? И еще. Информация об агентах, воспользовавшихся амнистией ВЦИКа, отправляемых к нам с целью шпионажа, агитации, терактов. Сообщать немедля, отправлять до их отъезда. Их посылают и посылают. Цыплята, хотя попадаются и идейные орлы. Их и надо перехватывать. Ожидаю новое внедрение в Софии. Втащим его — «Цветкову» помощь, да и нас он к РОВСу сумеет подвести. Очень удачная находка этот товарищ, которому и «легенда» не нужна. К папе на постоянное жительство отправляется. А парень наш, идейный. Центр предупреждает о возможной поездке за границу Чичерина. Охранять его будут, естественно, другие. Но об охоте на наркома мы обязаны знать все. И как можно раньше.
— Я понял, — просто сказал Венделовский. — Все, Роллан?
— Одну минуту, коллега, — Шаброль засунул руку в средний ящик письменного стола. Достал портативный фотоаппарат в кожаном футляре, сказал: — Это для вас. Американский — «экспо»! Отличная оптика! Фотографируйте своего Врангеля хоть в полной темноте.
— Спасибо, конечно, но откуда у бедного дипкурьера «экспо»? И сколько он стоит?
— Дорого. Вы его не покупали, — быстро сказал Шаброль. — Нашли? Нет! Подарили? Кто? Отпадает. Взяли напрокат? Где? Легко проверить. Кто-то из ваших старых друзей открыл фотостудию... — Шаброль замялся.
— Не мучайтесь, Роллан. Ваш «экспо» пока не для меня. Хотя игрушка заманчивая. Подожду лучших времен. Как связь? Объявлением через газету?
— В аварийных и экстренных случаях возник другой вариант. Понедельник, среда, пятница, скажем. В десять до полудня, возвращаясь с покупками, Иветта будет иметь обыкновение посидеть полчаса за чашкой кофе в бистро напротив синематографа, в двух кварталах отсюда. Вы представляете, где это?
— Та же улица Мак-Магон?
— Совершенно точно. Если все спокойно, у нее с собой будут цветы, букетик. Подходите смело.
— Может, такой способ принять для каждой встречи, Роллан? Береженого бог бережет.
— Не возражаю. Chacan pour soi, et Dieu pour tous[32]. Осторожничаете, или есть ощущение?
— Все пока чисто — тьфу, тьфу, тьфу! — Венделовский постучал по дереву.
— И все же подумайте, давайте взвесим спокойно.
— Знаменский, Ильин, Монкевиц, — стал медленно перечислять Венделовский. — Нет, второго Перлофа среди них пока нет. Это точно... Скорей тут возможна должностная конкуренция, зависть, соперничество. И то — весьма скрытая.
— Хорошо, если так. И все же не спускайте глаз с «Внутренней линии» и полковника Монкевица. Подберитесь к нему поближе. Дипкурьером Врангеля может интересоваться только он. И я, со своей стороны, постараюсь узнать, какому богу он служит. Может, предложить ему совместную поездку? Так возникает доверие. Простые приятельские отношения.
— Я попробую, хотя и не очень уверен в успехе. Меня очень интересует и ротмистр Издетский — перлофская правая рука. Куда он мог одеться? Чье задание так долго выполняет? Какой он разведчик — жандарм. В Союзе его пока нет. Вы не напоминайте: я помню. Расписка его у вас, копия — у меня. Найдем, не иголка! Ваша информация о продолжающихся банковских операциях врангелевской конторы в самом срочном порядке будет передана в Центр. Давайте, наконец, ужинать, черт возьми.
НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЮГОСЛАВИИ НИНЧИЧУ
«3 января 1924 года
Подтверждая получение Вашей телеграммы... я должен признать, что в ней имеется серьезное недоразумение. Правительство СССР далеко от того, чтобы рассматривать Врангеля как третье государство, и в связи с этим вряд ли была бы понятной занятая Вами в отношении его позиция строго нейтралитета, подчеркнутая в Вашей телеграмме. Напротив, Правительство Союза рассматривает захват Врангелем имущества, принадлежащего бывшей Петроградской ссудной казне, как акт простого грабежа, а продажу этого имущества в Югославии в личных интересах Врангеля и его пособников как нарушение публичного права, что Правительство сербов, хорватов и словенцев не должно допускать на своей территории. Кстати, эта точка зрения уже была подробно изложена в наших нотах от 27 июня и 20 сентября 1923 года, оставшихся без ответа.
Вследствие этого я вынужден констатировать, Ваша телеграмма от 23 декабря ни в какой степени не удовлетворяет Правительство СССР, озабоченное судьбой ценностей, принадлежащих как государству, так и частным лицам.
В связи с этим Правительство СССР считает вынужденным заявить Правительству Королевства сербов, хорватов и словенцев, как несущему солидарную ответственность за преступные действия Врангеля. Оно повторяет свое предыдущее заявление о том, что ответственность за охрану Ссудной казны полностью лежит, по его мнению, на правительстве Королевства сербов, хорватов и словенцев.
Чичерин»
В ЦЕНТР ЧЕРЕЗ «ДОКТОРА» ОТ «0135»
«Врангеля убирают: слишком долго боролся за единоличное владение армией, опоздал к разбору военно-административных должностей, все чаще обвиняют в политических и военных ошибках.
На заседании Союза офицеров в Париже генерал Нечеволдов и ротмистр Баранов произносили речи против Врангеля. Значительная часть офицерства через голову главкома обращается к великому князю Николаю, утверждая, что «пресловутый аполитизм Врангеля — хороший вид политики дальнего прицела». Приказ главкома № 82 встретил сочувствие далеко не всего офицерства. Комиссия, учрежденная согласно этого приказа, расценивается как объявление Врангелем войны правым и левым. Циркуляр № 486, изданный Монархическим союзом, — ответ главкому: «...Следует разъяснить офицерам, входящим в состав местных монархических организаций, что превыше всего — долг перед родиной, ее счастьем, он неразрывно связан с работой по восстановлению Престола, ввиду чего русское офицерство приглашается к продолжению честной и самоотверженной деятельности в монархических организациях и усилению ее».
Выступление Врангеля на совещании представителей воинских союзов вызвало сочувствие. Однако на собрании в Париже два месяца спустя произошел бурный инцидент. Группа офицеров оскорбила главкома и в знак протеста демонстративно покинула зал. Давление Николая Николаевича усиливается. Акции Врангеля подают. Все чаще он ведет разговоры об уходе от борьбы и отъезде в Югославию. На встрече с Кутеповым (держался как равный, без обычной угодливости) главком не без горечи высказался: за отсутствием живого дела эмиграция перестирывает грязное белье и перемалывает друг другу косточки, множатся мелкие интрижки, растет сплетня и клевета; только РОВС может идти путем долга, он не боится смотреть в лицо врагу, его «рабочие дружины» не знают усталости; пока РОВС жив, жива белая идея. Лишение Врангеля руководства РОВСом — его политическая смерть
В конце ноября с особой миссией в Белград приехал Николай Евгеньевич Марков. Цель: разгромить «кирилловцев», доказать, что вся Россия жаждет видеть на царском троне Николая. Последовала цепь докладов, банкет в ресторане «Русский уголок», аудиенция у Пашича с просьбой о поддержке «правого дела» (Пашич был мил, но денег не дал), пышные проводы. С Врангелем Марков не встречался демонстративно.
Нет ли сведений об Издетском? Где он «лег на дно», «законспирировался»? Судя по моим источникам, на Балканах, в Берлине и Париже его нет. Прошу срочно запросить Прагу, Вену, Рим. Несмотря на компрометирующую его расписку, может начать работать против меня.
0135».
Глава седьмая. «ETRANGERS INDESIRABLES»[33]
1
После самоубийства отца Леонид Витальевич Шабеко отказался от всех прежних привычек: стремления вкусно поесть, иметь рядом красивую, образованную и умную женщину, от гостей и дорогих ресторанов. Леонид Витальевич казнился смертью отца, брошенного им на произвол судьбы. Он полюбил жизнь, состоящую из минимума деловых выездов. Он погрузнел, полысел. От этого большая голова его казалась огромной. Леонид Витальевич отпустил редкие усы, но они не прикрывали его мокрого рта. Мучаясь угрызениями совести, он перевез тело отца из Берлина и, заплатив большие деньги за место на кладбище Пер-Лашез, похоронил его, поставил памятник, на котором были перечислены все титулы покойного. Вначале Леонид Витальевич довольно часто посещал могилу. Затем закрутился, чувство вины, видно, ослабло. Поуспокоился, тем более что надумал жениться.
Надумал, несмотря на скупость. Делать деньги стало главным смыслом его существования. Да и способности к такого рода деятельности развились у младшего Шабеко до крайности. В Париже Шабеко оказался уже не учеником дельца — дельцом.
Он жил скромно и уединенно. Был нетребовательным от рождения — воспитан в семье, где презирали наемный труд и держали лишь кухарку, приходящую по торжественным поводам, да прислугу для ежедневной уборки. Годы учебы и начала адвокатской практики тоже не изменили его житейского уклада. И лишь начав работать присяжным поверенным в торговом доме, он принужден был снять квартиру на Мойке, неподалеку от Невского, с кабинетом для приема клиентов. Молодой адвокат, попав в непривычные условия, с головой кинулся в новую для себя жизнь. Он перестал отличаться от преуспевающих петербургских буржуа, стал циничен, охотно иронизировал над жизнью, искусством, российскими порядками, в том числе над правительством, неспособным обеспечить расцвет развивающейся буржуазии.
Леонид Шабеко вычеркнул из памяти тот год, когда он участвовал в процессе народовольцев и защищал человека, фамилию и облик которого забыл навсегда. Заняв богатую квартиру, кинувшись жуировать, дабы не отстать от других, заведя себе любовницу-балерину, которую содержал, Леонид Шабеко ваял на себя два-три весьма сомнительных коммерческих дела. И неожиданно выиграл их. Эта победа окрылила его, прибавила веса в деловых кругах. С другой стороны, он потерял часть клиентов, в клубе на Владимирском несколько человек демонстративно не подавали ему руки.
Революция крепко ударила и по нему. Пришлось оставить и квартиру на Мойке, любовницу и место в ликвидированном торговом доме. Он перебрался к отцу. Снова начал вставать на ноги, напоминая всем свое участие в процессе в защиту народовольцев. Самое трудное время он пересидел в Петрограде один: брат воевал, отец уехал в Крым. Леонид относился к отцу с долей презрения и жалости. Он сумел вывезти его из большевистского ада. И не дал бы ему умереть, если б старик не кинулся искать правду из Каттаро — в Белград, а оттуда в Париж. На миг потерял из виду, и вот — трагедия.
Гражданская война дала Шабеко все: утраченное положение, деньги, право распоряжаться своей судьбой. Он сумел стать одним из людей, необходимых Врангелю. Он придумал две блистательные коммерческие операции — с продажей части флота и Ссудной казны — и руководил их проведением, не забывая, естественно, и своих интересов. Подобные акции дают не только богатство — уверенность в себе.
В Париже Леонид сначала присматривался, изучал биржевую конъюнктуру, не разрешая себе торопиться. Потом стал осторожно покупать верные акции. Приобрел хорошую меблированную квартиру в районе, где жили состоятельные люди, вел спокойную жизнь. Шабеко полюбил Париж. Но странное, все усиливающееся ощущение овладевало Леонидом Витальевичем — ощущение своей мелкости, микроскопичности, малости перед лицом вечности, пережившей все и вся. Именно мелкости. Раздумывая над этими ощущениями, родившимися вдруг, ни из чего, Леонид Витальевич, как человек практический, стал искать истинные причины, содержавшиеся прежде всего внутри него. И пришел к выводу, что он, в сущности, очень одинок на этой земле. Все родственные связи оборваны. Кто пойдет по его пути, кому он передаст собранные им капиталы, кто приумножит их?.. Тогда-то впервые и возникла мысль о женитьбе. Позднее эти мысли как-то потускнели, Леонид Витальевич позволил себе увлечься сначала рулеткой, потом, благодаря знакомствам среди солидных игроков, стал одним из членов административного совета «Банка де коммерс» — после выгодного приобретения акций.
Однажды Шабеко, возвращаясь после прогулки, оступился. Правая нога соскочила с тротуара на мостовую, и он неловко упал, подвернув ногу у щиколотки. Боль была сильная, встать он не мог. Санитарная карета доставила его домой на улицу Клебер, врач внимательно осмотрел Леонида Витальевича, обнаружил растяжение связок и порекомендовал два-три дня полежать с тугой повязкой, массаж утром и вечером, теплую ножную ванну перед сном. Небрежно кинув в медицинский саквояж конверт с приличным гонораром, врач обещал сегодня же прислать опытную медицинскую сестру, которая за добавочную плату не откажется остаться и сиделкой на все время болезни: сестра милосердия — русская эмигрантка и нуждается в деньгах.
Под вечер появилась красивая, хорошо одетая женщина лет чуть за тридцать, с пышными крашеными волосами, высокой грудью и глуховатым голосом. Представилась: «Любовь Ильинишна», — фамилию не назвала. Вела себя с достоинством. Двигалась по квартире уверенно, словно давно жила здесь, во всем разобралась и быстро отпустила Катрин Аблар, прислугу. Она ловко перебинтовала щиколотку Леонида Витальевича, после чего он почувствовал себя гораздо лучше, предложил сестре ужин и кофе с бенедиктином — при условии, если она сама все приготовит.
Через четверть часа Любовь Ильинишна вкатила в кабинет, куда при помощи костыля перебрался Леонид Витальевич, столик, сервированный со знанием дела. Лицо медсестры раскраснелось, в серо-зеленых глазах вспыхивали огоньки. Шабеко начал расспрашивать ее о прошлом. Любовь Ильинишна, не ломаясь, начала рассказывать мелодраматическую историю. Леонид сразу понял, его обманывают, и как адвокат намекнул на некоторые несообразности ее повествования. Гостья без смущения рассмеялась и, признавшись во лжи, попросила переменить тему: она эмигрантка, бежала из Крыма, у нее нет прошлого.
На следующий день Любовь Ильинишна пришла с утра. Чем-то она напоминала Екатерину Мироновну, которую он привез в Каттаро, хотя эта была явно опытней во всем и не скрывала этого. Во второй вечер он пытался овладеть ею. Она спокойно и хладнокровно отвергла его вместе с деньгами, которые Шабеко предлагал ей, и положением содержанки, которое обещал. Она сказала, что мужчин у нее было предостаточно, в любовницах она состояла много раз, знает, как это начинается и чем кончается, а он не лучший и не самый богатый.
Любовь Ильинишна стала законной женой Леонида Шабеко. А почти через год, сама себе удивляясь, родила ему сына — названного в память деда Виталием — продолжателя рода, будущего наследника отцовских капиталов. С рождением ребенка изменился и характер бывшей сестры милосердия, той, которую многие в годы войны звали «Агнесс», когда она ходила за цепями в атаки, бесстрашно перевязывала и отправляла в тыл раненых. Люба давно уверилась, что она не будет иметь детей. И вот — пожалуйста! Сын от этого хлюпика с желтыми зубами и вечно мокрым ртом, которого она презирала. Сын! Маленький, чистенький, розовый — такой беззащитный. Она ощущала свою любовь к нему, первую любовь в жизни! И даже больше, чем любовь, — к любви примешивались и материнский инстинкт, стремление охранить ребенка, отвести болезнь, беду, малейшее неудобство. Вдруг проснулось в ней исконно женское, бабье, то, что она старательно убивала в себе. И впервые поняла: вот существо, которому она нужна ежесекундно, всю жизнь, обязана вырастить сына, и не в нужде, не в бедности: она натерпелась и хорошо знала, что это такое, — ее сын должен стать образованным, обеспеченным, независимым человеком. Она молила бога только об одном: чтоб ничто не менялось в жизни, чтоб Виталик рос, ни в чем не ощущая недостатка. Леонид Витальевич нанял гувернантку. Люба не доверяла сына и ей. Это была не просто любящая мать, сумасшедшая мать, готовая на все, чтобы охранить своего детеныша...
А через полтора года внезапно грянула буря. Леонид Шабеко к тому времени стал председателем административного совета коммерческого банка, значительно расширившего свою деятельность и начавшего выпуск акций. Пользуясь положением, Шабеко приступил к приобретению новых акций, употребив недействительные облигации лондонского «Депозит Банка», попадавшие к нему разными сомнительными путями.
Акционеры коммерческого банка, которые узнали о странном ведении дел их компаньоном, встревожились. Они отстранили председателя административного совета от должности и потребовали срочной ревизии. Оказалось, Шабеко нанес ущерб «Банку де коммерс», исчисляемый почти в три миллиона франков. Разразился скандал. Шабеко был арестован. Журналисты кинулись к мадам на улицу Клебер, в богатую квартиру на втором этаже. Любовь Ильинишна встретила их спокойно, с достоинством.
«Все это недоразумение, — сказала она. — Мой муж является жертвой. Он явно кому-то мешал. Вы спрашиваете кому? Пусть это устанавливает следствие». Многие интервьюеры отмечали: под конец беседы спокойствие изменило мадам, она стала крайне раздражительна и заявила, что абсолютно никакого отношения к делам мужа не имеет, на вопросы о своем прошлом отвечать отказалась решительно и попросила гостей удалиться в самой недопустимой и резкой форме.
Следствие велось медленно. Допросы обвиняемого, длившиеся часами, бесконечные допросы свидетелей, очные ставки. Выяснилась роль Леонида Витальевича — посредника крупных английских и австрийских промышленников, от имени которых он вступил в переговоры с французскими банкирами, способствовавшими ему в покупке контрольного пакета акций «Банка де коммерс», что и нанесло ущерб банку. Сумма ущерба все увеличивалась и в конце концов приблизилась к десяти миллионам франков. Представители «Банка Сентраль», неизвестно каким образом оказавшиеся привлеченными к следствию, подтвердили: действуя не один, а при поддержке крупных финансистов Лондона и Вены, Шабеко нанес французскому банку крупный материальный ущерб.
Леонид Витальевич, разобравшись в обстановке и явных русофобских настроениях следствия, загрустил. Через адвоката Пьера Портуа он пытался дать судье крупную взятку, купить и группу присяжных. Однако судья, испугавшийся интереса, проявляемого к процессу левой прессой, отказался от денег. Решение суда стало непредсказуемым. Шабеко пал духом.
В течение трех месяцев шло следствие, и Леонид содержался в тюрьме Сантэ. Любовь Ильинишна навещала его. Сначала раз в неделю, потом все реже и реже, объясняя свое поведение недомоганием сына. В один из последних визитов Шабеко сказал жене, что требуется триста тысяч франков для выпуска его под залог до суда. «Но я при всем желании не соберу такой суммы, милый, даже если продам все подаренные тобой драгоценности», — сказала она с явной издевкой, намекая на единственное кольцо с небольшим бриллиантом, которое он, расщедрившись, подарил ей после рождения Виталика.
Пришлось с большой неохотой расставаться с надежным секретом квартиры на рю Клебер. Жене надлежало осторожно вытащить из деревянной кадки фикус, стоящий у крайнего слева окна в гостиной, из-под корней — железную коробочку, а из нее — небольшой ключик. В кабинете, над письменным столом, висел портрет отца, нарисованный художником по старой фотографии. Под портретом находился сейф хозяина. Любовь Ильинишне надлежало, вставив ключик и набрав тайную цифру, открыть сейф. Там хранится полмиллиона. Пусть она возьмет, триста тысяч для передачи адвокату и проведет всю операцию в обратном порядке, ничего не напутав.
Люба улыбнулась и, кивнув ушла. Леонида Витальевича одолевали дурные предчувствия. Ему снились страшные сны, где он неизменно выступал в роли пострадавшего, униженного — кто-то огромный топтал его слоновьими ногами, рвал на части клыкастой сиреневой пастью, сбрасывал в море.
Люба, пришедшая в приемный день на свидание, поразилась: муж был в порванной жилетке, рубахе без воротничка и галстука. Лицо — зеленое, волосы дыбом, руки дрожат. Неизвестно откуда опять ворвалась толпа журналистов. Защелкали затворы фотоаппаратов, блеснули холодным ярко-белым огнем магниевые вспышки. Леонид Витальевич внезапно пошатнулся и рухнул на пол, потеряв сознание. Полицейские унесли его на руках в лазарет. Любе разрешили навестить мужа только после предварительного телефонного согласования.
После трехдневного пребывания в лазарете Шабеко встретил жену в ином виде. Шутил над своим недомоганием, говорил о добрых вестях и надеждах. Улучив момент, когда надзиратель удалился к другому краю стола, их разделявшего, спросил, успела ли она передать деньги адвокату.
— Мне не хотелось тебя огорчать, — ответила Любовь Ильинишна, — но ключа на месте не оказалось и денег тоже: сейф был открыт. Без сомнения, это дело приходящей прислуги.
Леонид Витальевич понял, что пропал, что уже осужден; жена его предала, он не в силах ничего сделать. Он встал и вышел, опустив плечи и шаркая ногами, как старик...
Вот как проявился характер «Агнесс». Любовь Ильинишна сознательно пошла на этот шаг, взвесив все «за» и «против»: она решила ни при каких условиях не рисковать судьбой Виталика. Шабеко — обманувший и предавший в своей жизни многих — был предан ею без колебаний и сомнений. Его судили, признали виновным. Имущество и вклады конфисковали. Пришлось расстаться и с шикарной квартирой на улице Клебер. Шабеко осудили на два года. Газеты потеряли интерес к этому процессу, а Любовь Ильинишна так и не выбралась ни на одно заседание: муж уже перестал для нее существовать.
Вроде бы она переехала куда-то. То ли в Бельгию, то ли в Швецию.
Леонид Витальевич Шабеко, последний из семьи петербургской ветви Шабеко, впал в бедность, опустился на самое дно эмигрантской нищеты, откуда, как известно, не поднимается уже никто.
2
Существование с отцом под одной крышей становилось невозможным. Ксения всегда считала его плохим отцом, он ее теперь — неблагодарной дочерью, получающей от него все и не желающей ответить ему хотя бы уважением. После переселения из Югославии все казалось ей прекрасным — осенний Париж, пестрая доброжелательная толпа на Елисейских полях и Больших бульварах.
«Кэт» снова стала Ксенией, княжной Белопольской, — правда, этот титул здесь ничего не стоил. Но она вступала в совсем новый, неведомый ей мир, потому что не было в нем ни бандитов Дузиков и Орловых, ни жандармов Издетских, здесь не утверждали свою правоту револьверными выстрелами. Однако скоро Ксения поняла, что она на особом — эмигрантском положении в этом прекрасном городе, где каждый эмигрант обязательно политик, а ее собственный отец вторично совершал немыслимый идейный кульбит. Первый — в Петербурге, когда ко всеобщему изумлению он порвал со своим кругом, превратившись из статского советника с большим будущим в рядового думского горлопана, проповедующего кадетские лозунги, — пока большевики не выгнали его из столицы. Гражданская война ожесточила князя: царя не существовало, и вообще все перепуталось — партии с их программами, лидеры, без зазрения совести блокирующиеся со вчерашними противниками, и он сам — переродившийся, переживший эвакуацию, потерю сыновей, обиду, которую ему нанес отец, не пожелавший оставить родину. Когда сломался Белопольский? Он и сам вряд ли мог припомнить. Счастье, что Вадим Николаевич смог сохранить хоть то, что нес в саквояже и уже в Севастополе переложил в специальный потайной пояс, охватывающий его живот. Пояс и обеспечил его сравнительно безбедное существование во Франции, куда он направился сразу из Крыма на французском крейсере «Вальдек Руссо», не сделав попытки задержаться в Константинополе. Может быть, там, увидев неуправляемые толпы беженцев, он понял, что русскому человеку нужна только твердая власть? Или уже в Париже, среди эмигрантов?
Монархическая идея возвращалась к нему, захватывала целиком. Князь Белопольский принялся вновь служить ей. Недоверие части русской аристократии, знавшей метаморфозы князя Белопольского, он преодолевал с завидным спокойствием и упорством. Белопольский никого не старался переубедить, он работал: выступал на собраниях, со статьями — в монархических газетах и журналах. Его охотно печатали: был умнее и толковее других. Лучше излагал то, что требовалось, — не так, как иные твердолобые, которые думают, будто Николай II несколько задержался в Ставке и вот-вот появится в Зимнем дворце...
Белопольский поехал на Рейхенгальский съезд монархистов — наблюдателем. Съезд «чистых монархистов» разочаровал его: опять группы, опять споры, взаимные оскорбления, перечисление старых обид. Опять спесивый Сенат — каждый норовит сесть «повыше» соседа. Рейхенгаль, однако, оказался сложнее, чем предполагал Белопольский. Теперь мало оказалось вернуться в монархическую среду. Следовало заявить о принадлежности либо к «николаевцам», либо к «Кирилловнам» — расслоение столпов реставрации легитимной монархии началось под руководством «Высшего монархического совета», продолжалось на парижском совещании в конце 1922 года под председательством Трепова. Династический вопрос стал основным. Сторонники Кирилла призвали русских монархистов к неподчинению парижскому совещанию, объявили «Высший монархический совет» мятежным, подлежащим роспуску. Монархический совет принялся исключать из своего состава кирилловские организации. Белопольский сделал выбор: стал ярым «николаевцем». Царский двоюродный братец оказался самозванцем. Он постарался приблизиться к окружению великого князя Николая Николаевича, сделался одним из его политических советников.
Белопольский снимал в беженском районе Пасси, на улице Оффенбаха, пристойную комнату на четвертом этаже с двумя окнами и балконом. С приездом дочери из Югославии комнату перегородили ширмами. В чуланчике Ксения стала создавать кухонное хозяйство: купила спиртовку, сковородку, чайник, кастрюльку, несколько тарелок, чашек, вилок, ложек и ножей.
Вадим Николаевич редко бывал дома подолгу. Часто задерживался в Шуаньи, на встречах единомышленников, исполняя эмиссарские поручения великого князя. Но даже находясь в Париже, он не каждый день приходил ночевать, а уж обедать или ужинать — совсем редко. Конечно, жизнь «на Пассях» — не пансионат на Адриатике, но тут, вокруг нее, гудел миллионный город. Район, облюбованный русскими эмигрантами, менее всего привлекал княжну. Их жизнь была достаточно знакома ей по Турции и Югославии. Быстро минуя улочку Жака Оффенбаха, Ксения ежедневно отправлялась в поход по Парижу, точно в плавание без карт, без компаса и всякой цели, открыв сердце новым впечатлениям, жадно присматриваясь к чужой жизни. Она была молода, — тяжелое прошлое не оставило следов на ее смуглом овальном лице с голубыми глазами, ее белокурые пышные волосы отросли. Ксения — высокая и прекрасно сложенная — была красива. Она знала, что красива, и это оправдывало ее беспечность, ее прогулки и отказ от попыток найти работу, о чем в последнее время не раз уже говорил ей отец.
Однажды она поинтересовалась, на какие средства они, собственно, существуют и чем они обязаны, великому князю. Николай Вадимович побагровел, закричав, что великое и святое дело борьбы за восстановление престола не терпит богохульства и насмешек. Он обе руки дал бы себе отрубить, если б взял хоть копейку из святого фонда восстановления престола. Посмотрев на чужого, в сущности, похудевшего и обрюзгшего господина, Ксения пожалела его, но все же спросила: что же случилось в мире или в душе ее папа, если, всегда твердый в убеждениях, он стал поклоняться тому, что совсем недавно еще уничтожал? Он счел себя обязанным рассказать ей о важнейших событиях, сотрясающих русскую эмиграцию, посвятить во все новости политической борьбы претендентов на российский престол. Она вынуждена была слушать весь этот бред, не вникая в его содержание.
Князь, как всегда, ораторствовал с вдохновением:
— Как я уже говорил тебе неоднократно, Ксюша (непонятно откуда рождалось это ненавистное ей имя, когда отец был в добром настроении), последним совещанием мы остались решительно не удовлетворены. Победа нашей партии — безусловная победа! — не оказалась разгромом «кирилловцев».
— Какое же совещание ты называешь последним, отец? — спросила Ксения, сдерживаясь, чтобы не закричать, не кинуть об пол тарелку.
— Когда рассматривались вопросы тактического характера и заслушивался отчет комиссии о династических правах. Домогательства Кирилла (в последнее время Вадим Николаевич взял себе право называть самозванца не «великий князь Кирилл Владимирович», а просто по имени, словно соседа по лестнице) были отвергнуты. Мы решили: возглавление широкого национального движения должно принадлежать только великому князю Николаю Николаевичу.
— Но ведь это...
— Прошу, не перебивай, я теряю ход мысли. О чем это я?.. Да-с... Ввиду наличия спорных толкований закона о престолонаследии, решение его отнесено до возвращения в Россию. — Ксения не смогла скрыть усмешки, и отец, заметив, добавил назидательно: — Да, в Россию после освобождения ее от большевиков.
«Он — больной, ненормальный? — подумала Ксения. — Или врет себе потому, что так для него удобнее?» На какое-то мгновение она отвлеклась и перестала слышать слова отца. Он же на это, впрочем, не обратил никакого внимания.
— Решено создать «романовское гнездо», оно объединит все наши зарубежные противореволюционные организации. Надо в Кремль войти, а там разберемся, кто есть кто и кто был кто. В России мы и за новую орфографию станем вешать. Шучу, шучу, Ксюша!
Но Ксения видела — не шутит. Ненависть к инакомыслящим захлестывала его. Отец продолжал казаться ей не страшным, а смешным, и все происходящее с ним ненастоящим, придуманным — игрой, навязанной ему неизвестно кем и почему.
— У тебя одна программа — вешать. Кого, как и где? А мне что делать? Идти рядом с пистолетом в руке? В церковном хоре «Боже, царя храни» петь?
— Ну, знаешь, — разводил руками Вадим Николаевич. — Нельзя же так буквально понимать все. И потом... Ты недостаточно пришла в себя после своих одиссей. Вот и фон Перлоф говорил...
— Так вы встречались! А куда он пропал? Он был так добр ко мне. Он меня спас.
— Перлоф покончил с собой при невыясненных обстоятельствах. В Белграде, в гостиничном номере.
— Какой ужас!.. — прошептала Ксения. — Я ничего не знала. Когда же это?
— Давно, Ксюша. И... успокойся. Мертвых — не вернешь. Для таких, как Перлоф, война не кончалась никогда. — В голосе Белопольского внезапно прозвучали патетические ноты. — Христиан Иванович руководил борьбой с большевистской агентурой.
— Его убили большевики?
— Не исключено. Но вижу, ты расстроена? Однако, чтоб не возвращаться к этому вопросу, я хочу объяснить до конца свою политическую платформу.
— Оставь, отец... Меня это абсолютно не интересует.
— Нет уж ты послушай, послушай — раз возник такой важный разговор.
— Разреши мне побыть одной, — умоляюще произнесла Ксения. — Я, пожалуй, пройдусь.
— Разумеется, разумеется! — поспешил согласиться Вадим Николаевич. — Хочешь, я провожу тебя?
— Нет, я одна, — сказала Ксения. — Мне не нужны сопровождающие.
Ксения спустилась по лестнице, где всегда пахло кошками, и вышла на улицу. Она верила, что отец сказал ей правду, все, что знал о гибели фон Перлофа. Похоже, и эта тайна ушла в могилу. Ей оставалось лишь помолиться за дядю, за все доброе, что он сделал для дальней племянницы своей.
Ксения направилась на рю Дарю, 12, в собор Александра Невского — в главный русский собор. Был истинно парижский воскресный день. На бульваре цвели каштаны. Цветочницы торговали первыми пармскими фиалками. Толпы праздных горожан заполонили улицы, магазины, открытые террасы кафе и бистро. Утро казалось необыкновенно теплым, ласковым, благостным. Как ни странно, оно даже затушевывало, стирало ту боль, которую она испытала, узнав о гибели дяди.
Храм был зажат узкими улочками и домами, тесно лепившимися друг к другу. От этого он казался ниже, приземистей и будничней. Церковная торжественность отсутствовала, хотя служба уже начиналась. Ксению поразили люди, заполнившие и улицы, и все пространство вокруг церкви за чугунной решеткой. Эта толпа, занимающая каждый метр булыжной мостовой и каменные плиты двора, напомнила ей толпу тех русских, что окружали с утра до вечера русское посольство в Константинополе. Люди шумели, смеялись и плакали. Толкаясь, переходили с места на место, жестикулировали, перекликались, целовались на ходу со знакомыми. И здесь все тоже напоминало большой вокзал в ожидании надолго опаздывающего поезда.
Врата были раскрыты. Виден черный провал входа и чуть в глубине — слабые слюдяно-желтые огоньки свечей. Слышалось пение хора — умелое, слаженное, тягучее, берущее за душу и рождающее желание рухнуть на колени, молиться истово и принять жизнь такой, какой она дана.
Чтобы попасть в церковь, надо было пробиться через плотную толпу своих единоверцев. Ксения устремилась вперед. Обрывки разговоров долетали до нее:
— ...Уверяю вас, все равно: хоть Кирилла монархию, хоть савинковскую анархию...
— Все же царь...
— Да зачем царь? В казачий штосс с ним играть?
— В полку всегда знали: нужен царь.
Другая группа:
— ...Что за жизнь?! Не успеешь заснуть — вскакиваешь в ужасе. Что такое? Красные прорвались? Ничего подобного! Мы в Париже, «на Пассях». Окружная железная дорога лязгает, скрежещет...
— У нас писатели? Покажите мне хоть одного!.. Что? Этот сделал карьеру на том, что стряхивал пепел не в пепельницу, а на соседей.
В третьей группе ссорятся компаньоны. Рядом низенький и толстый пытается занять несколько сот франков у высокого, в мундире полковника. И все кланяется униженно, прикладывает руки к груди, говорит «a propos, коллега», ссылается на какого-то ротмистра, разбогатевшего за месяц подобным же способом.
У церковной ограды снова спорят политики:
— ...Власть — это прежде всего твердый порядок, гс-да.
— Большевики между тем легализовали спекуляцию, сделали из нее нэп.
— Посмотрим, как они после смерти Ульянова выстоят: увидите, через полгода перегрызутся.
— Нэп — наша надежда. Это они сгоряча частную собственность ликвидировали. А теперь, видите, провалились с экономикой по всем статьям. Кухарки слабы оказались фабриками управлять.
— Все вынесет русская задница. Татар, Иоанна Грозного, Аракчеева, Столыпина, Ленина, Дзержинского. Кого угодно! Плетя и шомпола выковали новую расу!
«И подобное на церковном дворе, вблизи храма господня!» — колющая боль била в висок. Разламывался затылок. Ксения слишком хорошо знала это состояние. Она думала, оно ушло навсегда, она вылечилась. Но все оставалось с ней, все. Кружилась голова. Справа от собора стоял скромный двухэтажный дом. Вероятно, жилье церковников. За домом буднично возвышалась поленница. Стоял чурбак для колки дров. Ксения присела на чурбак. И перестала ощущать все, что происходило...
Очнувшись, она встала и огляделась. Ничто не изменилось: гомонящие прихожане, успокаивающие слова церковного гимна. Ксения пробралась внутрь собора, преодолевая сопротивление, медленно продвинулась в первые ряды, к алтарю. Изнутри собор показался ей великолепным и богатым. Ярко горели хрустальные многоцветные огни в люстрах, освещая голубую, точно бездонное небо, роспись свода в вышине, громадные панно по стенам. Почему-то вдруг вспоминалась фамилия художника, расписывавшего собор. «Боголюбов, Боголюбов, — мысленно произнесла Ксения. — Любящий бога. Лучшую фамилию и не придумаешь». Она увидела неподалеку раззолоченное облачение митрополита, он, как ей показалось, посмотрел на нее строго и осуждающе. Ксения упала на колени и начала молиться.
Положив бесчисленное количество поклонов — так вели себя все вокруг, — Ксения покинула храм.
Толпа на улице ничуть не уменьшилась. Бойко торговали горячими пирожками с лотков, тележек, в ларьках. Из углового ресторана «Петербург», из подвального его помещения, слышалась лезгинка. Бил барабан и бубны. Нестройный хор не очень трезвых голосов кричал азартно...
Ксения старалась не перечить отцу, не вступать в споры, соглашаясь со всем, понимая, что надолго ее не хватит. Отец становился нетерпимым, вздорным. Он не хотел считаться ни с чьим мнением. Человек, исповедующий не его идею, переставал для него существовать. В последнее время князь постоянно ночевал дома, прибавив дочери забот о его завтраках, которые должны были быть обильными и питательными («вероятно, выгнала очередная любовница», — думала Ксения).
...Многочисленные благотворительные вечера были столь же характерной и обязательной чертой русской эмиграции, как посещения храмов и кладбищ, церковные собрания и праздники с выносом штандартов, пением «Боже, царя храни», «скромными товарищескими ужинами с рюмкой водки и чашкой чая». Снимался гостиничный зал. Организаторы распространяли билеты. В их обязанность входило завлечь состоятельных и нужных людей. («Хорошо, если Завальнюк хоть два-три десятка билетов купит: скупердяй, чуть не пол-Одессы успел вывезти; хорошо, если барон Штернберг с сыном пожалуют: сын — известный шалопай и шулер, с самим Сувориным в добрых отношениях, в разные газетки пописывает и фотографией увлекается, авось и про нас для рекламы что-нибудь тиснет!») Затем печаталась программа: концерт с непременным участием актеров императорских театров и музыкальных «звезд», салон с пианино, танцы под оркестр, буфет, «торгующий по умеренным ценам», выставка-продажа произведений из дерева, кости и камня лучших национальных мастеров. И, конечно, лотерея — гвоздь программы! Ее проводили красивейшие и знатнейшие представительницы русского Парижа. Разыгрывалась разная малостоящая мелочь: образки, иконки, олеографии, венок из живых цветов, альбом для фотографий, цветные карандаши. Победитель лотереи имел право поцеловать ручку принцессы бала и протанцевать с ней тур вальса...
Наступила очередь и Ксении Белопольской участвовать в такой лотерее — в пользу русских детей, приютов и богаделен. У нее не хватило сил отказаться. Она лишь униженно просила отца об ограничении ее роли. Он обещал. Ну постоит у входа, предлагая посетителям букетики цветов. Или поможет при раздаче лотерейных выигрышей: там всегда толчея, бывает, рук не хватает, процедура задерживается, нарушая четкий план вечера. Поговаривают, вечер собирались посетить люди из Шуаньи. Так что все приобретает политическую окраску.
— Бог с вами! — непочтительно засмеялась Ксения. — Согласна! Уговорил!.. Хоть на великих князей в эмиграции погляжу — как они выглядят.
— Ну и лексикончик ты приобрела, Ксения, — поморщился князь. — Следи за собой, пожалуйста, а то еще...
— Обещаю молчать, краснеть и улыбаться. Но и ты уж постарайся: обеспечить охрану от подлецов, нахалов и старых аристократов. Могу сорваться.
— Да-да. Постараюсь быть поблизости и при нужде прийти к тебе на помощь, Ксюша...
В залах гостиницы «Лютеция», на правом берегу Сены, куда привел дочь Белопольский, было уже довольно людно. Здесь, по-видимому, действительно кого-то ждали, никто не толкался, не шумел. Говорили вполголоса, вежливо раскланивались. Царила приподнято-торжественная атмосфера, словно собравшихся ожидало нечто необыкновенно важное — выход государя императора, сообщение о взятии большевистской столицы или раздача бывших имений, заводов и фабрик.
Ксения Белопольская была хороша. На нее обращали внимание, пока она об руку с отцом проходила по залу. Многие с ним раскланивались. Какой-то согбенный и исхудавший господин (это было заметно по камергерскому мундиру с золотым ключом) кинулся к Николаю Вадимовичу. Извинившись перед его очаровательной дочерью, расшаркавшись, он чуть не в самое ухо князя начал говорить что-то взволнованно и страстно. Князь слушал его очень внимательно, глядя поверх лысой головы, точно отыскивая кого-то нужного ему в дальних затененных углах зала. До Ксении долетали лишь отдельные слова: «Шуаньи...», «в Шуаньи...», «из Шуаньи...». Наконец, оторвавшись от господина, Николай Вадимович, внезапно заулыбавшись, сам решительно направился к стене, откуда, навстречу им, устремился человек лет за тридцать — высокий, подтянутый, с длинным темным лицом, держащийся очень прямо. Он пожал руку князя, внимательно, спокойно взглянул на Ксению, представился:
— Венделовский. Альберт Николаевич.
И спокойная интонация его голоса, и весь его облик понравились Ксенин. Она протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал.
— Альберт Николаевич, доверенное лицо барона Врангеля, — пояснил князь, с некоторой даже гордостью за подобное знакомство. — Мы познакомились в Шуаньи, он часто бывает в Париже.
— Вы военный? — Ксения была уверена в ответе: наверняка герой из лейб-гвардии штаба, который и сохранился потому, что всегда был далек от окопной жизни. А может, моряк? Моряки, независимо от жизненных обстоятельств, всегда остаются корректными, спокойными и вежливыми.
А Венделовский, любуясь Ксенией, пытался вспомнить, что связано у него с этой красавицей, у него или у кого-либо из его друзей, — ведь он видел раз или два это лицо. Он заставил себя отвлечься от этих мыслей и ответил ей:
— Все русские — генералы. И государевы приближенные не ниже сенатора. Все не у дел, все с претензиями, считают, мир им обязан: остановили большевиков, не допустили захвата Европы. Только и делают, что, ничего не делая, ждут, пока властители наших дум и душ укажут «место сбора и сроки явки». В этом смысле и я офицер. По общей судьбе. Но в душе я глубоко штатский человек, Ксения Николаевна.
Ответ понравился Ксении, хотя и содержалась в нем недоговоренность. «Возможно, жандарм? Интеллигентный жандарм. Во время войны они называли себя контрразведчиками. Как тот садист, Издетский... Может, он знал и дядю, и то, что с ним произошло?..»
— Я рада нашему знакомству, Альберт Николаевич, — сказала Ксения спокойно. — Вероятно, мы еще увидимся.
— Почту за честь. Очень хотел бы, — столь же спокойно ответил Венделовский.
Откланялись и разошлись. И отец повел Ксению через зал к входу, где стояла группа людей в военной форме, в центре которой возвышался над всеми генерал-майор с солдатским Георгием на мундире и знаком «ледяного похода». Ксению поразило его лицо, обтянутое серо-желтой кожей, и совершенно лысая розовая голова, пересеченная глубоким шрамом от сабельного удара, начинающегося возле уха. Увидев Белопольского, он, широко раскинув руки, сделал два шага в его сторону.
— Ба, князь, — сказал он простуженным голосом. — Рад видеть! — он улыбнулся, отчего лицо его стало еще неприятнее. — Вы с дочерью? Позвольте представить вам и мою красавицу. Вот в свет вывел: она молчальница, скромница — поэтому и в Париже с тоски чахнет. — Он покрутил головой, окликнул: — Дарья!
Приблизилась невысокая, невзрачная девушка, почти девочка, поражающая худобой. Представилась:
— Дарья Андриевская.
Голубое, точно просвечивающее лицо ее чуть оживилось, на скулах появился нездоровый румянец, когда Ксения, добро улыбнувшись, протянула ей руки. У Дарьи были тонкие, слабые пальцы, выступающие ключицы, узкие плечи. Чем-то она напомнила Ксении ее самое — времен Крыма. Это сразу расположило ее к Даше: умные, огромные серые глаза, непоказная скромность. Бывает же так: несколькими взглядами обменялись, рукопожатием — и пожалуйста! Даша могла оказаться тем человеком, которого Ксенин не хватало всю жизнь.
— Видно, князь, девчонки без нас обойдутся, — сказал напористо генерал Андриевский. — Оставим их. У меня к вам вопросы. Вы — человек политический, я — военный, и кое в чем разбираюсь плохо, — он взял Белопольского под руку и, развернув спиной к девушкам, заговорил, принижая свой хрипатый голос.
Дарья робела. Ксения пришла ей на помощь, начала расспрашивать о Париже, о ее жизни. Они разговорились. Даша оказалась старше, чем выглядела, — ровесница Белопольской. До войны она училась в Школе изящных искусств, сначала в декоративном отделе, затем перешла в скульптурный класс, занималась лепкой — совсем уж не женским делом. К сожалению, разговору все время мешал хриплый баритон генерала Андриевского, бубнящего рядом: «...но позвольте, князь...», «...тут я не схватил, князь...», «...это не по-нашему, князь...». После долгих скитаний по Константинополю генерал Андриевский (так почему-то Даша все время называла отца) встретил однополчанина, и тот помог им перебраться в Париж. А здесь им сразу повезло. Мама с компаньонкой открыла портновскую мастерскую. Они берут дешевле, чем другие, поэтому и заказчиков больше. Только все это секрет: Андриевский считает мамин труд недостойным жены боевого генерала и запрещает говорить об этом «в обществе». Отец — тяжелый крест, и нести его надо безропотно. Даша давно бы уехала куда глаза глядят, да маму одну оставить не может. Разоткровенничавшись, она замолчала внезапно, а потом, извинившись за несдержанность, объявила, что сразу поверила в доброе сердце Ксении, поэтому и позволила себе...
Тут в зале началось движение, и все потянулись к входным дверям. Ярко вспыхнули еще две или три люстры. В зал вошли — точно их вдвинули — старики во фраках и декольтированные старухи. Вокруг них вилось несколько офицеров в форме, которые то ли сопровождали, то ли охраняли этих сановных особ. Ксения захотела спросить отца, кто они, обернулась — его и след простыл. Даша, встретив недоуменный взгляд Ксенин, безразлично пожала плечами. Во всю мочь ударил духовой оркестр. Толпа расступилась, образовав коридор, по которому официанты легко пронесли, подняв над головами, четыре больших обеденных стола с высокими ножками, а следом, ловко накидывая на столы бордовые бархатные скатерти, еще два. Спектакль продолжался по разработанному плану. Девушки — одна красивей другой! — появились с цветочными гирляндами. Они окружили столы, расположились вокруг в эффектных позах, замерли — как кордебалет в «Лебедином озере». Дюжие молодцы в поддевках и сапогах, с одинаково стриженными затылками — по виду типичные «охотнорядцы», — стали вносить и ставить на столы самые разные предметы — призы лотереи. Чего тут только не было! Куклы, балалайки, гармошки и гитары, образки и иконы, кожаный чемодан, искусственная елочка, сабля, кортики и палаш, вышивки, платки, голубой абажур, хрупкий хрусталь и старинная разрозненная чайная посуда, непонятно как и уцелевшая после стольких эвакуаций, детали военного обмундирования, дешевая косметика и еще нечто такое, что невозможно было сообразить, как назвать. В качестве главного приза, в центре всего этого ломбарда, возвышался полуведерный, тускло поблескивающий самовар с табличкой «серебряный» — не иначе собственность какого-нибудь полкового собрания.
Началась продажа лотерейных билетов. Девушки с гирляндами цветов на шее держали никелированные подносы, куда посетители кидали свои пожертвования — кто сколько хотел. Группа высокопоставленных старух и стариков, дотоле стоявших молча и тесно, точно римская фаланга, придвинулась к столу. Оркестр опять заиграл бравурный марш. Какой-то господин объявил: «Дамы и господа! Начинаем юбилейную лотерею. Билетов ограниченное число. Покупайте билеты! Счастливых ждут памятные выигрыши!»
Ксения и Даша продолжали разговор. Происходящее в зале их не интересовало.
— Я совсем заговорила вас, правда, Ксения?
— Что вы, Даша. И я рада, что мы познакомились. Мы станем встречаться. И я тогда отвечу на все ваши вопросы. Здесь не место... Эти люди, музыка.
— Зачем же вы пришли?
— Меня упросил отец.
— Вот, — зло подытожила Даша. — Так мы и делаем и подлости, гадости — чтобы не спорить с кем-то. С отцом, с мамой, с самой собой. Разве это нас избавляет от угрызений совести? Вы работаете?
— Нет. Я болела, Даша. И недавно в Париже. Присматриваюсь. Хотя не очень представляю, где и как смогу работать.
— Если вы захотите, я вас шить научу. Или кофты вязать! Приходите, я вас с мамой познакомлю. Она у меня замечательная!
— Спасибо, я приду. Только куда?
— Видите, какая я! Сейчас дам адрес, минуточку. — Она достала из сумочки тоненький блокнот и карандашик, вырвала листок, начала писать и, светло улыбнувшись, передала Белопольской. Под адресом бисерным почерком летела фраза: «Приходите обязательно! Я вас полюбила. Даша».
— Спасибо вам.
Мимо прошли двое. Один внушал другому:
— В России все можно было. Свобода! Обязательно во сне сапоги станут, да еще и в рот наплюют. Это нам ха-арашо известно.
— Мало, видать, в тебя плевали, Сергей Степаныч. Не обижайся. Скажи тебе: вот Советская власть, а вот тебе десять тысяч десятин чернозема — владей. Так ты на всю Европу «Отречемся от старого мира» запоешь.
— А ты всю оставшуюся жизнь лягушатникам зады лизать останешься в треклятой этой Франции. Ты — полковник, преображенец — стыдно!..
Белопольская проводила их ненавидящим взглядом. Сказала резко:
— Смотреть не могу. Лучшие люди России на родных полях полегли. От голода в Константинополе сдохли. А тут эта сволочь. Жива, философствует! Я бы их сейчас шлепнула, тут, в зале! Выйдем на улицу, здесь душно. Прошу.
— Конечно, выйдем, Ксения! Я провожу вас.
Они вышли из «Лютеции» и сели на ближайшую скамейку в крохотном скверике возле барочного фонтана.
— Вы хотите меня о чем-то спросить, Даша? — сказала Ксения, глядя на мрачный грязно-серый фасад огромной гостиницы.
— Бог с вами! — искренне удивилась Андриевская — все, что вы сочтете нужным, вы сами... Потом как-нибудь, — и смущенно закончила: — Конечно, мне интересно про вас...
— Четыре года прошло с того дня, когда я — зернышко — попала между огромными жерновами. Как хотите называйте их: жизнь и смерть, белые и красные, люди и сволочи... Стерли они меня в порошок, Даша. Я пустая. Только оболочка осталась... Вас, поди, отец ищет?
— Вероятно. Если вспомнил, что пришел со мной.
Когда они вернулись в зал «Лютеции», лотерея была уже закончена. Люди побогаче потянулись в ресторан и буфеты. Молодежь ожидала танцев. Все остальные — концерта с участием актрисы императорских театров Алисы Лувен, хора цыган и знаменитой исполнительницы народных песен — «любимицы двора и русской армии». Тихо лилась лихо-ритмичная мелодия джаз-банда. Столы были вынесены, и собравшиеся с любопытством наблюдали за несколькими парами, которые на образовавшемся пятачке демонстрировали умение исполнять вошедшие в европейскую моду фокстрот, чарльстон и шимми. Девушки подошли поближе, но тут налетел разгневанный генерал Андриевский. Грубо схватив Дашу за руку и не дав ей слова сказать, поволок куда-то за собой.
Белопольская осталась одна. Хотелось уйти. Но как, если отец вот-вот появится и станет искать ее среди толпы. Ксения двинулась вдоль стены, поглядывая по сторонам. В группе сановных стариков и старух она увидела князя Белопольского.
Теперь джаз-банд вновь заменил духовой оркестр, слаженно заигравший вальс «Амурские волны». Откуда-то возник рядом Венделовский. Спросил, улыбаясь:
— Разрешите тур вальса, Ксения Николаевна?
— Я не танцую, — ответила она, продолжая глядеть в сторону отца.
— Жаль, — сказал он — Вы, вероятно, устали в этой толчее?
— И вы предлагаете мне отдых на Лазурном берегу? Или номер в отеле «Лютеция»?
— Зачем вы так, Ксения Николаевна, — огорчился он. — Кажется, я совсем не давал вам оснований для подобных...
— Послушайте, как вас! — Ксению «заносило». — У вас есть свои дела? Оставьте меня в покое, — и решительно стала пробираться к выходу.
Венделовский стоял в полном остолбенении: так не вязались слова княжны с ее обликом.
Венделовский смотрел ей вслед. Он вспомнил: Белград, отель «Москва», изъятие документов, попытка завербовать фон Перлофа, его внезапное самоубийство и записка с неожиданной просьбой: «Если вы люди, не оставьте в беде Анастасию Мартыновну Мещерскую, мою племянницу. Она в пансионате «Эксцельсиор» у Дубровника — без средств к существованию». Анастасия Мартыновна — Ксения Николаевна? Мещерская — Белопольская? И действительно ли она родственница Перлофа? «0135» обязан поставить в известность «Доктора». Достойна ли внимания Шаброля эта красавица, если она только дочь князя Белопольского, племянница генерала фон Перлофа, опытного врангелевского контрразведчика, пустившего себе пулю в лоб, когда он пенял, что его игра проиграна...
Отношения с отцом становились все напряженнее.
Началось это с лотереи в отеле «Лютеция», когда он, вернувшись поздно я заметно навеселе, разбудил ее и принялся выговаривать ей за самовольный уход, упрекал в неблагодарности: у него имелись, по-видимому, какие-то планы, связанные с ее приглашением, с кем-то он хотел ее познакомить, в какое-то общество ввести. Короче, она подвела его.
«Твои планы — твоя забота, — Ксении хотелось спать. — Надо предупреждать заранее, хотя скажу прямо: не надейся втянуть меня в свою партию. Она мне не подходит по возрасту. И кончим на этом».
Потом она решительно отказалась ехать с ним в Шуаньи: «Я же объяснила, что в твоих делах я не помощник — ни при каких условиях и ни за какие блага».
Николай Вадимович обиделся. Они почти перестали разговаривать.
Однажды, собираясь куда-то поутру, отец второпях оставил на подоконнике несколько бумаг и самодельный конверт, склеенный из грубой бумаги. Обратный адрес, написанный большими буквами, привлек внимание Ксении. Она взяла его в руки. Это было письмо от деда из России! Из Советской России, из Ленинграда — из Петрограда, который после смерти вождя большевиков стал называться его именем. И более того — с Малой Морской, из их прежнего дома! Ксения раскрыла конверт. Сердце у нее билось, буквы расплывались, строчки плясали. Чтобы успокоиться, она принялась рассматривать почтовые штемпели. Дата отправки говорила о том, что письмо пришло всего пять дней назад. Жив дед — какое счастье! И вернулся домой. Возможно, с Андреем или Виктором. Ксения плохо представляла себе эвакуацию Белопольских, отец говорил об этом неохотно, явно утаивая или сознательно искажая смысл тех событий. И еще она обратила внимание на адрес. На конверте значилось — Шуаньи... Она осторожно вытащила листок грубой серой бумаги («У них там, видно, и бумаги не достать») и увидела всего несколько строк и подпись. Да, это было письмо деда — самого близкого и дорого человека, от которого она по своей воле и глупости сбежала в Крыму... Ее дед жив! Все перенес, все выдержал. Недаром он говорил, что мужчины в роду Белопольских доживают чуть не до стал лет, оставаясь и в силе, и в разуме. Что же он пишет, боже милостивый? Как нашел их?
Ксения боязливо и медленно развернула листок, сложенный вчетверо, и начала читать.
«Милостивый государь Николай Вадимович!
Не желая вступать с Вами в политические дискуссии, обвинять Вас и выслушивать Ваши объяснения, прошу нижайше лишь об одном: сообщить о судьбе детей Ваших Виктора, Андрея и Ксении, если Бог, смилостивившись, провел их через горнило войны и житейских испытаний.
Кроме их адресов, — если они известны, — более мне от Вас, милостивый государь, ничего не надобно.
Генерал-майор генерального штаба князь Белопольский В. Н.».
Вот и все письмо!.. И тут Ксению ожгла внезапная мысль: это не первое послание дела! Отец скрыл от нее уже несколько писем. Ведь дед пишет, что ему надоели их политические дискуссии — значит, они обменялись по меньшей мере двумя-тремя посланиями. Отец не сообщил деду об исчезновении Виктора и Андрея, о том, что он живет вместе с Ксенией. Какая черствость — нет, какая подлость! Она выскажет ему все, что думает. Но князь Белопольский, словно почувствовав нечто недоброе, несколько дней провел в Шуаньи, вероятно, или еще где-то. В доме не появлялся, и гнев Ксении не то чтобы утих, но как-то притупился. До принятия каких бы то ни было решений нужно было выслушать и вторую сторону — так решила Ксения и принялась дожидаться отца...
Князь Белопольский появился через неделю — самоуверенный, веселый, заряженный какой-то непонятной энергией. Рассказал о поездке в Белград и Будапешт, о духе подъема и небывалой сплоченности среди верных великому князю людей. Николай Вадимович упивался своим рассказом, ничуть не заботясь, слушает ли его дочь. Речь его была гладка, плавна, и, только произнося имя знатных особ из дома Романовых, в прямой связи с которыми нынче он состоял, князь округлял глаза и словно на цыпочки приподнимался из почтения.
Ксения сидела одеревенев. Слушала, копила ненависть. Ждала, когда он выговорится. Улучив момент, спросила ледяным голосом, едва сдерживая гнев и неприязнь:
— Я прошу вас... Ответить... Почему вы... Считали себя вправе... Вы были вправе... Я хочу знать, по какому праву вы утаивали письма деда?
— Я? Письма? — вопрос застал князя врасплох, но он нашелся я перешел в наступление: — А по какому праву дочь устраивает отцу допрос? Ты рылась у меня в бумагах? Это по какому праву?
— Вы понимаете хоть, о чем речь?! О вашей семье! О семье, семье!.. Мне плевать на ваших наставников и великих князей! Но тут отец ваш! Он хочет знать о семье, а вы?! Вы!!
— Я не позволяю тебе говорить в таком тоне о вещах святых, о смысле моей жизни и веры.
— Вы плохой человек, и я не могу уважать вас. Вы... вы — хамелеон!
— Как?! Что?! Как ты сказала!? Ты посмела такое?! В моем доме? Живя на мои деньга? Вон!!! Привыкла быть содержанкой. Я знаю, я наслышан о тебе.
— Молчи! — с явной угрозой сказала вдруг очень тихо Ксения. — Ты прав. Я — проститутка. Прошу помнить, что я была и бандиткой. Не доводи меня до крайности: я могу выстрелить. Вот так! — она выхватила из-под подушки браунинг и дважды выстрелила в потолок. — Я ухожу.
— Ты еще пожалеешь об этом! Пожалеешь! — заметался по комнате Николай Вадимович, не зная, что предпринять, лихорадочно раздумывая, выгоднее ли ему задержать дочь или проучить ее: куда она денется, через неделю-другую сама прибежит, когда есть захочет. С другой стороны, он обещал привезти ее в Шуаньи и представить великому князю и его жене.
— Ксения, Ксения! — крикнул он вдогонку. — Поговорим... Обсудим без обид. Я — отец твой. Я — отец твой. Я погорячился.
С силой хлопнула дверь. Ксения оказалась на улице. Во всем городе у нее был лишь один человек, к которому она могла обратиться за помощью, — Даша Андриевская. К счастью, ее записочка с адресом не потерялась.
ИЗ ЦЕНТРА В БЕЛГРАД ОТ «0135»
«На Ваш запрос. Белопольская Ксения Николаевна — дочь князя Николая Вадимовича, внучка отставного генерала Вадима Николаевича, вернувшегося в Петроград, лояльного к советской власти. Сестра кутеповца полковника Виктора Белопольского (погибшего на подступах к Севастополю) и слащевца — капитана Андрея Белопольского, бежавшего в Константинополь, затем в Софию. Настоящее место его пребывания неизвестно. Ксения — «Кэт» — принадлежала к банде капитана Орлова в Крыму, эвакуировалась под фамилией Вероники Нечаевой, медсестры. В Константинополе арестована врангелевской контрразведкой. Выпущена по распоряжению Перлофа, оказавшегося ее дядей со стороны матери. Перлоф перевез Белопольскую в пансионат под Дубровник. В Париж ее забрал отец. Склонна к авантюризму. Характер волевой. Может представлять интерес лишь благодаря монархическим связям отца.
Муравьев обнаружен в Италии, в окружении Муссолини. Во время попытки изъятия документов успел их уничтожить. Поиск Издетского ведется. Полагаем необходимой перемену работы, ближе к Кутепову. Активнее используйте связи «Доктора». Монкевиц — агент Кутепова. Кандидатуру дипкурьера на ваше место до выяснения обстановки не подбирайте.
Центр».
Глава восьмая. «КОРОЛИ» И «ПРЕТЕНДЕНТЫ»
1
Итак, 31 августа 1924 года «местоблюститель» Кирилл Владимирович объявил себя императором России. В газете «Кройцайтунг» он обратился к русскому народу со своей программой, в которой провозгласил, что готов даже признать Советскую власть, если она примет его императором; обещал верноподданным возвратить промышленные и торговые предприятия их прежним владельцам; утвердить восьмичасовой рабочий день; искоренить в России разгул, бродяжничество, отлынивание от работы и многое другое. Вот только земельная его программа не отличалась ясностью.
Трудно день за днем описать жизнь царственных особ, скрытую высокими заборами и чугунными спинами надежных охранников. Где искать факты о событиях подлинных? В мемуарах лиц из их ближайшего окружения? Но ведь недаром говорят: «Врут, как очевидцы». В материалах светской хроники? Там высокие встречи, прибытия и отъезды царственных особ, роскошные туалеты, новейших конструкций автомобили, драгоценности, две-три фразы ни о чем, произнесенные его величеством или ее величеством, прокомментированные кем-то из свиты, охраны или случайных представителей «толпы»...
Провозгласив себя императором России, Кирилл Владимирович сразу будто бы успокоился и впал в политическую апатию. «Воссев на прародительский престол», он предался любимым занятиям: игре в гольф, езде с большой скоростью на автомобилях, которые, теперь менял чаще, ибо имелись еще деньги — из тех, что прислал из Америки князь Канта кузен. На фотографиях — отнюдь не монарх с державой и скипетром, а молодящийся, сильно полысевший человек в модном костюме, ловко повязанном галстуке, с платочком, легкомысленно торчащим из пиджачного кармашка на груди, радом с открытым двухместным гоночным мотором, под пальмами где-то на Лазурном берегу.
Еще фотография: Кирилл I играет в гольф. Абсолютно профессиональный замах биты, точный прищур глаз, костюм, сшитый безукоризненно, — это Канны. Об одной такой партии в Каннах есть свидетельство. Аристократическая компания, состоящая человек из сорока англичан, американцев, французов, русских. Бывший офицер-преображенец, выпускавший игроков, внезапно подтянулся, выпятил грудь и, став по стойке «смирно», возопил:
«Очередь его величества императора всероссийского!..»
Раздался хохот. Лицо великого князя Кирилла Владимировича позеленело. Он повернулся и пошел прочь.
Неутомимая Виктория Федоровна чуть не силой принуждала его заниматься политикой, принимать верноподданных и просителей. Нарядившись амазонкой, она ежедневно скачет на любимом жеребце по окрестным полям и дорогам, устраивает приемы и рауты: высокая, прямая, стройная, за время эмиграции ставшая еще более величественной (положение обязывает!), она обходит приглашенных, находя для каждого нужное слово. Кажущаяся беспечность Викторин Федоровны обманчива: «императрица» все время думает над тем, где достать деньги. Деньги, деньги! Под любые обязательства, под любые проценты. В ее голове вызревает перспективная идея: за деньгами надо ехать в Америку. Нет, нет! Не тотчас. Идею необходимо взрастить, продумать каждую мелочь. Генерал Бискупский, которому Виктория Федоровна открылась, дал совет: следует сделать так, чтобы русскую «императрицу» пригласили в Соединенные Штаты, и лицо, сделавшее этот благородный жест, было бы авторитетным, широко известным.
Согласившись с дельным советом, Виктория Федоровна приняла решение известить о своей акции супруга, который, хотя и «принял принадлежащий ему непререкаемо титул императора Всероссийского», продолжал вести себя как спортсмен, кутила и игрок... Кирилл Владимирович не возражал: он всецело полагался на ум и политические способности жены. Была определена сумма, необходимая теперь русскому монарху, — миллиона два долларов. Ну, полтора. При содействии Бискупского нашелся и посредник. Им оказался секретарь богатой американки мадам Лумис — Джамгаров, в прошлом сын владельца магазина восточных товаров на Невском проспекте.
Перед отъездом была торжественно проведена весьма серьезная акция: жене магната Генри Детердинга, русской по происхождению, Кирилл I пожаловал титул «княгини Донской» — так, аванс в будущем, посредничестве. Вскоре пришло приглашение от миллиардера Астора. Газеты моментально разнесли сенсацию. Визит стал обрастать разнообразными подробностями. Оказалось, например, что императрицу с нетерпением ждут такие некоронованные короли САСШ, как Форд, Рокфеллер и Мак-Кормик. Могучий капитал готов прийти на помощь русскому престолу. Интервенция не модна — попробуй поднять народ и дать ему в руки винтовки. Русские нашли себе, наконец, монарха. Пусть сами разбираются в своих делах, а богатый «дядюшка Сэм» им поможет.
На океанском пароходе была забронирована королевская каюта люкс (четыре комнаты, архисовременная мебель, оранжерея, телефон). В Лондоне русская императрица нанесла визит супругам Детердингам. Новоиспеченная «княгиня Донская» оказала прибывшей достойный прием. Все начиналось как нельзя лучше. И даже Атлантический океан встретил ее императорское величество приветливо: солнце светило достаточно ярко, вода походила на расплавленное стекло, как писал в газете «Дни» журналист, посланный для того, чтобы освещать деловую миссию жены Кирилла I.
Виктория Федоровна не выходила из своей каюты, не появлялась ни в ресторане, ни в салонах. И журналиста отказалась принять, заявив, что поездка носит сугубо частный и даже развлекательный характер и никак не связана с делами императорского двора: она едет по приглашению леди Астор, которая обещала ознакомить ее с достопримечательностями Нового Света, с целью перенятия опыта для строительства подобных архитектурных сооружений у себя, в России...
В путешествие Виктория Федоровна отправилась по «царским меркам» налегке и без свиты: лакеев на пароходе и так предостаточно. Ее императорское величество сопровождали лишь две фрейлины (словоохотливая пожилая Юлия и молчаливая от постоянного чувства стеснения, хорошенькая Анна — из немок), камеристка и лакей, полковник-адъютант и охранник, фамилии которых не сохранились в истории.
Юлия, приближенная ко «двору» по протекции генерала Бискупского, не могла сдержать чувства охватившего ее счастья и покоя и говорила без умолку. Виктории Федоровне ее рассказы, правдивые или выдуманные истории понравились, и она всегда готова была слушать свою фрейлину. Полковник терял бравый вид и обливался потом после любого вопроса, адресованного ему императрицей. Похоже, Кирилл специально выбрал такого, зная интерес жены к статным мужчинам. Полковник, прозванный «Максоморид» (Юлия, конечно, придумала!), да анекдоты фрейлины и составляли удовольствие императрицы во время путешествия, помогали коротать время, не выходя из каюты...
Солнце поднималось за кормой из океана. Пароход входил в Нью-Йоркский порт. Он поравнялся с гигантской статуей Свободы. «Императрица» стояла на верхней палубе, особняком от всех пассажиров, и с загадочной улыбкой смотрела на казавшееся ей надменным и вызывающе-величественным лицо женщины, державшей на огромной высоте факел, «женщины, несущей (видите ли!) свет миру». Виктория Федоровна улыбалась при мысли, что она, владелица российского трона, на самом деле значительней колосса, важнее для тысяч, сотен тысяч людей, живущих на огромной, бескрайней земле далекой России. Виктория Федоровна верила в свою звезду: едва попав в Петербург, ко двору, она сразу увидела, что умнее других, сметливей. И счастливей, как оказалось. Ее время приходит, история распорядится. Бог скажет Слово. Она дождется своего часа, не переоценивая сиятельного супруга, которому должна теперь привезти деньги. Миллионы Астора обеспечат лишь небольшой период — еще лет пять, скажем. Если Кирилл падет на этом пути — жизнь он ведет безобразную! — что ж... Такова судьба! Править начнет молодой император Владимир Кириллович, она — регентша при нем. Она сумеет сплотить верных людей и сохранить монархию. Недаром в обществе зовут ее «Екатериной Великой». Екатерина правила Россией недурно, как пишут летописцы. Умела немка повелевать русскими мужиками, умела сочетать свои удовольствия и большую политику... Мелькнула мысль о супруге. Где он, чем теперь занимается? Насколько весомей выглядела бы эта поездка, соверши они ее вместе! Кто откажет императору?! И тут же вспомнились слова Бискуп-ского, которого поддержали и Бобринский, и Доливо-Добровольский: не дело русского императора выступать в роли заимопросителя, не принято, прецедента такого за триста лет дома Романовых не случалось. Вот и едет она одна. Ей не зазорно: визит вроде бы частный, и заем вроде бы частный. А супруг, ничем не озаботясь, не изменив ни одной своей пагубной привычке ни на йоту, мечется, вероятно, по Лазурному берегу со своей последней пассией — жалкой певичкой, разрываясь между гольфом и казино. Позорит себя. А жена ради чего отправилась в далекое и опасное путешествие через океан, который мог оказаться и бурным, и штормовым. Разве Кирилл способен оценить этот жест? Ее усилия, благородство, заботу о сыне?.. Со всем этим приходится мириться. Каждый раз ее усилия лишь раздражают его. Он становится нервным, некорректным. Может даже поднять голос... Как-то крикнул: «Не дело императора считать копейки. Для этого у меня канцелярия существует! Вам не понять, мадам!» Можно было и это посчитать за оскорбление, обидеться, уехать в Баварию. Но ведь сдержалась, заставила себя стерпеть и такое, уступить ему и в тот раз. И весь день мучилась мигренью. Вызывала доктора. Доктор Пальм — настойчивый, пора избавляться от него, уже после возвращения, конечно. Заняться резиденцией, слугами, охраной...
Корабль, басовито приветствуя Нью-Йорк, замедлил ход. Рядом превозносил красоту и четкую геометрию города полковник. Прыгающая линия небоскребов Манхэттена напоминала огромные сталагмиты или огромный гребень с поломанными зубьями. Полковник продолжал говорить со все большим количеством восторженных восклицаний. Офицер как офицер — и вот, надо же, находят на этого «Максоморица» приступы поэтического вдохновения, и остановить его невозможно.
Корабль швартовался. На пирсе было много встречающих, полицейские, газетчики с фотоаппаратами. Начался спуск двух широких трапов. Все дальнейшее Виктория Федоровна запомнила отрывочно, рваными кусками, точно происшедшее не с ней, а показанное на экране синематографа...
Виктория Федоровна, почтительно и крепко поддержанная под локоть «Максоморицем», спускается на берег... Их окружает толпа. Дюжие полицейские вокруг. Несколько журналистов, оказавшиеся рядом, надсаживаясь изо всех сил, задают вопросы по-английски, по-французски и даже по-русски. Какие-то господа с помощью полицейских прокладывают коридор в толпе. В дальнем конце коридора — два длинных, как дирижабли, сверкающих автомобиля.
Она садится, и ее стремительно везут по улицам. Нью-йоркские улицы — узкие каньоны — против ожиданий, полны света, хотя то слева, то справа проносятся небоскребы — башни на кубах, поставленные на еще большие, словно из целого стекла. В миллиардах окон несутся вслед машине сразу сотни солнц.
Виктории Федоровне становится не по себе. От быстрой езды, вероятно. Она одна в этом обитом серой кожей, с мягкими подушками ящике на колесах. И смазанный пейзаж за окнами. И рядом — незнакомый, не представленный никем пожилой человек во фраке, с постоянной улыбкой, показывающей слишком белые вставные зубы. Кто он?.. Слуга? Чиновник миллионера? Загадочен, молчалив. На ее вопрос отвечает любезной улыбкой. Он сидит на откидной скамеечке напротив Виктории Федоровны и ни на миг не отрывает от нее своих желтых, внимательных глаз. Что он — сторожит ее, охраняет? Или это одни из похитителей: газеты всего мира полны сообщений о похищениях царственных особ специально организованными бандами. Похищают, держат в тайных местах, а потом предлагают вернуть за баснословно крупный выкуп... Виктория Федоровна бросает взгляд через заднее окно автомобиля. Второй черный ящик, как привязанный, мчится следом. Там полковник и фрейлины. Это успокаивает: «Максомориц» сумеет защитить ее.
Виктория Федоровна ощущает снижение скорости. Предметы, вывески и люди на тротуарах принимают привычные очертания. Машина останавливается. Следом, впритык, вторая. Кто-то предупредительно раскрывает дверцы. «Императрица» ступает на асфальт, торопливым взглядом успевает скользнуть по фасаду — он плоский, как утес, как фабричная стена, высокий — этажей десять, не меньше, с невыразительным козырьком над входом, на котором трижды повторено «Astor», «Astor», «Astor». Еще замечает крутящуюся дверь толстого стекла. «Императрицу» точно подхватывает ветер и переносит в большой круглый вестибюль, где ее появление встречают аплодисментами. Ежесекундно белым адовым огнем вспыхивает магний — щелкают фотоаппараты, раздаются возгласы — не столь почтительные, сколь веселые. Две широкие и пологие беломраморные лестницы, крытые алыми коврами, словно две руки, обнимающие вестибюль, поднимаются на второй этаж. Рядом оказываются полковник и обе фрейлины. Виктория Федоровна старается взять себя в руки. Так непривычно все в этой Америке, ошеломительно, не по-людски. Эта гигантомания, скорость, треск и грохот города, крики людей, которые изъясняются так потому, что боятся быть неуслышанными или непонятыми, вероятно.
Напротив приехавших выстраивается шеренга людей в коричневых мундирах с золотыми галунами, блестящими пуговицами и брюках с красными генеральскими лампасами — обслуга отеля. Впереди два господина, удивительно похожие друг на друга и на гоголевских Добчинского и Бобчинского, и третий — тот, во фраке, что примчал сюда «императрицу». «Бобчинский» произносит приветственную речь на английском языке. Он кланяется, улыбается, делает широкие приглашающие жесты. В группе русских никто не знает английского. Не подумали о самом важном — надо же! Признаться неудобно, момент ответственный. Надо знать, кто эти люди и что они хотят. Полковник пытается объясниться, хозяева молчат.
Отсутствие реакции понятно, и тогда «Бобчинский» произносит речь на немецком: отель «Астор» во власти русской императрицы, ей отведен лучший апартамент, где останавливались замечательные люди из многих стран — политики, финансовые магнаты, коронованные особы. В ее распоряжении слуги и шоферы. Они сделают ее пребывание в отеле «Астор» и Нью-Йорке приятным. Все ее желания будут исполняться, не следует ограничивать себя ни в чем: за все заплачено. Америка — страна, где все имеют свободу по своему кошельку, шутит он.
— Скажите, что я благодарю, я тронута, — говорит Виктория Федоровна.
«Максомориц» разражается радостной речью на французском языке, стоя во фрунт.
Все кланяются, лучезарно улыбаясь. Наконец общий язык найден. «Бобчинский» отвечает на французском: ее «императорскому величеству» будет выделен переводчик и частный детектив для охраны, мастер своего дела. Человечек во фраке неловко кланяется.
— Спроси, — приказывает по-русски Виктория Федоровна. — Как скорей устроить встречу с мистером Астором?
Полковник повторяет вопрос: «Бобчинский» и «Добчинский» обмениваются репликами. Тот, что знает немецкий, отвечает: Америка — страна сенсаций, приезд «русской государыни» — сейчас главная. И от имени журналистов, собравшихся здесь, он просит Викторию Федоровну на минуту задержаться — разрешить сделать несколько снимков, ответить на два-три вопроса. «Императрица» милостиво соглашается. Снова холодным бело-голубым огнем вспыхивает магний, газетчики, толкаясь и отпихивая друг друга, спрашивают всякую чушь. «Императрица» отвечает на один вопрос — как ей понравился Нью-Йорк — и поясняет уклончиво: автомобиль, встретивший ее, мчался с такой скоростью, что она и города не заметила и сказать о нем ничего не может. Слышится одобрительный гул: газетчики оценили юмор. Русских препровождают в лифт, который мигом возносит их на пятый этаж. Слуга-негр открывает номер.
В люксе пятнадцать комнат. Обойдя их, Виктория Федоровна осталась довольна: апартамент, действительно, царский. Правда, видела она дворцы и побогаче, хотя бы и их собственный дворец в Петербурге, неподалеку от Никольского собора. В «Асторе» просторно — это, пожалуй, главное достоинство апартамента. Удобная мебель, большая гостиная с овальным столом на двадцать персон, не меньше, стулья pandant, в углу низкий диван и кресла — возле камина из черного, с золотыми прожилками неизвестного камня. На стенах картины, изображающие бог весть что.
Ванная комната с небольшим бассейном, выложенная бело-черной и розово-голубой плиткой, с мраморным полом, золотыми кранами и полочками, Виктории Федоровне тут же захотелось насладиться теплой водой, снять ощущение усталости и напряжения последних часов. Но некстати появилась переводчица — неопределенного возраста миссис с аскетическим лицом и в роговых очках, представилась: «Дженни, Евгения Рессер». — «Вы русская, Евгения? Или немка?» — «Нет, ваше величество. У меня четыре крови. Родители много лет назад эмигрировали из России, но дома у нас родной язык — русский».
Евгения Рессер держалась независимо, но вполне почтительно и по-деловому. Были представлены горничные, лакеи, камеристки, парикмахер и медицинская сестра, согласован план проведения первого дня. После того как «императрица» отдохнет и пообедает, планировалась автомобильная прогулка с целью ознакомления с достопримечательностями. Дав необходимые распоряжения обслуге и сообщив номер своего телефона («Я живу на вашем же этаже, и при необходимости меня можно вызвать в любое время суток»), Евгения удалилась.
Полковнику было дано задание выяснить у директоров отеля, когда предполагается встреча с миллионером.
Виктория Федоровна, оставшись одна, впервые подумала о своей полной неготовности к переговорам с этим Астором (мысленно она называла этого богача лордом Астором: казалось благозвучней). Хорошо, если он даст заем «на дело Кирилла» — пусть и под проценты, — но не потребует ни земель, ни концессий, ни особых прав для себя в будущей России. Торговаться с ним? До каких пор, на каких условиях? Вдруг потребует Крым? Кавказ? Дальний Восток? Мало ли какие планы on вынашивает. Благотворительностью миллионеры не страдают. И тут все не продумано, не подготовлено. Хоть бы советчика, дипломата с собою взять. Но теперь и об этом мечтать поздно. Надо ей и тут целиком рассчитывать только на свой ум. «Будем спокойны, Виктория, — сказала она себе. — Спокойны и мудры. Смотрите зорче».
За обедом у «императрицы» было хорошее настроение. Она подшучивала над Анной, обещая отдать ее замуж за старого миллионера. Опоздавший к началу обеда полковник долго извинялся за «недозволенность поведения», пока Виктория Федоровна не напомнила ему о поручении. «Максомориц» смутился до крайности и путано ответил, что того хозяина отеля, который говорит по-французски, он не застал, а другой, изъясняющийся по-немецки, очень торопился и ответил неясно. Насколько «Максомориц» понял, миллионер отбыл по совершенно неотложным делам и вернется дня через два-три. Астор просит извинения у ее величества, но дело оказалось настолько серьезным, что задержать свой отъезд он не смог.
Виктория Федоровна попросила Рессер перепроверить все.
Дженни вернулась настолько быстро, что у всех одновременно мелькнула мысль — переводчица вовсе не ходила никуда. Впрочем, она вполне могла воспользоваться и телефоном из своего номера... Информация полковника подтвердилась. Господина Асгора два-три дня не будет в Нью-Йорке. Он потребовал создать «ее императорскому величеству такие условия для отдыха и развлечений, чтобы эти дни пролетели как час». И раз на сегодня деловая встреча отменяется, императрица может выбрать любой способ провести время. Дженни осмеливается предложить экскурсию по городу — автомобили у входа. Виктория Федоровна пожелала ехать незамедлительно...
Две машины, быстро отъехав от отеля, влились в реку, по которой потоком в обоих направлениях двигались легковые и грузовые автомобили, омнибусы, такси. Они ехали по Бродвею. Слева и справа мелькали спрессованные в ряд здания. Узкими, темными щелями разбегались перпендикулярные улицы. Уступами — одна пирамида на другой — лезли в небо небоскребы. В глазах Виктории Федоровны рябило. Дженни говорила без умолку. Голос был ровным, менторским, усыпляющим.
— «Вулворт-билдинг», — перечисляла Рессер. — «Метрополитен-лайф» — двести десять метров. Полюбуйтесь, отсюда видно здание муниципалитета, увенчанное многоярусной башней. Далее, уступами, темно-коричневый небоскреб с золоченой декоративной башней — так называемый «Радиатор-билдинг», Банк Пруст... Мы с вами, ваше величество, на Бродвее. Здесь наряду с центром американского бизнеса — это чисто наше слово, оно означает «дело», «предприятие», но не только... Это и главный центр развлечений. Тут превосходные отели, универсальные магазины, дорогие рестораны и клубы, театры и синематографы, казино и некоторые не особенно придерживающиеся морали заведения...
— Но совсем нет церквей.
— Церковь Святого Павла мы проезжали, ваше величество.
— Одна на весь огромный город?! — ужаснулась «императрица».
— Американцы — верующий народ. И... и церквей у нас достаточно. Они не так заметны, как в России. Быть может, вы желаете остановиться и выйти?
Человечек во фраке шевельнулся и привычным жестом сунул руку под фрак, куда-то под мышку.
— А для чего?
— Ну, я не знаю, ваше величество. Осмотреться. Может, вам захочется посетить магазин, выпить кофе.
— Вы забыли, вероятно, кого я представляю? — голос Виктории Федоровны зазвучал властно. — Я — русская императрица, миссис Рессер. Мгновенно сбежится толпа. Интервьюеры. Бог знает, что напишут газеты. Мало ли кто захочет беседовать со мной?!
— Прошу извинения у вашего величества. Мы едем дальше.
— А что еще вы хотели мне продемонстрировать? В этом городе есть парк?
— Есть, ваше величество. Но я хотела бы показать вам особую дорогу, автомагистраль, которой американцы гордятся и называют — парковой.
— В другой раз. Возможно, завтра, я устала.
— Мы поворачиваем к отелю, — миссис Рессер заставила себя улыбнуться.
Машины остановились у отеля. Все вышли. Первым — охранник, вставший так, чтобы видеть всю группу. Темнело.
— У меня голова закружилась. И все мелькало, как на карусели, — сказала фрейлина Анна.
— Какая ты слабенькая у нас, — ответила Виктория Федоровна, готовясь к встрече с журналистами. — Пошли, господа. Пошли, пошли.
Но против ожиданий вестибюль отеля был пуст. За пальмами, где находился ресторан, громыхал шум мчащегося поезда, волчий вой труб и ритмичные удары парового молота джаз-банда. Портье с низким поклоном вручил полковнику ключи от комнат.
— Интересно, почему их не было внизу? — озабоченно спросила Виктория Федоровна.
— Сенсация кончилась, ваше величество, — Дженни ответила с уверенностью.
— Объяснитесь, миссис Рессер.
— Очень просто, ваше величество. Может быть, в этот момент горит дом. Столкнулись два корабля, ограбили банк — мало ли что могло случиться? И вся пресса там.
— Но ведь есть и у вас светская хроника?
— В Америке, как вам, вероятно, известно, нет короля. Газеты интересуются жизнью магнатов бизнеса, банкиров, звезд киноэкрана, судьбами гангстеров.
— Помнится, вы говорили, что мой приезд будет описан уже в сегодняшних газетах?
— Завтра утром, если вы разрешите, я принесу вам целую кипу газет. Нужен будет перевод?
— Вам позвонят, если это будет необходимо.
Первый день пребывания в Америке подходил к концу. Что принес он? Ничего реального. Почему Астор не встретил ее, не оставил доверенное лицо, могущее начать переговоры? Что-то с самого начала пошло не так: что-то беспокоило ее.
Виктория Федоровна почувствовала озабоченность. Она позвала фрейлину Анну и приказала ей спуститься вниз и купить несколько — все равно каких! — газет. «Императрица» подошла к окну, отодвинула тяжелую бордовую штору, тюлевую занавеску. В глаза ей ударили тысячи разноцветных огней. Огни вспыхивали и гасли, сверкали, кружились, перебегали с места на место, образовывали цифры и складывались в слова. Это была реклама — зовущая, приглашающая, приказывающая, умоляющая, убеждающая. Ничего подобного в Европе она не видела. Привыкнув к адовому зрелищу, Виктория Федоровна разобрала даже надпись, рекомендующую нить только виски «Canadis Club», название находящейся неподалеку гостиницы «Park Sheraton Hotel», театра «Capital», автомобильной фирмы «Ford». Увидела и огромные светящиеся буквы отеля «Astor». И море огней, двигающихся по Бродвею. От этого зрелища невозможно было оторваться...
Вбежала насмерть перепуганная фрейлина Анна. В вестибюле газет не оказалось, а когда она вышла на улицу, ее стал преследовать огромный, неприятного вида господин, выкрикивающий непонятные угрозы. Возле газетной лавочки он старался схватить ее, но ей удалось выскользнуть и убежать. «Это страшный город, — повторяла Анна, — умоляю, ваше величество, не посылайте меня никуда. Меня похитят или убьют».
Полковник «Максомориц» получил распоряжение без газет не возвращаться. Вскоре он вернулся, держа перед собой, как блюдо, толстую газету, развернутую на нужной странице.
— Ваше величество, прошу милостиво принять. Миссис Рессер сделала перевод по моей просьбе, — и, учтиво кланяясь, протянул листок бумаги.
«Императрица» сделала знак положить все на бюро. Полковник проворно подал своей повелительнице кресло. Виктория Федоровна склонилась над полосой, скользнула взглядом по номеру — «13», — поморщилась: была суеверна. Увидела фотографии. Вот она спускается по трапу; улыбающаяся, садится в машину; вот возле входа в отель; в фойе. Оставшись довольна фотографиями, Виктория Федоровна обратилась к тексту.
«Сегодня в Нью-Йорк приехала императрица России, жена императора Кирилла I Романова, принявшего русский трон после убийства большевиками царя Николая И. Цель поездки держится в тайне. Русская остановилась в отеле «Астор». Она сама выбрала эту гостиницу, заявив, что неоднократно видела проспекты, изображающие все помещения первоклассного отеля, однако действительность превзошла ее ожидания. Для нее созданы поистине царские условия проживания и отдыха. Императрица и ее фрейлины поселены в апартаменте «А», состоящем из пятнадцати комнат (каждая описывалась). «Отель «Астор» превосходен! — воскликнула в заключение беседы русская, не в силах сдержать восхищения. — Он создан специально для королевских особ любых стран! Я довольна! Отель «Астор» напоминает мой дворец в Петербурге».
— Что скажете, полковник?
— По-моему, замечательно отражено, ваше императорское величество! И какая скорость! Это же сегодняшняя газета!
— Прекрасно, так прекрасно. Вы свободны, благодарю.
— Честь имею!..
Утром миссис Рессер принесла пачку газет — ни одна не писала о русской государыне, не содержала ее фотографий, — и только в одной коротенькой заметке сообщалось, что жена Кирилла I совершает развлекательную прогулку по ряду стран в обществе своего любовника — бывшего полковника гвардии г-на N... и что среди ее драгоценностей — несколько уникальных алмазов, принадлежащих московским царям.
Виктория Федоровна взорвалась. Миссис Рессер пожимала плечами. Обоих директоров отеля на месте не оказалось. Астор тоже еще не вернулся.
Вбежала потрясенная фрейлина Юлия — в нарушение придворного этикета не могущая сдержаться, заявила, что имеет чрезвычайное сообщение. Оставшись наедине с «императрицей», поведала: только что в вестибюле подошли к ней двое, из коих один свободно объяснялся по-русски, и сказал, что все это обман, предпринятый ради рекламы. Никакого миллионера Астора в природе не существует!
— Но каюты, апартаменты, — бормотала Виктория Федоровна, понимая уже правду услышанного, но еще не желающая примириться с ней. — Кто все это сделал?
— Все из-за рекламы, — объяснила Юлия. — Вы, ваше величество, как бы приманка. Чтоб все люди плавали через океан только на судах трансатлантической пароходной компании и жили только в отеле «Астор». Вы им сделали рекламу!
— Но кто субсидировал эту поездку? Средства ведь немалые потрачены — чьи?
— Они сказали, ваше величество, все расходы взяла на себя пароходная компания, фирма, выпускающая автомобили «Роллс-Ройс», и хозяева отеля «Астор».
— Верны ли твои сведения?
— Я... я не знаю. Они так сказали. И кто они, я не знаю. Они исчезли.
— Прежде надо все проверить. Неужели в сговоре с ними и Джамгаров? Я помню, как он уговаривал меня, убеждал. Даже настаивал. И все-таки не следует терять голову, необходимо проверить, чтобы оградить себя от неприятностей и не стать посмешищем в глазах царствующих домов. Привлечь русское посольство. Хоть кто-то там остался? Ведь был этот... как его? Бахметьев! Пошлите полковника. Пусть свяжется хоть с кем-нибудь.
Связались. Проверили. Все точно — реклама.
«Императрица» со свитой тихо ретировалась в Европу. На какие средства — неизвестно: перед отъездом, как писали газеты, она истинно по-царски раздала прислуге отеля «Астор» более десяти тысяч марок — все, что у нее имелось. Полковник исчез и остался в Америке: предчувствовал гнев своего монарха. По возвращении в Париж Виктория Федоровна получила меткое прозвище. В кругах русской эмиграции ее стали называть «рекламной императрицей». Обидней не скажешь!
2
За прошедший год великий князь Николай Николаевич заметно состарился. То ли тайные недуги уже сказывались, то ли сильным оказался психологический удар, нанесенный Кириллом, самозванно захватившим трон Романовых. Князь одряхлел, часто его преследовал сухой астматический кашель. Сторонники повсеместно утверждали: Николай Николаевич собирает силы, спокойно и трезво оценивая политическую ситуацию. Усадьба Шуаньи и ее хозяин жили прежней размеренной жизнью: переписка, прогулки, встречи с деловыми людьми, совещания с избранными. Великий князь все чаще приглашал из Парижа Белопольского, чтобы обсудить некоторые идеи: князь — человек умный, политически образован, прошел трудную школу партийной борьбы, приведшую его в свой круг, не ортодокс, хотя и монархист — безусловно...
Хозяин и его гость беседовали, углубившись в парк, чтобы им не мешали. Белопольский рассказал, что пишут газеты разных направлений о поездке в Америку Виктории Федоровны, привел некоторые сенсационные подробности, вызывающие смех.
— «Кирюха» и жену взял по образу и подобию своему — отнюдь не с установлениями придворного этикета, — сказал Николай Николаевич. — Парочка! Выставляют Романовых на осмеяние целому свету, — в его голосе прозвучало нескрываемое торжество.
— Да, — согласился Белопольский. — Ошибка непростительная, ее результаты скажутся незамедлительно. Самозваный «император» потеряет много сторонников. К тому же полное финансовое банкротство, ваше высочество.
— Пожалуй, — согласился великий князь. — Но что отсюда следует? Какие наши действия, вы полагаете, должны иметь место?
Вопрос, заданный столь неприкрыто, удивил Белопольского: он был не свойствен великому князю, который, хоть и щеголял принадлежностью к воинству, имеющему обо всем четкое мнение, предпочитал до последнего времени скрываться за расплывчатыми формулами «вождя-подвижника» (как окрестил его «марксист-монархист» Петр Бернгардович Струве), который лишь ждет, когда призовут его повелевать Россией. «Что же произошло? — думал Белопольский. — Неужто он решил, что настало время действовать?» Следовало в этом убедиться, а потом давать советы — раз их ждут от него. Белопольский выдержал паузу, будто задумавшись, и правильно — хозяин Шуаньи, словно пожалев о преждевременно вырвавшихся словах, сказал иным, совершенно будничным тоном:
— Врачи меня в полон взяли. Утверждают, переутомление. Предписывают полный отдых. Пугают. Думаю, может, поехать в Швейцарию? Возьму секретаря, лакея — и на Женевское озеро или еще куда-нибудь... Вернусь месяца через два-три. Разве я опоздаю к чему-то?
«Вот оборотная сторона медали и новый вопрос. Придется давать ответ», — подумал Николай Владимирович спокойно, ибо ответ, как говорится, был у него уже на кончике языка:
— Вы знаете, ваше высочество, мое мнение. Я — за действия! А особенно теперь, после дипломатического провала противников. Следует воспользоваться благоприятным моментом. Бог за вас! Следует сделать заявление.
— О чем же? — перебил великий князь, остановившись и зорко вглядываясь в лицо Белопольского.
— О взаимоотношениях членов российского императорского дома — верном пути, по которому ваше высочество поведет верноподданных. О завоевании права выступить от имени русского народа.
— Я понимаю вас, князь. Кроме «кирнлловцев» есть еще группы. Эти выступают с просьбами принять на себя корону Марию Федоровну.
— Вдовствующая императрица-мать и передаст ее тому, кого сочтет достойным преемником власти. Или новый монархический съезд определит.
— Съезд? Хм... Снова вселенское собрание болтунов. Может, лучше представительное военное совещание?
— Дело военных — война. Простите, ваше высочество. Я человек статский и поэтому мыслю несколько однобоко. К тому же недостаточно осведомлен о конечных целях вашего высочества. Вы полагаете, военная диктатура?
— Я думаю, — значительно и важно сказал великий князь. — Вот и вы призываете меня к поспешным действиям. Но я думаю... В ближайшие дни у меня совещание. Самые приближенные военачальники: генералы Кутепов, Миллер, Лукомский, Богаевский, Эрдели («Врангеля не назвал! — отметил князь Белопольский. — Барон отодвинут от дел окончательно. Жаль, жаль: торопятся».) Цель — объединение наших группировок, привлечение в РОВС лучших сил, начало интенсивной антисоветской работы групп, находящихся за границей. В том числе и Нечаевского корпуса в Китае. Новые назначения в среде командного состава. Формирование специального Совещания при... — Николай Николаевич задумался, как бы сказать половчее, но, не придумав ничего для маскировки, закончил: — При мне, как руководителе штаба. Вы что-то хотели сказать, князь?
— Нет, ваше высочество. Я весь внимание. Смею думать, конечная цель — интервенция против Советов?
— При одном условии: если какая-то часть России заявит о своем желании принять мою власть. Интервенция — не то слово. Я не допущу кровопролития. Точно так же, как не приму верховной власти без решения Земского собора.
— Отношение Совещания к великому князю Кириллу — будет ли позволительно узнать?
— Полное неприятие новоиспеченного «государя». Никаких компромиссов. Никаких открытых программ, — разглагольствовал все громче Николай Николаевич. — Надо повести дело так, чтоб вся программа мыслилась как бы в несколько отдаленном будущем. А пока мы выдвигаем лишь лозунг освободительного движения. Государственное устройство — дело самой России, не отдельных эмигрантских партий или групп. Вы согласны, князь?
— Абсолютно, ваше высочество!
— Мое кредо — государственный бескровный переворот, — продолжал Романов. — На первый период Советы — разумеется, без большевиков! — сохраняются. Разве я не посвящал вас? По-моему, посвящал.
— Вы запамятовали, ваше высочество.
— А? Да!.. Ну, вот. Советы сохраняются. Я — диктатор. При мне Директория из шести человек — орган исполнительный, и Сенат, имеющий совещательные функции... Вернемся, князь. Я несколько устал, — он закашлялся внезапно и, постояв, несколько метров прошел молча, собираясь с силами и мыслями, потом сказал, отделяя слово от слова, будто ему не хватало воздуха: — Армия... именуется Красной... Офицеры остаются... на постах... Давайте... присядем, князь.
— Извольте. Вам нехорошо, ваше высочество? Может, доктора?
— Сейчас... пройдет. Доктора к... чер... ту! — великий князь, откинувшись на спинку скамейки, снова замолчал. Глаза его были закрыты, но бледность уже проходила, лицо обретало краски. — Простуда, — сказал он, устыдившись своей слабости.
— В таком случае вам надо ехать в Швейцарию, ваше высочество.
— Возможно... На чем я остановился?
— На армии. Но, вероятно, в другой раз?
— Пустое! На Красной армии — да! Но без комиссаров, конечно. Командиров оставляю только лояльных... Только!.. Со временем созыв Земского собора. Представители всех сословий. Собор избирает достойного России царя. Вот так, князь. Что скажете?
«Интересно, кто автор и вдохновитель этой «стройной» и малореальной программы? — подумал Белопольский. — Неужели Петр Бернгардович Струве? Слишком примитивно: Струве — политик, ученый, знающий эмиграцию. Год ведь двадцать пятый на дворе. Нет, не Струве. Но кто? Кутепов? Почему решил опробовать все это на мне? Доверяет? Или не доверяет этим бредовым идеям?»
— Трудно сказать, ваше высочество, — ответил он, придавая голосу спокойную весомость. — В целом план представляется мне перспективным, но требующим внимательнейшего изучения всех деталей.
— Так, так... Уходите от ответа, — великий князь, ожидавший, вероятно, шумных восторгов, посуровел.
«Что на уме, то на лице!» — вспомнил Белопольский и решил тут же исправить промах.
— Никак нет, ваше высочество! Привлекает меня в вашей военно-стратегической разработке гениальное перенесение, так сказать, главного удара. Не замечая самоиспеченного самодержца, игнорируя его, вы переносите свою деятельность непосредственно на Россию. Этот талантливый ход достоин высочайшей оценки. Не побоюсь преувеличения, наполеоновский ход, ваше высочество. Прост, дальновиден, эффектен — его по достоинству оценят друзья России и наши потомки!
«Не перегнул ли? Нет, в самый раз. Дюк доволен».
— Если будет угодно вашему высочеству, готов и я руку приложить. В меру своих сил и способностей по части гражданского плана, разумеется. Используя ваше доверие, за счастье почту.
— А что ж?! Пожалуй, — милостиво улыбнулся великий князь. — Недаром на Руси говорят, одна голова хорошо, а две — лучше.
«Чья же все-таки эта первая голова? — беспокоила неотвязчивая мысль. — Кого имеет в виду? Не себя ведь? Но разве спросишь? И разве ответит правду?»
Внезапно кусты позади зашелестели. На аллее, перед скамейкой, появился средних лет отличной военной выправки человек с черной повязкой, закрывающей правый глаз. Сказал, вытянувшись по стойке «смирно»:
— Осмелюсь помешать-ссс, ваше имп-соч-во! Генерал Кутепов-ссс прибыли.
— Идите, подполковник, идите, и передайте: пусть генерал работает, — милостиво приказал Николай и, проследив, как тот уходит, чеканя шаг, сказал, обращаясь к Белопольскому: — Теперь я за каменной стеной: сам Александр Павлович ставит мне охрану. Еженедельно приезжает из Парижа, инспектирует. Устраивает ложные тревоги. И знаете, все отлично! Отличные воины — преданные, выученные, тренированные.
«Неужели автор плана все же Кутепов? — не оставляла прежняя мысль. — «Герой Перекопа, Галлиполи и Тырново» на такое не способен: у него политический кругозор на уровне полицмейстера, военный — как у батальонного командира. Кутепов ни при чем...»
— Александр Павлович рекомендует мне небезызвестного Конради, преданность и храбрость которого гарантирует. Взять? Ваше мнение, князь?
— Я бы не нанимал убийцу, — сказал Белопольский и, спохватившись, поспешил добавить: — Из политических соображений, ваше высочество. Мнение общества... Европы.
— Умерщвление большевистского комиссара не считаю убийством, — наставительно произнес Николай Николаевич. — Впрочем, возможно, вы и правы. Я подумаю.
По аллее к ним приближался генерал Кутепов. «Даже так, без вызова, — изумился Белопольский. — Свой, человек в Шуаньи». Александр Павлович, чуть располневший, казался отлитым из чугуна. Он расточал спокойную уверенность.
— Ваше высочество, — быстро сказал Николай Вадимович. — Вы давно не принимали генерала Врангеля?
— Барон не частый гость Шуаньи. А что?
— Настоятельно рекомендую привлечь и его к рассмотрению военной части вашего плана.
— Военной? — даже как бы удивился великий князь. — В моем плане нет никакой «военной части». С чего вы взяли?
Кутепов подошел к скамейке.
— Не могу больше удерживать вас, князь.
Белопольский поспешно откланялся.
3
РОВС, руководимый от имени Николая Николаевича Кутеповым, начинал свои боевые действия не слишком успешно. Первая акция, намеченная на сентябрь 1925 года, — организация убийства Чичерина, поехавшего лечиться за границу.
После окончания работы Генуэзской конференции нарком иностранных дел Советской России однажды уже счастливо ушел от покушавшихся. Вторая атака ставилась шире, профессиональнее, привлекались значительные силы. По замыслу контрреволюции, это убийство должно было стать не только демонстрацией силы новой организации, но и достойным ответом французскому правительству, установившему дипломатические отношения с СССР. Ударом на удар!
Акцию возглавил небезызвестный Георгий Евгеньевич Эльвенгрен[34], хотя номинально главой террористической группы числился генерал Юрий Федорович Волошинов. Третьим был князь Владимир Вяземский — бывший кавалерийский офицер, приближенный князя Михаила Александровича, ныне содержатель бара в Ницце. В запасе находился генерал Топорков — командир Атаманского пола, однокашник Эльвенгрена по Николаевскому училищу. Связь с Кутеповым шла только через Эльвенгрена, который поселился в Монте-Карло, в пансионе «Hotel de la Terrasse» доктора Габриловича.
Газеты сообщили, что Чичерин прибыл, поселился в Нейи, в отеле «Maritime». Агентура подтвердила эти сведения, но, когда стали проверять через полицию (!), оказалось, комиссар живет в лечебном заведении в пятнадцати верстах за Тулоном.
Террористы решили побывать там. Утром Волошинов на мощном автомобиле марки «Роше и Шнайдер» ждал группу на площади у Ниццского вокзала. Он сообщил: на проведение операции нм получено две тысячи франков. Тут расходы на машину и отель, на быстрое и хорошо организованное отступление после завершения операции место приготовлено. Полиции опасаться не нужно. В случае ареста организацию называть не следует — их действия лишь месть русских патриотов большевикам.
Решили ехать в Тулон. По дороге посетили генерала Топоркова в Каннах. Он подтвердил: «Чичерин рядом. Чего вы смотрите?» — «Не беспокойтесь, генерал, — ответил Волошинов. — Необходимые меры предпринимаются».
Из Канн террористы поехали в Сан-Рафаэль, задерживаясь по пути у различных дач и пансионов, разведывая, не остановился ли там Чичерин. Никаких результатов! Переночевав, группа отправилась в сторону городков Сан-Максим, Борн и Нейи. В Нейи прибыли в два часа пополудни. На улицах царила дремотная тишина. Отсутствие нарядов полиции и секретных агентов охраны укрепило террористов в мысли, что Чичерина здесь нет.
Подъехали к отелю «Maritime», расположенному довольно далеко от городка и соединенному с ним узкой дорогой. Выведя их к берегу, дорога пошла вдоль садов, задами домов и отелей, выходящих фасадами к морю. Оставив машину на площадке у отеля, убийцы заняли круглый столик под тентом, заказали вермут, закуски и принялись наблюдать. Через полчаса им стало ясно, что в гостинице остановилась важная особа. По улице стали медленно прохаживаться парами агенты, вдоль ограды и ворот встало четверо. Как только Волошинов, Эльвенгрен, Вяземский и двое их людей сели за столик, из подъезда вышел какой-то человек и, не скрываясь, принялся их пристально разглядывать. Вскоре они заметили, что за ними наблюдают и из окна фасада отеля, расположенного «покоем». Соседний столик заняла излишне шумная ватага иностранцев. Все это представлялось весьма необычным и заставило террористов насторожиться. Волошинов направился в отель узнать, есть ли свободные комнаты. Портье любезно ответил ему, что сколько угодно, а затем, догнав уже возле столика, извинился: он ошибся и просит прощения, ибо все номера оказались занятыми.
— Не подвели ли вас, генерал, друзья из полиции? — заносчиво спросил Эльвенгрен Волошина.
— Что вы имеете в виду? — с обидой ответил генерал.
— То, что в Тулон нам ехать нет смысла.
— Можете не ехать!
— Дело в другом, — Эльвенгрен старался сохранить спокойствие.' — Подозревает ли полиция о мотивах нашего путешествия? Нам нет смысла горячиться. Надо думать.
Пока они совещались, что делать дальше, на улице показался лимузин, двигающийся с большой скоростью. Сделав полукруг, автомобиль круто остановился перед главным подъездом. Быстро вышел Чичерин, с ним еще двое, и скрылись в отеле. Эльвенгрен узнал народного комиссара. Ошибки быть не могло. Его внезапное появление ошеломило ровсовцев. К тому же еще два агента полиции заняли соседний столик, заказали кофе, откровенно разглядывая русских. Террористы смешались, опасаясь, что полиции известен их замысел и сейчас их арестуют. Наскоро расплатившись, они кинулись к автомобилю и умчались, отложив проведение операции по ликвидации Чичерина до следующего раза...
...Вторая акция ровсовцев — покушение на советского полпреда Берзина в Вене — провалилась так же в сентябре 1925 года. Полиция была предупреждена кем-то о зреющем белогвардейском заговоре. Аресту подверглись бывшие врангелевские офицеры: Булагин, Вихнов, Дельвиц, Шевченко, руководимые бывшим полковником Федором Петровичем Бородиным, снабжавшим группу деньгами и фотографиями Берзина. Окончивший в свое время школу прапорщиков, Бородин служил у генерала Дроздовского — начальником связи полка, затем командиром отдельной инженерной роты — у Витковского. Теперь, именно через Витковского, он и выполнял распоряжения Кутепова. Вина арестованных считалась доказанной. Печать била тревогу: в судебных материалах имелись данные об одновременном нападении ровсовцев на парижское и римское полпредства Советской России...
Значительная роль в срыве первых терактов «Российского воинского союза» принадлежала «Доктору» и его товарищам. Они обратили внимание Центра и на поддержку, которую оказывали РОВСу разведывательные службы Англии, Франции, Польши. Замелькали в газетах сообщения о панихидах по погибшим неизвестно где (ясно — в СССР) белым офицерам, которых еще несколько месяцев назад встречали на улицах Парижа и Берлина, в Белграде, Софии, Праге и Будапеште.
В Центр было сообщено о появлении в Берлине и Хельсинки Станислава Игнатьевича Издетского, вскоре вновь исчезнувшего. Сообщено, к сожалению, поздно. Теракт был произведен в Москве...
Едва Монкевиц вернулся в Париж, он тут же был принят в штабе РОВСа на рю Колизе генералом Кутеповым.
Николай Августович докладывал о положении руководимых им террористических групп, засланных в Совдепию. Хвастать было почти нечем, группы проваливались одна за другой — точно их выявление кто-то предсказывал и вычислял заранее.
Кутепов нервничал: сегодня ему предстояла поездка в Шуаньи к Великому князю, а говорить, в сущности, было не о чем. Однако своего «козырного туза» Монкевиц все же приберег для эффектного финала доклада. И знал: его сообщение исправит настроение начальника... Пока же он терпеливо выслушивал попреки и насмешки. Кутепов нервничал. Еще пятнадцать минут — его терпение окончательно иссякнет, и он начнет грозить увольнением «за штат». С возрастающей неприязнью Кутепов смотрел на подчиненного, думая над тем, что хорошо было бы этого косого ловкача с хорошей военной выправкой и манерами сиятельного вельможи не просто прогнать от себя и лишить должности (это все равно рано или поздно придется сделать), но самого послать в Россию. Во главе очередной пятерки. И не с инспекцией, а с обычным боевым заданием: пусть покажет, каков он террорист, если организатор никудышный. Умение Монкевица хорошо пожить в любых условиях Кутепов знал и мирился с этим лишь потому, что Монкевиц, заведуя отделом штаба главкома, охотно пошел на соглашение поменять хозяина и «освещать» Врангеля. Но и тут ротмистр Знаменский сообщал больше, чем десять Монкевицей. Поэтому Николаю Августовичу и приказали заняться подготовкой и формированием отдельных групп, засылаемых в Россию. И вот — пожалуйста! — у господина полковника, как оказывается, полный провал. Он не готов к работе в новых условиях. Надо от него избавляться, пора. Группы — из самых, пожалуй, надежных — попадают в руки большевиков одна за другой. Следует и в этом разобраться: не пробрался ли в РОВС предатель, прыткий большевичок из совнародовцев, коминтерновцев и как их еще там? Может, и у самого Монкевица рыльце в пушку? Нет, это маловероятно! Полковник вполне доволен своим нынешним положением, которое дает ему и определенные деньги из двух «карманов», и положение довольно независимое — при полном отсутствии какой бы то ни было опасности. И чтоб бывший начальник дивизии продался большевикам? Зачем? Отчего? Нет, маловероятно.
— Ну-с, полковник, — сказал Кутепов грубовато, с едва скрываемой угрозой. — Доклад ваш, как я полагаю, подходит к концу и все на той же ноте? Хвастать нечем, а? Обидно, очень обидно.
— Позвольте не согласиться с вами, ваше превосходительство, — вдруг переменив интонацию, нахально сказал Николай Августович. — Имеется и другой факт. Нами обезврежен красный агент, долгое время работавший в вашем штабе. Еще с войны в Крыму, ваше превосходительство. Вы не раз, смею думать, видели его, разговаривали, давали поручения.
— Я?.. Кто? — Кутепов хотел вскочить, но сдержался: в том, что докладывающий долго стоял перед ним, уже демонстрировалось его недовольство, его нерасположение. — Как фамилия? Кличка? Номер? Черт знает что! Говорите!
Монкевиц, торжествуя, перегнулся и положил на стол перед генералом орден Красного Знамени и фотографию красного командира рядом с молодой красивой женщиной, темноглазой и темноволосой, с толстой косой, обернутой вокруг головы. Кутепов узнал мгновенно: капитан Корниловского ударного полка, прикомандированный затем к штабу его корпуса, офицер для особых поручений. И фамилия вспомнилась сразу — Калентьев Глеб Григорьевич. Или Георгиевич? Но Калентьев — точно. Он и в Галлиполи был, и в Софии. А потом внезапно исчез в одно время с Перлофом. Тогда почему-то не нашлось времени разбираться с этим, передоверил штабу главкома... Так ничего и не узнали, дело ушло в песок. Может, ошибка, на которой и играет теперь Монкевиц, чтобы оправдаться в своей бездеятельности?
— Это капитан Калентьев, — сказал Кутепов спокойно. — Знаю его как хорошего и исполнительного офицера.
— Тут совсем другая фамилия, ваше превосходительство. — Монкевиц положил на стол служебное удостоверение, сказал медленно и со значением: — Усков Глеб Николаевич. Чекист. И не рядовой.
— Постойте, постойте с вашими спектаклями, Монкевиц. Докладывайте как положено.
— Потребуется определенное время. Боюсь задержать...
— Садитесь. Говорите — подробно и доказательно. Речь идет о... Вы понимаете? Ваша служебная карьера. Вы рискуете, Монкевиц.
— Я ничем не рискую, ваше превосходительство. Я — участник событий, разыгравшихся в Москве.
— В Москве? — еще больше поразился генерал... — А вы как оказались в Москве?
— Внезапно заболел ротмистр Никольский. Он должен был идти на встречу с известным вам Издетским. Времени для подготовки замены не было. И я пошел сам, — полковник сказал это не без гордости. — Однако не хочу отвлекать деталями внимание вашего превосходительства.
— Как это — деталями?! Почему не поставили в известность меня? — уже несколько смягчившись, пробурчал Кутепов.
— Вы были в Венгрии, ваше превосходительство. Затем, как стало известно, направились в Софию. Я не имел права задерживать операцию.
— Итак, вы посетили столицу Совдепии. Что ж, рассказывайте о тех событиях. Готов выслушать все. Старайтесь не упустить ни одной важной детали. Итак.
— Все же не смею занимать внимания вашего превосходительства. Одно из западных «окон»... поездка на телеге до железнодорожной станции и далее — варварским поездом. Короче, я прибыл в Москву.
— Ваши впечатления о Москве.
— Признаться, я несколько... Как бы это сказать? Был ошеломлен, поражен, что ли. Нэп, введенный Ульяновым, помог большевикам довольно крепко встать на ноги.
— Как это вы поняли? За один день? Вы проницательны, полковник, — Кутепову был снова неприятен поворот, который принимал разговор, но полковник, казалось, не заметил и этого.
— Конечно, два дня — мало, ваше превосходительство, — сказал он так, будто от его наблюдательности в данном случае зависела его честь разведчика. — Но глаза никогда еще не подводили меня. Люди на улицах, движение транспорта и обилие моторов, магазины, торгующие весьма бойко разнообразными товарами, общее настроение толпы, наконец...
— Хорошо, хорошо, полковник! Никто не сомневается в вашей прозорливости и способностях. Попрошу вас эти соображения изложить мне письменно.
— Слушаюсь!
— Переходите к сути рассказа, — милостиво кивнул начальник РОВСа. И заключил, придав лицу обычное, хмурое выражение: — Информативно. Самое главное.
— Мне удалось через «Беспалого» установить контакт с Издетскнм в тот же день. Встреча была назначена на Петровке, второй четный дом от Кузнецкого моста. В два часа пополудни.
— Рукой подать и до Лубянки, — не удержался от реплики Кутепов. — Москва вам мала показалась?
— Я тоже удивился. Однако, как показали последующие события, логика встречи именно в этом месте имела определенный смысл. Издетский, случайно встретив Калентьева, выследил его и принял самостоятельное решение ликвидировать.
— Эта неограниченная самостоятельность принимаемых решений... Хм... Хм... А если тот, которого мы называем Калентьевым, в свою очередь выполнял спецзадания РОВСа? И тут какой-то ротмистр принимает решение. Представляете, какая могла произойти накладка?! Я знаю Калентьева с девятнадцатого года — возможно, он выполнял даже лично мое задание в Москве? И тут Издетский... Решил сорвать его?! А?
— Ротмистр исключил ошибку. Он довольно долго следил за... — Монкевиц хотел было сказать: «за вашим эмиссаром», но раздумал, не желая еще более злить начальника, — ...за Калентьевым. Тот ходил на Лубянку ежедневно, как на службу. И потом — орден. Его удостаиваются наиболее преданные режиму большевики, выполнившие чрезвычайно важные боевые операции. И фотография. Слишком много совпадений.
— Приступайте же, наконец, к сути!
— Ровно в два я прибыл в назначенное место. Издетского не было. Меня это насторожило. Однако через пять минут он проехал мимо в открытом авто, за рулем, сделав вид, что меня не заметил. И вскоре тихо проследовал по Петровке в обратном направлении. Авто и его непонятные манипуляции насторожили меня еще более. И то, что с его стороны не было сделано никаких знаков для меня, хотя он не мог меня не видеть. Я уже собрался несколько отдалиться от места встречи, но тут заметил в третий раз его авто, на значительно большей скорости следующее в сторону Кузнецкого моста. У перекрестка Издетский, еще увеличив скорость, явно намеренно, сбил неизвестного в светлом костюме. Удар оказался настолько сильным, что человека отбросило с проезжей части. Он ударился о фонарный столб и потерял сознание, хотя, полагаю, был еще жив.
— Предполагаете или точно жив? — Кутепов продолжал почему-то гневаться, точно пострадавший действительно был его человеком и продолжал испытывать Монкевица.
— На какой-то момент Калентьев — а это оказался он — потерял сознание. Издетский сделал мне энергичный жест, чтоб я без промедления приблизился. Я выполнил его просьбу. «Помогите, быстро, — сказал он. Пока не собрался народ». — «Вы рискуете собою и мной, — шепнул я, поднимая тело. — Он не жилец».
Мы втащили пострадавшего в машину. Издетский вскочил за руль, и мы помчались Столешниковым переулком в сторону Тверской. Я обернулся. Калентьев не подавал признаков жизни, в углу рта застывала кровь. Я обратил внимание Издетского на опасность поездки по Москве — днем, с трупом — и на необходимость как можно скорей избавиться от него. Ротмистр свернул под арку. Мы оказались в глухом дворе. Издетский тотчас кинулся к Калентьеву и стал встряхивать его, повторяя: «С кем ты был связан у нас? Отвечай!» Он стал точно безумный, Издетский: он пытал уже мертвеца. Меня поразило лицо Калентъева-Ускова. Даже мертвое, оно сохраняло выражение покоя, жизнерадостности. И эти ямочки на щеках... Казалось, он смеется над нами.
— Ну, это лирика, полковник. Дальше!
— Мы оттащили труп в угол двора за кучу песка и поленницу дров и уехали. По пути договорились о встрече на вечер, о месте и времени. Я выскочил, не доезжая Тверской. И два дня ходил на встречи с Издетским, но он так и не пришел. А на третий день «Беспалый» принес мне их газету, она называется «Красной». Там было напечатано сообщение об аресте Издетского. Текст я запомнил дословно, ваше превосходительство. Цитирую: «Как установило следствие, задержанным оказался бывший жандармский ротмистр, сотрудник ОСВАГа и контрразведывательной врангелевской «Внутренней линии», ровсовец и террорист Издетский С.И. Он был послан в Москву со специальным заданием. Как признался Издетский, порученный ему теракт должен был носить чисто политический характер, стать демонстрацией силы новой антисоветской организации военной эмиграции, протестующей против нормализации советско-французских отношений...» Далее сообщалось, что враг советского народа и наймит империалистов был судим и приговорен к высшей мере наказания.
— Мир его праху, — сказал Кутепов и встал. Он подумал, что надо сказать что-нибудь еще, приличествующее случаю, не нашелся и вдруг спросил с прорвавшимся интересом: — А что, полковник, он действительно служил в жандармском корпусе?.. Н-н-да-сс... Распорядитесь, пожалуйста, от моего имени: необходимо дать в газете подобающее траурное сообщение по поводу ротмистра Издетского. Вы будете поощрены, полковник...
Из переписки Белопольских
«Дорогой мой и любимый мой дед!
Ты и представить не можешь, какое счастье испытала я, узнав, что ты жив, здоров и живешь в нашем старом доме. Слава Богу! Слава Богу! Я так захотела к тебе (тут я расплакалась, но немного — прости)... Мы так давно не говорили друг с другом, столько лет и событий прошло, что и не знаю, как обо всем написать. И даже с чего начать. Поймешь ли ты меня? Эмигрантская моя жизнь — ничего. У других хуже. Я в Париже. И отец по-прежнему в Париже, но видимся мы редко. Он снова монархист, как ты, вероятно, уже понял из его письма. Об Андрее и Викторе ничего не известно. Оба исчезли во время бегства из Крыма. Тщетно искала их в Константинополе. А уж потом, когда русские начали расползаться по странам всего мира, где искать? За Виктора я как-то спокойна. Он был хороший офицер, добрый командир, и солдаты его любили. А вот с Андреем могло случиться все, что угодно. Вспомни его нетерпимость, заносчивость, непримиримость в борьбе с «чернью», которую он и нам с тобой демонстрировал при последнем свидании. Молюсь за них обоих — лишь бы живы остались. Может, и суждено нам Богом встретиться дома. Вот был бы праздник! И подумать — уже радостно.
Дорогой мой дед! Я ужасно тоскую, мне плохо без тебя. Напиши о своей жизни, о России и Петрограде — я так буду ждать от тебя весточки, дни и часы считать, поверь! Пусть у тебя все станется хорошо. Здоровья, счастья! Того же и мне пожелай.
Любящая тебя Ксения».
«Дорогая и любезная моему сердцу внучка Ксения!
Не стану писать, как обрадовало меня твое коротенькое письмо. Каждое слово, каждую фразу я перечитывал. И тебя, многократно оплакиваемую, словно видел рядом с собой, разговаривал, вспоминал детство твое и юность, проведенную в Крыму. Какое счастливое время! А теперь мы оторваны друг от друга. О себе написала ты мало и глухо. И я мучаюсь неведением — как ты там, за границами? Какая ты теперь? Что случилось с тобой, когда, пренебрегши опасностями, кинулась в житейское море, подвергая себя смертельному риску? Богу было угодно послать мне испытание — ничего не знать о близких долгие годы. Я мог только молиться о спасении и благополучии своих внуков.
Прости великодушно мое старческое многословие и несдержанность. Я надеюсь, мы обменяемся еще не одним письмом и я доживу до того светлого дня, когда ты, Ксения, ступишь на родную землю. Предвижу счастливый час, когда смогу обнять тебя и мы вместе поплачем над ушедшими днями, которые принесли нам столько бед и горя.
Из рассказов твоего отца, полагаю, ты, конечно, знаешь все обстоятельства, последовавшие за нашим решением оставить Крым. Твои братья так и не сообщили о себе ни слова. Их судьба до сих пор неведома мне. Признаюсь, я поддался настроениям и желанию Николая, напуганного «зверствами» большевиков и общей атмосферой паники. Люди толпой бежали от неведомого, целиком завися от чужой воли, лишенные собственных мыслей и чувств. Разгул страстей, коварство, злоба, корыстолюбие, страх — все грехи человеческие — главенствовали в потоке, катившемся к черноморским портам. Твой отец князь Николай, которым я всегда гордился (хоть далеко не всегда оправдывал его взгляды и действия), тоже оказался человеком без чести... Мне и сейчас больно вспоминать все, случившееся в те кошмарные дни нашего бегства. Да, я бежал вместе с другими. Глаза мои были словно закрыты. Я мыслил оставить родину, за которую в иные, тяжкие времена не жалел и крови своей. А тогда?.. Да что вспоминать? Рвалось мое старое сердце...
Так, добрались мы до Севастополя, где страсти человеческие и борьба за жизнь достигли апогея. Полагаю, что и ты, дорогая моя внучка, прошла через это, коль оказалась в Париже. Наверняка сама видела и ощутила на себе так называемую «тихую» эвакуацию — на деле вершину позора нашего...
И словно пелена упала с глаз моих. Я человек военный, я — на всю жизнь солдат. Я участвовал во многих кампаниях и, смею надеяться, не раз способствовал победам нашим и славе русских знамен. Но любая война имеет начало и конец. Эмиграция конца не имеет. Эмиграция — великий грех и бедствие народное. Разорванные навек семьи, исковерканные людские судьбы, попранные права и само достоинство человеческое... Как оставить землю своих предков? Родину? Святые родные места? Русское лицо мне всех других милей и дороже, ибо родился и вырос я среди русских людей, русских лесов и полей... Полагаю, что не один я думал так. Но разум большинства был затуманен. Не разум двигал толпой — безумие. И вырваться из этого безумия казалось просто невозможным...
От пагубного шага спас меня случай. В сутолоке бегства столкнулся я с солдатом давно не существующего полка армии русской. Ананий Кузовлев — запомни это имя... Когда твой отец, бросив меня одного, спокойно уплыл за три моря, этот простой, малограмотный человек пришел мне на помощь. Ананий обхаживал меня, как ни один денщик или слуга мой бывший. Время ведь было страшное. Белые сбежали. Красные не торопились почему-то входить в Севастополь. Безвластие, произвол — что может быть хуже?! Человеческая жизнь гроша ломаного не стоит.
Ананий занял для нас какой-то подвальчик, чтобы «пересидеть» и «забиться», как он говорил, умоляя меня лишь об одном: не показываться на улице. Но как только большевики железной рукой стали наводить порядок, я надел свою генеральскую форму и пошел регистрироваться, хотя, вероятно, смог бы сделать это и позднее, в Петрограде. Но — пошел. И был арестован и водворен в тюрьму до производства следствия, которое, как объяснили мои сокамерники (понятен ли тебе сей термин?), ничего хорошего мне не сулило. Единственное, на что я мог рассчитывать, — на судьбу. Но знаешь, меня допросили и... отпустили. Если помнишь, большевики однажды уже отпускали меня, благодаря решительному поручительству покойного доктора Вовси. И вот снова Советы почему-то поверили мне, приказав, однако, снять мундир царского генерала.
Добрались мы с Ананием до Петрограда. Дорога оказалась долгой, трудной, полной смешных и грустных приключений. Об этом в другой раз, Ксения... Но — так или иначе! — добрались. Куда идти? «Как это куда? — удивляется мой спаситель. — У вас же дом имеется. Туда и пойдем...» Ни трамваев, ни конки. Идем пешком по Невскому. Сугробы, копоть, запустение, но дом стоит. Постарел, конечно, и вид у него ничуть не лучше, чем у хозяина. Да и какой я хозяин?!
Заходим в вестибюль. Зеркало разбито, ступеньки выкрошившиеся. На стене лозунг черной краской был писан, но затерт, мелом замазан. Все вроде наше. И все чужое. Конец моей одиссеи. Сел на ступеньку и, поверишь, заплакал — без стыда пишу тебе это. И Ананий сел рядом, молчит. Понимает, добрая душа, какие чувства мною владеют.
Вот такая картина. Я плачу. Ананий молчит. И тут происходит чудо. По лестнице спускается... Кто бы ты думала? Арина! Я решил, что сплю, но глаза мои были открыты. И увидели нашу Арину — она ничуть и не изменилась. «Боже святый! — закричала она. — Барин! Вы ли?»
Мы обнялись — совсем по-родственному.
В наш полупустой дом вселено несколько семей с окраин Петрограда и с завода «Треугольник». Ананию, как фронтовику, тоже разрешено здесь проживать. А я с ним и теперь неразлучен. Живем по-родственному. У красных это называется «коммуна». Оно — любимое слово в наше время. Так и живем. Я с Ананием и Арина (ты снова будешь удивляться!)... с сыном Иваном. Вот история, не так ли?.. Проходят великие потрясения, заканчиваются самые кровопролитные войны, меняются и бесследно уходят в небытие государи, императоры, полководцы. А маленькие (вернее, обычные, рядовые) люди живут. Живут, несмотря ни на что, и находят друг друга, если Бог милостив к ним. Иван доблестно сражался в Великую войну, был ранен, награжден Георгием. Сражался он и в гражданскую войну (так тут называют все бои с белыми, — здесь и Деникин, и Врангель, и Колчак, и Юденич, Май-Маевский, Шкуро и иже с ними), опять был дважды ранен и, как я понимаю, до сих пор имеет какое-то отношение к армии, хотя и ходит в партикулярном платье. Иван получает паек, который отдает в общий «котел», но часто отлучается по служебным делам. Он все такой же — добряк, светлая голова, с ним приятно беседовать. Называет наши споры «уроками политграмоты», «уроками внесения сознания извне», и я только удивляюсь: где и когда он получил столько знаний... Он очень обрадовался, узнав, что ты нашлась. Все наши радуются за меня. Вот бы и приехала сюда, к нам?! К чему русскому человеку эти затянувшиеся «путешествия» по чужим странам? Чего тебе бояться? Уж если меня — генерала — в покое оставили...
Помнишь дворника нашего — Васятой его звали? Существо тихое, добросовестное, услужливым казался. Николай, когда Вася этот в «Союз Михаила-архангела» записался и с гирькой на цепочке по вечерам к Невской заставе отправлялся, его уволил. Так вот: Васята этот, который на третьем этаже нашего дома комнаты занял и за «борца с контрой» себя выдает, узнал меня сразу же. А узнав, донес в комиссариат или еще куда. И меня тем же вечером арестовали и в «Кресты» препроводили. Иван меня вызволил. Ананий, по его словам, Васе «зубы почистил», так и справедливость восторжествовала! Иных инцидентов не было. И слава Богу! Дед твой стал совсем старый и малосильный. Семьдесят пять, милая, не шутки! И подагра мучает, слышу плохо. Посему и ухаживают за мной все. Арина работает в детской «коммуне» с утра до пяти. За чужими детьми ходит — вроде временного приюта эта коммуна, что ли. Арина в такой «коммуне» и командует. Ананий при лошадях в извозной артели состоит — тоже мечтал всю жизнь такую контору иметь. Эта, правда, не его, государственная, но он доволен: при деле, хоть и небольшой, но начальник какой-то.
Короче, все они — трудовой элемент. Один я нетрудовой. С боями выхлопотал и для себя дело. На моей обязанности пустяки сущие: посуду помыть, за керосином в лавку сходить, обе печки вытопить (это только спичкой чиркнуть да вьюшки открыть: дрова уж положены Ариной или Ананием). Вероятно, и впрямь я не внушаю им доверия как рабочая сила. Берегут. Хотят, чтоб ты деда своего еще при жизни его застала, и на ногах, а не в кровати. Так что торопись, дорогая. Это моя самая святая мечта — обнять тебя, пожить, сколько Бог отпустит, вместе с тобой, как жили мы на крымской даче в благословенные и мирные времена. «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis»[35] — как любил говорить покойный доктор Вове и. Боже, скольких унесло время! Скольких близких потерял каждый из нас!..
И только тут, в конце моего послания, вынужден я сообщить тебе неприятную весть. Поиски Виктора и Андрея безрезультатны. Надежд не оставляю, хотя один из сослуживцев Виктора, отступавших в арьергарде вместе с его полком, сообщил мне, что подвергнулась их колонна активному обстрелу, была разметана по снежной степи, а поутру, когда уцелевшие стали собираться в виду Севастополя, любимого полкового командира среди них не оказалось. Погиб, видно, внук мой Виктор. Мир праху его! Жив был бы — я уверен! — дал знать о себе обязательно либо в России, либо в заграницах. А вот Андрей жив. Верю, жив! Не так давно во сне его видел: худой, черный как головешка, одежда лохмотьями, а сам смеется — весело так, заразительно, как в детстве бывало. Странно, что вестей нет. Отец — стал фигурой заметной, вокруг великого князя крутится. Это раньше мы все о монархии столковаться не могли (помнишь?). Теперь опять бы поспорили... А может, закинула судьба Андрюшу нашего в такие края, что и письма идут как с луны. Читал я, и в Африке, и в Южной Америке русских офицеров полно. Кто в Иностранном легионе кровь проливает за французов, кто в Бразилии или Парагвае на кофейных плантациях здоровье свое губит, жизнь укорачивает... Я все-таки надеюсь, что судьба сохранила его, что где-то бродит он по свету — живой и невредимый...
Написал столько на радостях, что и сил перечесть нет.
Вся наша «коммуна» тебе низко кланяется и желает всего самого доброго, здоровья и успехов. Я же мечтаю только о встрече, а пока — чтоб переписка наша не оборвалась, чтоб ты была счастлива. Хочу знать как можно больше о твоей крымской и теперешней жизни. Отвечай сразу же, я с нетерпением буду ждать твоего письма. Пусть оно будет длинным-длинным... А еще лучше — возвращайся домой, Ксения. Я жду тебя и надеюсь дожить до встречи! Сколько мы должны рассказать друг другу! Разве все напишешь?!
Любящий тебя дед».
«Дорогой дед! Любимый мой дед!
Мы нашлись — это главное. Все остальное — мелочи, потому что ты самый родной мне человек в мире. И ты жив, ты ждешь меня. Значит, есть еще что-то важное в моей жизни.
Не знаю, о чем и писать. Вспоминать о прошлом — трудно. Ведь все началось так невинно — захотелось высунуть нос за ограду нашей дачи, посмотреть, что делается вокруг нее...
Я решилась и шагнула за ограду. Но время для тайной прогулки я выбрала неудачно.
О чем я думала. Боже мой?! Добраться до Симферополя, увидеть отца, пойти в театр, может быть... И это в 1918 году, в Крыму, раздираемом войной, злобой, взаимной ненавистью.
Надо было так не знать жизнь, как не знала ее я, чтобы решиться на такую глупость, на подобный идиотизм (прости!)... И на беду случилась оказия — возчик с телегой, который часть привозил нам на дачу дрова. Я и имени его не вспомню... Но эта телега!! Куда она меня завезла?!
Я не стану описывать тебе того, что случилось со мной потом. Это разорвет тебе сердце. А я хочу, чтобы ты жил долго, чтоб дождался меня.
Я жила страшной жизнью, дед, и выжила только потому, что убеждала себя: это не со мной происходит, это другая женщина бредет по истерзанной, окровавленной земле то с одним, то с другим случайным попутчиком, ест что придется, пьет — да-да, с удовольствием пьет! — мерзкий самогон, спит, не понимая, чья голова сегодня лежит на подушке с нею рядом...
Это другая женщина — это я, безвольная, слепая, не способная ни к каким самостоятельным решениям, — оказалась незаметно и для себя в Константинополе...
Турецкий ад был еще страшнее крымского, и я о нем не стану тебе писать. Потом, потом!.. Бездна, зловонная яма, дно — почти что смерть. Глухота и немота на почве нервного срыва. Не знаю, что удержало меня от самоубийства. Быть может, мелькавшая иногда мысль о тебе и братьях, о том, что вы живы...
Потом была Югославия, внезапная помощь дяди — генерала фон Перлофа. Теперь Париж.
Теперь не так плохо. Лучше, чем другим. Здесь меня принял «в свои объятия» ничуть не соскучившийся отец.
Боже, какой отвратительный тип, какой циник, хамелеон, плохой актеришка. Иногда — при разговоре с ним — возникает чудовищное желание стрелять в его самодовольное, самоуверенное, лживое лицо... Я вспоминаю, как точно называл его Андрей в Крыму, когда гневался: «этот господинчик»... Из жизни беженцев ушло все честное, благородное, истинное. То, чему нас учили, о чем написаны прекрасные книги. Мы — изгои, бесправные людишки, нежелательные иностранцы. Каждый хочет спастись любой ценой, пожирая себе подобных. Есть, конечно, исключения. Но они редки, как они редки!..
Военные лелеют идею новой интервенции, пытаются создать дивизии оловянных солдатиков, где на одного рядового приходится десять генералов, двадцать полковников и сто офицеров. Церковники до хрипоты спорят на весь свет, кто главнее (святее) и кто должен представлять русский народ в изгнании. Промышленники, богатое купечество (есть и такое!) и либеральные профессора (fine fleur[36]) старой России разыгрывают исторический спектакль. Он должен закончиться апофеозом дома Романовых и избранием нового монарха «подлинно царского корня». В антрактах все сбегаются на торжественные съезды, где решают, как получше надуть своих союзников и быстрее уничтожить большевиков.
Сняв генеральские мундиры, сенаторские камзолы, сбросив штабс-капитанские порванные френчи, эмигранты расходятся по ресторанам, дансингам, отелям, где служат швейцарами и вышибалами, танцорами «на прокат», лакеями, уборщиками и официантами. Это из тех, кто добежал до Парижа «пустым». У тех, кто сохранил или наворовал при эвакуации, — иные стремления поиграть на бирже, открыть заведение с «девочками», джаз-бандом и негром, влезть компаньоном в дело с французом, немцем, а лучше — американцем, ибо у тех права, престиж и твердое положение. Осталось еще и несколько меценатов. Издают газеты разных направлений, субсидируют политические партии, помогают рождаться всевозможным труппам, непременно имеющим в своем составе «звезду императорского театра», устраивают вернисажи, покупают картины неизвестных художников, поддерживая развитие нового русского искусства... Я стала злой, не так ли, дед? От такой жизни впору кусаться.
От отца я ушла. Окончательно. Живу я в Байанкуре. Это прокопченное предместье, тесные, мощенные серым булыжником улочки, сырые дома, от подвалов до мансард забитые беженцами. Повсюду русская речь, точно на Островах в Петербурге. И — ресторанчики, кафе, столовые — обязательно с каким-нибудь шикарным названием: «Эрмитаж», «Москва», «Казбек», «Старый кунак», «Маша», «У самовара».
В двух кварталах от меня мои спасители — семья генерала Андриевского. Сам Василий Феодосьевич — человек малосимпатичный, как ему подобные, привыкшие всю жизнь повелевать. Он предложил мне стать содержанкой. И это на деньги, которые зарабатывают его жена, прекрасная женщина, Нина Михайловна и дочь Даша, имеющие швейную мастерскую. «Мастерская» — сказано слишком громко. Она в одной комнате. У Даши — золотая голова, она художница и способна придумывать бесконечное число моделей дамских платьев. У Нины Михайловны — золотые руки. А помощница — я, которая ничего не умеет делать. Но я взята «в обучение», меня ободряют. Я начинала со снятия мерок, делала бумажные выкройки. Теперь сама научилась вещь сметывать — это уже прогресс и серьезная операция, и тебе ее не понять, дед. Мои пальцы исколоты иголками и булавками. Наши клиентки — жены нуворишей или их любовницы. Как ни странно, их много, и мы не сидим без работы.
Нина Михайловна, явно переоценив мой вклад в общее дело, положила мне чуть не двойное жалованье. Я ем в «Старом кунаке» ежедневные щи и рубленые котлеты; по воскресеньям мы посещаем русскую церковь, гуляем в саду Тюильри и вспоминаем наш Летний сад; при непогоде забегаем в русскую библиотеку. Как-то, разгулявшись, мы с Дашей пошли на концерт несравненной Плевицкой (очень дорого), замечательного хора донских казаков (это подешевле), забрели и на философскую лекцию, из которой ничегошеньки не поняли. Наши дорогие соотечественники повсюду. Все они говорят об одном: «Завтра все восстановится и будет как раньше — bien entendu!»[37]
Стала я жиличкой чуланчика возле консьержки — милой мадам Рози Бежар, которой я стараюсь помочь чем только могу, а она, полная благодарности, приглашает меня воскресными вечерами на чашечку кофе со сливками. Ты не волнуйся, дед. Я живу вполне хорошо по сравнению с другими. Вполне!..
Но не любят нас в Париже, ох, не любят! А еще утверждают: «Франция — великая духовная держава мира». «Мулен руж» демонстрирует это достаточно наглядно. Закрой все кафе и публичные дома — завтра же вспыхнет восстание. Ah, merde alors![38]
У нас в Байанкуре русские знают друг друга и все друг о друге — в маленьком городе не может быть тайн. Кто чем обедал, кто с кем спал, кто что с выгодой продал. Французский принципиально не учат. «Политики» спорят. Графоманы пишут мемуары. Большинство русских ничего не читает, не работает и ни о чем не думает...
Дважды за последние недели встречала возле дома отца. Подозреваю, подкарауливал. Разговор о возвращении в «его дом». Я позорю его перед людьми «нашего» круга. Второй прием — воздевание рук, призывы к Богу-свидетелю и бранные слова в мой адрес. Послушай, дед, не можешь ли ты приказать ему, чтобы он навсегда оставил меня в покое? Ты же его отец!..
На этом кончаю послание. Замучила тебя совсем, наверное. Жду от тебя столь же большого письма. Хочу знать как можно подробнее о тебе и обо всех вас.
Низко кланяюсь, целую всю «коммуну». Будь здоров, дед. Пожалуйста.
Твоя любящая внучка Ксения.
P.S. Говорят, что вот-вот в Париже откроется Посольство Советского Союза. Может быть, так и будет? И вернуться станет проще. Если так и будет — скоро увидимся, дед!»
«Любимая Ксения! Дорогая, дорогая моя!
Давно от тебя не было писем. Здорова ли? Все ли хорошо? Нет ли, не дай Бог, перемен к худшему в твоей жизни?
До той поры, пока мы — слава Богу! — не нашли друг друга, жил я, втянувшись в свой «новый быт» (так у нас любят писать и говорить о повседневном существовании), относительно спокойно.
А теперь. Теперь — другое. Мысли о тебе, о неисчислимых страданиях, выпавших на твою долю, о твоей неприкаянности и одиночестве (я это почувствовал из твоего письма) причиняют мне ужасную боль. Я потерял сон. Целыми ночами картины прошлого и того, как мне представляется твоя теперешняя жизнь, стоят передо мной — одна хуже другой! — и только под утро, с рассветом удается мне заснуть... Понимаю, пока не вернешься ты домой, пока не обниму тебя, не увижу воочию — не будет мне покоя. И теперь уже не только для себя — для меня должна ты стремиться к возвращению в Петроград.
Я не могу говорить тебе неправды, и потому не стану описывать в деталях нашу жизнь. Она трудна.
Надеюсь, пока трудна. Ты ведь знаешь, слышала небось этот знаменитый гимн пролетариата «Весь мир насилья мы разрушим... а затем». Повсюду ясно видны следы этого всеобщего разрушения, и тот, кто не умеет мыслить перспективно (слова Ивана), ничего дальше этого не видит...
Да, разрушено многое — и дворцы, и иные памятники, и сами души людские. Но разрушен и старый порядок, когда кровью, трудом, талантами народа питалась и процветала ничтожная часть России. Населения России. Им — этим избранным (и нам, князьям Белопольским в том числе, Ксенюшка) — жизнь дарила все. И мы, не задумываясь, пользовались этим. А народ — что для нас это было? Масса безымянная? Покорная, трудолюбивая и беззаветно преданная семье Арина? Возчик, который привозил в Крыму нам дрова (он стал для меня зловещей фигурой!)? Или наш . дворник с Морской — Василий? Разве мы когда-нибудь хоть на миг задумывались над их жизнью?..
Революция, как буря на море, перемешала лазурь поверхностных спокойных вод и тяжкую, скрытую во мраке, холодную, черную глубину.
Равенство, братство, свобода! И «кто был ничем, тот станет всем», — это опять слова из их гимна. И ведь они становятся, Ксенюшка, становятся всем. Сколько талантливых людей обнаружил новый порядок в большинстве областей жизни, какие силы отворил в каждом — мне, старому человеку, остается лишь удивляться да стыдиться своего неумения жить. Жить и видеть — в прошлом.
Да, да, Ксенюшка!.. Оказалось, что ничего я толком не умею — только приказывать, солдатиков во фронт ставить, книжки читать, споры с себе подобными вести и красотой наслаждаться, чем и занимался всю свою длинную и в общем-то никчемную жизнь. А люди вокруг мне эту возможность давали.
И вот — впервые — новыми глазами смотрю я вокруг. И вижу, что вылезает наша Россия из разрухи и беды, становится на ноги, и истинные патриоты родины трудятся для этого неустанно.
В советском правительстве немало образованнейших, ничуть не уступающих Ульянову-Ленину людей. Смерть вождя революции была тяжким ударом для страны и всего народа. Я стал свидетелем того, поверь. При мне умирали русские цари — ничего подобного никогда я не видел, не слышал. И даже не представлял себе, что русский мужик, русский рабочий способны на подобные чувствования, на подобную скорбь...
По причине старости, доброты людей, живущих со мной рядом, я мало бываю на улице. Все больше сижу у теплой буржуйки (железной печки посреди комнаты, с трубами, выведенными прямо в окно) и читаю — все, что попадается Главным образом то, что приносит Иван. Мне кажется чтение стало для меня какой-то манией. Слава Богу, не потерял свои многочисленные очки за эти суматошные годы...
Так и складывается моя сегодняшняя жизнь — повседневный быт — в нашей маленькой коммуне, где все заботятся обо мне, сердечно радуются каждому новому достижению Страны Советов и моему неумеренному чтению газет и журналов, которые, как уже писая доставляет мне ежедневно милейший наш Иван.
Поразительные вещи открываются мне! Напишу тебе, к примеру, лишь о том, что вычитал в самые последние дни, не переставая удивляться новой власти, тому, что она делает с огромной страной. И в каких фантастических масштабах! И обязательно во всем первые: свой первый паровоз на Коломенском заводе; первая женщина в мире — председатель правления ленинградского банка; первый клуб (ты хоть представляешь, что это такое?); первая научная экспедиция к острову Врангеля где водружен советский флаг; первые ученые на высокогорном Памире и т. д. и т. д.
Помнишь ли царский дворец в Ливадии? Конечно, помнишь! Столько раз мы любовались им с моря. Теперь решением Советской власти дворец передан крестьянам. Первая партия прибыла сюда на отдых и лечение... Или вот два юбилея. Их отмечали очень широко. Чьи? Их вождей? Командиров Красной Армии? Ничего подобного!
Первый — столетний юбилей Большого театра. Демонстрация, кавалерийская часть в безукоризненном строю, как на высочайшем параде, дефилирует мимо рукоплещущей труппы певцов, балерин, музыкантов. Второе торжество — двести лет Академии наук. Огромное число крупнейших ученых никуда и не думавших бежать (нам в Крыму казалось, все лучшие представители русской нации погрузились на суда, решив оставить Родину, отказавшись сотрудничать с большевиками. Ан нет!). За столом юбилейного президиума секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург, президент А. И. Карпинский и вице-президент В. А. Стеклов, академики И. П. Павлов, А. Е. Ферсман, Л. Я. Штернберг, И. Ю. Крачковский, Н. Я. Марр и другие. А какой им почет, какое уважение! И здание — то же, на набережной Невы, — стоит целехонькое! И никому из «варваров» не пришло в голову размещать там казарму, общежитие или конюшни.
Надеюсь, ты понимаешь, этой информацией не исчерпываются повседневные события нашей жизни. Всего не напишешь. И поймешь ли ты мое настроение правильно?..
Беспокоят меня твои мысли и вообще — твое будущее, Ксения. Несказанно взволновали события, тобой описанные. Бедняжка ты моя, бедняжка. Почему меня не было подле? Почему не смог отвести от тебя беду, не уберег, лишь мучился в неведении... Господи/ Пошли нам среди тяжелых и кошмарных дней и светлые праздники. Успокой и утешь... Мой долгий жизненный путь и опыт дают мне право верить во все лучшее, что должно наступить и наступит в твоей многострадальной судьбе. Я же могу лишь денно и нощно молить Бога об этом.
Господи! Что происходит в мире, сотворенном тобой? Со дня его рождения не существовало такого кровавого и бесчеловечного времени, когда сын со штыком шел на отца, а брат — на брата. Эти времена, поверь, еще долго будут эхом отзываться по российским просторам. Много бед наделают, много жизней исковеркают не в одном поколении... Увы, увы... Como parace — быть по сему, как любил говаривать мой друг и вечный противник в спорах профессор Шабеко. Какова его судьба? Где он? Как пережил страшные времена? Думаю, почему-то, обстоятельства сложились так, что и он вынужден был переселиться в чужие земли. Иначе будь он в России! — дал бы знать о себе обязательно. Либо статьей в газете, журнале, либо предпринял бы попытку отыскать меня в Петрограде. Русский интеллигент в высшем разумении этого слова, ценивший свободу личности превыше всего, терпимый к чужим теориям и взглядам, в Крыму — лояльный и к большевикам, куда и зачем кинулся он, поддавшийся чему или кому — не представляю себе и могу лишь строить догадки. Может быть, тебе что-то известно о нашем уважаемом историке? Хотя теперь, когда в мире перемешалось все, как в кипящем котле, человека найти во сто крат труднее, чем иголку в стоге сена.
Продолжаю розыск Виктора и Андрея. Пока мои обращения в Красный Крест и Нансеновскай комитет не дали результата. Но я надеюсь, что живы они оба. Надейся и ты. Бог милостив, а Арина каждый раз ставит в церкви две свечки за здравие твоих братьев...
Обнимаю тебя, родная моя жду писем твоих, как и встречи в Петрограде.
Твой дед».
«Ах, дед, дед! Любимый мой и единственный!
Ведь ты у меня стал большевиком. Я бы сказала даже — большевистским агитатором. Ты пишешь так интересно о вашей жизни, что хочется немедля сесть в поезд и отправиться в Петроград. Но увы!.. Хоть бы одним глазком взглянуть на все, минуток несколько. У нас тоже сейчас стали больше писать о жизни Советской Россия Ты не представляешь, с какой жадностью я впитываю каждое слово, стараюсь, напрягая свой умишко, отличить правду от лжи. Порой это так трудно.
Теперь о себе. Отвечу на твои вопросы. Переехала. Живу в том же доме, в крохотной мансарде на шестом этаже. Подо мной черепичные крыши Парижа — такое ощущение временами, будто я парю над городом, а выше меня лишь Эйфелева башня и белоснежная точно из сказок «Тысячи и одной ночи», церковь и колокольня Сакре-Кер. В ясный предвечерний час, в свободное время (его, увы, так недостает!) вылезаю на крышу, и, привалясь к чугунной решетке, дрожа от страха (боюсь высоты ужасно!) рассматриваю город, угадываю и узнаю любимые места: зеленое море Булонского леса и Большие бульвары, Лувр и Поле-Рояль, пляс д’ Этуаль и пляс Конкорд, Сену с ее мостами, каждый из которых неповторим и чудесен, Нотр-Дам, Пантеон, Сен-Шанель и Марсово поле, «Гранд опера», Биржу, Центральный рынок. Все это живет, дышит, разговаривает друг с другом. Все — словно ожившая карта! Однако пора вернуться на землю, в свой «обезьянник», как я называю мансардочку. Она очень мала и поэтому уютна. В моем распоряжении: стол и две табуретки, умывальник с ведром и кувшином (за водой надо спускаться по винтовой лестнице на этаж, где проживает милейший и добрейший м’сье Пьер Лакотт. Получив воду, я должна выслушать один из его нескончаемых рассказов о франко-прусской войне, в которой он проявлял галльский героизм, уничтожая «проклятых бошей» десятками). А еще есть у меня в хозяйстве раскладная парусиновая кровать, которая до вечера скромно стоит в углу и лишь перед сном моим участвует в «великом переселении вещей».
В первом этаже дома находится бистро с «жестянкой», или «цинком» (так называются стойки), — я вижу там одни и те же лица, в одних и тех же позах. Мне кажется, они стареют на моих глазах. Рядом табачно-булочно-молочно-колбасная лавчонка. И можно выпить чашку кофе. Здесь вполне прилично кормят. И, если попросишь, даже в кредит.
Меня считают вполне своей, это имеет свою прелесть, так что жизнью я довольна. Французы в массе, надо сказать, совершенно не такие, какими я их представляла не только по книгам, но и впервые попав в Париж. Они по-своему консервативны, традиционны, замкнуты по отношению к другим нациям и народам. Никогда не теряют скептицизма и по отношению к себе. Тебе станет это понятно, если приведу пример с Эйфелевой башней, строительство которой, как известно, вызвало чуть ли не революцию в Париже — таково было противодействие масс. Поначалу. Теперь же башня украшает город — это признают все. Французы о себе говорят так: сначала мы обязательно отрицаем все новое, все необычное, негодуем, возмущаемся, боремся против. Потом долго привыкаем, смиряемся, потом начинаем хвалить. Потом гордимся как национальным достоянием и считаем это лучшим в мире и неповторимым...
Я работаю по-прежнему в ателье у Нины Михайловны. Она придумала новое дело — мы стали расписывать (стиль «ля рюс») платки и шелковые абажуры — это нынче модно в Париже, тем более что столица Франции — всяк по-своему — взбудоражена известием о приглашении СССР участвовать в Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности и о том, что большевики это предложение приняли. Наше предприятие процветает, дает доход, который и позволяет мне жить независимо, самостоятельно и по нынешним-то эмигрантским временам, можно даже сказать, зажиточно (стулу по дереву, чтобы не сглазить!).
Генерал Андриевский, слава Богу, нам не очень докучает. Особенно когда трезвый. Об отце — тоже слава Богу! — имею редкие сторонние известия. Он весь в Большой Политике. О поисках Виктора и Андрея (когда я еще жила у него) высказался таким образом: «К моему глубокому сожалению, сыновья мои ни в одном офицерском, ни в монархистском союзе не значатся. О кружках социалистов и эсеров данных не имею». Каков?..
Как я живу, дед? Свободного времени нет, да и устаю от работы. Мои городские маршруты коротки: дом — квартира Андриевских — бистро — дом. А уж если выпадает святое воскресенье (иногда мы втроем работаем и по воскресеньям, если срочный заказ), то я сплю, сплю и еще сплю, а проснувшись, отдыхаю и отдыхаю. Вот что значит капитализм: работай, если хочешь жить, и никаких эмоций, которые отрывают, отвлекают, мешают трудиться.
В подобных условиях, признаюсь тебе честно, мало я занимаюсь поиском братьев, мало. Да и плохо представляю, как это сделать, кроме как на толкучке, в толпе возле собора на рю Дарю. А там такое увидишь, такого наслушаешься! И так все противно, дед. Никчемные люди, сумасшедшие разговоры, идиотские надежды. Прости меня...
А ты пиши мне, пожалуйста, почаще и побольше. Я и не представляю теперь себе своей жизни в Париже без твоих писем.
Любящая тебя Ксения».
Глава девятая. «...ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
1
Шла полоса признания Советской России. Газеты печатали фотографии: полпред Лев Борисович Красин в элегантном пальто с маленьким, по моде, черным бархатным воротничком, в цилиндре, черных узких фрачных брюках и остроносых ботинках, в правой руке трость и перчатки. Красин выходит из Елисейского дворца после вручения верительных грамот президенту Франции Думергу; полномочный представитель СССР в Швеции B.C. Довгалевскнй выходит из дворца в Стокгольме после вручения королю верительных грамот; советский государственный флаг с серпом и молотом на крыше Советского посольства на рю Гренель, в центре Парижа. На фронтоне здания полпредства вместо двуглавого орла — серп и молот...
Заметка в одном из первых номеров журнала «Огонек»: «30 января 1925 года состоялась церемония поднятия французского флага в Москве. 14 декабря 1924 года в Париже произошла церемония поднятия советского флага. Мы, как всем известно, азиатские варвары. Французы, и особенно парижане, как всем должно быть тоже известно, цивилизованные люди, светоч мира, краса и гордость человечества. Когда поднимали советский флаг в Париже, нашлись хулиганы, которые свистками выражали свое негодование. Французская пресса подняла наглый вой по поводу того, что при поднятии советского флага играли наш гимн «Интернационал...» А теперь посмотрите, как происходило дело в другой столице. Когда взвился французский флаг, никто не негодовал, никто не свистал и не скандалил. Заранее можно сказать, что в Советской республике не найдется ни одного органа прессы, который позволит себе поднять шум по поводу того, что в красной столице поднят буржуазный флаг.
Маленькая деталь. Советскому посольству в Париже для исполнения гимна пришлось пригласить частный оркестр какого-то рабочего кооператива. У нас французский гимн играл оркестр Большого государственного театра».
На фотография лысеющий со лба человек с темными живыми, широко поставленными глазами, круглым двойным подбородком и пышными усами. Лицо простое, умное: «В Москву прибыл первый посол Франции в СССР господин Жан Эрбетт. Жан Эрбетт — журналист, выступавший в свое время за идею сближения с Советским Союзом. Перед своим отъездом из Парижа г-н Эрбетт посетил французского премьера Эррио, с которым имел продолжительную беседу. Г-н Эрбетт перед отъездом виделся также с полпредом СССР в Париже тов. Красиным. В данном им перед отъездом интервью представителя советской прессы г-н Эрбетт отметил важность отношений между СССР и Францией и указал, что у обеих стран есть общий интерес, отмеченный как Эррио, так и Чичериным, — сохранение мира».
Л. Б. Красин перед группой французских журналистов и кинооператоров. «Киноатака. Насколько большой интерес вызывает во Франции полпредство СССР — можно судить по последнему снимку парижского корреспондента. Полпред Л. Б. Красин подвергается форменному «обстрелу» множества кинооператоров, фотографов и журналистов у подъезда Советского посольства в Париже»...
Плотного сложения улыбающийся человек в полувоенном френче, во весь рост на террасе высокого здания, — Лев Михайлович Карахан, известный советский дипломат. Подпись: «Японо-советский договор подписан! Полпред СССР в Китае Лев Михайлович Карахан, подписавший в Пекине договор с японскими представителями о возобновлении сношений между Японией и СССР, на террасе посольства».
Нарком иностранных дел Г. В. Чичерин — в форме командира Красной Армии, в гимнастерке «с разговорами» — рядом с польским послом г. Кентжинеким, секретарем ЦИКа СССР А. С. Енукидзе и группой товарищей. Подпись: «Польский посол в Кремле. По дипломатической традиции новый польский посол в СССР г-н Кентжинский вручил главе Советского Союза М. И. Калинину верительные грамоты. На нашем снимке — после приема: слева — секретарь ЦИКа СССР А. С. Енукидзе, Г. В. Чичерин, польский посол...»
Да, это был определенный итог! Итог побед советской дипломатии. Были нормализованы отношения с Англией, испорченные ультиматумом Керзона; подписан протокол о ликвидации германо-советского конфликта; улучшились экономические связи с рядом стран Ближнего и Дальнего Востока. Используя древнее речение, можно было сказать: время бросать в Советскую Россию камни приходило к концу. Для империалистов наступило время «собирать камни» — собирать посеянное зло, плоды трудов своих, не принесших победы над Советами, как и открытая интервенция.
2
Лучшей кандидатуры для Франции — где были особенно сильны антисоветские настроения в верхах общества я в среде буржуа, потерявших капиталы в результате революции, где свила самое большое, пожалуй, гнездо белая эмиграция, — придумать было трудно. Г. В. Чичерин предложил в качестве полномочного представителя СССР во Франции кандидатуру Красина. ЦК партии поддержал ее единогласно. Леонид Борисович — фигура для своего времени легендарная. Известный инженер, строитель Бакинской электростанции, член «Электрического общества», представитель фирмы «Сименс и Шуккерт» и революционер, создатель подпольной типография, размножавшей ленинскую «Искру»; организатор боевой дружины; член руководства РСДРП, не раз арестовывавшийся охранкой.
Красин был членом Президиума ВСНХ, председателем Чрезвычайной Комиссии по снабжению Красной Армии, членом Совета Обороны, наркомом внешней торговли, народным комиссаром путей сообщения, советским дипломатом. Он — участник трудных переговоров с немцами в Бресте; с правительством буржуазной Эстонии, добившийся подписания первого мирного договора; он возглавил торговую делегацию, которая в Стокгольме и Копенгагене сумела заключить выгодные для Советской России соглашения; Красин — председатель делегации по переговорам о возобновлении торговли со странами Антанты. Он тонко и умело «раскалывал» Антанту.
Несмотря на общее стремление не вести переговоров с большевиками, экономический кризис подстегивал капиталистов, ищущих новые рынки и сферы приложения капитала. Леониду Борисовичу удалось разорвать единый «экономический фронт» в самом трудном месте. 16 марта 1921 года в Лондоне состоялось подписание торгового соглашения между РСФСР и Англией. Блокада была прорвана!..
Красин — участник активной борьбы, которую вела советская дипломатия на Генуэзской и Гаагской конференциях. Именно его в 1923 году посылают в Лондон — ликвидировать конфликт, вызванный ультиматумом лорда Керзона, грозившего нам новой войной. Советское правительство отклонило провокационные требования. Леонид Борисович проводит конференцию и добивается решения спорных вопросов. Красин доказывал: торговля выгодна обеим странам, народы устали воевать, и вовлечь их в новую бойню невозможно. Твердость правительства Советской России, дипломатические способности Красина, поддержка пролетариата Англии, здравомыслие деловых кругов принесли плоды — ультиматум Керзона стал лишь достоянием архивов...
В мае 1924 года берлинская полиция врывается в Советское торгпредство и учиняет погром. Новая провокация. Советское правительство прекращает все отношения с немецкими фирмами. Красин сумел уговорить правительство Германии: от разрыва более страдают экономические интересы самой Германии, хлеб (за который немцы расплачиваются фабричными товарами) мы можем продавать за твердую валюту в Англии, Франции, Италии и в Скандинавских странах. Язык экономики оказался весьма убедительным. И уже 29 июля 1924 года в Берлине подписан протокол о полном урегулировании германо-советского конфликта. Немцы были вынуждены заявить о возмещении понесенного ущерба... На XIII съезде партии Л. Б. Красин избирается членом ЦК РКП(б).
И вот — Франция. У власти премьер-министр Эррио, он — опытный политик.
Новое назначение явилось для Леонида Борисовича несколько неожиданным: всем была известна его «английская специализация». Г. В. Чичерин, ознакомив Красина с поздравительной телеграммой Советского правительства Эдуарду Эррио по случаю его избрания, неожиданно поинтересовался: не предполагает ли Красин выступить с заявлением о политическом значении признания нас Францией? Вскоре в газете «Известия» было напечатано заявление народного комиссара внешней торговли. Рассматривая причины, приведшие Францию к важному шагу (победы Красной Армии, укрепление нашей экономики, борьба французского пролетариата), Красин писал: «Что Франция сразу признала нас де-юре с предложением обмена послами — меня не особенно удивляет, я часто слыхал за границей от выдающихся французских политиков: «Уж если мы решим вас признать, мы признаем вас сразу, не будем торговаться из-за «де-факто» или «де-юре» или вести страусову политику признания без назначения послов». Назначением Леонида Борисовича Красина, несомненно, подчеркивалась важность советско-французских отношений.
В начале декабря советский полпред прибыл на Северный вокзал Парижа. Привокзальную площадь заполнили тысячи трудящихся. Они пришли встречать Красина с транспарантами и красными знаменами. В толпе шныряли шпики и весьма подозрительные личности, тут и там возвышались рослые полицейские. Появление Леонида Борисовича на ступеньках здания было встречено дружными аплодисментами, криками «vivat!». Площадь запела «Интернационал». Такой встречи не ждали ни враги, ни сам Красин. Он радостно поднимал над головой крепко сцепленные руки и благодарно улыбался, кланялся, проходя через человеческий коридор к автомашине.
Дом Советского посольства на рю Гренель — построенный в XVII веке аристократический особняк — находился в полном развале: лишь недавно отсюда выехал посол правительства Керенского В.Маклаков, вовсе не стремившийся к поддержанию чистоты и порядка. Подъезжая, Красин увидел: красный флаг победно развевается на флагштоке, серп и молот — советский герб — заменил двуглавого царского орла. И здесь, в центре Парижа, советского посла встречали толпы парижан, настроенных приветливо и дружественно.
Автомобиль въехал в ворота. Невысокая стена окружала трехэтажное здание с большими окнами, сооруженное «покоем», во дворе — подстриженные кусты, несколько деревьев, посыпанная мелким гравием дорога. Автомобиль остановился у широкого входа с застекленными дверями, под козырьком. На ступеньках полпреда ожидают работники его аппарата: генеральный консул Отто Христианович Ауссем; начальник пресс-бюро Александр Яковлевич Аросев — бывший преподаватель математики, ставший журналистом, и другие. Красин энергично пожимает руку каждого представляющегося ему, внимательно вглядываясь в лица тех, с кем придется работать. Все входят внутрь здания.
— С чего мы начнем, Леонид Борисович? — спросил Ауссем, привыкший к четкости и полной ясности в своей работе. Латыш, он говорил по-русски почти без акцента. — Вы, вероятно, устали? Нет? Хотите спать? Нет?
— Начнем с обеда, дорогой Ауссем, — Красин пригладил сильно поседевшую бородку клинышком и лукаво улыбнулся. — А потом будем ремонтировать здание. Ну и дипломатические разговоры — само собой.
Леонид Борисович и приехавшая с ним его жена Любовь Васильевна обходят особняк. Картина ужасающая! В каждой комнате, в каждом зале — горы старой мебели, кипы пожелтевших, порванных бумаг, мусор. Убрать все это не хватит и сотни рук. После общего обеда Красин появляется перед сотрудниками в полувоенном старом костюме, сапогах, приказывает переодеться для работы, чтобы «пробивать дорогу в тропическом лесу».
«Всем миром» принялись за уборку особняка. Первым делом — кабинет посла и лестница: посетители могли пожаловать уже завтра. Во дворе целый день пылал огромный костер. Ветер носил черный пепел от сгоревших, ставших никому не нужных бумаг. Резко пахло гарью...
В девять декабрьским утром в Париже еще темновато. Люстра светит тускло. Лениво горят сырые поленья в камине. Прохладно. Но Красин уже за столом. Просматривает телеграммы и письма, газеты и журналы, подписывает бумаги, трудится над документами, которые подлежат отправке в Москву, просматривает визитные карточки и официальные приглашения на банкеты, встречи, торжества, лежащие на лакированном столике возле камина.
В десять с докладами приходят сотрудники. Во время их сообщений Леонид Борисович любит прохаживаться по кабинету, подойти к балкону и, отодвинув штору, заглянуть во внутренний дворик. Красин уже измерил его — сто семьдесят один шаг по кругу — это напоминает былые тюремные прогулки... Затем Леонид Борисович принимает посетителей. Всех, не боясь и врагов, которые могли появиться в его кабинете отнюдь не для полемики...
На обедах и ужинах он встречался с политиками и финансистами, учеными, художниками, писателями. Красин прежде всего оставался пропагандистом советской политики, экономики и образа жизни. Современники отмечали — его французский язык не был безупречным, иногда чувствовались славянизмы, но беседы Леонида Борисовича, полные ума, юмора, эрудиции, подчас и иронии, привлекали любого собеседника. В необычайно короткое время Красин — тактичный, тонкий, живой и доступный — стал самым популярным человеком столицы Франции. В кабачках Монмартра шансонье под аплодисменты распевали песни о м’сье Красине, которого можно увидеть сразу в нескольких местах огромного города. В знаменитом магазине игрушек продавали кукольные фигурки, сделанные с любовью и изображающие «monsieur Krassine».
Красин бросал вызов врагам. Сотрудники полпредства опасались за его жизнь, боялись провокации. У ворот особняка на рю Гренель была задержана психически не совсем нормальная женщина с револьвером в сумочке, назвавшаяся миссис Диксон, — пришла убить «главного комиссара и большевика». За ней полиция задержала некоего Владимира Рейнгарда. Через некоторое время Леонид Борисович чудом избежал нового покушения. Но он не изменил образа жизни, он не боялся. И даже самые оголтелые белоэмигранты не рисковали открыто нападать на него.
Первый визит премьер-министру и министру иностранных дел Эррио. Начало беседы — очень доброжелательное — несколько насторожило Леонида Борисовича. Эдуард Эррио — с удовольствием вспоминал поездку в Советскую Россию в 1922 году, посещение Москвы и Петрограда, Киева и ярмарки в Нижнем Новгороде, говорил об удовольствии от встреч с государственными деятелями, учеными, рабочими, крестьянами и студентами, восстанавливающими промышленность и сельское хозяйство. Эррио словно оттягивал разговор, ради которого добился аудиенции советский полпред.
Красин терпеливо ждал. И, улучив момент, сказал, что советские эксперты успешно продолжают работу с целью определения долговых претензий Франции и весьма скоро советская и французская делегации смогли бы приступить к выяснению взаимных обязательств.
— Экономические отношения между нашими странами развивались бы значительно быстрее, если бы нам разрешили открыть торговое представительство. Оно займется операциями на тех же условиях, по которым мы торгуем со всеми другими странами,
Эррио заметил, что открытие торгового представительства необходимо обосновать в особой ноте. Красин потер высокий лоб: он решил пока не возвращаться к больной теме. Он поднял вопрос, в законности которого у политиков не было сомнений. Красин сказал, чуть улыбаясь — ироническую улыбку скрывали седоватые усы:
— Речь идет о кораблях, незаконно уведенных Врангелем в Бизерту. Мы благодарны вашему превосходительству , что вы без всяких проволочек разрешили комиссии народного комиссариата по военным и морским делам въезд во Францию для технического осмотра кораблей. После заключения комиссии Советское правительство, вступив во владение кораблями, решит, какие вернутся на родину, какие — в иностранные порты для ремонта и продажи. Нам очень интересна ваша точка зрения.
— Я согласен, — поспешно ответил Эррио. Даже с некоторым облегчением, ибо ждал другого вопроса. — Пусть ваша комиссия договаривается с нашим адмиралтейством.
— Благодарю, — Красин переходит к важному вопросу, ибо речь пойдет о престиже Советского Союза: — Считаю обязанным затронуть следующую проблему, господин премьер-министр. В печати имеется информация о недавнем обращении контрреволюционной части русской эмиграции к правительству Франции с просьбой о создания особого учреждения для защиты своих интересов. Мы решительно настаиваем на ликвидации любых белоэмигрантских организаций, старающихся присвоить себе функции русских консульств.
— С подобной просьбой обращался посол Маклаков, — не ушел от прямого ответа Эррио. — Мы объявили, что на территории нашей страны законы дают надежную защиту гражданам. И эмигрантам, получившим право убежища, в том числе. Поэтому нет необходимости в создании еще одного, особого учреждения.
— Ваше разъяснение я с удовлетворением принимаю, господин премьер-министр. Еще раз благодарю.
— Все это весьма не просто, — произносит вдруг Эдуард Эррио с полной откровенностью, точно забыв, кто перед ним: — Определенные силы оказывают давление на правительство. Визит Чемберлена осложнил вопрос о передаче кораблей. Наши высшие морские чиновники настроены против. Все это мы должны учитывать, господин посол. — Он встал, давая понять, что аудиенция закончена. И так сказал этому русскому много лишнего.
Через две недели, в конце декабря, Эррио снова принимал Красина по его просьбе. Обсуждался вновь вопрос о флоте, передача которого задерживалась. Премьер-министр был озабочен, казался расстроенным, усталым. И не смог скрыть этого. Зная ситуацию, складывающуюся в стране, Леонид Борисович больше молчал, предпочитая слушать оправдания француза.
— В настоящее время, — тусклым голосом говорил Эррио, — создалось положение, при котором передача кораблей вашей стране, господин посол, несомненно вызвала бы весьма серьезные осложнения. Если мы с вами начнем торопить события, поднимется шумная кампания протеста. Митинги, манифестации, не исключены и запросы депутатов. Затем сенат выражает недоверие правительству. Преждевременная моя отставка вряд ли вам на руку?
— Согласен с вами, — подтверждает Красин. — Нам это совершенно не на руку.
— Скажу больше. Я увольняю морского префекта Бизерты, не выполнившего распоряжений о передаче кораблей. Я обещал их вернуть и сделаю это. Но потерпите неделю-другую. Пусть ваша комиссия едет в Бизе рту, осматривает флот. Когда она возвратится, будет видно, как поступать дальше.
— Благодарю, ваше превосходительство, за прямой ответ. Это сообщение передам Советскому правительству...
Третьего января 1925 года Красин принимал французского посла Эрбетта, отбывающего в Москву. Они обменялись взаимными напутствиями и пожеланиями успехов в укреплении советско-французских отношений. На следующее утро Эрбетт представил Красина Луи Лушеру — человеку, заметному в политической и экономической жизни страны (депутат парламента, министр в недавнем прошлом, богач, член правления двухсот акционерных предприятий), который захотел познакомиться с советским полпредом и обсудить с ним ряд экономических проблем, касающихся обеих стран.
Красин понял: устами Луи Лушера с ним будет разговаривать деловая Франция, прощупывать его, выяснять позицию Советской страны в отношении тех, кто до революции имел свои дела в России, и тех, кто был собственником русских государственных займов. Камнем преткновения стала эта проблема еще на Генуэзской конференции. Долгое время она определяла позицию Франции, ее отношение к миролюбивой политике Советской России. И вот — новый зондаж. Его проводит бывший министр, нажившийся на мировой войне и оборонных поставках, сохранивший свое влияние в правительственных кругах.
Беседа проходила в гостиной, у камина. Улыбающийся хозяин вышел встречать Красина и Эрбетта. Его сопровождал любимый черный дог. Хозяин мило острил, расспрашивал советского посла о впечатлениях от Парижа, интересовался его ближайшими планами и незаметно переходил к деловой части беседы.
— Главное, господин Лушер, развитие торговых отношений между нашими странами — это моя первая и главная задача.
— Вы, конечно, знаете, что я бывал в России, и имел там свои интересы. Весьма крупные, — Лушер произнес это не без гордости. — Я и сейчас ваш сторонник. Я — за экономическое восстановление России, — он улыбнулся. — С нашей помощью. Вы нуждаетесь в моей помощи, господин посол? Чем могу быть вам полезен?
— Мы бы хотели открыть здесь консульское представительство.
— О! Понимаю! — хозяин оживился. — Консульство — могучий рычаг развития экспорта-импорта. Нужен и Внешторгбанк, субсидирующий торговые сделки, не так ли?
— Вы правы, господин Лушер. Наш «Аркос банк» в Англии — лучшее свидетельство вашей правоты. Банк финансирует весьма обширную обоюдную торговлю.
— Прекрасно! Я прав! Не желаете ли курить, господа? — он легко встал, принес коробку сигар с золотым пояском и канделябр с камина. Зажег свечи. — Курите, господин Красин: отличные сигары, мне их возят авионом с Кубы.
— Благодарю. В последнее время я не курю.
— А я неисправимый курильщик, — сказал Эрбетт, окутываясь табачным дымом. — Мне приходится сейчас изучать отношения, складывающиеся между нашими странами. Франция и Советская Россия взаимные расчеты производят с помощью доллара или фунта — это нонсенс! Сколько трудностей, чтобы перевести деньги в Москву. Я за банк — за консульство!
Красин промолчал, приглаживая бородку, со вниманием рассматривая перламутровую шкатулку, — ни согласия, ни возражения.
— Главное — отрегулировать вопрос о держателях русских государственных займов. Большинство держателей — простые люди Франции, господин посол. И о их пропавших деньгах я должен хлопотать. А еще — государственные займы, сделанные правительством России. Это примерно пятнадцать миллиардов золотых франков, господин посол.
«Вот это уже серьезно, — подумал, готовя себя к спору, Леонид Борисович. — Тут зарыта собака».
— Царские долги мы не признаем. Неужели кто-то думает, что Советское правительство пойдет на те уступки, к которым нас уже хотели и не смогли принудить военной силой? — твердо сказал Красин.
— Я понимаю, господин посол. Следует искать какие-то компромиссы, которые удовлетворят на первом этапе хотя бы держателей ценных бумаг — это не более двух-трех миллиардов франков, как мне представляется. Без этого французское правительство не даст согласия на заем, уверен.
— Мы не отрицаем возможных комбинаций — с одним условием, господин Лушер. Это новый заем на экономическое восстановление России.
— Мы сами должники, господин Красин, Америки и Великобритании. Ваше заявление о выплате долгов в обозримом будущем решительно изменило бы отношение не только Франции, но и целого ряда стран Европы и Америки. Политика резко изменится.
— Уповаю на это, господин Лушер. Дух вражды весьма распространен во Франции.
— Это белая эмиграция и ее печать.
— Плюс часть французской прессы и даже парламентские речи. Они принадлежат лицам, определяющим политику вашего государства.
— Очень сожалею: случается, — хозяин бросил в камин недокуренную сигару. — Однако считаю необходимым подчеркнуть: долги и только долги России являются первопричиной того духа вражды, о котором вы только что изволили говорить.
— И различие наших социальных систем, конечно, — Красин встал, признавая, что встреча, на которую он возлагал определенные надежды, ничего не дала. Почти. Если не считать полезного знакомства и обмена мнениями. Красин был трезвым политиком и никогда не приписывал своей дипломатии больше того, чего он достигал на деле.
...Секретарь Красина доложил, что приема ждет граф Игнатьев, бывший царский военный агент.
— Я приму его завтра — первым. А сведения о нем попрошу подготовить к вечеру. Цель его визита?
— Хочет передать Советскому правительству двести миллионов, содержащиеся на его счету в «Банке де Франс».
— Отличная идея. И сильнейший удар по белоэмиграции. Генерал, граф! Его не заподозришь в симпатии к большевикам, не правда ли?
— Игнатьев — патриот России, Леонид Борисович. Он прошел много искусов. И... продает на базаре шампиньоны, которые выращивает в подвале своего дома.
— Сидит на деньгах, а продает шампиньоны? Занятно, любопытно!
Вечером Красин читал переданную секретарем справку: «Игнатьев Алексей Алексеевич — полковник, затем генерал-майор. Окончил киевский кадетский корпус, пажеский корпус в Петербурге (с золотой медалью), Академию генерального штаба. Участник русско-японской войны. Военный агент в Дании, Швеции и Норвегии. Военный агент во Франции. Во время мировой войны, располагая огромными суммами, ведал всеми закупками оружия и военного снаряжения у союзников. Решительно отказался передать банковский счет Временному правительству, правительствам Колчака, Деникина, Врангеля. Твердость политической позиции Игнатьева привела к разрыву с монархическими группировками, с женой (жена Елена Владимировна — дочь сенатора, тайного советника, шталмейстера Владимира Николаевича Охотникова). Ныне женат на актрисе Наталье Трухановой. Отошел от политики. Живет замкнуто в пригороде Парижа, Сен-Жермен. Занимается физическим трудом, огородничеством, разведением и продажей шампиньонов...»
«Дались ему эти шампиньоны, — подумал Леонид Борисович. — Что потребует граф за капитал, который он так долго и бережно хранил? Гарантий, выкупа, личных преимуществ — что-то он ведь будет просить?» Леонид Борисович задумался. Фигура российского военного агента во Франции была ему не очень понятной. Мысли прервал приход рослого, с белокурым чубом секретаря.
— Когда придет граф Игнатьев Алексей Алексеевич, прошу встретить его как подобает, проводить до кабинета, открыть дверь и громко объявить: «Товарищ Игнатьев». Не гражданин, не господин. Вы понимаете? Это важно, — сказал Красин.
..Леонид Борисович встретил графа Игнатьева в своем кабинете, стоя. В костюме-тройке, белой рубашке с накрахмаленным стоячим воротничком и темном галстуке. Лицо — суровое. Глаза смотрят строго, изучающе. «Сколько раз граф бывал здесь — интересно, — Красин внимательно разглядывал гостя несколько секунд. — Генерал, а явился в статском костюме. Высокий, стройный, лет ему не так уж много, а голова седая. Кланяется с достоинством. Пришел не в форме, чтобы не отдавать честь».
Игнатьев производил приятное впечатление. Красин предложил ему сесть. Сел рядом, посмотрел вопросительно, намеренно предоставляя гостю начать беседу и изложить мотивы, приведшие его в советское полпредство.
— Знаете, господин посол, каждый раз, минуя ворота и приходя сюда, я ощущаю себя на земле России, — стесненно сказал Игнатьев. Красин показался ему утомленным, неласковым, привыкшим держать собеседника на расстоянии.
— Я знаю ваши отношения. И не только с Францией, — сказал Красин. — Жаль, что в годы революции вас не было с нами.
— Сожалею и я, — Игнатьев по военной привычке чуть не встал, но сдержался. — Я хотел.. И хочу в Россию. Но обстоятельства обязывали меня оставаться тут. Я как бы часовой был поставлен на пост и при деньгах.
— И это мы знаем. Будь на вашем месте другой, от денег, которые вы сохранили, и следа бы не осталось. Благодарю вас от имени Советского правительства. Говорят, в вас стрелял брат?
— Пустое. Дело семейное.
Они пожали друг другу руки. Красин показал Игнатьеву на золоченый, обитый красным штофом диван, и они сели рядом.
— Я, как представитель моего правительства, хотел бы точно знать, какими суммами вы располагаете.
— Охотно отвечу, господин посол; цифры у меня всегда в голове. Сто двадцать пять миллионов хранится на моем счету в «Банке де Франс», пятьдесят — в других банках и пятьдесят миллионов на руках у разных промышленников. Всего двести двадцать пять миллионов, господин посол.
— Солидный капитал, Алексей Алексеевич.
— Так точно, господин посол.
— Чай, кофе?
— Благодарю, ничего не нужно.
— Тогда, если позволите, вернемся к интересующему мое правительство вопросу. У нас сложные финансовые дела с Францией. В этой связи ваши суммы приобретают весьма важное значение. Каким образом вы полагаете передать их Советскому Союзу? Какие предлагаете соблюсти формальности? Имеются ли таковые?
— Было бы хорошо получить от вас письмо. Лучше — некий ордонанс, обязывающий меня...
— Понятно, товарищ Игнатьев! — Красин пересел за письменный стол, взял лист бумаги с государственным гербом СССР, написал: «Париж, Бывшему Военному Агенту во Франции А. А. Игнатьеву. В преддверии предстоящих переговоров с французским Правительством по урегулированию финансовых вопросов, я считаю необходимым предложить Вам поставить меня в курс тех денежных интересов, кои Вы охраняли здесь по должности Военного Агента до дня признания Францией Правительства СССР».
И подписал: «Полномочный представитель СССР во Франции — Л. Красин».
Передав лист Игнатьеву, Леонид Борисович поинтересовался, устраивает ли Алексея Алексеевича подобный проект. Тот ответил, что вполне, попросил разрешения занять место за посольским столом и, вынув из кармана пиджака приготовленный лист бумаги с грифом русского Военного агента во Франции, начал быстро писать текст, обдуманный заранее. Промакнул лист тяжелым пресс-папье, с поклоном передал Красину. Леонид Борисович прочел: «Полномочному представителю СССР во Франции Л. Б. Красину, г. Париж. Я счел долгом принять Ваше обращение ко мне... за приказ, так как с минуты признания Францией Правительства СССР оно является для меня представителем моей Родины, кою я всегда защищал и готов защищать. А. Игнатьев».
— Отлично, — удовлетворенно сказал Красин. — Благодарю. Мы оформим бумаги должным образом. — Он посмотрел потеплевшим взором, спросил участливо: — У вас денежные затруднения, Алексей Алексеевич?
— Пустое, — ответил Игнатьев. — Временные.
— Мы могли бы предоставить вам должность. Как только откроем консульство.
— Благодарю.
— Есть ли у вас просьбы?
— Мы с женой хотели бы вернуться на родину. У меня новая жена. И мы тверды в своем решении. Я могу быть полезен и в армии.
— Ваша просьба, Алексей Алексеевич, будет рассмотрена правительством. И мне думается... я уверен, ответ придет положительный.
— Еще раз благодарю вас, господин посол. Кроме денег в моем распоряжения находится архив по военным заказам правительства Романова. Я готов, если архив может представлять для вас какой-то интерес... В любой день!
— Да, да! Очень интересно! Весьма признателен. Надеюсь, мы вскоре встретимся, поговорим подробнее?
— Если вы прикажете, господин посол. Я с величайшим удовольствием... если могу стать вам полезен.
— Не сомневаюсь, Алексей Алексеевич, — Красин встал, протянул руку, и Игнатьев[39] крепко ее пожал.
Еще в конце 1924 года на имя наркоминдел а Чичерина прибыла телеграмма, приглашающая Советскую Россию участвовать в Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности. Выставка должна была состояться в Париже с мая по октябрь следующего года. Приглашение было принято.
...По обоим берегам Сены кипела огромная стройка. Советский павильон сооружался по проекту молодого архитектора, преподавателя ВХУТЕМАСа Константина Мельникова. В подготовке экспозиции большое участие приняли Владимир Маяковский и Александр Родченко: разрабатывали рекламу, редактировали каталоги, изготовляли макеты плакатов и вывесок. Интерес к строящемуся советскому павильону оказался всеобщим — я среди друзей, и среди врагов Советской России, дерзнувшей показать миру, чего она достигла за несколько мирных лет. Вокруг стройки всегда толпились люди. Проект казался необычным. Широкая лестница как бы рассекала здание по диагонали, делая свободным доступ во все внутренние помещения. Их стены соединялись под разными углами, потолки были наклонены. Удачное цветовое решение павильона, предложенное А. Родченко, пересекающиеся наклонные плоскости и высокая мачта с надписью «СССР», ребристая крыша, обилие стекла — все это придавало архитектурному сооружению вид фантастической постройки будущего. В толпе не было равнодушных. Одни восторгались и хвалили, другие критиковали, смеялись, глумились. Газеты изощрялись в подписях под фотографиями: «Красный барак Советов», «Бессмысленный ящик», «Оранжерея», «Нищенский дом». И лишь влиятельная газета «Котидьен» написала: «Высокий советский павильон, серый и красный, — настоящий стеклянный дворец, неведомой до сих пор формы, будет безусловно гвоздем этой выставки».
Двадцать павильонов разворачивали свои экспозиции. Англичане построили свое здание, пронизав его почему-то индийскими мотивами. Бельгийский павильон с двадцати пятиметровой башней походил на театр. Огромное итальянское здание с мрачными колоннами из мрамора и серого камня, с обилием золотых украшений и гербов было признано самым бездарным сооружением за последние двадцать пять лет. Хозяева выставили ряд построек, сооруженных разными фирмами. Из них выделялись лишь те, что были выполнены группой «Esprit Nouveau», возглавляемой Корбюзье. Пестрота, разностильность, тяжеловесность характеризовали сооружения, возведенные большинством стран на Международной выставке, почти законченной к маю. Об участии СССР в Парижской выставке высказался и Красин. «Одним из путей сближения с французским народом является наше участие на выставке, — писал он. — Революция в России создала не только новые формы политического и хозяйственного строя, не только выковала в огне гражданской войны железную волю пролетариата к удержанию раз завоеванных им позиций, но воспитывает и новую психику свободного своей трудовой жизни человека... Наше скромное по внешности выступление, я думаю, прикует к себе внимание всего мира не в меньшей степени, чем огромные дворцы буржуазных стран. Слишком велика общая сила притяжения пролетарского государства».
Действительность превзошла самые оптимистические ожидания. Четвертого июля, в день открытия, перед советским павильоном собралась огромная толпа, требующая билетов. Торжественное открытие пришлось перенести в «зал конгрессов», но и он не смог вместить желающих. Здесь собрались министры, дипломаты, представители газет едва ли не всего мира, парижский бомонд...
Прозвучало выступление Красина, затем сенатора де Монзи — от имени французского правительства, Филиппото — председателя парламентской фракции. Блистательный оратор, де Монзи нервничал: боялся обвинений в излишней симпатии к Советской России.
Когда официальная церемония в «зале конгрессов» закончилась и советский отдел Большого выставочного дворца был осмотрен, Красин и остальные направились к советскому павильону. По обеим сторонам узкого прохода, охраняемого полицией, стояла толпа рукоплещущих парижан и гостей выставки. Красин приветственно поднял над головой букетик гвоздик.
— Да здравствуют Советы! Ура — русские! Да здравствует Россия! — неслись все более дружные крики.
Председатель правительственной комиссии сказал Красину:
— Я полагал присутствовать только на художественной демонстрации. На демонстрации политической я не могу быть, и поэтому удаляюсь.
— Не в моих силах остановить эту демонстрацию, господни сенатор, — попытался успокоить де Монзи Леонид Борисович. — Это вполне мирная демонстрация, она нам ничем не грозит.
— Нет, нет! — взволнованно воскликнул де Монзи. — Будет лучше... лучше для нашей дружбы. Желаю успехов, господин посол. Хотя полный успех уже налицо, — и, простившись, он быстро исчез в толпе.
Газеты назвали этот эпизод «инцидентом де Монзи». Но сенатор напрасно боялся политических осложнений: советский павильон посетил с официальным визитом на... четыре минуты сам президент Франции Думерг.
Утром, просматривая газеты, Леонид Борисович прочитал сообщение об этом посещении и, усмехнувшись, подумал: «Ничего, следующий визит господина президента к нам, надо надеяться, продлится не меньше часа...»
Парижская выставка стала для Советской России выигранным боем, серьезной дипломатической победой.
Из переписки Белопольских
«Дорогая Ксенюшка!
Радуют меня твои письма, хоть и редки они. И успокаивают: все у тебя, слава Богу, складывается неплохо — по вашим меркам, по обстоятельствам жизни, разумеется. Есть крыша над головой, угол, работа. Понимаю, золотая моя, не для тебя, княжны Белопольской, да что поделать? Что роптать? Только на счастливый поворот жизни надеяться надо. Ты ведь молода, ты красавица у нас. Верю: придет час, и станешь ты счастливой. Нужно время и выдержка.
Ты снова спрашиваешь о друзьях, кои меня окружают. Кажется, писал тебе однажды о семье своей. Возможно, и затерялось то письмо. Что ж! Повторюсь охотно. Ананий Кузовлев достиг в конце концов исполнения мечты своей и занял должность в организации с мудреным названием (в сегодняшней России все названия донельзя мудреные — «Рабкооп», «Наркомпочтель», «Центробумтрест», «Доброхим», «Лесоплав-центрторг»). Это заведение, обладающее лошадьми и телегами и занимающееся перевозками грузов по договорам. По вечерам, переодевшись в «чистое», любит Ананий обстоятельно «пофилософствовать» со мной и Иваном доверительно и неторопливо о правде житейской и политической, чтобы, как он выражается, «до самого корня докопаться». При этом, сколько его знаю, всегда он ссылается на своего однополчанина — умнейшего человека из вольноопределяющихся, который давал самые правильные ответы на любой жизненный вопрос.
Арина наша, оставив детское свое учреждение, теперь на фабрике-кухне поваром трудится. Фабрика — это потому, что при Путиловском заводе и людей там много кормить приходится.
Иван несколько месяцев отсутствовал. Я спрашивал, он отшучивается: «Лечил старые раны». Вернулся веселый, загорелый, отдохнувший. В новом костюме, и орден на лацкане сверкает. «Скоро опять в путь», — говорит. «Куда же теперь?» — спрашиваю. «Куда пошлют». — «А за границу?» — «Может, и за границу». — «Вот бы в Париж послали. И Ксенюшку бы повидал. Может, и обратно привезти ее смог». — «Нет, Николай Вадимович, — улыбается. — Мой путь в другую сторону. А Ксении напишите, она и сама вернуться сможет, если захочет: теперь в Париже советский полпред есть, Красин. Пусть пойдет, посоветуется». Такой разговор у нас с Иваном произошел. А вскоре он действительно исчез. На Дальний Восток, на стройку какую-то. Так Арина объяснила.
Как видишь, все у нас, кроме меня, работают. У Советов ведь какой главный лозунг? «Кто не работает, тот не ест!» Один я, выходит, «паразит» в нашей трудовой коммуне. Завел как-то разговор об этом. Арина возмутилась, Ананий отмахнулся, а Иван политические книги принес. Вот я и засел на старости лет за учебу, Ксенюшка. Разные прочел книги. И политические, и беллетристику. В том числе и некоторые сочинения дореволюционных литераторов, последние сочинения Горького, например, о которых я не имел ни малейшего представления. Герцен, Салтыков-Щедрин — дворянские писатели, а как развенчивали они самодержавие! Многое и мне в ином свете стало представляться, поверь, внучка. А ведь если припомнишь, дорогая моя, деду твоему ведь почти восемьдесят, хотя господь Бог и не обидел здоровьем. Грех жаловаться, хотя и силы, конечно, не те, и борода моя скобелевская изрядно поредела...
А вот привычкам своим стараюсь не изменять. Per fas et nefas — всеми правдами и неправдами, — как любил повторять мой добрый друг, профессор истории русской господин Шабеко, о судьбе коего мне до сих пор ничего не известно. И ты ничего не сообщила. Сколько близких растеряли тысячи из нас, коих разбросала по странам и весям революция и междоусобная более чем трехлетняя война.. Однако отвлекся я непозволительно, прости. Да!
Среди прочих хороших и дурных моих привычек сохранилась и любовь к прогулкам по невским берегам. От дома и Зимнего дворца к Николаевскому мосту и обратно, мимо дворцов, посещаемых мною в свое время. Такая прогулка — словно экскурсия по собственной жизни. Можешь ли ты понять мое состояние? Навряд ли... Опять отвлекаюсь. А суть дела в том, что встретил я во время одной такой прогулки старого коллегу своего Владимира Василева. Вместе мы и с турками сражались, и Академию генерального штаба заканчивали, в одном округе служили, в императорском Военно-историческом обществе состояли. Он, правда, на один год ранее меня произведен был: я — полковник, он — генерал. Я генерал-майор, Василев — генерал-лейтенант. Но теперь это никакого значения не имеет. Обнялись мы, на каменную полукруглую скамеечку у спуска к реке присели (помнишь, Ксенюшка, скамейки эти невские?) и разговорам предались, воспоминаниям. «Рад видеть тебя патриотом России», — говорит Василев. «И я рад тебя встретить в Петрограде, — отвечаю. — Только кому мы нужны теперь, головешки старые? Ни силы, ни пороха». — «Ошибаться изволите, ваше превосходительство. Если не запамятовал, вы при Горном Дубняке в турецкую кампанию отличиться изволили? И будто бы книгу о русской военной доктрине писать собирались?» — «Да, генерал, память у вас превосходная. Но кому интересны мысли мои о столь древних событиях, происходивших точно на другой планете?» — «Снова ошибаться изволите, генерал». — «Соблаговолите объясниться. Василев». — «Пожалуй... Ныне служу в Военно-историческом музее артиллерии. Как известно, в одном из старейших в России, открытом еще в 1775 году, в здании Арсенала на Литейном». — «А потом разместившемся в Арсенале у Петропавловской крепости, — подхватываю я. — Однако покорнейше прошу объяснить, Владимир Васильевич: кем изволите служить при большевиках?» — «Большевики — патриоты России не меньше нашего, Николай Вадимович. Между прочим! А я в архивах Военно-исторического общества тружусь. Разбирать документы помогаю: непочатый край работы. Хотите, и вас порекомендую в группу, что русско-турецкими войнами занимается?» — «Хочу ли? Да я навсегда должником твоим останусь, Василев...»
И вот я — служитель архива. Можешь меня поздравить, Ксенюшка. Мне так не хватало дела. И ведь войны за освобождение болгар были истинно освободительные, всенародные, патриотические!.. И я — молодой! — словно вторично жизнь проживаю. Устаю немного, но так хочется побольше успеть, Ксенюшка.
Обнимаю тебя, желаю счастья, здоровья, успехов во всем. Верь, оно придет, счастье!
Твой дед...»
«Все ужасно в этой жизни, дед! Все зыбко, непрочно, трагично и совсем не зависит от человека. Особо если он бесправный и безденежный русский эмигрант. Все пропало! Ты не понимаешь, откуда этот приступ дикого отчаяния. Сейчас я объясню тебе — без лишних слов. В одну минуту разлетелось в прах благополучие семьи Андриевских и сама семья. Неделю назад грузовое авто, ведомое полупьяным шофером, задавило прекраснейшего и добрейшего человека, святую душу — Нину Михайловну Андриевскую. Прямо на улице, на руках чужих людей, она скончалась. Генерал Василий Феодосьевич, то ли с горя, то ли с радости (жена сдерживала его низменные порывы), надолго запил. А поскольку денег у него не было, он стал таскать из дому сначала готовые платья, потом швейные машинки, вещи дочки и еще разную мелочь.
Даша осталась без средств к существованию. В отсутствие отца она взяла его револьвер и выстрелила себе в сердце. Соседи вызвали полицию. Генерал исчез. И на похоронах его не видели. Даша лежала в гробу с просветленным, спокойным лицом, как девочка. «Отмучилась», — сказал кто-то, и я подумала: может, правильно она поступила, не было у нее выхода, устала она бороться с этой жизнью, будь она проклята! И записки Даша не оставила. Видно, решение пришло к ней внезапно, времени не было, или она боялась, что не хватит твердости, и поэтому торопилась. Кто знает?!
Будь все проклято!.. У меня такое состояние, хоть пулю в лоб, хоть с револьвером на большую дорогу — палить во все сытые морды Но раз написала тебе об этом, то не беспокойся, дед. Я этого не сделаю: хоть денег и нет, за комнату за месяц вперед оплачено. Не пропаду! И не пиши мне пока. Я сама напишу, когда ситуация прояснится. Прости меня.
Твоя внучка Ксения.
P.S. Я тебе писала, дед, — коротко, правда, — о бегстве из Крыма и о Турции. Но если б ты хорошо знал, через что я прошла в той жизни, ты бы понял, что мне уже ничто не страшно. Тем более — в центре просвещенной Европы Целую тебя. Не беспокойся: просто мне надо было рассказать о трагедии Андриевских. Ну почему все плохое случается, как правило, с хорошими людьми? За что так покарал их господь Бог?
К.»
«Сударь!
Только желание узнать о внуках и любимой внучке моей Ксении заставило меня искать Вас в Париже и обратиться к Вам с письмом некоторое время назад.
Ныне Ксения оставила отцовский дом. По вашей вине, сударь.
Благородные люди, считающие себя образованными, передовою образа мыслей, такого не допускают.
Ксения бедствует, и ваша отцовская обязанность спасти ее, помочь ей, У меня нет возможностей воздействовать на Вас, Я не обращаюсь и к Вашей совести, сударь: у Вас ее нет. Вы больше не сын мне, князь Вадим Николаевич, я стыжусь Вас. Но Ксения — дочь Ваша, она рядом. И Вы обязаны протянуть ей руку помощи. Обязаны, слышите?! Иначе Господь Бог покарает Вас.
В. Н. Белопольский».
В ЦЕНТР ИЗ ПАРИЖА ОТ «ДОКТОРА»
«По подтвержденным «0135» данным, на родину в ближайшее время нелегально вторично отправляется Василий Витальевич Шульгин[40]. Намерен снова попытаться узнать о пропавшем сыне, увидеть подлинную повседневную жизнь «вымирающего русского народа». Предполагаемое место проникновения — граница с Финляндией, одно из «окон» на западе. Маршрут: Киев — Москва — Ленинград.
Фабрика антисоветских фальшивок Дружеловского терпит крах, находится постоянным контролем.
Доктор».
Надпись на информации:
«Полагаю полезным беспрепятственное проникновение, путешествие Шульгина под нашим наблюдением.
Артузов».
Вторая надпись на информации:
«В ночь на 23 декабря Шульгин перешел границу с помощью людей «Треста». Был в Киеве, Москве, имел встречу с Захарченко-Шульц и Радкевичем. В начале февраля вернулся в Варшаву».
Глава десятая. ETRANGERS INDESIRABLES. (Продолжение)
1
Европа второй половины двадцатых годов являлась рассадником всевозможного авантюризма. То в одной стране, то в другой проходили судебные процессы, в которых главными действующими лицами выступали русские белоэмигранты. Они продавались кому угодно, но главной их заботой была борьба с большевиками. Звериная ненависть к Коммунистическому Интернационалу толкала их на безрассудные поступки. Они называли себя «активистами». Убивали советских работников, совершали налеты на приграничные территории, тайно пробирались в Москву, Ленинград и другие крупные города, замышляли хитроумные заговоры. Одним из таких заговоров явилось «дело Дружеловского» в Вене — дело подпольной фабрики, изготовлявшей фальшивые антисоветские документы.
Началось «дело» тихо. В полпредство СССР в Австрии явился Генрих Горт — ученик гравировальной мастерской с поручением: получить платежи за изготовление штемпелей, заказанных якобы по поручению пресс-отдела полпредства. Штемпели: «Секретно», «Совершенно секретно», «Делегация Исполкома Коминтерна», «Иностранный отдел секретной части ОГПУ» и другие вызвали недоумение. Горта допросили. Он рассказал, что в их гравировальную мастерскую дважды являлся представительный господин, отрекомендовавшийся сотрудником Советского полпредства. Он заказал принесенные штампы и дал задаток, заявив, что полный расчет будет произведен по окончании работы. И поскольку сотрудник полпредства не явился, Горту поручили отнести заказ.
Полпредство обратилось с заявлением в полицию о провокации. Был задержан некий Александр Якубович, рожденный в Полтаве, русский, православный, живущий ныне в Вене. Якубовича опознали в мастерской. Он показал: заказать штемпели от имени полпредства ему поручил Александр Гаврилов, приехавший из Берлина, — известный австрийской полиции и высланный на пять лет из Вены как распространитель фальшивых денег и документов. При обыске у Якубовича были изъяты письма на русском языке от Гаврилова, говорящие об их связи и «каналах» передачи заказов. Газета «Арбейтер цайтунг» отметила, что эти штемпели со всей очевидностью должны были служить дезавуации официальных советских документов.
В то же время пришло письмо и в лондонское полпредство СССР:
«Милостивый государь! Я был бы очень рад, если бы Вы могли принять меня частным образом по вопросу исключительной важности, который, я уверен, Вы согласитесь рассмотреть. Вопрос такого рода, что его нельзя детально разобрать в письме. Я думаю — достаточно будет, если я скажу, что я могу представить Вам 30 документов, которые были употреблены, чтобы дискредитировать Россию. Я имею эти документы с собой и представлю Вам их лично.
С глубоким уважением Синклтон».
В час пополудни в полпредство появился высокий, сухопарый джентльмен, типичный англичанин. Он заявил, что пришел с предложением услуг по обнаружению людей, занимающихся фабрикацией подложных документов. В свое время он уже тайно работал на Россию, находясь в связи с русским военным агентом в Лондоне. Кроме того, у него свои счеты с Англией за аресты, которым он был подвергнут незаслуженно. Синклтон назвал фамилии людей, занимающихся фальшивками: Вильсон из «Бритиш эмпайр юнион», работающий на министерство иностранных дел, и его помощник капитан Томплинс из военного министерства. Синклтон сообщил приметы обоих и добавил, что в Москве есть человек, сотрудничающий с Вильсоном. Затем Синклтон перешел к документам. У него имелось много фотографий и явно подложных писем, относившихся к двадцатым годам. Некоторые с гербом РСФСР.
— Откуда эти материалы? — спросил его сотрудник полпредства.
— Приятель, имеющий отношение к мастерской, где изготавливают подделки, захворал. Я украл их у него и вот принес.
При разборе документов была обнаружена фотография линотипной машины, возле которой стоял сам Синклтон. Типография была насыщена современным оборудованием. Сотрудник полпредства предложил Синклтону оставить фотографии и документы, компрометирующие СССР, для показа их полпреду. Синклтон согласился оставить их на сутки.
Ровно в час пополудни следующего дня Синклтон явился на второе свидание. Он принес заявление, которое начиналось так: «Конфиденциально... Имею честь подтвердить следующее: зная все то, что делается в тайниках ряда антисоветских организаций, единственной целью которых является дискредитировать русский престиж всякими возможными путями, я готов представить доказательства их подпольной деятельности, показать, как расходуются деньги для дискредитации России... В Англии, Париже и Амстердаме... Русское Правительство сможет не только немедленно потребовать прекращения этой деятельности, но также доказать, что оно является жертвой заговора, участники которого прибегают к публикации фальшивых документов. Я готов передать все документы как гарантию моей искренности на следующих условиях:
1. В случае удачного завершения моей работы, которая, как я рассчитываю, потребует двух месяцев, русское Правительство признает ценность моих услуг, в форме денежного вознаграждения, размер коего я оставляю на его усмотрение. 2. Русское Правительство предназначает некоторую сумму на то, чтобы можно было выполнить эту работу... Я буду в состоянии дать русскому Правительству имена, описание и местонахождение каждого агента тайной полиции, находящегося в данное время в России...»
— Какую сумму вы хотите получить? — внимательно ознакомившись с письмом, спросил сотрудник полпредства.
— Пять тысяч фунтов! — сказал Синклтон, надеясь, что его предложение принимается.
— Очень сожалею, мистер Синклтон. Полпредство не располагает такими суммами для покупки фальшивок.
Советский полпред немедля сделал сообщение обо всем происшедшем, приложив фотокопии документов. Англичане хранили гробовое молчание. Мистер Синклтон таинственно исчез, и следы его затерялись.
Третьим объектом провокаторов явилось полпредство в Париже. Этого ждали. К секретарю Красина явился хозяин типографии «А.Мишель» (улица Фран-Буржуа), где печатались антисоветские бланки, визитные карточки и тому подобная печатная мелочь, и подал письменное заявление:
«23 апреля 1925 года один господин явился в мое заведение и заказал бланки Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала; бланки должны были быть переведены на русский язык и напечатаны в количестве ста экземпляров. Он был очень щедр и дал задаток в сто франков, при условии, что заказ будет готов на следующий день. Когда я попросил от заказчика подпись секретаря Коммунистической партии, он обещал дать мне просимое при получении заказа.
24 апреля, придя за заказом, он ничего не принес, но при мне подписал бумагу, в которой заявлял, что заказ делается от имени первого секретаря посольства СССР. Заподозрив в этом аферу, я сказал, что этой бумаги для меня недостаточно. Тогда он взял бумагу, сказав, что через несколько минут вернется с первым секретарем посольства. До пяти часов вечера он не вернулся. Подпись под бумагой, взятой им обратно, была не очень разборчива, но мне кажется, что она означала не то «Перро» (Peppo), не то «Пьерро» (Pierrot). Присоединяю при сем оригинал заказа и один из готовых бланков.
Примите и проч.
А. Мишель».
После этого хозяин типографии ретировался, оставив бланк с грифом: «Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала» и ниже адреса: «Москва. Ильинка (Китай-город)» и «Ленинград, Варваринская, 15».
Берлинская газета «Руль» сообщала: «Русское информационное агентство «Руссино», Анабахерштрассе 8 — 9... Принимает заказы на получение сведений о деятельности Коминтерна в мировом масштабе. Корреспонденции и сведения о положении дел в России. Требуются корреспонденты. Вознаграждение по соглашению...
Директор С. М. Дружиловский».
Тут провокация имела два адреса: Коминтерн и Советское полпредство в Париже. Первый секретарь стал звонить в Префектур де полис, а затем в Сюртэ женераль, но и тут и там к его заявлениям отнеслись крайне спокойно и даже недоверчиво.
Расследование в Вене медленно продолжалось. Делом заинтересовался ряд газет. Берлинская «Der Tag» от 10 июля 1925 года писала: «Венская полиция уже в течение нескольких недель занята аферой фальсификации штемпелей, которые при известных обстоятельствах могут получить международное значение... В течение последних месяцев во всех странах света опубликованы документы упомянутых русских учреждений, печати которых здесь фальсифицировались. В связи с этим мы напоминаем о русских документах, опубликованных весной в Берлине. Недавно врученная австрийскому Правительству югославская нота, по-видимому, тоже имеет своим основанием такого рода фальшивые советские документы...»
Политические провокаторы не гнушались и печатанием фальшивых денег.
По заданию Центра чекисты сумели разобраться в ситуации, найти фабрику фальшивок, назвали полиции фамилии и адреса заговорщиков. Ими оказались: Александр Феофилович Гуманский, подполковник, контрразведчик, руководитель технической части контрразведывательной организации кирилловцев, работающей в контакте с антибольшевистской «Лигой Обера»[41], распространявшей фальшивки среди болгар, поляков и немцев. При аресте у него на квартире были конфискованы три подложные инструкции Коминтерна. В его деле оказались замешанными некоторые чиновники министерства иностранных дел Германии: Геральд Иванович Зиверт, подпоручик, после занятия Риги немцами поступивший к ним на службу, одновременно работавший на разведку Авалова-Бермондта. В Берлине открыл частнос разведбюро, выполнявшее задания иностранных правительств по информации о Советском Союзе. Был связан с поляками и берлинским полицейпрезидиумом, с латвийской контрразведкой и «Лигой Обера»; Владимир Иванович Орлов — врангелевский контрразведчик, тесно связанный с латвийской контрразведкой через своего агента в Риге; Алексей Валерианович Белгардт, бывший сенатор, и его сын Алексей Алексеевич, поддерживающий контакты с реакционными партиями Германии. Они предоставляли квартиру для совещаний «фабрикантов» антисоветских фальшивок.
И, наконец, руководитель названной выше группы, бывший агент польской, английской и французской разведок С.М.Дружиловский. Ему больше других удалось избегать ареста. Дружиловский решил искать убежища на... территории Советского Союза. В 1926-м году он был задержан при нелегальном переходе границы. Суд над ним состоялся в Москве. Он вынужден был признать, что и так называемое «письмо Зиновьева», якобы посланное председателем Исполкома Коммунистического Интернационала руководству английской компартии, наделавшее в свое время много шума, его фальшивка, в которой рекомендовались самые различные способы организации государственных переворотов и захвата власти. «Фабрикант» получил по заслугам. Акция сорвалась. Белогвардейский ответ («ударом на удар») не получился. Не помогло и подлое убийство на территории Латвии советского дипкурьера Теодора Нетте, ценою жизни обеспечившего неприкосновенность секретных документов. Чекистам из группы «Доктора» были известны руки, направлявшие пистолеты контрреволюционных наймитов.
Объявление:
«Генеральный консул СССР в Париже сим напоминает всем бывшим подданным Российском империи, проживающим во Франции, гражданским эмигрантам, бывшим военнопленным, солдатам бывшего экспедиционного корпуса, солдатам бывших белых армий и матросам бизертского флота, что желающие приобрести права граждан СССР должны подать об этом письменное заявление в Генеральное Консульство. Началом этой регистрации считать 20.11.1925 года. Регистрация производится в Генеральном Консульстве по вторникам, средам и пятницам с 10 до 1 часу, по субботам от 1 часу до 4 вечера.
Генеральный консул О. X. Ауссем».
Объявление
«Сегодня, 12 июля, в 2.30 после полудня возле Снсиэте Савант, рю Дантон (метро Одеон) состоится перед отправкой на родину первого эшелона общее собрание «Союза возвращения на родину».
Доклад Правления.
После собрания будут демонстрировать фильмы «Кремль и жизнь в нем» и «Жизнь Советского Союза».
Собрание приглашает г-на Милюкова посетить это заседание и разъяснить свои доводы невозвращения. Ему гарантирована полная безопасность и свобода слова».
Подписное обязательство (образец)
«Я, нижеподписавшийся... уроженец... принят постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР в число граждан СССР и обязуюсь уважать и защищать от всяких посягательств Конституцию и государственный строй СССР».
Подпись[42]
2
Положение русской эмиграции, сложившееся после провозглашения Кирилла императором, не могло удовлетворить большую часть монархистов и в первую очередь — самого Николая Николаевича. Казалось, все он делал правильно — не кричал, не суетился, жену в заморские страны не гонял, с политическими заявлениями, несмотря на давление «слева» и «справа», не торопился. И упустил момент, упустил. Он проигрывал по всем статьям. Не мог и не хотел с этим мириться — искал выхода. Его советники подсказывали: нужен новый «всемирный русский съезд», объединяющий эмиграцию, рассеянную по миру, — первое. Провозглашающий Николая Николаевича ее верховным вождем, — второе. Николай Николаевич подумал, порассуждал сам с собой и с ближайшими советниками и, наконец, дал «добро». Пусть будет съезд, пусть будет широкое объявление его «вождем национального фронта», призванным возглавить борьбу с большевизмом и III Интернационалом. Пусть. Он готов! Он возглавит. Пора.
Первой об опасности узнала — от верных людей в стане Николая Николаевича — Виктория Федоровна. Безрезультатная поездка в САСШ не прошла даром, многому ее научила. «Нынче ветер дует явно не в наши паруса! — внушала она императору, упивающемуся атрибутами своей иллюзорной власти. — Если съезд пройдет под водительством клевретов «дяди Николаши», возникнет двоевластие. Надо что-то решать», — наставляла она мужа. Кирилл I хмыкал, отмахивался: «Пока эти рамолики столкуются, чтобы сесть за один стол, и заговорят на одном языке, я на своем авто успею объехать земной шар по экватору». — «И не один, конечно?» — язвила Виктория Федоровна. — Необходим, как минимум, еще один спортсмен, не так ли?» Кирилл щурился: умная жена, ничего не поделаешь, ей бы впору разведку возглавить...
Итак, съезд! Объединение всех сил эмиграции! Создан оргкомитет, состоящий почти из ста представителей монархических групп, Национального комитета и Торгово-промышленного комитета. 1 апреля 1926 года французская газета «Тан» сообщила, что через неделю начинаются заседания «всемирного русского съезда». Многие и в Париже, и за рубежом восприняли это как не очень удачную первоапрельскую шутку. Трезвомыслящие и скептики утверждали: депутаты переругаются в первый же день работы (хорошо, если не подерутся!). На этом съезд и кончится... банкетами разных групп в разных ресторанах.
Раздоры начались уже на заседаниях оргкомитета. Несмотря на все предварительные заявления о намерении спокойно выяснить отношения, инициаторы созыва антибольшевистского форума кинулись в борьбу за места на съезде. Левые, часть умеренных, казачьи организации критиковали систему выборов, которая давала полное главенство правым. Те навязывали свою волю съезду, чтобы стать у кормила власти во главе с великим князем Николаем, подчинив себе армию и рядовую эмиграцию.
Канцелярия его императорского величества Кирилла 1 выступила с резким заявлением: «...Инициаторы и вдохновители съезда под маской патриотизма проводят цели, гибельные для дела возрождения России, клонящиеся к замене принципа законности политиканством частью злонамеренных, частью близоруких партийных вождей». Кирилловцам запрещалось участвовать в заседаниях съезда. Его императорское величество выражал уверенность, что резолюции так называемого «съезда» будут иметь самое отрицательное значение, голосование будет подтасовано, цели — самые раскольнические.
И все же съезд открылся. 4 апреля 1926 года в фешенебельных банкетных залах отеля «Мажестик» близ Триумфальной арки собралось 425 делегатов из 26 стран. Заседание открыл молебном митрополит Антоний, приехавший из Югославии. Первый спор съезда — кому служить молебен. Второй спор — кому председательствовать? «Маркову!» — кричали одни. «Струве!» — возражали другие. Бывший легальный марксист, кадет, врангелевский министр иностранных дел и монархист Петр Бернгардович Струве получил 232 голоса «за» и 193 — «против». Стихийно возникли разногласия по поводу последовательности и порядка выступлений. Петь или не петь предложенный Марковым гимн «Боже, царя храни»? И не было им числа — спорам по любому поводу.
Съезд приветствовали представители организаций эмигрантов — зачастую никому не известные группы, состоявшие из пяти — десяти человек. Устроители ждали представителей правительства Бриана. Их не было. Некий Жан Эрлиш, объявленный политическим деятелем, уполномочивший себя выступать от имени «прекрасной Франции», оказывается выходцем из России. Случился скандал. Стало известно и другое: в это время на Кэ д’Орсэ французская правительственная делегация вела переговоры с большевиками (вот оно, двуличие европейцев!) о развитии торговли и укреплении экономических отношений. Делегаты съезда требовали послать протест Бриану. Но и тут голоса разделились: кто из французских торгашей обратит внимание на подобные протесты, когда речь идет о миллионных сделках!
Новые бурные дебаты — династический вопрос. И снова никакого решения. Он передан для рассмотрения специальной комиссии под председательством Трепова. При определении симпатий к «императору» или к верховному «вождю» Николаю Николаевичу съезд тоже не проявил единодушия, хотя, как казалось, большинство его делегатов принадлежали к «николаевцам».
Особо выделяли вопрос об отношении к русской армии. Монархисты требовали провозглашения русскими воинскими контингентами монархических лозунгов. Врангель продолжал отстаивать аполитичность своей армии. Большинство его друзей и недругов считало: Врангель нерасчетливо поторопился с подобным заявлением. Остаться между Сциллой и Харибдой (имелось в виду — между Кириллом и Николаем Николаевичем) не лучший выход: неизвестно, куда понесет и куда вынесет история. В любом случае мог бы и подождать, отмолчаться. Съезд постановил: обязательность проведения монархической пропаганды в армии, необходимость всемерной поддержки монархических организаций, долженствующих стать ядром будущих воинских формирований.
...Выступающие сменяли один другого. На следующий день для делегатов в Булони был устроен роскошный обед. Но и во время пиршества не смолкали споры: ничто не могло остановить политиканов.
К Николаю Николаевичу в Шуаньи была послана делегация. Собственно, без особых полномочий, просто приветствовать великого князя и выразить надежду на иные времена. Николая Романова посещали и дальновидные делегаты-одиночки — выразить верноподданнические чувства. Великому князю пришлось воспользоваться для ответа газетой «Возрождение» — носительницей духа борьбы и возрождения былой России, издаваемой на средства известного нефтепромышленника Гукасова. Николай Николаевич сдержанно, чисто по-монарши писал, что высоко ценит «засвидетельствованную съездом готовность зарубежных сынов России содействовать моим начинаниям по спасению Родины». Нерешительность рождала стремление изъясняться неясно. Великий князь призывал делегатов съезда не предрешать будущей судьбы своей многострадальной страны, полагая, что дело русского народа самому установить образ жизни — «основы для бытия и устроения». О статье для «Возрождения» не знали даже в ближайшем окружении «хозяина Шуаньи». Он ни с кем не посоветовался, никого не поставил в известность.
Сторонники великого князя, стихийно собравшиеся тем же вечером, единодушно оценили эту статью как упущенный шанс в борьбе с узурпатором Кириллом, сильно осложнившим положение сторонников Николая Николаевича. «Я прошу прощения за дерзость, ваше высочество, — с трудом сдерживал себя генерал Лукомский. — Но ваше слово в этом бульварном листе буквально подрезало нам крылья!» Ему вторил князь Белопольский: «Да, да, именно, ваше императорское величество! Я согласен с генералом. Вы не вполне доверяете нам, своим верным слугам. Приходится скорбеть об этом». — «Ничего не потеряно, господа, — отмахивался Николай Николаевич. — Я так решил и сделал исключительно ради блага России. Это окажет положительное влияние на умы и охладит противников. Если вообще не выбьет их из седла». И каждый из сидевших в кабинете подумал о великом князе: он сдался, не хочет бороться, он устал...
Время, тем не менее, указывало на неизвестные дотоле силы, начавшие помогать Николаю Николаевичу. Похоже, силы эти находились не в России и не в среде эмигрантов. Газета «Дейли мейл» без обиняков назвала Николая Николаевича «наследником романовского трона». Англичан поддержали представители других западных газет. Венская «Арбайтер цайтунг» рассказала, как почти два года назад князь Кирилл собственноручно возложил на свою голову корону Российской империи, а другой князь, его родственник, Николай Романов, счел этот поступок несправедливым и безнравственным, так как и у него неоспоримые права управлять русским народом. Теперь он собрал съезд в Париже. Депутаты съезда заседающие ныне в отеле «Мажестик», провозгласили царем князя Николая, который, добиваясь согласия и мира среди россиян, разбросанных по разным странам, и тех, кто проживает на территории собственно России (?!), объявил себя «народным царем», обещал своим верноподданным править с миром, свободой и отеческой заботой. Вот тебе и «дядя Николаша!»
Съезд, однако, продолжал заседать и спорить — все более резко, непримиримо, употребляя запрещенные приемы. Лозунги «диких помещиков» пугали депутатов от торгово-промышленных кругов. Полемика кончалась криком. Крик — скандалами. Один из организаторов съезда С.Третьяков, представлявший руководство Торгово-промышленного комитета, демонстративно покинул зал заседаний, «хлопнув дверью». Правый кадет, член оргкомитета съезда А. Федоров заявил, что провозглашать великого князя Николая вождем рано. Это может иметь отрицательные последствия, ибо приведет к дальнейшему расколу эмиграции. Председательствующий, пользуясь своим правом, запретил выступающему вообще поднимать этот вопрос. Однако и другие делегаты говорили о том же. Большинство не хотело подчиняться «верховному вождю», учреждать некий руководящий орган при нем. Н. Львов сказал прямо: подобный, с неопределенными функциями, руководящий орган при нынешней ситуации станет лишь символом разъединения. Слова просил и гость съезда князь Н. Белопольский, но говорить ему возможность не предоставили: заседание затянулось, регламент был нарушен, далеко не все депутаты успели высказаться. Вопрос о «народном царе» уходил в песок, тонул среди бездны других, среди новых разногласий, которые родил доклад о земле, некстати сделанный бывшим царским сановником В. Гурко. Н. Марков, Д. Оболенский, А. Трепов, П. Скаржинский — что ни речь, то разные оттенки черносотенно-монархической «заботы» о русском крестьянине и земле. Недаром кто-то заметил: у нас не один земельный вопрос — их пятнадцать миллионов — по числу крестьянских хозяйств в России. Не в силах договориться между собой, все выступавшие строили свои иллюзорные теории на том, что Советская власть развалится под грузом трудностей, что Коммунистическая партия после смерти Ленина расколется под ударами внутрипартийной оппозиции...
Съезд закончился. Была принята резолюция по каждому из поднимаемых вопросов. По династическому, так волновавшему окружение Николая Николаевича, было записано: «Съезд разделил понятия блюстительства престола, возглавление широкого национального движения и вопрос о династических правах. Право на блюстительство престола принадлежит династии в целом и ей самой принадлежит решение о формах осуществления этих прав...»
И далее: «Съезд решил, что возглавление широкого национального движения принимает великий князь Николай Николаевич, который сам определит момент своего выступления. Вопрос о правах на престол, ввиду наличия спорных толкований закона, отнесен в Россию по освобождении ее от большевиков компетентным законодательным учреждением». Съезд можно сказать, провалился. Эмигранты шутили: вместо полноценного дитяти в результате долгой болтовни родилась хилая внебрачная двойня. Родилось «Центральное объединение» (председатель А. Гукасов, члены — князь И. Васильчиков, В. Рябушинский, П. Струве, князь Л. Уралов и другие), вещавшее об укреплении контактов с политическими кругами Европы и Америки. Вторым дитятей явилось крайне правое «Патриотическое единение» (председатель И. Алексинский, члены — А. Крупенский, Н. Оболенский, генерал П. Краснов и другие), яростно требовавшее «освобождения России под водительством национального вождя Николая Романова» и безоговорочного подчинения его приказам...
В Шуаньи снова собрались особо доверенные лица. Николай Николаевич, окончательно убедившись в крушении надежд, смотрел с нескрываемым презрением на лица своих сторонников.
— Убедились? — спросил он грозно и с непонятным торжеством. В кабинете было сыро от дождя, который не утихал целые сутки, и князь то ходил от двери к выходу на веранду, то бросал свое большое тело в кресло, зябко запахивал охотничью куртку. — Убедились, советчики? Кто был прав? Я! «Давайте, ваше высочество!», «Торопитесь, ваше высочество!» — передразнил он кого-то, а может, и всех сразу. — По вашей милости надо мной все смеялись. Да-да, смеялись, Трубецкой! Торопливость хороша при ловле блох, знаете ли. Вот так-с, граф Шереметьев. А представляете, кто умнее всех вместе взятых оказался? И вас? генерал Кутепов, учтите! Врангель! Да, Врангель Петр Николаевич! Он что сказал, знаете? Так я и думал: вы лишь свои высказывания коллекционируете. Он сказал, что мы оказались у разбитого корыта! И теперь от бессилия одни ищут помощи у других. Позор, господа! К чему было собирать съезд, не подготовив его? От такой политики я отстраняюсь, чтобы с вашей помощью не скомпрометировать себя окончательно. Лучше охотой заняться. И перестать толочь воду в ступе. Прошу прощения, господа!
— Но ответ «Патриотическому объединению»... — робко подсказал барон Вольф. — Они ждут вашего слова.
— Ах, они опять чего-то ждут?! И опять от меня? Подумайте, какие неразумные детки. Этот ... как его? Председатель Высшего монархического совета. Совета, господа? Советы по образцу большевистских стали воистине любимой формой правления. Не так ли, генерал Лукомский?
— Согласен, ваше императорское высочество, — генерал от неожиданности обращения к нему смешался и покраснел.
— Благодарю, генерал, за поддержку. Не сомневался! Так вот: Круденский был здесь и, сидя на вашем месте, граф, клялся что на съезде он создаст некий орган... Совет! Который сплотит всю эмиграцию вокруг меня. Где этот орган? Где Совет — я вас спрашиваю! Пусть Крупенский привезет его сюда и представит мне. Тогда и поговорим. А пока пусть «Кирюха» правит.
— Осмелюсь напомнить, ваше императорское высочество... — снова начала Вольф.
— Что вы там бормочете, барон? Громче!
— Благоволите выслушать... Ответ верноподданным из «Патриотического объединения»... Следовало бы выработать.
— Стоп, барон! — бешенство овладевало Николаем Николаевичем. — Вы тут думайте, думайте. И пишите — вот бумаги, чернила. А я, не думая, подпишу любую вашу галиматью. Честь имею! — и великий князь покинул кабинет...
Итак, съезд, не принесший победы ни одному из претендентов, закончился. Но борьба продолжалась. Крайняя правая часть во главе с Алексинским настаивала на проведении в Париже нового съезда. Цель? Безусловное утверждение в должности «вождя» Николая Николаевича — без всяких оговорок и ограничений — и сбор средств на дело святой борьбы.
Не на шутку забеспокоилась Виктория Федоровна: «император» Кирилл сдавал позиции. Он сократил штат, дал отставку певичке и вообще несколько утихомирился.
Но тут, внезапно почувствовав физическое недомогание, сковавшее его непостижимо быстро, Николай Николаевич начал погружаться в свою болезнь. Доктор Малама терялся в догадках, настаивал на немедленном консилиуме, но хозяин Шуаньи неизменно отказывался, грозил прогнать прочь и самого Маламу.
Съезд 1926-го года стал как бы пиком долгой и непримиримой борьбы претендентов, которая, увы, так ни к чему и не привела. С одной стороны, у граждан России за рубежом был «император», пусть и самозваный, но все же «хозяин российских земель». С другой — «вождь», призванный объединить все силы эмиграции. Поручив хулу противника своим приближенным, они уже как бы и забывали о существовании друг друга, жили мирно, ибо у каждого своих проблем оказалось предостаточно. И все же Николай Николаевич проявлял себя действенней, активней в борьбе с большевиками. Такое мнение возникало благодаря действиям Кутепова, и РОВСу — в первую очередь.
Глава одиннадцатая ВЕСЕННИЕ ПРОГУЛКИ ПО ПАРИЖУ
1
Ласково грело солнце. Свечками цвели каштаны. Буксиры тянули караваны барж, груженных песком, углем и дровами. Рядом возвышался монументальный, устремленный ввысь, к богу, собор Нотр-Дам. Ксении казалось утро особенно тихим, благостным, свободным от человеческих страстей. Хотелось, чтобы и помыслы очистились от всего мирского, суетного. Без мыслей, с непонятным еще чувством обретенной в себе радости, которая решительно сменила недавние мысли о самоубийстве, ненужности жизни, шла Ксения по набережной. От полного отчаяния, к которому она была недавно совсем близка после гибели матери и дочери Андриевских, ее удержало письмо к деду и обещание, что с ней ничего не случится. Странно — именно то письмо нежданно сделало свое дело.
Она спустилась к воде. Сена текла тихо и спокойно. Рядом спал человек, закрыв лицо коричневой шляпой. Костюм на нем был пристойный, башмаки — крепкие, и он не походил на бродяжку. Поодаль сидел пожилой рыбак без пиджака со спиннингом в руках. Красные подтяжки туго схватывали его большой живот и круглую спину. Он покосился на Ксению и сделал ей выразительный жест: не шуми, мол, silence[43]. «Eta, bien!»[44] — прошептала Ксения. И он улыбнулся ей.
Ксения нагнулась и зачерпнула ладонью воды. Сделала глоток, омыла лицо. Вода показалась прохладной. И невкусной: чуть пахла керосином. Рыбак выразительно пожал полными плечами: что поделаешь, такое время пришло, вода пахнет нефтью, люди — дерьмом... «А вы не из Прованса, мадемуазель?» — «Нет, — ответила Ксения. — Я русская». — «Метеки, опять метеки[45] — пробурчал он себе под нос. — Совсем нас оккупировали». — «Что же вам сделали русские, м’сье? Вам лично?» — «Русские разорили меня!» — «Ах, вот как!» — Ксения поднялась и пошла по откосу набережной.
От недавнего хорошего утреннего настроения не осталось и следа. Солнце поднялось над домами, лицом она чувствовала его тепло. Голубое небо над Парижем становилось чуть золотым и белым. Ксения без цели брела по набережной. День обещал быть теплым. Она сняла кофту, в кармане звякнули монетки — несколько су и сантимов — все, что у нее осталось. Впрочем, можно продать вязаную кофту: впереди лето, в кофте, подаренной Ниной Михайловной Андриевской, нужды не будет до осени.
Ксения ушла от Сены, путаясь среди улочек. Вдоль каменных стен, старых барочных особняков, крохотных зеленых двориков, украшенных одним карликовым деревцом, не имеющим права распрямляться выше второго этажа, украшенных клумбой или засохшей чашей фонтана. Мимо пестрых маленьких лавчонок гремели по булыжной мостовой двуколки и тележки с зеленью, свежими, еще подающими признаки жизни дарами рек и морей; торговки ранними цветами поминутно ловко сбрызгивали свои лотки с фиалками и гвоздиками; раздавались из раскрытых окон из-за неподнятых жалюзи печальные звуки скрипки; тренькали на разные голоса звонки мчащихся велосипедов»; лаяла зло, с надрывом, какая-то собачонка; два пестро одетых мальчугана — истые парижане! — на весь квартал звонко рекламировали утренние выпуски газет.
Высокая и толстая, в широкой цветастой юбке и косынке из такой же материи, обернутой вокруг непричесанной головы, легко, играючи, сгружала возле крохотного кафе деревянные ящики с кондитерской мелочью хозяйка, женщина с бронзовым лицом, черными бровями, кроваво-красным ртом и заметными черными усиками. Оглядев Ксению с некоторым подозрением, она сказала густым баритоном: «Заведение закрыто, но барышня сможет получить чашку кофе и пару свежайших круассонов, от них еще никто никогда не поправлялся». Ксения выразительным жестом дала понять, что она без денег.
— Тогда помоги, черт возьми! — хлопнула себя по мощным бедрам торговка. — Чего стоять? И тебя не убудет, и накормлю. Ты мне нравишься. Что? С любовником разругалась?
— Я эмигрантка, русская.
— И что? Я тоже не королевского рода, дитя Иностранного легиона. За работу, красавица! Погляжу, на что ты способна.
Посетителей в кафе не было. С работой они справились быстро. Хозяйка поставила перед Ксенией поднос, полный круассонов, масла, колбасы, джема, и большой кофейник с двумя тяжелыми фаянсовыми чашками. Они поговорили о сегодняшней трудной жизни. Вопросов не задавали, о себе не распространялись. Закусив, Ксения распрощалась, получив приглашение приходить, когда ей заблагорассудится. Поблагодарила и ушла, даже не посмотрев название улицы и номер дома...
Ноги снова вынесли ее к Сене. И она перешла по мосту Александра на другой берег. Париж уже набрал свой привычный жизненный ритм: мчались вереницей авто и омнибусы, тротуары заполнила пестрая, спешащая толпа, работали магазины и рестораны, пестрая реклама, поражающая воображение, призывала приобрести предметы, делающие человечество счастливым, здоровым и богатым.
Сама того не замечая, Белопольская оказалась на территории Международной выставки. При ее открытии они с Дашей уже ходили сюда: очень хотелось посмотреть советский павильон, о котором много спорили в эмигрантской среде, но попасть не смогли: пускали по билетам, которые, как оказалось, были раскуплены заранее. Пришлось ограничиться экскурсией по территории, посмотреть торговый центр и парк аттракционов.
Даша восторгалась, как дитя. Особенно понравился ей тир под названием «Купание негров». За один франк, если ты попадала в цель, один из двух негров, сидящих на доске, терял опору и с неподдельными криками ужаса падал в бассейн. Большинству посетителей нравился аттракцион с интригующим призывом «Не позволяйте уснуть женщине». За два с половиной франка посетитель получал тарелку с пятью деревянными шарами. На противоположной от входа стене крепились две кровати, на которых возлежали блондинка и брюнетка, укутанные в одеяла. Меткий бросок «участника забавы» в круг над каждой кроватью, и полуодетые пышнотелые женщины падали из перевернувшегося ложа под дружный визг собравшихся. Боже, Даша! Как давно это было!.. Может, пойти и наняться? Интересно, как тут платят дамам? За целый день?.. Побродив по выставке, Ксения подошла к советскому павильону. Его необычная архитектура не очень понравилась ей, но вместе с тем родила острое чувство любопытства, стремление присмотреться внимательно. «Большевики и тут нам задали десяток загадок», — подумала она. Около входа собиралась большая, шумная группа парней и девушек. Вероятно, студенты. У них были билеты. Ксения, изловчившись, прошла внутрь, пользуясь толчеей. Странное, забытое чувство сопричастности со всем, что она увидела, охватило ее. Все казалось узнаваемым, видимым не раз. Казалось — родным... Боже! Ведь это был ее дом!..
Белопольская ходила зачарованная по залам: ткани, вышивки, меха, уральские самоцветы, фарфор, игрушки, мебель, книги и иллюстрации, плакаты — хоть не привычные, но бьющие, как ружейный выстрел: «Резинотрест — защитник в дождь и слякоть, без галош Европе сидеть и плакать». Или: «Папиросы «Червонец» хороши на вкус, крепки, как крепок червонный курс». Фотографии Наппельбаума, кадры из кинолент Протазанова и Эйзенштейна, архитектурные проекты Щуко и Жолтовского, татлинская конструкция. Родина была жива! Она строила новый мир, свой, русский. Только русский и никакой другой. Там шумели на ветру березы, державно несли воды реки и пели соловьи, там существовали свои обычаи и праздники. Ксения задумчиво постояла перед макетом избы-читальни и рабочим клубом, не понимая, что это такое, пока худющий парень в берете, сдвинутом блином на правое ухо, на ее вопрос не ответил, изумившись ее непонятливости, что в большевистской России учатся все. Крестьяне — в таких избах, рабочие — в клубах. Ксения хотела было спросить еще о чем-то, но длинноногого парня и след простыл. Родная огромная земля, которую она любила и так мало знала: она всегда простиралась близко и... далеко — за воротами их дома на Малой Морской, за забором крымской виллы. Что она знала о своей стране?..
Ксения вышла из павильона потрясенная. И пошла прочь, продолжая медленно и трудно размышлять над увиденным, чувствуя себя точно после неожиданной встречи с близким родственником, которого давно считала погибшим...
Ксения очнулась на скамейке неподалеку от главного фонтана выставки. Мощная струя рассыпалась стеной разноцветных хрустальных брызг, сносимых в сторону ветром.
— Простите, бога ради, — услышала она голос рядом, за спиной. — Я наблюдаю за вами... Еще раз простите. Когда вы сели и мы оказались рядом... У вас было такое несчастное лицо, усталое и горестное, что я посчитал долгом своим вмешаться. И потом...
Белопольская обернулась. Рядом сидел человек неопределенного возраста, с пышной бородой, в мешковатом костюме. Вид его внушал доверие.
— Вы русская, я не ошибся? Хотя у вас отличное произношение. Простите, стал свидетелем вашего разговора с молодым человеком в берете.
— Вы делаете мне комплимент, — сказала Ксения. — А вот совсем недавно меня упрекнули в незнании языка. Да, я русская, м’сье.
— Простите бесцеремонность и разрешите представиться. Лев Федорович Федоров-Анохин, бывший филолог, дитя одесской эмиграции. Ныне, можно сказать, эмигрант. Тружусь в газете.
— И какую газету вы представляете? — Ксения недоверчиво осмотрела соседа. — Вы монархист? Николаевец, кирилловец?
— Помилуйте, отчего же вы так решили? Из-за бороды? — смешно заморгал глазами Лев Федорович. — Я далек от политики и... Я весьма левых убеждений.
— И все же?
— В газете «Последние новости» немного перевожу, корректирую, безотказно работаю курьером. А главная моя профессия теперь — составитель крестословиц[46]. Тем и живу.
— Подобная многообразная деятельность делает вам честь, господин Анохин. — Ксении почему-то было легко с этим гигантом. Он не мог ее обидеть, она чувствовала. — А знаете, я заметила, у вас правое ухо чуть больше левого. Простите.
— Всякий день вижу себя в зеркале. И каждый считает своим долгом рассказать мне это.
— Но отчего так? — Ксения улыбнулась. — Вас в детстве часто таскали за ухо?
— В фигуральном смысле — конечно. Это тренирует уши, скажу вам по секрету, мадемуазель… э?
— Белопольская. Ксения Николаевна. По вашему лицу я вижу, вы слышали эту фамилию. Но мой отец и я не имеем между собой ничего общего. Давайте беседовать без взаимных вопросов. Только на таких условиях.
— Повинюсь, я не знаю вашего отца, простите, Ксения Николаевна. Да я и не очень любопытен. Лишь один вопрос — позвольте?.. Мы могли бы перекусить? Это нас... вас... уйдете, как только я вам невыносимо надоем. Соглашайтесь, пожалуйста. Вы мня очень обяжете.
— В моем кругу так не принято. Впрочем, где он, мой круг? Я соглашаюсь, господин Федоров-Анохин, — просто сказала она. — Только это так сложно — «Федоров-Анохин». Пусть будет что-либо одно, Федоров или Анохин.
— Сколько угодно, Ксения Николаевна! Dixi el animam levavi,[47] — так говорил мой учитель, мир праху его... — бархатный голос пресекся. Он склонил голову, лицо его застыло. — Куда мы пойдем? Я небогат сегодня. Как обычно, впрочем. Сколько времени вы можете пожертвовать мне?
— Простите, запамятовала. Лев?..
— Федорович — с вашего разрешения.
— Дело не в моем, а в вашем свободном времени, Лев Федорович. Считайте, считайте! Франки, минуты, часы!
— Мне совестно, Ксения Николаевна. Я не думал... Не надеялся, что вы... что я... Если честно, сейчас мне необходимо в редакцию. Буквально на десять минут, не больше. Предупредить, договориться: клерку ведь не прощают самоуправства. Простите уж болтуна. Зато потом — полная свобода. Так как?
— Согласна и на это, — Ксения удивлялась себе все больше.
Они спустились в метро. Лев Федорович говорил не переставая, но Ксения не слышала. Грохот и скрежет вагонных колес заглушал слова. Ксения улыбалась своим мыслям. Послал же ей Бог такого чудака! Промелькнула одна станция, уставленная рекламными щитами, еще одна, и людской поток вынес их из вагона, повлек к выходу. Анохин со всем почтением осторожно поддерживал Ксению под локоть, и она чувствовала силу его руки. Они прошли несколько кварталов. Разговаривать на ходу было неудобно, он — высокий, выше ее на голову, тихие слова его точно застревали в бороде. Она — вся во власти забытого чувства надежной защищенности. Словно вернулось детство, когда дед, крепко взяв ее за руку, водил в Александровский сад, к фонтану у главного входа в Адмиралтейство. Они свернули в боковую улицу. Здесь было тише, пустынный воздух не столь пропитан бензиновой гарью.
— Rue d’Astorg, — услышала Белопольская. — Семнадцатый дом. Это рядом, потерпите.
— С удовольствием, — ответила она.
Неказистый серый дом. Давно не ремонтируемый, вроде и не жилой. Напротив — кафе, несколько столиков под полосатыми грибками выставлены на тротуар. И только за одним чутко дремлет старый владелец заведения. Услышав шаги, он приподнял веко и сказал:
— Bonjour, м’сье Лев. Утро есть доброе. N’est се раз?
— Доброе утро, дядюшка Анри! Не угостите чашечкой кофе мою землячку? Пока я сбегаю наверх, а, Ксения Николаевна?
— Я пойду с вами, Лев Федорович. Я никогда не была в редакции, и мне любопытно.
— Ничего любопытного, — сказал он прямодушно. — Худший вид торговой лавки.
— Лавки — почему? .
— Здесь продают слова и свои убеждения. Умоляю! Не смотрите так удивленно. И я продаю здесь свои слова.
— Отнюдь не удивляюсь: каждый нынче продает то, что может. Вернее, то, что у него покупают. Вы не оригинальны, Лев Федорович. Так идем?
— Извольте, — он толкнул высокую дверь, легко придержал тугую пружину. — Кофе отменяется, Анри.
— Quel dommage[48], — равнодушно произнес старик, незамедлительно погружаясь в привычную дрему.
Они поднялись по обшарпанной, неширокой, но довольно крутой лестнице на третий этаж. Анохин предупредительно шагнул вперед, распахнул дверь, обитую изнутри железом, сказал:
— Прошу! Alea jacta est! Жребий брошен! По коридору и сразу налево.
Они оказались в маленькой комнате, где было втиснуто впритык четыре стола, заваленных бумагами чуть не на полметра высотой. И лишь за одним возвышалась над бумагами копна светлых зачесанных назад волос.
— Вот стул, пожалуйста, — сказал несколько скованно Анохнн. И соседу: — Привет, Толя. Ты уже получил презренное злато?
— У хозяина опять нет денег. И ты не получишь, — над столом поднялась атлетическая, под стать анохинской, фигура в несколько потертой визитке, нарукавниках и свежей рубашке с галстуком-бабочкой под чуть рыжеватой аккуратной бородой. Он с нескрываемым восхищением разглядывал Белопольскую строгими светло-голубыми глазами.
— О-о! — в отчаянии простонал Анохин. — Без денег что делать?.. Позволь представить тебе Ксению Николаевну. Она петербургская. И мой друг. Будь корректен. У тебя нет нескольких франков?
— Случайно нет. Представь, и вчера не было. Садитесь, Ксения Николаевна, будьте дорогим гостем, — он снял нарукавники, шутливо представился: — Грибовский Анатоль сын Иванов. Король парижского репортажа.
— Посидите три минуты, а я... — обрадовался Лев Федорович.
— Чудак, — резюмировал Грибовский. — Чтобы одолжить, раньше приходить надлежало. Сейчас все пусты.
— Поляков обязан мне жалованье за неделю. Мне необходимо — теперь сейчас, — Анохин начинал сердиться. Саваофская борода его смешно и воинственно вздернулась Ксения поняла, почему он не хотел брать ее с собой, большое дитя, — Я мигом, Ксения Николаевна!
— Может, и я с вами? Как вексель, требующий немедленной оплаты?
— Браво! — воскликнул Грибовский. — Ценю находчивых и красивых женщин.
— Вечно ты со своими сомнительными шуточками, Анатолий.
— А ты беги, беги! — парировал журналист. — Поймаешь Полякова — и за грудки: франков двадцать, глядишь, вытрясешь, да вряд ли. Биться о заклад готов.
— Бегу, Ксения Николаевна. Дождитесь, не уходите — умоляю!
— Обещаем, — отозвался Грибовский. — Никуда твою знакомую не пущу: у меня интервью, не выходя из редакции, новая рубрика, а что? — он выдержал паузу, изучая чистый лист бумаги, и вдруг несколькими быстрыми карандашными штрихами нарисовал шарж: — Похоже?
— Подарите на память?
— Сколько угодно!
— А ваше имя-отчество, господин Грибовский!
— Вы же слышали — Толя. У нас все Коли-Толи, Коти-Пети, Тины-Дины. Два часа вместе проработали — и идейные соратники. Дерьмо. Вас это шокирует? И отлично! В таком случае: что вы думаете обо всем этом, Ксения Николаевна? Жизнь русского на rendezvous.
— Я беспартийная. И сочувствующая всем страдающим.
— А самой приходилось? — напористо спросил Грибовский, не давая ей времени и подумать над ответом. — Вы сюда без пересадки или слезали на узловых станциях?
— Ссаживали.
— Константинополь, вероятно?
— Угадали.
— Моя профессия, — он записал несколько слов.
— Но я не скажу свою фамилию, и на мне вы не заработаете.
— Я выслежу вас быстрее любого детектива, — он порвал написанное, сказал: — Вы мне нравитесь. Дайте вашу руку. Так. Дворянская, чистых кровей ладонь. Лопату не держала, за скотиной не ходила. Но следы пороха имеются... Да... Постреливали? И все больше по двуногим братьям своим, не так ли?
— Ваша правда, господин сыщик. Теперь вашу правую руку. У вас следов пороха нет. Мозоли писчие. За газетными столами жизнь провели. Занятно! Давно в Париже служите?
— Считайте, век.
— И прямо из Одессы, конечно? Не битый еще.
— Тут вы зря: бит достаточно. Впрочем, чем это взвесишь, как определишь?
— Я ведь тоже почти профессиональная гадалка. Вас всегда спасала ваша, как любят говорить представители свободных профессий, политическая терпимость. С большевиками вы большевик, с императором Кириллом — монархист. Эта удобная позиция спасала многих русских вечно кающихся интеллигентов.
— Вы — провидица, Ксения Николаевна. Я сдаюсь: ошибся в вас, простите вечного грешника.
Запыхавшись, влетел Анохин. Сказал, счастливый:
— Дает Поляков, чтоб мне лопнуть! Но боится, обманываю. Просил представить вас, Ксения Николаевна. Умоляю, не обижайтесь хамству.
— Напротив, — усмехнулась Белопольская. — Поляков? Это даже интересно.
Они чуть не бежали по коридору. Лев Федорович резко открывал дверь за дверью — кабинеты оказывались пусты. Вероятно, сотрудники в этот час носились по Парижу в поисках самых последних новостей. «Где же? Где он? — бормотал Анохин. — Неужели сбежал? Не может быть! Нет!..» В одной из комнат Ксения увидела молодую, очень красивую женщину с запоминающимся лицом трагической актрисы. Она печатала на старенькой машинке. Хлопали с цваканьем буквы, позванивала каретка. Женщина подняла глаза и посмотрела на Белопольскую.
— Поляков? Где? — выдохнул Анохин.
Женщина пожала плечами, и се тонкие пальцы вновь взлетели над клавиатурой. Анохин посмотрел на Ксению в полном отчаянии, прислонившись к стене, чтобы перевести дух. И тут неизвестно откуда появился сам главный технический редактор газеты А. А. Поляков. В нем увиделось Ксении точно нечто бесовское — голый череп, прикрытый маленьким беретом, трубка в зубах, не то усмешка; не то оскал. Глаза остановившиеся, темные, огромные.
— Ага, — сказал он, не вынимая трубки изо рта. — Можете получить, — улыбнулся Ксении, а сказал Анохину: — Прошу, Лева, не забудьте: к шести, к шести. Не забудьте! — и исчез в каком-то закоулке, оставив за собой табачное облако. Похоже, махорочное.
— А это красивая женщина — кто? — не удержалась от вопроса Ксения. — Из газеты? — повторила она потому, что счастливый Анохин думал о другом и ничего не слышал.
— Посидите, пожалуйста, еще секунду у Грибовского, Ксения Николаевна. Он ведь не очень досаждал вам? Я богатею на глазах.
— Я готова, но ... вы меня абсолютно закружили. Мне не найти здесь ни Грибовского, ни выхода, ни входа.
— Да?! О!.. Бога ради! Я забылся и затаскал вас! Простите!
— И перестаньте извиняться каждую минуту. Я сама напросилась. Но о той женщине вы не ответили.
— Берберова. Это Эн-Эн Берберова, литератор. Очерки и фельетоны об эмиграции. Правдивые и талантливые стихи.
Они шли коридором.
— Ее муж — Владислав Ходасевич. Поэт, слышали?
— Я плохо знаю поэзию.
— Обязательно просвещу вас, — он открыл дверь в кабинет, крикнул: — Грибовский! Я иду за франками. Я сегодня Крез.
— И я с вами! Неужели бросите страждущего в пустыне? Это не принято, это не дело, Лев! — притворно возмутился Грибовский.
Анохин не умел скрывать свои чувства. На его лице отразились одновременное разочарование и сожаление, дружеская солидарность с коллегой и надежда побыть наедине с Ксенией, поговорить. Анохин в замешательстве остановился.
— Да заступитесь хоть вы за меня! — взмолился Грибовский. — Это из-за вас он мнется и жмется — неужели не понятно? А я есть хочу. Может, я сутки не жравши.
— Ну тебя, — улыбнулся, сдаваясь Анохин. — Но обещай исчезнуть без долгих разговоров.
— Боже мой! — Грибовский шутливо рухнул на колени и пополз к порогу, вытянув вперед руки. — Проси что хочешь: я тебе все пообещаю, даже за требуховую похлебку.
— Надоел, — сказал Анохин огорченно. — И шутки твои однообразные, — и он скрылся.
— Ох уж мне эта достоевщина! — Грибовский спокойно поднялся, отряхнул брюки. — Трех слов без подковырки не произнесешь. Да и вы, мадам. Будто воды в рот набрали, словечка не замолвили. Вам приятно, что я ползаю с протянутой рукою? Завтра ваш Лев точно так ползать передо мной станет. Такова жизнь, мадам. Надо приспосабливаться наперекор этикетам, золотая моя. И не в белых перчатках мы тут бумагу мараем.
— Оставьте, Грибовский, — сказала Ксения. — Я знаю эмиграцию. И давайте не юродствовать: это вам не по возрасту.
— Вам же интересней будет, — сказал обычным, чуть насмешливым тоном Грибовский, ероша шевелюру. — Что Лев? Умница, эрудит, сто языков знает. А в застолье он — ноль, сами увидите. Станет «бекать» и «мекать». А я вас и поведу куда надо, и жратву выберу подходящую, и развлеку.
— Да разве я против? Идемте, бога ради!
— Вдвоем вы и завтра сможете посидеть, никто не помешает. Париж — большой, есть где потеряться и наговориться. Вы давно его знаете, Ксения Николаевна?
— Давно, — сказала Ксения. — Часа два.
— В корне меняет дело. И все же захватите меня, не пожалеете. Я и пить не стану. Еда и разговоры — только. Хотя без алкоголя нам, русским, никак нельзя
Вернулся Анохин. Он сиял.
— Идемте! Но одно условие: ты поможешь Ксении Николаевне.
— В чем именно?
— Я подозреваю, она без работы.
— Так, Ксения Николаевна?
— Примерно так.
— Замечательно, Лев. А что может Ксения Николаевна?
— Практически ничего, — ответила Белопольская.
— Тогда нет ничего проще. Спрос на таких сногсшибательный. Совсем ничего?!
— Знаю французский. Училась шить. Знаю правила хорошего тона. Музыка — впрочем, дилетантски. Могу ездить на лошадях. Объезжать их — и на это готова.
— Если так же, как и людей, — усмехнулся Грибовский и, мгновенно став серьезным, закончил: — Масса профессий. Устроим, дайте срок. А пока решайте, куда плывем?
— Я полагаю... — начал Анохин и замолчал, беспомощно глядя на коллегу.
— Сколько у нас франков на прожор?
— Сто с мелочью.
— Расщедрился Поляков. Это из-за вас, Ксения. Вы позволите?
— Разумеется. В Крыму меня звали еще проще: Кэт.
— Кэт? Замечательно!
— Я протестую! Ксения Николаевна шутит. Ты узурпируешь право...
— Не станем отвлекаться, друзья, — перебил его Анатолий. — Я предлагаю «Большой московский Эрмитаж» близ Opera. Как? Во время обеда и ужина большая артистическая программа: цыгане, румынский оркестр, квартет бояр, хор бывших сенаторов. Сам Вертинский, случается.
И он пропел, очень точно подражая голосу недавнего петербургского кумира:
Я не зна-а-ю, зачем и ка-а-аму это нужно,
Кто посла-а-ал их на смэрть не дрожа-а-авшей рукой.
Только та-а-ак ка-ак-то стра-а-анно, так зло и нэнужно
Опустили их в ве-еч-чный па-а-акой...
— Очень похоже, Грибовский, — сказала Ксения. — Плакать хочется.
— Мне бы гитару — заплакали бы, милая девушка, — вдруг серьезно сказал репортер. — И я сам плачу — под настроение. Ну, все!.. Значит, «Эрмитаж»?! Но не в метро же мы туда. Занимайте места в такси, господа! Да здравствует наш благодетель Поляков! Вперед, вперед!..
Дверь им с поклоном открыл швейцар в черкеске.
— Нельзя ли газетку, голубчик? — попросил Грибовский, приглаживая непокорную шевелюру. — «Парижский вестник» желательно.
— Достанем-с, ваше сиятельство. Цена в рознице повышена-с до тридцати сантимов-с.
— Постарайся, милый. Только я не сиятельство, да и ты не всю жизнь, видать, в швейцарах. Кем служить приходилось на Руси?
— Уланским полком-с командовал, смею заметить. Полковник Смирнов-второй!
— Я вот солдатом был, необученным. Таким и остался. Штафирка-с... Учти, Смирнов-второй.
— Прекрати, Толя! — потянул его Анохин. — К чему эти разговоры? Выбирай столик. Он и так судьбой обижен, его каждый мордой об стол может.
— Никакой он не улан. Голубой мундир[49] просвечивает. Но ты прав, толстовец... Сядем к окну, не возражаете, Ксения?
Все сели. Официант во фраке принес меню.
— Ты полагаешь, мы начнем вслух читать сочинение твоего хозяина? — усмехнулся ему Грибовский уже мирно и спокойно. — Эти двое, что со мной, по-русски вообще не бельмеса. Слушай меня и запоминай, голубчик, Закусочку на твой вкус, графинчик, «смирнофф» чтоб была, так?.. Ну, консоме с пирожками, карп a’la Mennier, гусь жареный с капустой. Сыр швейцарский: во Франции жить — по французски выть. Кофе, торт яблочный — все! Да не перепутай: кофе горячий, водка — холодная, а не наоборот.
Официант, откланявшись, ушел. Тихо и тоскливо звучало на эстраде пианино. Время актерских выступлений еще не подошло. Анохин потерянно смотрел на Белопольскую. Грибовский погрузился в чтение газеты, которую , неслышно подойдя, положил на стол швейцар.
— А как вы стали атлетом, Толя! — спросила Ксения, чтобы нарушить молчание.
Грибовский почесал затылок, сказал серьезно:
— Я боксом занимался с детства. Для репортера это первейшее дело. Помню, приехал к купчине первой гильдии. На Кирочной, возле Литейного дом огромный. И хозяин как дуб. Ноги — тумбы, кулаки с арбуз. Не помню уж, зачем я и пожаловал. Чем-то герой прославился — то ли денег на приют отвалил, то ли компаньона по миру пустил. Не помню. Я к нему с вопросами, а он говорит: «Ну-ка, мил друг, толкни меня». — «Да к чему?» — «Ты здоровый, я здоровый. Ни за что меня с ног не свалишь». — «По делу я, к чему нам силой меряться?» — «Уважь, чего тебе стоит», — пристал, сил нет, да и рассердил он меня. Дал ему хук, он через всю гостиную и в зеркало въехал. Смешно, а? — Он опять зашелестел газетой, быстро проговаривая привлекшую его информацию: — «Московский народный банк... парижское отделение... производит операции... Кооператив русского печатного дела в Париже... Русское кино, мебель, аптека — замечательно. Ага!.. Движение за признание СССР… Новые часы работы Союза возвращения на Родину... Доклад Эренбурга «С Монмартрского холма и с Воробьевых гор», — опять петитная болтовня, угу!.. «Учу стенографии...», «Ищу место секретарши...» Трактир «Москва», улица Пукке, пять... Plus change — plus са reste![50]
— А ведь вы несчастный человек, Грибовский, — вдруг убежденно сказала Ксения.
— Несчастный? Слово-то какое, — не смог скрыть замешательства журналист. — С чего вы взяли? Несчастный? — повторил он. — Да почему?
Лицо выдает, когда вы думаете, что один и никто за вами не наблюдает. Как сейчас, когда уткнулись в газету.
— Поразительно, — сказал он уныло. — Все мы такие. А может, вам, мадемуазель, в цирке выступать? Устроить?
— В цирке не надо. Пока — во всяком случае.
— Неграм всегда нужен дансинг, русским — кладбище, французам — манифестация, — пробормотал он. — Куда же мне вас устроить?
Официант ловко сервировал стол, профессионально прислушиваясь к разговору.
— Тоска давит, — вдохнул Грибовский. — И ты молчишь, Лев. Почему ты молчишь? Я тебе мешаю? Поем и уйду. Послушай, голубчик, — обратился он внезапно к официанту. — Ты на кого работаешь? На ЧК? На Дезьем бюро, на Кутепова? Скажи, чтоб прислали другого.
— Но, простите, господин... Меня уволят. Я не сделал ничего такого, чтоб вы гневались.
— Оставь, Толя, — вмешался Анохин. — Всех ты воспитываешь. Идите, пожалуйста, мы тут сами, — кивнул он официанту. — Попали в пристойный ресторан — давайте обедать.
— Вы умница, Лев Федорович!
— Бог с вами, — Грибовский поднял запотевший графин. — Не теляти волка поймати. Выпьем... Выпьем за то, чтоб каждому сегодня было хорошо.
— Почему сегодня? — возразил Анохин.
— Да ладно. Пусть каждый пьет за свое. Чокнулись — и до дна.
Выпили. Грибовский посмотрел на Ксению доброжелательно, похвалил:
— Умеете. Профессионально, как пристав в прихожей у богатого еврея на пасху.
— Вам не нравятся евреи? — спросила Ксения, готовая дерзить.
— Нет, почему? И евреи бывают разные. Дубль? — и, не дожидаясь ответа, вновь наполнил рюмки. И выпил с удовольствием, зацепил кусок лососины, проглотил целиком. — Тоска давит. Глотнул водки — и аппетит прочь. Поговорить хочется. Вы жуйте, а я чуть-чуть пофилософствую.
— Только прошу тебя, — Анохин незаметно показал глазами на Ксению.
— Ах, Лев, Лев, святая душа! Я — русский интеллигент в пятом поколении, а ты меня воспитываешь. Ваши успехи! — он снова закусил ломтиком мяса, нашпигованного фисташками и всякой всячиной. — Простите, миленькие. Я хочу сказать нечто важное, а вы послушайте. Семь смертных грехов назвали нам мудрецы, семь путей человеческого бесчестья. Дело известное. Но есть и восьмой, самый страшный. Это — мысль, она разрушает все. И пока человек жив, он предается восьмому греху, ежесекундно падает в бездну, в пучину.
— Занятно, — сказал Анохин. — Но к чему гнуть изволите?
— Заказали, а ничего не едите, — Ксения замечала, как легко пьянеет светловолосый атлет. — Давайте обедать.
— Па-азвольте, — упрямо протянул Грибовский. — Обязан... Я па-ап-пра-шу...
— Думаете, пьян? — шепнул Ксении Анохин. — Дурака валяет, поверьте.
— Посмотрите, вон бубновый король. Или этот подосиновик у окна. Как были первыми петухами в российских курятниках, ими остались, у них и сказка, красивая легенда заготовлена. С ужасами, бриллиантами, зашитыми в кальсонах, — прощения прошу! — женой, скончавшейся от тифа, сыном, сложившим голову под Кавказом, и полным одиночеством в Париже: кругом одни французы. Да-с... Жить с французами затруднительно. Что же остается? Ждать вечера. Вечером можно в «свое общество» податься. Уж там обязательно два-три артиста, бывший генерал и сенатор, бывший миллионер, профессора, доценты, журналисты, дамы. Разговор о философских течениях, борщ и котлеты.
— Что же ты предлагаешь?
— Пить! Как призывает Рабле. А на будущее — признать поражение и возвращаться по домам.
— Не ресторанный это разговор, Толя. — И — ты знаешь — я против того, чтобы одной черной мазать всю эмиграцию.
Официант, изо всех сил стараясь произвести хорошее впечатление, прилетел с глубокими тарелками и суповой миской. Поднял крышку, как фокусник, сотворивший чудо в этой миске, принялся разливать суп.
— Мне не надо, Серж, дружок, — криво усмехнулся Грибовский. — Закуску не уноси: я подожду второго.
— Так вы знаете этого типа? — удивилась Ксения.
— Первый раз его вижу. О! — он вскочил, увидев двух мужчин, входивших в зал. — Пока вы хлебаете консоме, я заработаю франков пятьдесят, — и поспешно двинулся к столику, который занимали вальяжные гости.
— Тот, кто справа, Гукасов, — сказал Анохин. — Промышленник, туз, председатель патриотического объединения, владелец газеты «Возрождение», наш коллега, — он коснулся кисти Ксении, спросил виновато: — Толя докучает вам? Он своеобразный, но душевный человек. И я не мог не пригласить его, поверьте и простите ради бога, Ксения Николаевна.
— Если вы еще раз скажите «простите», я начну кусаться.
— Очень хочу помочь вам и уверен — помогу. Сообща что-нибудь придумаем. Люди обязаны помогать друг другу. Поверьте, у меня нет никаких корыстных интересов.
— Последние годы моей жизни человечество, словно сговорившись, убеждало меня в обратном.
— Толя вот ругал русских эмигрантов. Но ведь есть и другая ее часть, лучшая. Возьмите Балканы, Турцию, даже Южную Америку. Сколько русских самоотверженно работает там врачами, учителями-просветителями, пропагандистами музыки, балета, настоящего искусства. Лифарь и Баланчин, Шаляпин, конечно... Мозжухин, Протазанов, Алехин, Бакст и Коровин. Ими будет гордиться все человечество, Ксения Николаевна.
— Зовите меня Ксения.
— Не могу. Увольте. Со временем... У меня язык не поворачивается. Я ваш верный друг.
— Я верю, Лев Федорович. Вас послал сам Бог, услышав мой «SOS!».
— Если вы только пожелаете, я... чем могу... Мне все кажется, я уже встречал вас где-то раньше.
«Большой милый ребенок, — подумала Белопольская. — Как он мог сохраниться в нашем лихолетье и выжить?»
Вернулся Грибовский — с видом победителя, похлопывая блокнотиком о ладонь, ожидая вопросов и не скрывая своего торжества.
— Кельнер, — щелкнул он пальцами сухо и громко, как кастаньетами. Примчался официант. — Что же ты, братец! — грозно посмотрел он поверх его головы. — Гости у тебя скучают. Где гусь? Запамятовал?
— Команды ждем, господин-с-с.
— Скачи за гусем. Пять секунд, ясно? — и, сев, сказал: — Принимаю поздравления. Беседа с Гукасовым — двести строк на первую полосу. Придется нашему ящеру Полякову франков сто готовить. На меньшее не пойду. Завтра я приглашаю вас на обед.
— Что же рассказал тебе керосинщик?
— Сенсация! Разругались они со Струве вдрызг, представляешь?! Петр Бернгардович уходит из «Возрождения», собирается издавать свой еженедельник.
— На какие шиши, интересно? Впрочем, выкрутится. Ксения Николаевна совсем засыпает от наших разговоров,
— Вот это зря: Ксения — человек! У меня есть и заголовок: «Кто победит: идеи Струве или гукасовские миллионы?» А? Каково?!
За соседним столиком сидела странная компания: двое русских и немец, вероятно, — рыж, щекаст, с усиками а-ля Вильгельм и военной выправкой. Один из русских — старик за семьдесят, его возраст выдавали апоплексического цвета лицо и красный затылок, нависший широкими складками. Второй выглядел еще более неряшливым — нечесаные волосы, нечесанная борода с остатками еды, шарф вместо галстука, потертый пиджак. Русские спорили во весь голос, размахивая руками. Старший, возражая, хохотал обидно. Вид у них был точно у помешанных. Немец, перед которым стояла почти пустая бутылка шнапса, сидел, тупо глядя в стол. Иногда он поднимал бычьи, бессмысленные глаза и поводил ими по лицам соседей, точно удивляясь обществу, в котором оказался.
— Трагедия, милый мой, трагедия, — выкрикивал тот, что помоложе, теребя бороду и дергаясь. — Мы здесь обречены. Умирать мы всегда умели лучше, чем жить. Равнодушные под дулом пулемета, покорные на плахе, — у нас нет будущего. Из нашего вшивого, тифозного поколения никто не нужен новой России.
— Ну уж это бабушка надвое сказала, — возражал старик. — Интеллигенция — соль земли, хранитель культуры нашего народа.
— Интеллигенция во всем искала благо: в курных избах, кислом запахе овчины, общей неграмотности и поверьях, доставшихся то ли от монголов, то ли от викингов. Все поднимала на щит потому, что пахло родными лаптями да онучами. Интеллигенция бросила народ! Мы удрали, как крысы с тонущего корабля, со своими знаниями, талантами, энергией, величием духа. Пока мы в парижах и берлинах чешем затылки, большевики выращивают новую интеллигенцию. Мы никому не нужны. Почему ты против очевидности?
— Потому, что ты не прав: у молодых есть выход — вернуться.
— И служить большевикам?
— России.
— Россия — это большевики, милый мой. И не надо уподобляться страусу.
Третий за столиком дернул головой, повел глазами, выпятил грудь и вдруг принял позу, выражавшую, как ему казалось, гордость и презрение к собеседникам.
— Пфуй, — выдохнул он презрительно. — Мы, немц, не боимсь русски плохи тарог, лэс и фаш зольдат. Мы, немц, боимсь, если нарот перет ружье и поет, когда умирайт, — он действительно оказался немцем. И вдруг выругался: Сфолочь... швайн... большой сфолочь...
— А этот немец — с душком, — заметил Грибовский. — Дать ему в морду, что ли?
— Оставь, Толя. Нам идти надо, — пытался остановить его Анохин.
— Эй ты! — Анатолий оказался рядом с немцем и взял его за лацкан пиджака. — Чего кричишь, как ишак на закате? Тихо чтоб было, ruhig, ясно?
— Jawoh! — немец тут же сдал, голова его упала на грудь, глаза остекленели от бессилия.
Alter Hund![51] Chutzbah![52]
Du, Scheise! Setzen sie, bitte[53] — решительно вмешался Анохин, отодвигая Грибовского. — Что подумает Ксения Николаевна, Толя? Ты как оглашенный влезаешь в любой скандал. Что с тобой?
— Грустно — не более. Темнота, кругом свиные рыла. В морду хочется дать. И застрелиться пора.
— Festina lente, — усмехнулся Лев.
— Уговорил, — серьезно ответил Грибовский. И крикнул обычным своим тоном: — Обер! Обер!..
2
Ксения уже больше недели бродила по Парижу в поисках работы. Но работы не было. Неумолимо приближался день внесения квартирной платы. Провожаемая понимающим взглядом консьержки. Ксения уходила утром, стараясь возвращаться поздно, лишь бы не отвечать на ее обычные сочувственные вопросы: «Ничего, мадемуазель?», «И сегодня опять ничего, мадемуазель?», «Удивительно, неужели вам и сегодня не повезло?».
А какие замечательные дни стояли! Весна полностью захватила город, и словно кто-то огромной кистью мазанул зеленью по паркам и бульварам, улицам и маленьким дворам. Все оттенки зеленого господствовали в Париже, забивая все другие краски. Уже и утра стали совсем теплыми, а днем, когда солнце, согрев небосвод, припекало город, хотелось тени, прохлады, отдыха. Воздух над Парижем терял синюю прозрачность, словно спрессовывался, становился тяжелым и густым, наполненным всеми запахами большого города. В эти весенние дни Ксении хотелось гулять без цели и мыслей по парижским улицам и бульварам, просветленно любоваться и радоваться красоте, прислушиваться к звукам и запахам, ликовать от ощущения своей молодости и здоровья. И в то же время каждые несколько минут возникало тревожное состояние, приходили мысли о том, что она не имеет права гулять, а должна искать работу. Она с болью и тягостью чувствовала свою беспомощность, никчемность, бесправие и ненужность всем тем людям, что обгоняли ее на улицах, шли навстречу, даже улыбались ей.
Не день и не два ходила Ксения по Парижу взбудораженная, с тяжким камнем на душе. Стыдясь расспросов и помощи, она перестала бывать и в редакции. Возвращалась под вечер, усталая, разбитая, раздавленная очередными неудачами. Ноги гудели. И все считала дни, оставшиеся до оплаты за квартиру. Кипятила на спиртовке чай — хорошо, сахар был и осталось несколько франков от продажи кофты на «Блошином рынке», где ее, конечно, обманули. Самый дешевый обед стоил два франка. Это была ее единственная еда за день! Ксения, вернувшись, занималась невеселой арифметикой и падала в глубокий сон. Ей оставалось жить здесь три дня. Можно было одолжить сотню-другую у друзей-журналистов, но Ксения — упрямая! — пошла бы скорей воровать. И даже в нынешнем положении ни разу не возникала у нее мысль обратиться за помощью к отцу. Все более отчаиваясь, Ксения продолжала бродить по Парижу...
И все же мир не без чудес. Однажды поутру она оказалась на улочке, сразу показавшейся ей знакомой, виденной, связанной с кем-то. Ксения, продолжая идти, через миг увидела кафе, принадлежащее веселой и доброй женщине в цветастой юбке, которая с таким радушием встретила ее не так давно. Ксения вспомнила, как она назвала себя, — «дитя Иностранного легиона».
Два столика, выставленные на улицу под полосатые тенты, были пусты. Ксения заглянула в окно. И в зале хозяйки не видно. Зайти, поинтересоваться? Зачем?
— Вот где ты, моя русалочка?! — раздалось рядом. — Давненько не видала, — сзади возвышалась улыбающаяся хозяйка, одетая невообразимо ярко и пестро по случаю теплого весеннего дня. — Не откажешься ли выпить чашку кофе со старой знакомой?
— Спасибо, но у меня ни гроша, — ответила Ксения.
— Хо-хо-хо! — басовито засмеялась хозяйка, и ее медные щеки заколыхались. — Я бы удивилась, если бы ты приехала ко мне на своем авто. Где сядем? Всюду пусто: мои утренние клиенты давно разбежались. Идем, я тебя напою, моя русалочка.
— Но почему русалочка?
— Так ты же русская. Поэтому и русалочка. Иди, не стесняйся, милая.
Мадам Колетта («фамилия значения не имеет, да я и сама ее забыла!») накормила Ксению, а та рассказала ей о своем житье. Белопольская получила работу на первое время — помогать ранними утрами разгружать тележку с овощами и фруктами и раскладывать их на открытой витрине. Это самое горячее время, люди торопятся на работу, зеленщик торопится, а у Колетты только две руки. Она, конечно, не сможет платить как господин Ситроен своим инженерам, но помощница будет сыта. Может, и пара лишних франков перепадет — в хороший денек. За несколько часов — не так и плохо. Свободного времени полно, хоть в «гранд опера» ходи!.. Ксения, не сдержавшись, хотела поцеловать мадам в щеку, но та брезгливо отстранилась («фу! женские штучки тут не проходят!») и потрепала Ксению за ухо.
Договор был заключен. Теперь Ксения вставала с рассветом и торопилась в кафе. Жизнь приобретала какой-то смысл. Она уже вполне заменяла мадам в делах с торговцем, и Колетта чуть не силой заставляла ее брать десять франков. Ксения сумела заплатить за месячное пребывание в комнатке и смотрела вокруг веселей, проблемы жилья и еды казались ей почти решенными.
Однажды, нагулявшись по Латинскому кварталу, Ксения зашла в Люксембургский сад и, решив отдохнуть, присела на пустую скамейку. Подставив лицо теплым солнечным лучам, она чуть не задремала, но, откинув это желание, принялась наблюдать за прохожими и сидящими поодаль, стараясь ради игры придумать каждому профессию и биографию. Неожиданно она заметила рядом яркий буклет, забытый кем-то. Ксения подобрала его. Он не был новым: золотые, красные и желтые краски потеряли яркость, рисунок, изображающий танцующую женщину, потускнел и стерся. Но надпись «Ballets Russes» наверху читалась отчетливо. И еще — «Theatre de la Caite-Lurique». Театр был почти рядом, через улицу. Решение она приняла мгновенное, твердое. Если в «Шатле» русский балет, она идет на любой спектакль.
Ей повезло. В этот вечер давали «Петрушку» — чуть ли не самый знаменитый балет Сергея Дягилева на музыку Стравинского, поставленный Михаилом Фокиным и оформленный Александром Бенуа еще до революции. Вообще-то вечером она договаривалась встретиться с Анохиным. Она нашла телефон. В редакции Льва не оказалось. Ксения передала Грибовскому: встреча на площади Конкорд отменяется, она купила входной билет и идет в «Шатле» на Бульмише, если он захочет и сможет — пусть к вечеру поторапливается.
Зал был переполнен самой разной публикой. Но большинство зрителей — русские. В этом у Ксении не было сомнений. И как только «пошел» занавес, открывая сцену, Ксения увидела масленичное ярмарочное гуляние в Петербурге на Адмиралтейской площади, пеструю толпу мужиков и баб, пьяных с гармошкой, балаганы и ларьки. Она замерла и, утратив все чувства разом, только глядела.
Танцевали куклы — Петрушка, Балерина и Арап, разыгрывая свою немудреную драму по воле злого фокусника. Страдал Петрушка, влюбленный в вечно женственную Балерину, преследуемую тупым и грубым Арапом. По воле искусства кукольная история превращалась в живую человеческую трагедию. Куклы страдали, любили, ревновали, смеялись и плакали. Жалкого несчастного Петрушку отвергает Балерина, предпочитая ему властного и сильного Арапа. Петрушка обречен. В финале, во время продолжающейся ярмарки, уже в сумерках, среди общего веселья, он умирает, сраженный саблей Арапа. Петрушка прощается с жизнью. Несколько заключительных тактов музыки — и точно всхлип доносится из оркестра. Любопытные гуляки расходятся: ведь погибла простая кукла. Площадь пустеет, неслышно падает снег. Все четыре акта (они давались без антракта) Ксения просидела, не шелохнувшись: здесь была Россия повсюду и во всем. И она ощутила вмиг свою полную принадлежность ко всему русскому, восторг от этих чувств и святую благодарность русским гениям, сотворившим это чудо.
Зал неистовствовал. Хлопали, кричали «браво», «бис» на разных языках, но крики по-русски заглушали все иные. На глазах Ксении выступили слезы. Не стыдясь и не вытирая их, она пробиралась к выходу, стараясь разобраться в себе и в том, что произошло с ней...
А на бульваре Сен-Мишель — как всегда оживленном — шумела иная жизнь. Чужая, парижская, бьющая в глаза через зеркальные витрины ресторанов и кафе рекламой, грохотом и саксофонными страданиями оркестров, гудками автомобильных сирен, оживленной толпой, фланирующей по любимому своему Бульмишу... От решетки Люксембургского сада отделилась фигура и направилась наперерез Ксении. Это был Анохин.
— Ты меня встречаешь, Лев? Спасибо тебе... А я такая счастливая, представить невозможно.
— Нашла работу?
— Со мной совсем иное — после «Петрушки». Мне хочется говорить... петь по-русски. Горжусь, что русская — по роду и по духу. Вот! Я иду с высоко поднятой головой, видишь?! И пусть я никому не нужна, мне кажется, я распрямилась, я — крепкая. Я хочу, чтоб меня замечали, мне завидовали. Это сделало русское искусство. Оно великое, Лев! Французы, англичане и прочие просто выли от удовольствия. Значит, и их взяло за живое. Пусть завидуют! Пусть! Я счастливая... У меня это впервые, Лев. Мне реветь хочется. И не от слабости. Тут другое, понимаешь? И не говори мне ничего! Пройдемся пешком, вечер замечательный. Ну, говори, говори...
После вечера в «Шатле» Ксения старалась чаще забегать в редакцию, чтобы повидать знакомых, перекинуться двумя-тремя словами, старалась выглядеть занятой, чтобы не мешать, придумывала каждый раз дело, которое ей нужно было еще выполнить. Она знала, что газетный аврал начинался под вечер, когда заполнялись кабинеты, обстановка становилась тревожно-нервной, по коридору бесом носился Поляков с дымящейся трубкой и кричал на всех и каждого — выпуск очередного номера, тут уж не до посетителей!.. Ксения старалась появляться в послеобеденное время, чтобы не обременять заботой о ней Анохина и Грибовского, у которых деньги появлялись от случая к случаю.
Анохин уже четыре дня подрабатывал переводом мемуаров какого-то политического деятеля на французский язык. Кто автор — не говорил, оправдывая согласие на эту работу тем, что его автор принадлежал к концу прошлого века и, судя по воспоминаниям, решающего влияния на российскую политику не оказывал. Короче, это была вздорная, никому не нужная книга. Политик аванса не дал, но обещал заплатить хорошо. Анохин рисковал, конечно, потерять время, но других предложений попросту не было...
Ксении импонировало искреннее желание журналистов помочь ей. И то, что Анохин сдерживал Грибовского, репортера по призванию, который успокаивался лишь тогда, когда в интересующих его вопросах не оставалось «белых пятен».
Придя в редакцию — усталая, старающаяся скрыть неудачу, ибо ей отказали в месте, на которое она понадеялась, — Ксения застала обоих журналистов. Они ждали ее и обрадовались ее приходу, потому что собирались идти на толстовский вечер, где должен быть цвет русской эмиграции и ожидается жаркая дискуссия об отношении русских людей к жизни. Лев немедленно принялся складывать перевод. Грибовский, дописав какую-то статью, прочитал ее и, смяв, бросил в корзину, заявив, что ложь у него никогда с первого раза не получалась, перепишет завтра: не умрет Поляков от того, что заметка появится в полосе с опозданием на сутки.
Ксения, как обычно, присела в продавленное кресло (Лев недавно достал его где-то и приволок специально для нее, выбросив один из столов вместе с сотрудником в другой кабинет) и принялась листать газеты. Через четверть часа они уже спускались на улицу.
Они пришли в довольно большой зал в Латинском квартале на рю Дантон, снятый для дискуссии Тургеневской библиотекой, когда он был уже почти заполнен. Никто, правда, еще не занимал места. Большинство стояло группами, некоторые ходили по двое-трое длинным коридором, опоясывающим полукругом зал. И впрямь, как предсказывали журналисты, здесь собралась почти вся просвещенная часть эмиграции. Анохин и Грибовский, раскланиваясь направо и налево, объясняли Ксении:
— Видите, человечек, напоминающий жука? Чернявый такой, спорщик непобедимый? Это Ремизов, писатель.
— Правее Алданов витийствует. Автор исторических романов, скептик. В жизни и литературе.
— Я читала кое-что, — неуверенно произнесла Ксения.
— Все и не стоит, — заметил Грибовский. — Его фамилия Ландау. Отсюда и вечная мировая скорбь!
— Толя! — остановил Анохин. — Зачем запрещенные приемы? Не стыдно?
— Я же не о национальности, а о сути явлений. Как филолог. Разве тебе непонятно, дружок?
— Скажи, вырвалось для красного словца, и я пойму.
— Я сказал то, что хотел.
— А грузный такой, мрачный, с большими глазами — кто это? — -Ксения словно играла. — Это тоже писатель?
— Куприн. Конечно, вы читали его, — сказал Анохин, — самый крупный у нас после Бунина. Повести «Молох», «Поединок», «Яма», помните? Вот Александр Иванович, собственной персоной.
— Признаться, я его другим представляла.
— Он и был другой, Ксения Николаевна. Теперь гнет, душит его эмиграция. Все о родине мечтает. Говорит, уеду в Россию. Вернулся же Толстой — граф, а не съели его большевики. Толя! — позвал он, обернувшись. — Куда ты подевался?
— Он у окна! Беседует с представительным, изысканным и старомодным господином. И его я не знаю.
— О Ксения Николаевна! Это Василий Иванович Немирович-Данченко. Двести томов выпустил — рекордсмен, как Дюма!
— Данченко я просто не узнала, Лев Федорович. Он брат мхатовца Владимира Ивановича, правда?
— Совершенная правда. Анатолий вот опять исчез. Что за натура! Пока не обскачет всех нужных людей, не успокоится.
— А мимо идет Михаил Чехов, актер. Не так ли? И не предполагала, что разом возможно увидеть стольких знаменитостей. Как хорошо, что вы меня вытащили. А я все среди офицеров, разорившихся купцов, чванливых аристократов. Думала, это — эмиграция. А она вот! И совсем другая, как в «Шатле».
— Идемте, сядем. Сейчас начнут звонить, Ксения Николаевна. Мне радостно слышать все, о чем вы только что сказали, поверьте. Во всякой жизни, как у монеты, есть две стороны: орел и решка. Чтобы судить о жизни, надо знать обе.
— Вы обязательно станете водить меня на такие собрания, Лев? Мне не важно совсем, о чем эти люди начнут спорить. Мне их воздух необходим.
— Да, да, разумеется, — Анохин озабоченно оглядывался, и поэтому ответил поспешно: — Не понимаю, куда он смог подеваться: мы же договорились начать работать только в перерыве. Что за привычка?! Как он нас найдет? Вот первый звонок. Надо сесть поближе, не то ничего не услышим, акустика здесь ужаснейшая. Идемте же.
Тут и окликнул их Грибовский. Он был взволнован и суетлив — совсем не похож на себя, — и говорил торопливо, каким-то чужим голосом:
— Похоже, я нашел вам работу, Ксения. Случайно. Не благодарите, я суеверен. Надо пойти со мной. Сейчас же! Нас ждут. А я даже вашей фамилии... Ладно! Будь вы аристократкой, вопрос уладился бы мгновенно.
— И куда надо идти? — Ксения боялась неизвестности. — Объясните же, наконец. Мы идем в залу?
— Но второго такого случая не будет! — повысил голос Грибовский. — Скажи ей, Лев, раз я предлагаю.
— Да ты ничего не предлагаешь, Толя. Мы не идем на дискуссию? Или я пойду один. В чем дело? Для чего и кому нужна аристократка?
— Хорошо. Говорю коротко. В коридоре узнаю: Вера Кирилловна Мещерская ищет аристократку в помощь себе. Для чего? Неизвестно! Разыскиваю старуху, выпытываю, в чем суть, — дело минуты. В CACШ имеется миллионер, Пенджет. У него дочь — сумасбродка лет восемнадцати. Папа из простых, но дочь готовят в аристократки высшего круга. Ей необходимо узнать манеры света.
— Бред, — нетерпеливо передернул плечами Анохин.
— Ты обещал молчать! — крикнул Грибовский и вытер вспотевший лоб. — Еще несколько минут. Поймите, черт возьми! Княгиню Мещерскую взяли в наставницы американке. Она — старуха. Ей нужна молодая помощница, наперсница, гид по парижской жизни. Условия Мещерской — чтоб из хорошего аристократического дома, лучше — титулованная. Ну, Ксения, думайте! Не было ли в вашем роду аристократов.
— Но я — Белопольская, дочь князя Николая Вадимовича.
Анохин застыл — как соляной столб, как дуб, расщепленный молнией.
— Ну, дела, — растерялся Грибовский. — А Лев? — и вдруг засмеялся рыкающе, схватил Ксению за руку: — Бежим! Скорее! Если это место ушло, я убью старуху! И застрелюсь сам — клянусь! — и потащил ее по коридору.
...Жизнь Белопольской вновь сделала необычайный поворот. Она стала подругой и советчицей экстравагантной, угловатой и резкой в движениях мисс Доротеи Пенджет. Девица абсолютно не представляла, зачем приехала. Почему в Париж? У нее не было интереса ни к истории, ни к архитектуре, и она вообще не была любопытна, хотя смолоду уже объездила чуть не весь свет. Поначалу привлекала ее ночная жизнь столицы, все знаменитые кабаре, дансинги и танцевальные залы. Советы княгини Веры Кирилловны ничуть ее не трогали. До полуночи она и Ксения «путешествовали» по злачным местам площади Пигаль и Клиши, до середины дня отсыпались. Когда уж тут учиться хорошим манерам? Доротея говорила: «Потом, потом», — и смеялась заливистым, беспечным, с хрипотцой смехом. Впрочем, американка была девушкой доброй, простодушной. Однако и отказывать себе в чем-то тоже не привыкла, часто была деспотична и раздражена. С Ксенией они ладили. Ксения добилась большего: Доротея перестала видеть в ней служанку, стала считать то подругой, то старшей сестрой. Иногда она впадала в какой-то транс, спала весь день, не разговаривала, отказывалась от еды и прогулок.
«Сумасбродка!» — думала про нес Ксения. Но широта была главным свойством Доротеи. Деньги считать она просто не умела — видно, у господина Пенджета их было немало.
В хорошем районе Парижа Доротея сняла уютный особнячок. Вера Кирилловна занимала апартаменты на первом этаже. Доротея с темнолицей служанкой, доставленной из Америки, владела вторым. Белопольская имела две комнаты с ванной на третьем (о таком она и не мечтала!). Жизнь наступила райская, но Ксения все время была настороже, ждала перемен. Казалось, что за хорошим, крадучись, обязательно подступит что-то плохое, страшное, гибельное.
Целиком принадлежавшая теперь Доротее, Ксения давно не виделась со своими приятелями из «Последних новостей». Правда, часто перезванивалась. Лев закончил перевод, у него появилось свободное время и, как он шутил, возможность принять на себя еще одну важную обязанность, — он стал и личным курьером редактора, разносящим по городу его спешную почту. Пользуясь этим, он однажды «подскочил» к дому и попросил Ксению выйти на полчасика: ему вдруг пришла в голову важная идея, которую необходимо проверить безотлагательно. Ксения согласилась, и они встретились поблизости, на небольшой площади, где цветочницы продавали свой резко пахнущий, отливающий всеми цветами радуги товар.
К удивлению Ксении, Анохин был взволнован, возбужден. Они никак не могли найти место, чтобы сесть и уединиться. Наконец сели на отдаленную от цветочниц скамью.
— Я долго думал, сопоставляя, Ксения Николаевна, — сказал, переводя дыхание, Анохин, — и меня осенило! Я вас вычислил безошибочно. Собственно, не вас, а нашего общего знакомого. Умоляю, слушайте и не перебивайте, пожалуйста... Я внезапно вспомнил, как мой учитель рассказывал мне о своем сыне, об имении князей Белопольских в Крыму, о вас, Ксения.
— Кто же это, Лев?
— Ваш сосед профессор Шабеко, Виталий Николаевич, светлая голова, подлинный ученый.
— Тогда, в детстве, он почему-то напоминал мне Чичикова. Сама не помню почему. Но где же судьба свела с ним вас, Лев?
— Мы встретились в Париже. Он был в отчаянии, и какое-то время мы прожили вместе. Он рассказал мне о неладах с сыном, о своих попытках вернуть ценности Петроградской ссудной казны владельцам. У него был сын. Нет, вообще-то два сына...
Ксения слушала, стараясь сохранить спокойствие. Как будто это ей малоинтересно и никакого отношения к ней не имеет...
— ...Старший — преуспевающий коммерсант, патронируемый в Крыму самим Врангелем. Сын Шабеко просто совершал операции от имени самого главнокомандующего. Не помню уж, как его звали... Он убедил отца войти в какую-то комиссию по наблюдению за операциями с казной. А это была просто грандиозная афера, которой доверчивые люди вроде моего учителя создали солидную, честную вывеску. Казну между тем скрытно переправили в Каттаро и начали быстро продавать всем желающим. Вам что-нибудь известно об этом?
— Да, что-то я слышала, когда находилась в Югославии. Но я была так далека от этого, Лев, — Ксения замолчала, задумалась. — И что же дальше?
— Сын Шабеко подставил отца под удар без колебаний. Его имя, авторитет серьезного ученого — без всякого зазрения совести. Однако профессор каким-то образом дознался до всего и отправился собирать неоспоримые доказательства, чтобы предъявить их Врангелю. Он совершенно не догадывался, что все происходит с ведома Врангеля и его присных, свивших гнездо в Париже. А когда понял, прозрел совершенно. Учитель собирался выступить в прессе с разоблачением, но ни одна газета не захотела печатать его. К величайшему сожалению, именно в этот момент я вынужден был оставить его, ибо получил предложение ехать в Берлин, в газету «Накануне», чтобы занять место редактора по отделу международных новостей. Оставив беспомощного старика, я поехал в Берлин, где вскоре понял, что работа и «Накануне» решительно не для меня: идеи не те. Но это к слову: не обо мне речь!.. Профессор Шабеко продолжал свои разоблачения, уже многие поверили ему. В результате — ночное разбойное нападение. Полагаю, инспирированное кем-либо из группы, продававшей серебро и золото. Моему учителю чудом удалось избежать смерти. Однако сильнейший удар в голову вызвал, видно, необратимые последствия. Профессор почувствовал, что день ото дня теряет разум. Он не смог выдержать подобной пытки — однажды открыл газ и покончил с собой.
— Какой ужас вы рассказываете. Лев!
— Мир его праху. Это был великий ум, Ксения Николаевна... И знаете, в дни, когда мы жили вместе в Париже, он часто, бывало, вспоминал свое крымское житье. И обоих своих сыновей. Младший — если не изменяет мне память! — погиб на германском фронте, и отец оплакивал его всегда с большой любовью и нежностью. Вспоминал он часто и своих соседей, ваших родных, Ксения Николаевна. Это ведь ваш дед был героем войны с турками? Не припомню лишь, как он называл князя... Вадим Николаевич — как будто? Генерал?
— Да, все так, Лев... Признаюсь, я любила младшего сына профессора, поручика Святослава Шабеко. И он, действительно, погиб. Боже, ведь все это происходило совсем в другой жизни!.. И хватит, Лев, Христа ради!.. Как тесна наша жизнь! Все переплелось, все друг друга знают, один — жертва, другой — убийца. И вот вы рассказываете о бедном ученом-историке. Кому мешал это старый человек, далекий от политики? Он считал дни столетиями... Бедняга!..
3
Приезжая в Париж, Венделовский, убедивший всех, что он внимательно следит за модой, отправлялся к своему портному. М’сье Жак Лажуани владел небольшой мастерской («салоном», как неустанно поправлял он каждого). Портного Венделовского звали Филипп Десбон. Десбон был молод и чуть пренебрежительно относился к своей работе: считал, в нем погибает музыкант. Он любил поиграть на скрипке в свободное время; его мелодии (утверждал, что собственного сочинения) отличались глубокой минорностью, хотя порой без удовольствия исполнял он и известные сочинения великих композиторов. Но как только появлялся клиент, Десбон оставлял скрипку, брался за мелок, булавки и сантиметр. Венделовский не торопился входить в салон: ему доставляло удовольствие, приблизившись, несколько минут послушать музыку...
В примерочной кабине Филиппа «0135» в экстренных случаях встречался с «Доктором», которого вызывал через Иветту Бюсси (понедельник, среда, пятница в десять часов — бистро напротив синематографа, если букет цветов на месте — все спокойно...) Одна кабинка от другой отделялась тяжелыми занавесями. Филипп Лесбон сновал между кабинами, произносил необходимые слова и прибаутки, выходил в ателье и в мастерскую. Короче, был «на стреме», отвечал за безопасность разведчиков. В случае непредвиденных обстоятельств или опасности Филипп спешно брался за скрипку. У коллег было тут крайне мало времени для обмена самой необходимой информацией.
— Встреча в Белграде состоялась, — докладывал Венделовский. — Врангель крепко держит меня. Цель определить не могу. Есть указания Центра относительно дублера «Цветкова» — «фунтика». Блистательная возможность: «Фунтик» — действительно сын генерала Абрамова, добровольно вызвавшийся бороться с РОВСом.
— Так, — только и сказал Шаброль. — Дальше.
— «Цветков» работает против активистов РОВСа, засылаемых к нам. Беспокоит меня Монкевиц, окончательно подмявший Знаменского.
— Что-то конкретное?
— Николай Августович знает нечто о прошлых связях Перлофа, о частной сыскной конторе.
— Откуда информация?
— Один вариант: Издетский. Других нет.
— Приметы Монкевица?
— Рост средний, шатен, стрижен коротко. Лицо холеное, усов, бороды не носит. Любит хорошо одеваться, хорошие манеры. Умен. Знаменский у него на побегушках.
— Издетский исключается. Из Центра передали: осужден в Москве после убийства «Баязета».
— Сволочь! Как же его пропустили в Москву? Не знаешь, где и прихватит тебя костлявая. Но чтоб дома...
— Муравьев с документами сбежал в Италию, к Муссолини. Проходит проверку. Тоже упустили! Что еще?
— Обнаружил «хвост». Один из офицеров Монкевица, весьма прямолинеен. Но вчера вечером я «прокололся». Он встретил меня на авеню Мак-Магон, вблизи вашей конторы. Вероятно, случайно. Что предпримем?
— Первая задача — оторваться от Врангеля, — Шаброль словно не слышал вопроса. — Тут у нас невыполнение приказа. Почему не обращались за помощью к Кутепову?
— При их нынешних отношениях может иметь обратный результат. Либо я человек главкома и внедряюсь по его заданию, либо — элементарный перебежчик, бросивший хозяина. Александр Павлович таких не выносит.
— Надо, чтоб он сам вас переманил. И еще упрашивал. Я подумаю.
— И я думал. Монкевиц. Этот уже сбежал к Кутепову. Надо войти к нему в доверие, чтоб взял с собой в РОВС.
— Годится. Но необходимо перепроверить Монкевица и его офицера. Быстро, основательно. Я приму меры. Мой магазин — это мой магазин. Не бросать же такую легальную «крышу»? Натали уже привела ко мне своего рамолика. Считаю, он очень перспективен по международным связям. Есть и другие стоящие знакомства. Нет, я буду сидеть на Мак-Магоне до конца. В крайнем случае исчезнете вы. РОВС, окружение Монкевица, окружение Кутепова, Николая Николаевича рядом — это не шутка.
— Может, попробовать мне через «Трест»? Это просто.
— Ни в коем случае! Центр предостерегал против дублирования нами их функций. Только по специальному разрешению и на тройной страховке.
— Ясно.
— И пока у нас никаких контактов, даже с Иветтой. Можно «засветиться». Заметите «хвост», почуете неблагоприятную ситуацию — не «светите» и Филиппа. Тогда шифровку оставите в бистро, где встречались с Иветтой — понедельник, среда, пятница до десяти. При необходимости я буду искать вас через «Цветкова». Давно не виделись после его возвращения из Вены?
— Недавно. Пока у него порядок. Контора овощей и фруктов в надежных руках. Беспокоят меня, правда, его старые связи и знакомства.
— Что-то конкретное? «Цветков» — наше слабое место. Встреча со «старым знакомым», провокация — и летит вся цепь. Что ж, выпихнуть его с Балкан? Но теперь он нужен для акклиматизации «Фунтика». Решать Центру... Ну, успехов, Альберт Николаевич.
— И вам, Шаброль... Но вот еще что. Если они идут за мной по-серьезному — сейчас могут послать своего человека и в Киев, к княгине Куракиной, двоюродной сестре главкома, чтобы справиться о судьбе товарища ее сына. Предупредите Центр.
— Это я сделаю. Но как же подойти поближе и поскорее к Монкевицу? На серьезную игру, как с Перлофом, у нас просто не осталось и недели.
— Может, упростим ситуацию и постараемся выйти сразу на Кутепова? Правда, тут один путь: меня должен рекомендовать ему сам Врангель. И только он.
— Человек главкома — а Александр Павлович знает вас за такого уже несколько лет, — он подвергнет не одной и даже не тройной перепроверке. Это опасно, Альберт Николаевич. Тут надо нам исхитриться... Дать ему в обмен какую-то крупную взятку. Но какую — пока не представляю. Кто может поручиться за вас?
— Понятия не имею: все «мои друзья» из стана главкома.
— Поискать среди заправил Промышленно-торгового союза? Тут что-то есть, надо подумать.
— Но только после выяснения того, чем располагает Монкевиц о вас. Придется наводить справки с двух сторон: от меня и от вас. Привлеките Врангеля. Он-то ведь думает, что Монкевиц — его человек. По-моему, это перспективная идея.
— Попробуем, Шаброль. Я ухожу первым, вас надо беречь, у вас «салон». — И позвал громко: — М’сье Филипп! Я доволен! Освободите меня от булавок и доспехов. Я тороплюсь, м’сье Филипп.
— Для того чтобы всегда быть модным, требуется время, м’сье, — нарочито громко и весело ответил ему закройщик...
Глава двенадцатая. ГЛАВКОМ ПЫТАЕТСЯ «МЕНЯТЬ ВЕХИ»
1
Лето в Сремских Карловцах выдалось сухое и жаркое. И даже на зеленой Топчидерской даче негде было укрыться сначала от все усиливающегося зноя, потом, до сумерек, от духоты, которая не только лишала сил, — парализовала движения и мысли. Ртуть в градуснике поднималась за тридцать пять. Жара впервые оказалась потяжелей константинопольской. Врангель замечал изменения своего характера — стал раздражительным, брюзгливым, каждая мелочь лезла в глаза, казалась устрашающей, — до вспышек гнева, с которыми все труднее стало бороться. Врангеля раздражали даже дети, которых он любил, — излишняя солдатская исполнительность Петра, пассивность и безразличие Елены. Жара, пустая размеренность жизни в Топчидере, оторванность от цивилизации. Во имя чего он мучается здесь? Охраняет знамя армии? От кого? На него нет посягателей. Да, если быть честным, знаменным взводом уже руководит Кутепов. Все ненавистное сосредоточилось в этом человеке. Выскочка, интриган, прошедший не одну кампанию, никак не показавший себя. Но уже выигравший (без сомнения!) сражение у него, Врангеля. Взявший в руки армию в Галлиполи, проявивший себя сверхсамостоятельным в Болгарии и получивший за это политические дивиденды. Сумевший добиться расположения великого князя вопреки приказам главкома не пристегивать армию к борьбе политиков. Теперь он первый. Это надо признать, осознать — для того чтобы действовать точно, дальновидно. А тут жара — мозги плавятся...
Решение пришло на удивление простое. Он едет в Европу. По пути провожает семью в Брюссель (это и повод для всех, и хорошее прикрытие для любопытствующих врагов), в Париже встречается с Кутеповым — предпринимает последнюю попытку договориться и разделить сферы влияния, — прилагает максимум усилий, чтобы добиться аудиенции у Николая Николаевича и восстановить свое реноме, убедить в том, что он сделал выбор и может стать верной опорой в его борьбе...
Врангель встал из-за письменного стола, сделал несколько шагов по кабинету. Сквозь драпри и редкую штору из крестьянской соломки посмотрел на улицу, ослепительно высвеченную солнцем. Дома, люди не давали теней, казались плоскими, точно вырезанными из картона. Жалкая, нищая страна. Жалкие люди... Он доказал всем, как легко можно вырваться из Крыма, прорвав красное кольцо. Если бы поляки оказались сговорчивей, если бы его генералы помудрей. Сидел бы он в этой выжженной огнем дыре, как же! Надо было тогда проявить большую решимость. Но ведь и потом, позднее, когда он, блистательно проведя эвакуацию и сохранив армию, ушел из России... Что было потом? Был план нового десантирования. Почему не свершилось? Кто помешал, кто воспрепятствовал? Время! Было упущено время. С каждым месяцем все становилось труднее: армия расползалась, как сгнившее сукно; иссякали деньги, международная обстановка менялась, и все не в его пользу — большевики захватывали одну позицию за другой. Они проникали на дипломатические конференции, диктовали условия и через голову правительств обращались к народам с предложением мира. Воевать надоело всем!
Союзники подчиняли свою политику торговым интересам. Вот в чем причина — союзники! Они предали его, Врангеля, продали. За понюшку табака. Как предали бы и любого другого — Деникина, Колчака, того же Кутепова. Впрочем, любой из этих троих не продержался бы и двух лет. Да что двух — года!
Врангель шагал по кабинету, продолжая диалог с самим собой. Он предъявлял себе суровый счет и как политик и как военный. И отвечал себе, вспоминая все просчеты, даже самые незначительные. Не надо было, вероятно, отрываться от армии, помещать штаб в Константинополе: хотел быть поближе к союзническим миссиям, оставил армию на солдафона, которому доверял. А надо было его задвинуть подальше, отстранить, изгнать. Понадеялся на Перлофа, а следовало десяток Перлофов к «Кутеп-паше» приставить, вести его по своей линейке, не давать и шагу самостоятельного сделать... Не до него было: Врангель попал в жернова балканской политики. Сербы, хорваты, македонцы, союзники — поди разберись. Тут он явно отпустил политические вожжи. И не заметил, как оказался между стульями — между царями Александром и Борисом, французскими и англо-немецкими интересами и между своими, русскими, партийными лидерами, в идеях которых не имел ни времени, ни охоты разбираться («зря, зря! Был обязан знать и своих»)...
Жара становилась невыносимой. Сами стены, казалось, излучали волны сухого тепла. Он попытался открыть окно и дверь, но с улицы хлынул такой поток раскаленных волн, пронизанный мельчайшей пылью, что Врангель вновь закрылся и зашторился, ощутив кончиками пальцев прилипчивую густую пыль, которая сразу покрыла не только его руки, но и вспотевшее лицо, длинную гусиную шею и коротко стриженный затылок. Будь она проклята, эта страна сонных лентяев, бездарностей и богатых дикарей. Врангель вызвал казачка, приказал принести холодной воды умыться и горячего крепкого чая, который хоть на короткое время приносил обманчивое ощущение относительной прохлады...
Главнокомандующий именовался теперь и начальником РОВСа — это все равно что начальник оружейного склада. Да и какой он начальник РОВСа, когда каждый солдат и офицер прекрасно знал: Врангель — ширма, подлинный хозяин РОВСа — Кутепов, доверенное лицо великого князя Николая. Вот тут, на последнем этапе, Александр Павлович и обошел его на целый корпус. Проявил неожиданно умение, решительность и — что уж скрывать! — политическую зоркость, позволившую ему быстрее разобраться в ситуации. Как с ним теперь договариваться? Деньги, звания, новая должность? Чепуха! Он сам может всем этим поделиться!..
Врангель сполоснул лицо, вымыл с мылом и тщательно вытер руки. Главное — он сам, его разум, воля, чутье. Нельзя распускаться, надо работать, надо думать. «Nichts wciter! Und Punktum!»[54]
Он с чувством брезгливости отодвинул дневник: зачем теперь эта бесполезная трата времени, эта ложь самому себе, рассчитанная на будущих историографов? Надо вернуться к Плану, детищу водителя армий, завершение которого докажет всем недругам: главнокомандующий есть, он один готов вести армии против большевиков. Врангель каждый раз успокаивался, раскрыв не завершенный еще План. Приходило душевное равновесие, возвращалась уверенность в себе. Он хотел достать папку из нижнего, потайного ящика стола, но взгляд его упал на бумагу, лежавшую поверх документов, требующих подписи. Врангель усмехнулся: армии давно нет, главкома нет, а штаб продолжает плодить, «входящие» и «исходящие» — неисправимое свойство российских учреждений. Откуда появилась эта бумага, легла поверх других? Он готов был поручиться: недавно ее не было. Может, нечто важное принес казачок? Когда же? Мистика какая-то! Врангель пододвинул документ, именуемый «Приказ № 3», пробежал глазами, стараясь схватить суть. Но суть ускользала, распадалась на отдельные слова: «главнокомандующий»... «повелел»... «подробные сведения», «знамена и штандарты». Он заставил себя сосредоточиться, начал читать. Речь шла, оказывается, о знаменах и ответственности за их хранение. «Что они там — рехнулись? — подумал Врангель. — Идиоты неистребимые», — и, косо расписавшись, оттолкнул бумагу. Под ней оказалась вырезка из газеты. Врангель продолжал читать. Лицо его хмурилось, углублялась складка между бровями: «...выясняется полнейший распад штаба Врангеля и переселение Врангеля в Брюссель, — удивление росло: Врангель только думал, а какой-то щелкопер уже сообщал это всему миру. — При нем остается его секретарь и адъютант. Это свидетельствует о конце армии Врангеля, так как с роспуском Генерального штаба распадаются и все кадры, рассыпанные по Югославии, Румынии, Болгарии. Это тем более поразительно, что еще в начале года предполагалось новое объединение все разбросанных на Балканах врангелевских полков». Последние две фразы были подчеркнуты красным карандашом.
Вызванный начальник личной канцелярии Сергей Николаевич Ильин сообщил, что никакого отношения к бумагам не имеет и видит их впервые. Врангель приказал разыскать полковника Монкевица.
Вкрадчиво и негромко постучав, в кабинет вошел скользящей походкой Николай Августович. Как всегда, лощеный, выбритый до синевы, в безукоризненно сшитом бостоновом костюме. Щелкнул каблуками. Каждый раз, когда появлялся Монкевиц, Врангель невольно сравнивал его с Перлофом и, стараясь не настраивать себя против начальника особого отдела, не смог сдержаться. Ловкий и красивый Монкевиц проигрывал покойному Христиану Ивановичу по всем статьям.
— Садитесь. — сухо кивнул Врангель. — Есть у вас о чем докладывать? — в вопросе содержался вызов. Чем больше Врангель работал с полковником, тем меньше он ему нравился, чувствовал — изменит, бросит, продаст. Доверять нельзя. — Что слышно о Кутепове?
— Всецело поглощен укреплением отделов РОВСа в разных странах. Много ездит, инспектирует, снимает и назначает на должности, — без окраски в голосе ответил Монкевиц, отметив и обращение по фамилии и недовольный тон хозяина.
Николай Августович был личностью малоинтересной. Считал, военная карьера его не сложилась, дальше полковника и начальника дивизии не смог продвинуться. Поэтому и ухватился за полицейскую должность, дававшую власть и свободу. Сумел выделиться, обратить внимание главкома, хотя, как человек умный — вернее, практический, наделенный деловой сметкой, — скоро стал убеждаться в том, что звезда хозяина стремительно закатывается и вот-вот уйдет за горизонт, в безвестность. Монкевиц, ловко скрывая свои действия, начал менять курс и выбрал себе нового хозяина, решив, что им может стать Кутепов (которому он уже дважды оказал кое-какие услуги). Пока же Монкевиц служил главкому не очень ревностно, но достаточно лояльно. Скажем, в полсилы...
— А где Александр Павлович сейчас, знаете? — Врангель пытливо взглянул в косящие глаза полковника. Именно благодаря своим косящим глазам Монкевиц всегда имел определенное преимущество перед собеседником — его лицо казалось закрытым. Никто не смог бы определить ни состояния полковника, ни степени его откровенности, ни того, о чем он думает в действительности. — Так где? — главком повторил вопрос и, пружинисто поднявшись, сделал несколько шагов за спину полковника.
— Два дня назад Кутепов вернулся из Берлина, ваше превосходительство, — Монкевиц вскочил.
— Цель пребывания в Германии? — Врангель мрачнел, складки на переносице углублялись.
— Уехал внезапно, по вызову. Инструктировал боевиков перед засылкой. Проверял каждого. Контактов с немцами не было.
— С немцами, — пожал плечами Врангель. — А с нашими, с кобургскими?
— Нет. — твердо сказал Монкевиц и отставил ногу. Поймав недружелюбный взгляд барона, быстро убрал ногу, подтянулся, подумав, что еще не пришло время демонстрировать свою независимость. — Исключается, ваше превосходительство: мой человек «вел» его безотрывно.
— Так, — Врангель смягчился. — Садитесь... Курите, любезный Николай Августович. А что великий князь? — он обошел кресло Монкевица и вновь сел за стол, обмахивая разгоряченное лицо пустой папкой.
— Что ни день — совещания, носящие характер военных, с большим числом старших воинских начальников. («На-ка выслушай! Совещаний много и все без тебя»). Толчение воды в ступе, разговоры. Ничего реального для противопоставления «императору» не придумали.
— Это я знаю, — обрезал Врангель. — Вы можете в самое ближайшее время организовать мне встречу с Кутеповым?
— Планы генерала, маршруты будущих поездок... — замаялся Монкевиц. — Затрудняюсь сказать, ваше превосходительство.
— Кажется, я спрашиваю вполне определенно? Можете или не можете?
Монкевиц заколебался: от его ответа зависело многое. Врангель злопамятен, промахов не прощает. Следовало ответить без промедления, но как? Правду? Или потянуть время?
— Ваше превосходительство… — начал Николай Августович медленно, выгадывая секунды. — Я сегодня же выеду к генералу в Париж и.., — он замолчал.
— И что?
— Я сделаю все для организации вашей встречи, — закончил он (не говорить же, что Кутепов, как взбешенный бык, дав волю долго сдерживаемой ненависти и ярости, реагировал на слово «Врангель», как на красную тряпку). — Возможно, в качестве предварительных условий... ваше превосходительство сочтет возможным... сообщить, так сказать, цель встречи для привлечения генерала, заинтересовать его... — Он опять замолчал, ловкий ум изменял ему, отказывал в выборе нужных слов («разве скажешь, что Кутепов его и вовсе слушать не станет, не примет даже?»).
— Вы не забываете, Монкевиц, что генерал — мой подчиненный?
Монкевиц, ухмыльнувшись про себя («помнит ли об Александр Павлович? Вряд ли!»), сказал с полной покорностью:
— Если иссякнут мои аргументы, ваше превосходительство, пусть заговорит ваш приказ.
Ответ Врангелю понравился, но тут же прежнее хмурое выражение вернулось к нему и он сказал устало:
— Вам дан приказ, полковник. Выполняйте его. И вообще, должен отметить, что в последнее время замечаю определенное затухание вашего рвения. Чем сие вызвано? Потрудитесь отвечать с полной откровенностью. Или даю вам право не отвечать вовсе, — Врангель вдруг увидел эту сцену как бы со стороны и тут же подумал о наказании, которому он должен подвергнуть полковника, ставшего скользким как угорь. Врангель всегда отличался трезвой продуманностью решений. Он снова заходил по кабинету. Молчал и Монкевиц, чувствуя, что худшее впереди. Молчание тянулось. Врангель ходил, брезгливо поднимая колени, смотрел сквозь полковника.
В этот момент вошел адъютант и доложил: час назад прибыл господин Венделовский, ждет в приемной, просил о возможности принять его или назначить иное время.
— Почему не доложили час назад? — строго спросил Врангель.
— Господин полковник приказывал... полной конфиденциальности... Я думал... — растерялся адъютант и вопросительно посмотрел на Монкевица, ища его поддержки, но тот равнодушно встретил его ищущий взгляд и отвернулся.
— Вы до сих пор не усвоили, что командую здесь я? — показал головой Врангель, и взгляд его серых выпуклых глаз стал светлеть от сдерживаемой ярости. — Итак, капитан... Вас я отстраняю от должности. Пригласите господина Венделовского. Да! И извинитесь перед ним за недоразумение, возникшее исключительно по вашей вине.
Капитан вновь посмотрел на Монкевица умоляюще, удивляясь, что тот не сказал в его защиту ни слова. Убедившись, что помощи ждать не приходится, он щелкнул стоптанными каблуками и исчез.
Врангель вопросительно взглянул на Монкевица.
— Я полагал, — начал Николай Августович, тщательно подбирая слова, — конфиденциальность предстоящего разговора с вашим превосходительством и ряд распоряжений...
— Самостоятельность проявляете... — начал главком и осекся, понял, не следует сейчас настраивать полковника враждебно и отталкивать его от себя. Врангель выкроил на суровом лице покровительственную улыбку и пояснил наставительно: — Альберт Николаевич — мое доверенное лицо. И у меня нет от него секретов. Вы свободны, полковник. Помните о Кутепове. Надеюсь, у меня не будет повода быть недовольным вами. Честь имею!..
Монкевиц замялся. Вошел Венделовский. Остановился в дверях, ожидая приказаний, изобразив удивление, что главком не один.
— Садитесь, Альберт Николаевич, — сказал Врангель дружески («разыгрывает спектакль для меня, — подумал полковник, — покорил его этот личный посланник, а что барон знает о нем? Не поручусь за то, что не больше меня. Кому он служит?»). — Полковник Монкевиц уже закончил доклад. И мы сразу займемся с вами. У вас, Николай Августович, что-то еще? Прошу, говорите.
Монкевицу пришлось перестраиваться. Последнее его сообщение относилось к ротмистру Знаменскому, продавшемуся Кутепову, не знавшему, что шеф уже обогнал его. И к самому Венделовскому — который имел контакты с неким торговцем, связанным с генералом Перлофом, руководителем контрразведки Врангеля... Подумав, полковник решил закончить разговор на Знаменском, любимце барона, сделавшего это рыжее ничтожество не подотчетным никому лицом. Полковник скупо доложил: ротмистр замечен им в деле «наведения мостов» с Кутеповым, которому обещал передать всю свою группу. Необходимо активное воздействие на Знаменского.
— Вы что — убить его хотите? — резко спросил Врангель.
— Никак нет! — обезоруживающе улыбнулся полковник. — В свое время ротмистр, которому вы поручили дело генерала Перлофа («пусть и дипломат насторожился, черт с ним!»), обнаружил полную свою несостоятельность. Я разматываю эту нитку, изолировав ротмистра, и пытаюсь выяснить подлинную причину его бездеятельности.
— Поясните, полковник. Знаменский — мой офицер, и я хотел бы заранее знать, в чем вы его подозреваете и как хотите вести расследование.
— Завтра же я представлю вам обстоятельный доклад («пусть дипломат еще больше насторожится, поймет, что я не хочу раскрывать свои карты при нем»).
— Сегодня же, сегодня! — наставительно и требовательно сказал Врангель. — И без догадок! Полная ясность и достоверность! Без меня ничего не предпринимать! Все, полковник! — Он вдруг милостиво протянул вялую руку, не вставая из-за стола, и Монкевиц с чувством благодарности пожал ее. Поклонившись Венделовскому, он быстро направился к дверям.
— Сволочь! — с чувством сказал Врангель, вслед ему. — Какое дерьмо! Kreuz schockbomben, donner wetter element![55] — Что нового, Венделовский?
— Я не поехал дальше Парижа, господин главнокомандующий. Обстановка представилась мне тревожной. У великого князя Николая чуть не ежедневно идут совещания генералов-ровсовцев, неделями не покидающих Шуаньи. И вас не зовут — их главнокомандующего, сохранившего с таким трудом воинские формирования. Это позорно, Петр Николаевич, согласитесь?! .
— И о чем они совещаются? — Врангель не скрыл нервозности.
— Это выходит за рамки моей прямой служебной деятельности. Но после некоторых усилий и затрат я получил минимум информации, — Венделовский решил идти ва-банк: теперь ему представлялось вполне удобным сделать еще одну попытку — добиться откомандирования из штаба главкома. — Я уже несколько раз предлагал вниманию вашего превосходительства идею моего перевода (чуть не сказал «внедрения», но вовремя спохватился: не его лексикон!) в окружение Кутепова. Это не уход от вас, Петр Николаевич! В самое трудное время вы протянули мне руку помощи, приблизили к себе, облекли доверием. Я по гроб жизни благодарен вам! Возле Кутепова должно быть ваше доверенное лицо, чем скорее, тем лучше. События выходят из-под вашего контроля. Надежды на Знаменского, да и на Монкевица, весьма слабы и могут лишь дезориентировать вас. Будет лучше, если я получу возможность взять под контроль политическую деятельность генералов — и в первую очередь Кутепова.
— Так о чем они совещаются? — перебил Врангель. — Что вам известно?
— Увы, Петр Николаевич, — ответ Венделовским был придуман заранее, — военное совещание, как они изволят называть себя, пришло к решению. Штаб ликвидируется. Глава РОВСа — формально князь Николай. Фактически Союзом командует его правая рука Александр Кутепов.
— А кто там еще в этом совещании?
— Ваши вчерашние комбатанты, Петр Николаевич. Можно сказать, почти все. Дважды приглашался и генерал Деникин.
— О! — воскликнул, не сдержавшись, Врангель, но тут же заставил себя надеть маску уставшего от власти человека, который поставил себя «над схваткой» и только долг удерживает его исполнять обязанности главнокомандующего. — А вы достаточно осведомлены, милейший мой Альберт Николаевич?
— Увы, ваше превосходительство. То, что мне удалось узнать, — факты. Поэтому я и позволяю себе настойчивость в отношении вашего решения относительно своей особы. Дело требует моего откомандирования в РОВС немедля.
— Но Кутепов? Он же знает: вы мой человек — и поручит нам невыполнимое.
— Я готов послужить вам, господин барон!
— Я подумаю, Альберт Николаевич. В ближайшие дни. Вы пока оставайтесь в Карловичах. И приходите вечерком: Елена буквально бредит вами.
— Напрасно вы задерживаете и семью здесь. Простите за вмешательство. В Брюсселе им было бы спокойней.
— Приходите, приходите! Вес обсудим в домашней обстановке. И жду вашего рассказа — как всегда.
Венделовский откланялся. Он считал, дело стронулось с мертвой точки.
...Через час Альберт Николаевич нашел Монкевица. Похоже, полковник не ждал и не хотел этой встречи.
— Нам надо поговорить, полковник, — сказал дипкурьер без обиняков. — Да, да! Нам! Завтра вы будете искать меня.
— В таком случае разрешите задать вам несколько вопросов. Вы недоумеваете, господин курьер?
— Нисколько: я еще не слышал вопросов.
— Вы знали генерала Перлофа. Близко?
— Нашу близость предоставляю определить вам, полковник.
— Обиделись по поводу «курьера?» Не хотел... Ну, а Издетского знали?
— Превосходно! Ездил с ним в паре.
— Что можете сказать о нем?
— Обожаю допросы-разговоры. Правда, в этом смысле жизнь меня пока баловала. Издетский был подонок, растленный тип, педераст и плохой работник.
— Был? Почему был? — живо перебил Монкевиц.
— Потому, что я теперь, к счастью, езжу один. Станислав Игнатьевич исчез, слава богу, и я ничего не знаю о нем.
— Издетский погиб как герой в России, борясь с чекистами. А вы его поносите. Нехорошо, Альберт Николаевич... Еще вопрос о недалеком прошлом, разрешите?
— Зачем спрашиваете? И о чем вам хотелось бы послушать?
— Вернемся к генералу Перлофу. У него в подчинении находился Издетский. После смерти — или убийства — генерала Издетский признался нам, что некий агент, воспользовавшись оплошностью, взял с него письменное обязательство сотрудничать не то с английской, французской, не то с советской разведкой. С группой активистов его послали в Москву. Выполняя задание, он погиб. Что вы скажете?
— Вечная память.
— А не вы, случайно, вербовали его?
— Нет, не я. У меня иная профессия. Я, например, не стал бы вербовать такого. Трус, подлая и продажная душа, хотя о покойниках не принято говорить плохо.
— И тем не менее вы — из людей, наиболее близких к Издетекому в течение довольно длительного срока.
«Знает ли он что-то или просто блефует, пробует версии, подсказанные кем-то? Знаменским? Может, Перлоф привлекал Знаменского к работе сыскного бюро?.. Вряд ли. История Перлофа давно размоталась бы. Нет, они ничего не знают. Надо переходить в наступление. Монкевиц — не Перлоф, хватка не та. Есть возможность с ним справиться...»
— Ну, вот что, Монкевиц, — сказал он спокойно, но с явной угрозой. — Хватит болтать. Теперь послушайте меня. И не перебивать!.. Вам известны мои отношения с главнокомандующим. Я вечером иду к нему и докладываю следующее: Николай Августович работает на Кутепова. Поэтому Кутепов осведомлен обо всем, что происходит и в главном штабе и на Топчидерской вилле. Поэтому Монкевиц старательно «топит» и Знаменского. Монкевицу хорошо заплачено. Назвать сумму, которую вы получили? У вас на лице замешательство? Не надо, полковник. Я не собираюсь вас вербовать в разведчики. Как я сказал, это не моя специальность. Я прошу о мелкой, в сущности, услуге.
— Что вам угодно? — выдавил Монкевиц. — Я слушаю.
— Вот так лучше, Монкевиц, без устрашающих и провокационных разговоров. Вы меня совсем задавили, любезнейший.
— Выбирайте выражения, однако. — глаза полковника совсем «разъехались». — Мне нечего бояться Врангеля.
— Да они с Кутеповым, чтоб не ругаться, продадут нас дешевле, чем купили. Неужели не понятно?
— Что вам надо?
— Я хочу, чтобы вы взяли меня к Кутепову с собой, представили. И помогли уговорить Врангеля отпустить из «курьеров».
— Что я получу?
— Хорошего сотрудника для себя и для Кутепова. Мне надоели дипломатические вояжи. Как и Александр Павлович, считаю, что большевики, столковавшись с союзниками на почве торговли, выиграли все послевоенные дипломатические конференции. Нужна новая тактика. Потом время само распорядится и все расставит на свои места, покажет, кто есть кто. Пока — надо действовать.
— Но я вас совсем не знаю, господин Венделовский.
— Врете. Возьмите еще раз мое досье, начатое покойным Перлофом. Поговорите с Врангелем. Услуга за услугу, Монкевиц.
— Надо подумать, взвесить.
— Некогда, полковник. Вечером я буду принят главнокомандующим и уже не смогу ни за что поручиться.
— Хорошо; вы меня убеждаете. Но взаимные гарантии. Я должен иметь гарантии.
— Никаких гарантий, полковник. Только мое слово. Больше, к сожалению, ничего. А вы бы хотели?
— Ну... Давайте обменяемся письмами, в которых изложим взаимные обязательства.
— Письмо вы получите, Николай Августович. Мы вступаем в отношения, основанные на взаимном доверии. Это не карточный долг. Впрочем, я не уговариваю вас. Думайте, решайте.
— Сколько у меня времени?
— Минута. И должен заметить, что, когда вы брали кутеповские франки через... Не будем называть имен, не так ли? Хотите? Пожалуйста! Через генерала Абрамова, начальника болгарского отдела РОВС. Где была встреча — вас интересует? София, отель «Москва».
— Достаточно, — выдохнул Монкевиц. — Я согласен.
— Я жду ваших действий, полковник. И боже сохрани вас от необдуманных шагов.
2
Врангель принял решение немедля перевезти жену и детей в Брюссель. И хотя сам он пока еще оставался на Топчидерской даче, поспешные сборы напоминали ему Севастополь и эвакуацию. «У меня нет времени для анализа событий и расчета хотя бы первых шагов в Париже», — подстегивал он себя. И через каждый час вызывал кого-нибудь из приближенных — советоваться о сворачивании штаба, возможностях перевода и нелегального существования хотя бы одного отдела в Париже вне РОВСа, с подчинением только ему. Не мог же Врангель остаться вдруг один перед лицом уже сформировавшейся, крепкой организации, спаянной именем великого князя? Врангелю была необходима хоть небольшая группа людей, преданных ему, готовых идти на смерть ради выполнения его приказа. Но где взять таких людей теперь? Как проверить их? Останется, конечно, «император» Кирилл. Те круги примут его с распростертыми объятиями. Но примкнуть к группе князя Кирилла — навечно лишиться благорасположения подавляющей массы эмиграции, признать узурпатора власти. Военное окружение «императора» давно сформировано. Наивно думать, что, переметнувшись, он займет главенствующее положение. Быть на вторых ролях — позор. Значит, борьба?.. Нет, увольте! Лучше уйти с поста главкома, хлопнув дверью — громко, на всю Европу. Они еще прибегут звать его, когда изменится политическая и военная ситуация. Еще прибегут...
Вечером, приказав никого не пускать, Врангель уединился в кабинете. Думал, вспоминал. Мучительно искал лучший выход. Когда стемнело, он встал из-за стола, чтобы зажечь канделябр, и увидел над верхушкой платана еле заметный, желтоватый серпик луны. Вспомнилось почему-то — пришло вдруг, как озарение: вечер, когда Деникин, бесславно убежав из Новороссийска, тихо укрылся в Феодосия и ждал решения Высшего военного совета, созванного для назначения его преемника на пост главнокомандующего. А он, Врангель, ловко сваливший «царя Антона», гулял по бульварам Севастополя, гордый от сознания упавшей в его руки власти. Деникин сам обрек себя на отставку, на уход. в небытие, на прекращение борьбы. Как он говорил позднее, стремился уберечь свое чистое имя от позора. Врангель тогда считал, пришел его час, перст божий указал на него. Он пошел с армией ее крестным путем. Он познал радость побед, испил и горечь поражений. Но почему, собственно, он думает об этом сейчас? Ему нет и пятидесяти, он не совершил всего того, что уготовано ему и задумано им. Мысли уводили Врангеля в сторону. Он вспомнил, что главное, о чем старался думать, — о последних днях предшественника, о причинах, побудивших Деникина спрыгнуть на ходу с мчащегося по степному бездорожью экипажа... Спрыгнул на ходу — большинство и не заметило. Тихо исчез, скрылся. Врангель не поступит так, не имеет права. Необходим последний парад. Вот! Последний парад! Но где собрать силы, где устроить его?..
Сначала возникла фраза: «Политическая крепость прочна тогда, когда она держится на силе нравственной». Сказал какой-то философ, историк — бог с ним! И тут же память подсказала другую фразу, ничем не связанную с первой. Это были слова югославского короля Александра: «Ваши кадеты маршируют лучше моей гвардии...» И сразу возникло решение: «Будет парад кадетов Сараевского корпуса — прощание с главнокомандующим. Я не Деникин, господа, я оставлю по себе достойную память. Долго говорить будут!» — подумал Врангель удовлетворенно. Или даже сказал вслух — он и не почувствовал.
...День с утра был хмурым. Дождевые, черно-сиреневые тучи низко висели над городом, закрывали вершины гор и зеленые склоны холмов. Дождевая пыль скрывала даже верхние этажи зданий, пики и купола мечетей. От прошедших ливней река, стиснутая серыми камнями набережной, взбухла, течение ее стало стремительным, грозным. Однако с наступлением полудня все чудесным образом преобразилось: солнце пробило облака, иссушило туман и дождевую пелену. Резко потеплело, серое марево котловины, в которой располагалось Сараево, расцвело, расцветилось всеми оттенками зеленого цвета. Небо становилось светлым, голубым, местами ярко-синим. Врангелю вспомнилось, что одна такая погодная метаморфоза была уже — сопровождала его появление в Галлиполийском лагере. Воспоминание приятно будоражило его, ибо сегодня вновь предстояла встреча с русским воинством, с лучшей его частью, будущими представителями нового офицерства, — с кадетами, сохранение которых в эмиграции он считал чуть ли не самой большой своей заслугой: им предстояло в близком будущем вести полки в Россию...
3
В Париже встреча Врангеля с Кутеповым не состоялась. По договоренности, переданной через полковника Монкевица, Кутепов должен был прийти в три часа пополудни в отель, где остановился Врангель: все же их свидание наверняка может привлечь внимание прессы, да и не только ее, возможно... Монкевиц поджидал Кутепова внизу, в холле. Главком не находил себе места от бессильной ярости в номере. Александр Павлович задерживался. На три минуты, на пять, на десять! Это было совершенно несвойственно военному человеку, да еще такому службисту, как Кутепов. Тут были, несомненно, заранее продуманные действия. В зеркале на Врангеля глядело лицо человека, охваченного ненавистью…
Через двадцать минут поднялся Монкевиц. Доложил: на такси подъезжал к отелю генерал Экк — сам сидел за рулем. Поинтересовался, какой апартамент снял Петр Николаевич. Просил передать извинения Кутепова, срочно вызванного в Шуаньи; передавал просьбу перенести их встречу на завтра, в те же часы. Генерал Экк ожидает ответа. Уловив на лице Монкевица выражение, сильно смахивающее на с трудом скрываемое торжество, Врангель понял, что потерял еще одного из своих совсем уж малочисленных соратников. Он не ответил на вопрос и лишь спросил: правда ли, что доблестный генерал Экк нашел, наконец, работу себе по плечу и стал профессиональным таксистом? Монкевиц пожал плечами и счел необходимым повторить уже заданный вопрос.
— Скажите, как сочтете нужным, — безразлично ответил Врангель, демонстративно отворачиваясь. И добавил, со значением, чтобы показать, что вполне раскусил его и сделает выводы: — Но с вами, Монкевиц, мы еще встретимся. Мне необходимо распорядиться кое о чем. И о вас, конечно...
Сейчас, в Париже, главнокомандующий впервые ощутил свое одиночество почти физически. Борьба всегда оставалась главной силой, ведущей его по жизни. Это был родная и естественная стихия. Чем более трудное препятствие возникало на его пути, тем радостней и нетерпеливей он шел к нему. Военный человек с головы до ног, он имел вкус к управлению людьми, к подчинению их своей воле. Считал всегда, что умеет тонко разбираться в друзьях и врагах — в каждом отдельно и в массе. Почему теперь ему кажется, что он остался один, все потеряно и надо складывать оружие?.. Почему?.. И вдруг простая мысль ожгла его сознание, дала ответ на асе мучающие его вопросы. История предложила ему ту же шахматную партию, которую несколько лет назад он разыгрывал против Деникина, тесня его и захватывая одну позицию за другой. Теперь на месте Антона Ивановича оказался Петр Николаевич, по всем статьям проигрывающий Кутепову. Обе партии протекали поразительно сходно. Фигуры расставлены, сделаны ходы, не предвещающие ни малейшей угрозы, — наоборот, характеризующие противника как игрока весьма слабого и недальновидного... Двигаются фигуры. Ни одного промаха. И вдруг — поворот событий — летят с доски пешки и офицеры, гибнут кони, сдаются крепости. Вот и королева погибла... Сопротивление бесполезно, надо сдаваться. Но ведь игра велась не по правилам! За противника выступали неведомые могущественные силы. ...Теперь? А тогда, когда противником был Деникин?.. Тогда все воспринималось как должное, как дань его, врангелевскому, уму, прозорливости, воле. Ерунда! Колесо истории крутится по иным законам. И нет силы остановить его, даже задержать. Надо уходить. Деникин был умным и дальновидным человеком. Им можно восхищаться. Станет ли восхищаться им генерал Кутепов, когда ветер истории разметает его фигуры и погонит его прочь со всех должностей?..
И на следующий день Кутепов не появился и даже не телефонировал. Тихо исчез и Николай Августович Монкевиц. Вечером Врангель с семьей выехал в Брюссель...
Из переписки Белопольских
«Высокочтимый князь Вадим Николаевич! Любимый дед!
Хочу снова и снова повторять тебе: ты — самый дорогой мне человек на свете, ближе у меня никого нету. Отец, которым интересуются монархические газеты, вволю научаствовавшись в собраниях, диспутах и тайных совещаниях, если судить по тем же газетам, благополучно отбыл в ряд европейских столиц «с целью объединения сторонников великого князя Николая Николаевича». Я сильно сомневаюсь, что он завербует хоть несколько новых энтузиастов, готовых до боли в глотке орать на всех перекрестках: да здравствует новый король! Однако господинчик Белопольский опять при деле, опять устроился. Мне его жалко — это первое. Второе — я, слава Всевышнему и друзьям моим, устроилась, по эмигрантским меркам, совсем неплохо. Сыта, спокойна, над головой крыша отличная! — и никаких забот. Есть, оказывается, место чудесам и в нашей тусклой и жалкой жизни. Однако, все по порядку…
Я нанята компаньонкой к богатой и сумасбродной американке. Нанята по рекомендации княгини Мещерской, Веры Кирилловны (говорит, что знает тебя «по Петербургу», но за надежность ее памяти я не дам и су), — дамы величественной, в прошлом красивой. Я вижу ее довольно редко. Для того и нанята — бегать повсюду за молодой Доротеей Пенджет, ибо Мещерской это не под силу. Она следит за «домом» и, если удается, учит американку, в какой руке держать нож, в какой — вилку. Для княгини Веры подобные занятия — бальзам на раны, нанесенные революцией и войной. Она потеряла двух сыновей. Третий пропал то ли в Турции, то ли укатил в Южную Америку, муж умер на корабле, при эвакуации из Севастополя. Она осталась одна и переживет всех нас....
Однако я отвлеклась от американки. Хочу, чтоб и о ней ты имел представление. Доротея уродлива, но экстравагантна и хорошо одевается с моей помощью (и я — с ее помощью). Она добрая, сумасбродная девица с самой крайней степенью эгоизма, который развился у нее благодаря миллионам папаши, фантастически быстро разбогатевшего не то на курицах, не то на апельсинах, купленных на юге и сбываемых в других странах. Моя работа (быть поводырем по Парижу) состоит как бы из трех этапов. Первый, по настоянию Веры Кирилловны, — вращение в высшем обществе. Обед у графини, ужин у короля автомобилей Р*, прием министра R*, у колониального героя — генерала S*. Фраки, декольте и меха для дам, безмолвные слуги в униформе и белых лайковых перчатках. Тихая музыка, льющаяся с потолка, богатый стол. Ты ведь все это хорошо знаешь. Моей Доротее это мгновенно надоело. К тому же у какой-то очередной маркизы она много выпила, вела себя непристойно и все кидалась на шею знаменитому летчику, совершившему перелет откуда-то и куда-то. Летчик оказался молод, смазлив, но женат. Случился скандал, и я с трудом увела свою «подругу». Наутро, отоспавшись, Доротея заявила, что в подобные дома больше не пойдет, что пляс Пигаль и ярмарочный бульвар Клиши ей интересней.
Началось знакомство с районами увеселений, которому моя способная ученица предалась со страстью. Я потратила много сил и красноречия, чтобы оторвать ее от забав уже в третьеразрядных притонах, где нас могли и очень просто прирезать... К счастью, рядом находился Париж Лувра и Версаля, Людовиков и Наполеона, музеев и Эйфелевой башни. Ты станешь смеяться, дед. Но великого города ей хватило на... три дня. Моя мисс Пенджет зевала возле Тициана и Рафаэля, оставалась безразличной к Венере Милосской, заявила, что устала и что «Рембрандтов ей достаточно». Поднявшись на верхушку Эйфелевой башни, поинтересовалась, сколько может стоить это сооружение, возможно ли купить его и, разобрав, переправить через океан в город Орлеан. Откуда только берутся в САСШ такие человеки?
Пенджет требовала все новых впечатлений, и я, поразмыслив, решила ввести ее в тесные круги русской эмиграции с помощью верных моих друзей Анохина и Грибовского, о которых уже писала
Начали, естественно, с дорогих ресторанов. Тут собирается бывшая состоятельная Россия, где можно не только похлебать щей, поесть блинов, пельменей или пожарских котлет и шашлыков, выпить рюмку семеновской или шустовского коньяка, но и встретиться с артистами императорских театров, цыганскими хорами, балалаечниками и гармонистами. Вас обслужат со всем холуйством бывшие кирасиры и гусары, швейцары из капитанов и полковников. Всевозможные кабаки: «Эрмитаж», «Пчелка», «Крымский домик», «.Кавказ» и «Доминик», «Прага» и «Старые кунаки» — всех и не запомнишь! — средоточие российской эмиграции. Картина эта ужасна, если ходить подряд день за днем и видеть все там происходящее. O, ces charmantes Russes![56] Какая черная, беспросветная жизнь! Сидели бы лучше дома. Никому мы здесь не нужны. А вот Доротея моя открыла для себя Россию. И Россия ей, представь, понравилась — широта, разгул, «открытые души». Все это, говорит, точно как у них! И безумно довольна своим открытием. Вытащить ее из русского кабака в сто раз труднее, чем из прекрасного французского ресторана... И платит за все. Хорошо, нас сопровождает то Анохин, то Грибовский. Они оберегают нас. И я довольна: могу по-человечески накормить своих друзей. Чтобы отвлечь Доротею от ресторанов и притонов, мы с Анохиным решили отвезти ее в концерт или на поэтический вечер. Первый опыт удался: на вечере Надежды Васильевны Плевицкой она плакала от номера к номеру все сильнее (скажу тебе, и весь зал был как наэлектризованный — то ли на колени падут, то ли стрельба откроется). Вышла в сарафане и в высоком кокошнике русская скуластая женщина, обыкновенная, ординарная, одна рука на груди, другая подпирает щеку, черные волосы, расчесанные на прямой пробор. А как запела — чисто, полнозвучно — и забыли все про партии, раздоры, борьбу за существование: перед каждым встала его Россия — родной дом, город, деревенька. покосившаяся церквушка, поля, леса, степи и горы, родные могилы, оставшиеся за кордоном навсегда... (совсем закапала письмо слезами — прости, дед, больше не буду). Доротея тоже почему-то расчувствовалась, хоть была совсем трезвая.
Согласилась она и на поэтический вечер. Но тут вышел скандал и пошлость. На улицах, в метро, магазинах скучаешь без русской речи. Там ее оказалось предостаточно — и опять плохо. Началось тихо, стихи читали. Грустные, кабацкие, кладбищенские. Недаром парижане утверждают: негру самое главное — дансинг, французу — хороший ужин с красивой женщиной, русскому — кладбище. Воистину так. Два поэта заспорили, чьи стихи лучше. И тут началось. Зала мгновенно разделилась на два лагеря — непримиримых, люто ненавидящих друг друга. «Езжайте к себе на Волгу, большевики!», «Мало вас били, бурбоны!», «Ничему не научились, ничего не поняли!», «Христопродавцы! Жиды! Царя пролузгали!» И тут такая клоака открылась, что и писать тошно. Господи! Откуда сбежались эти люди? Кончилось общей дракой.
Неловко мне было и перед американкой, и перед французами: они смотрели на нас точно на зуавов, на балаган, где любопытной публике демонстрируют русалку е ванной или карлика с двумя головами. «Похороните меня на собачьем кладбище! Умоляю! Только не среди своих!» — кричал какой-то старик, и его дребезжащий бессильный голос до сих пор звучит у меня в ушах: «Хочу у-у-у домой!..»
Мисс Пенджет ушла, довольная, словно после посещения зоопарка. Я попыталась было объяснить ей происшедшее, но она не стала слушать, потащила нас со Львом в ресторан «охладиться». Спорить с ней бесполезно. Доказывать — трудно. Возражать — опасно, ибо я ведь у нее в прислугах. Надолго ли?
Ну вот! Начала во здравие, кончаю за упокой. Хотя мне грех жаловаться: жизнь оказалась милостива ко мне. Так что за меня не беспокойся и больше пиши о себе, о Петрограде, делах. Привет и земной поклон Арине за добрую заботу о тебе.
Всем сердцем с тобой. Ксения».
«Дорогой дед! Многоуважаемый Вадим Николаевич Белопольский! Пищу тебе ответ на каждое твое письмо. Но это пишу, не дождавшись послания от тебя, и шлю, чтобы рассказать о своих новостях. Прежде всего, конечно, о своей американской патронессе. По-моему, чем больше она европеизируется, тем более становится невозможной. И я (полагаю, тоже не сахар) все чаще с ней спорю, хотя сдерживаюсь изо всех сил, ибо этому меня научила эмиграция. Дважды нас мирила княгиня Вера. А потом отчитывала меня: «Хотите на улице оказаться? Думайте, пожалуйста, с кем имеете дело!» Правда, и Доротея почувствовала, что перегнула. Она привезла в особняк новую мебель в стиле «модерн» и объявила, что хотела бы устроить ужин в честь нас, с тем чтобы мы сами пригласили всех, кого сочтем нужным. Этакое благородство! Машины стали привозить фрукты и вина, кондитерские изделия, мясо — все необходимое для пиршества, включая поваров и официантов. По подсчетам Веры Кирилловны, американка выбросила сорок-пятьдесят тысяч франков! И это в то время, когда тысячи русских на улицах с протянутой рукой! И их дети голодают. Я, конечно, от присутствия на подобном спектакле отказалась. Эта сумасшедшая бросилась передо мной на колени. Она плакала и обнимала меня, повторяя, что поняла свои ошибки, что благодарна мне. И я не устояла, я согласилась и приняла участие в ужине, куда было приглашено десятка два сиятельных семей России из числа знакомых и родных княгини Мещерской. Ты бы посмотрел на сборище этих монстров, дед! Ты бы послушал их разговоры! Посмотрел бы на их мундиры с орденами, камергерскими знаками, декольтированные платья. На их попытки сохранять остатки приличия. Они спорили о том, кто из них знатнее, главнее, точно не из милости Дороти Пенджет собрали их в чужом доме, а у себя в петербургских особняках решали они наиважнейшие государственные дела. Неужели они управляли Российской империей? Неужели — такие? Они ведь презирают страну, приютившую их, хвастаются тем, что за прошедшие годы не прочли ни одной книги. Знаешь, кого они мне напомнили? Крыс — вечно голодных и злобных, ненавидящих друг друга. Белая кость, голубая кровь России! Смешно и горько. Что станется с их детьми и внуками?.. Совсем я разворчалась... Но ведь есть же и тут, в нашей «колонии», настоящие, хорошие люди. Есть, их я видела, знаю. Они — каждый сам по себе, они разбросаны, разобщены. И чем лучше человек, тем труднее он живет и легче погибает. Мне здесь тошно, мерзко, плохо, дед. Хочу домой. Возьми меня к себе, дед.
Твоя внучка Ксения».
«Родной мой Вадим Николаевич!
Не могу понять, почему твои письма совсем перестали приходить. Получаешь ли мои? Я уже написала тебе два.
У меня все по-старому. И слава Всевышнему, что по-старому. Американка остепенилась. Кажется, посмотрела здесь все. Боюсь, чтоб не заскучала. Надоест и поминай как звали, уплывет за океан — и я опять останусь на бобах. Очень жалею, что не приучена ни к какому ремеслу: здесь очень пригодилось бы. На пасху, когда княгиня Вера получила вновь распоряжение собрать своих стариков и старух, мисс Пенджет, расчувствовавшись, объявила во всеуслышанье, что в самом скором времени подарит княгине Мещерской загородную виллу. Представляешь — виллу?! И подарит! Я думаю, как в одном человеке могут столь легко уживаться доброта и низость, твердость и мягкость, даже слезливость, эгоцентризм и показная широта души. Как они живут в своей Америке? Все ли такие (таков стиль), или моя Доротея — исключение? Ей неведомы простые человеческие чувства. Она точно механический человек. Да бог с ней! Как приехала, так и уедет...
А вот тебе новость, совсем уж необычная. Вчера на Елисейских полях нос к носу столкнулась с... нашим Иваном, сыном Арины. Сначала он не узнал меня, а я — его. Одет по последней моде. Мы обнялись. Он торопился, да и меня ежеминутно теребила американка — какой уж тут разговор? Иван явился мне, точно гонец божий из другого мира. Так хотелось узнать о тебе и твоей советской жизни. Где там! Иван проездом. Направляется в Лондон торговым агентом для свершения какой-то сделки. Ты подумай — и это наш Иван, рабочий паренек, необученный солдатик! Я ему без обиняков сказала об этом. Засмеялся: «Государство такое. Рабочие и мужики управляют». Обещал найти меня обязательно. Я весь день думала: пошутил он или вправду сможет помочь мне вернуться?
Моя опора, мой духовный поводырь (которого у меня никогда не было) — Лев Анохин — умный, честный и добрый человек. Он помогает мне в жизни, помогает разбираться в нынешних событиях... Трудно, все трудно, дед! И ты про меня забываешь. Увлекся своим архивом, что ли?
Напиши хоть несколько строк, Христа ради!
Целую. Ксения»
«Низкий поклон и приветы многоуважаемой Ксении Николаевне — с печальной вестью из города Ленинграда от Арины и Анания Ивановича Кузовлева.
Сообщаем, что шестнадцатого дня, месяца мая 1927 года скончался дед ваш Вадим Николаевич Белопольский. Мир праху его!
А смерть была ему легкая. Умер он во сне, и не мучился нисколько, и совсем не болел. Еще накануне с охотой посещал свою службу. Вернувшись, шутил, а вечером все ваши письма читал у себя и лег спать будто рано, ни на что не жалуясь и боли какой не испытывая. А утром не проснулся, преставился. Лежал в постели, будто спит, — безмятежно. Лицо его было спокойное, и никаких мук смертельных на нем не обозначилось.
Не убивайся, родная Ксенюшка: слезами горю не поможешь. Все мы в свой час уйдем на тот свет, а Вадим Николаевич свой век отжил — чай, не молоденький уже был и всего в этой жизни повидал предостаточно. И до последних ден, слава Богу, при деле состоял, и считались с ним, уважали его все. Хороший он человек был, душевный. Похоронили мы его по всем христианским правилам, как он заказывал. И в церкви отпели, и положили в старом семейном склепе князей Белопольских на Волховом кладбище. И скорбим вместе с тобой, Ксенюшка.
Одна была мечта у Вадима Николаевича — с тобой свидеться. Да не дождался, бедный. Только и я тебе не чужая, Ксенюшка. Молоком моим ты питалась, как и Иван мой родной. Так что возвращайся, как дед того хотел, как мы тебя ждем на родной земле. За плохую весть прости меня, а не писать тебе не могла, права не имела, грех на душу брать не хочу.
Так и не встретил Вадим Николаевич тебя, Ксенюшка, про Виктора и Андрея уже и надежду потерял, а Николая Вадимовича словно из сердца вырвал... А ты не думай, ждем тебя всегда. Комнату Вадима Николаевича для тебя сбережем, и все вещи, что остались, — твои, не сомневайся. Приедешь — сама увидишь, богатства прежнего не осталось, конечно, но что мы в доме застали — все твое, нам чужого не надо.
Если когда нам письмо пошлешь, мы очень рады будем, про свою жизнь тебе отпишем, а пока остаюсь преданная твоя кормилица с младенчества Арина, потому как Иван опять по делам послан, и нет его теперь в Ленинграде больше месяца.
Целую тебя, как во все былые времена
Письмо писал Ананий Иванович Кузовлев с подлинных слов Арины...»
Кутепов вызвал к себе Венделовского. Разговор происходил на конспиративной квартире, куда его привез Монкевиц, изрядно покружив по левобережью Сены. Генерал был в штатском костюме, делавшем его ниже и полнее, похожим на преуспевающего представителя солидной торговой фирмы. И настроение у Кутепова было покровительственное. Он чуть-чуть важничал, что ли... Из соседней комнаты, куда скрылся Монкевиц, доносились приглушенные разговоры. Перед Кутеповым на развернутой карте Восточной Европы стоял стакан крепкого чал. Начальник РОВСа проводил какие-то замысловатые линии, рисовал стрелы, мерял их циркулем, делал записи в блокноте... Оторвавшись, он прикрыл все газетой, предложил господину Венделовскому сесть, вкладывая в слово «господин» пренебрежение военного человека к штатскому. Начал разговор со всей возможной для себя приветливостью:
— Весь мой Союз просит за вас, — сказал он простецки, и венский стул под ним тяжко скрипнул. — Только и слышу: Венделовский да Венделовский. Чудо какое-то! И даже мой друг генерал Врангель старается, хотя это можно понять. Вы исправно служили ему — по произведенной моими людьми проверке, и, уходя, он, конечно, хочет пристроить своего человека на теплое место. Это закономерно. Но Монкевиц, Монкевиц! Чем его вы сумели обворожить? Купили? Оказали важную услугу?
Венделовский сидел напряженно, преданно молчал.
— И еще! — все более изумляясь, воскликнул Кутепов, словно подбадривая своего собеседника. — Два дня назад за вас просил довольно высокопоставленный француз из военного министерства. Разве я могу всем отказать?! Но откуда такие обширные связи у обычного курьера? Это меня, скажу прямо, настораживает.
— Разрешите два слова, ваше превосходительство?
— Ну разумеется! Я и пригласил вас для открытого разговора. Вы — человек Врангеля еще со времен Севастополя. Вы, пожалуй, единственный из его окружения после Перлофа... — он внезапно замолчал, обжигающе посмотрел маленькими, блестящими глазками.
— Я никогда не состоял по ведомству фон Перлофа и не выполнял ни одного его поручения.
— Хорошо. Предположим! Но что вы, глубоко штатский человек, полагаете делать тут, при мне или при моем штабе?
— Ну, не знаю, ваше превосходительство, — сделал вид, что смешался, Венделовский. — У меня определенные связи в разных странах... Я мог бы... собственно... делать то, что делал при генерале Врангеле, — возить секретную почту, документы. Быть личным курьером вашего превосходительства.
— О нет! — горячо и непререкаемо возразил начальник РОВСа. — Канцеляристов-то у меня хватает — во! — и он резанул себя ладонью пониже бороды. — Мне нужны солдаты, сударь! Вы готовы к такой службе?
— Я целиком отдаю себя на службу вашего превосходительства. Как вы используете меня — это только ваше дело. Я готов к любому назначению.
— Прекрасный ответ, сударь! Я обещаю вам достойное применение. Может быть свободны. Вас проводят.
— Честь имею, — радостно вытянулся Венделовский.
— И передайте там. Пусть пошлют сюда полковника Монкевица.
— Слушаюсь, господин генерал!
— А вы уже делаете успехи, сударь, — сказал одобрительно Кутепов и снял с карты газету...
Венделовскому удалось выйти на связь с Иветтой Бюсси. Он передал ей в кафе шифровку для «Доктора»:
«ДОКТОРУ» ОТ «0135»
«В целях проверки «боевиков» Кутепов отправляет меня в Россию с очередной ровсовской пятеркой. Маршрут через Финляндию. Место диверсионных заданий определится в Хельсинки. Главный — Монкевиц, ему поручено «курировать» меня. Срочно выводите из игры «Цветкова». Его человек «засветился» в Софии вскоре после взрыва собора.[57] Он указал на австрийскую контору и на филиалы в Белграде, Бухаресте. Готовится одновременный налет. Мое место встречи — парк Пратер, возле колеса обозрения, после его остановки. Суббота, воскресенье, пятница. С двух до трех пополудни. Пароль: «По-моему, этот аттракцион придумали немцы?» Отзыв: «Ошибаетесь, это чисто английское изобретение. Дополнительный знак: плащ-реглан, мягкая шляпа серого фетра. Переправлять рекомендую маршрутом Берлин — Варшава — Рига. Запасной вариант: Прага — Гамбург — Рига. Часть филиалов фирмы (главным образом, посреднических) — в Праге, Афинах, на станции Левеки, а также явочных квартир, неизвестных охранке, считаю возможным не расформировывать при условии полной консервации на два-три месяца.
Подозрения слежки за мной Знаменским не подтвердились. Монкевиц, благодаря знанию его биографии, окончательно нейтрализован, помог переводу штаб РОВСа. Остается опасным.
Парижской полиции Монкевицем направлено письмо, в котором он просит не беспокоиться о его исчезновении, не искать его тело и сообщить дочери о временном отъезде в Парагвай — хитро!
В связи с укреплением РОВСа считаю необходимым обратить внимание на генерала Головина. От руководства подготовкой «активистов» переходит к организации высших командных курсов на средства Николая Николаевича — офицерских кадров, генштабов будущей армии. Помощники Головина — генерал-майор Алексеев, полковник Зайцев. Судя по заявлению Врангеля, при Кутепове все большую роль начинает играть управляющий его делами М. А. Критский, бывший московский адвокат. Прошу передать в Центр.
0135».
Глава тринадцатая. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД ВРАНГЕЛЯ
1
Тихая окраинная улица Брюсселя — Vanderkindere — по дороге на Ватерлоо. Небольшой домик под номером триста шестьдесят шесть, с белыми входными дверями, был куплен матерью. Как он отличался от его Топчидерской дачи, гае всегда и во всем чувствовалось положение хозяина: бессменная охрана у ворот, спешащие порученцы, генералы и дипломаты, добивающиеся приема, большой обеденный стол, за которым собиралось, бывало, и два десятка приглашенных, где говорили о высокой политике, разрабатывали секретные планы, взвешивая все «за» и «против», — продолжали борьбу, которой было отдано столько сил, времени и жизней его соратников...
В первые месяцы после отъезда из Югославии Врангель радовался своему добровольному изгнанию: уединению, семейному окружению, выстраданной за многие годы военной службы возможности не делать ничего, отдыхать, не решать ничего и не думать ни о чем. Сутки, прежде разграфленные, точно боевая экспозиция, спрессованные до минут и оставлявшие время лишь на еду и сон, теперь раздвинулись, разрослись. Дни стали походить друг на друга уже не как обозники — как гвардейцы в конном строю. Отдохнув и обретя душевное равновесие, Врангель вскоре стал тяготиться бездельем, своей непричастностью ко всему исторически важному, что происходило за пределами его дома и семьи, за пределами тихого города и маленькой страны. Эта непричастность унижала, уничтожала Врангеля. Он ждал, что его призовут. Но кто мог это сделать, если главнокомандующим все еще считался он? Николай Николаевич упорно молчал, а Кирилл, давно обидевшийся на отказы Врангеля стать под его знамена, считал, что никакого генерала Врангеля и вовсе больше не существует. Впрочем, у обоих борцов за престол было по горло своих проблем. У французов, англичан, немцев и иже с ними тоже хватало государственных забот. Врангель мог рассчитывать лишь на себя. И он продолжал на себя рассчитывать. Однако прежде следовало подвести итоги, снова и снова проанализировать прошлое, наметить новую программу. Врангель принялся за архив, раскрыл дневники. Постепенно его брюссельская жизнь, как он считал, начала обретать смысл.
Врангель поднимался рано и, чтобы не будить никого из домашних, сам готовил себе очень крепкий чай на спиртовке. Напившись чаю с ромом и съев бриошь, в половине восьмого он выходил на первую часовую прогулку. Ежедневный маршрут был выверен по минутам: три километра по одним и тем же улицам к центру города и три километра обратно. К Врангелю возвращалась жажда деятельности. Воротившись и плотно позавтракав (слава богу, полнота ему не грозила!), он уединялся в кабинете.
В доме наступала настороженная тишина: хозяин работал. Врангель говорил, что работает с архивом. Документов, действительно, накопилось очень много. Следовало тщательно разобрать их, отделив «злаки от плевел», а затем, восстановив события, привести в порядок и дневник. Странно, чем больше появлялось свободного времени, тем реже обращался он к дневнику. Почему он охладел к дневнику, который должен стать материалом истории? Неужели потерял веру в себя, в величие дел, которые совершал и которые призван был еще совершить? Оскорбили мелкие людишки? Позор, позор!..
Врангель уселся за разбор документов, аккуратно разложенных на кабинетном столе в строго хронологическом порядке... Была слякотная поздняя весна 1927 года. Свирепствовали сильные западные ветры, несли мелкую дождевую пыль. Рано темнело, и Брюссель засыпал настороженным и тревожным сном...
А в документах находила отражение совсем иная жизнь. Недавнее боевое прошлое будоражило его. Порой совсем и не главные события, а так, эпизоды, тешили его самолюбие. Листок, попавший между регулярными донесениями Военного агента в Королевстве СХС — никчемный рапорт командира кадетского корпуса генерала Адамовича. Сохранился, завалялся. Врангель смотрел на него с горечью: не родив никаких чувств, кроме раздражения (зачем хранить всякую чушь?) и легкой грусти (он даже лица Адамовича вспомнить не мог), рапорт об отставке был разорван и брошен в корзину для бумаг. И все же Врангель коротко записал в дневник: «...Посетил кадетский корпус в Сараево. Впечатления благоприятные. Русская армия в самом скором времени получит достойное, подготовленное пополнение офицерского корпуса...» И вдруг, с чувством душевной неловкости вспомнив, как все было в действительности, Врангель захлопнул дневник. И тут же приказал себе забыть и Адамовича и все происшедшее тогда в Сараево как абсолютно не стоящее внимания.
Так продолжалось не день и не два. И каждый раз с меньшей продуктивностью и удовольствием.
В конце концов, окончательно потеряв охоту и к дневнику, и к оценке и классификации документов, Врангель взял на должность секретаря некоего Котляревского, которого ему порекомендовал по старой памяти Павлуша Шатилов. Котляревский производил хорошее впечатление: аккуратен, исполнителен, обладай аналитической памятью и острым умом, чем-то напоминал Венделовского, который надолго исчез — навсегда, быть может... Незаметно Котляревский стал точно тенью Врангеля, работал без напоминаний и — главное! — делал все так, как сделал бы сам главнокомандующий, как он хотел бы сделать. В семье его любили. Именно поэтому Петр Николаевич не приближал к себе секретаря: пусть знает свое место, никакого панибратства, амикошонства, духовной близости. Он отгораживался от Котляревского. Ежедневно старался напомнить тому о стене, их разделяющей, и даже имя и отчество секретаря заставлял себя забывать, обращаясь к секретарю не иначе как «господин Котляревский», «мой милый Котляревский» или «многоуважаемый господин Котляревский». Тот не обижался. Казалось, ничто не может вывести его из себя. Секретарь просто и добросовестно делал дело, за которое ему платили, и не хотел ничего большего. Похоже, он взял себе за правило не обращаться к нанимателю более одного раза в день. Однако, к удивлению своему, Врангель стал обнаруживать, что его молчун секретарь сумел найти верный тон с матерью Врангеля, баронессой Марией Дмитриевной. Однажды Врангель открыл дверь, чтобы выйти из кабинета, и внезапно остановился, услышав рядом голос матери: «Я считаю своей первейшей нравственной задачей и мой долг вижу в том, чтобы о моих страданиях узнали грядущие поколения. В первую очередь мои внуки».
Врангель невольно прислушался: интересно, о чем maman решила поведать грядущим поколениям? Он отодвинул портьеру и, осторожно ступая, вернулся в кресло. Не иначе, будет рассказывать о своих злоключениях в большевистском Петрограде. Так и оказалось. «Готовы ли вы, господин Котляревский?» — прозвучал, как всегда сухой и надменный, голос Марии Дмитриевны. «Вполне, баронесса». — «Потом мы просмотрим и откорректируем». — «Я готов и жду», — послышался почтительный баритон секретаря. «Тогда напишите: «Моя жизнь в коммунистическом рае». А чуть ниже — «Моим внукам». Это как посвящение».
«Дошел до подслушивания — фу, — поморщился Врангель. — » Тут совсем одичаешь...»
— А вы знаете, maman, что произошло в Ревеле с Юденичем, которого даже в нашей гвардейской среде звали «кирпичом»?
— Юденич? Я никогда не слышала, что его звали так странно, — намеренно равнодушно отвечала Мария Дмитриевна, уже настраиваясь на интересный рассказ, поудобнее устраиваясь, полулежа на софе «а-ля мадам Рекамье», закидывая за голову некогда красивую, начинающую уже полнеть и становиться несколько дряблой руку. — Отчего такое прозвище у генерала... кавалера и героя Арзрума, как мне помнится?
— Ведь он чуть не взял Петроград, — подала слабый голосок Елена — дочка-куколка, и голубые глазки ее восторженно округлились: — Мой кузен... Похоже, они уже в Гатчине стояли.
— Да-да! — отмахнулась Мария Дмитриевна. — По Невскому собирались гулять, шли, шли, стояли, а потом побежали... Ну, да неважно. А ты помнишь, как выглядел Николай Николаевич Юденич? Я-то отлично его запомнила: не раз имела честь быть представленной и разговаривала, — она насмешливо, со значением прищурилась. — Круглое лицо, круглый подбородок, фельдфебельские усы и крохотные глазки. Огромные фуражки обожал, фигура грузная. Если б не генеральские погоны — типичный околоточный. Действительно, «кирпич» подходит.
— Он наш национальный герой, maman, а вы — околоточный, — назидательно, но отнюдь не сердито, а, наоборот, одобряюще заметил Врангель, которому был приятен этот разговор, и добавил для еще большего поощрения: — Ну-ну, не будем отвлекаться. История-то о чем, знаете? История моя о том, как, отдав приказ о ликвидации своей армии, наш дорогой Юденич, встав во главе значительных денежных сумм, оказался в Ревеле.
— Таких уж значительных? Откуда? — ревниво и недоверчиво спросила баронесса Врангель.
— Основу составляли деньги, получаемые от Колчака. И от союзников, вероятно, — успела вставить Елена. — Еще Венделовский говорил... — она осеклась и покраснела.
— Естественно! — подхватил Врангель. — Деньги у Юденича были немалые. Из-за них все и случилось. Жил он в отеле «Коммерс». Как-то вечером, довольно поздно уже было, — очевидцы рассказывали. У него генерал Глазенап задержался — «генерал-губернатор Петрограда» несостоявшийся, так сказать, граф Пален и еще какой-то офицер... Неважно! Внезапно входит взволнованный адъютант поручик Покатило... Одна фамилия чего стоит, не так ли, maman?! Приносят депешу от Балаховича.
— Это тоже генерал? Напомни, пожалуйста. Я так быстро забываю нашу историю. Просто ужас! Последствия петроградского голода.
— Полковник, maman, полковник. Но, утверждают, никогда им не был. Звание присвоил. У нас на Севере это часто случалось. Называл себя, когда надо, атаманом крестьянских и партизанских отрядов, но при этом командовал многими весьма достойными офицерами.,
— Вы, вероятности его видели, papa? — с наивной живостью поинтересовалась Елена.
— Как тебя сейчас, моя милая, — парировал Врангель . — Впрочем, к общению не стремился. Садист и вешатель. Одутловат, лицо дегенерата, сильно суживающееся книзу, короткие усы над оттопыренной нижней губой. Ходил всегда в каракулевой кубанке набекрень. Посмотришь, не зная, — кажется, что гимназист-переросток... Впрочем, деньги любил не меньше, чем Юденич, и получал их, пока шла война, всеми возможными и невозможными способами. Даже печатал фальшивые керенки. Но боевые действия закончились, армия перестала существовать, а у Юденича осели значительные суммы. Вот он и послал через поручика Покатило требование, чтоб «кирпич» сдался ему под гарантию неприкосновенности до передачи отчетов обо всех денежных суммах, находящихся у бывшего командующего. Прочитав ультиматум, Юденич схватился за револьвер и закричал: «Пусть он только появится, я буду стрелять!»
— Становится совсем интересно, — подбодрила сына Мария Дмитриевна. — Продолжайте же, прошу.
— Когда генерал Глазенап вышел в коридор, он увидел Булак-Балаховича и человек пятнадцать его офицеров. Он сказал: «Я — командую армией. По какому праву вы вмешиваетесь в дела командования?» — «Я с трудом сдерживаю негодование офицеров и солдат, брошенных на произвол судьбы и ныне окруживших гостиницу». — «Вы угрожаете, полковник?» — «Никак нет! Я ставлю вас в известность. Мне не хотелось бы эксцессов, но сие от меня уже не зависит». — «А я прошу вас и ваших людей сохранять спокойствие…» Тут появился французский полковник Хурстель. Балахович согласился ждать результатов совещания ликвидационной комиссии и ушел, уведя своих башибузуков... После долгих уговоров Юденич согласился передать комиссии двести пятьдесят тысяч фунтов.
— Ого! — непроизвольно вырвалось у баронессы. — Неплохо! Совсем неплохо.
— А вы представляете, maman, сколько оставалось? Двести пятьдесят тысяч для Юденича оказалось сущей безделицей.
— И далее?
— Прежде всего это не устраивало Балаховича. Прихватив с собой трех нижних чинов эстонской полиции для соблюдения видимой законности, он ворвался в номер и арестовал нашего бравого командующего, опечатав столы, шкафы. Он сопроводил уважаемого Николая Николаевича на вокзал, усадил в поезд и повез его к Юрьеву. На рассвете генерал Краснов разбудил Глазенапа и сообщил ему эту веселенькую новость. Они кинулись за помощью к англичанам и французам. Те предъявили ультиматум правительству Эстонии: если Юденич не будет немедленно освобожден, а Балахович наказан, то представители Антанты тут же покидают Ревель.
— Это благородно! — воскликнула баронесса.
— Да, союзники всегда проявляли свое благородство... Если им это ничего не стоило, — остудил ее пыл Врангель.
— Чем же кончилась эта оперетка? Продолжайте, Петр, прошу вас.
— Эстонские власти приказали остановить поезд, вернуть Юденича и арестовать захватчика. В том же поезде все вернулись в Ревель. Балаховича освободили по непонятным причинам. Никакого наказания он не понес.
— Чего же он добивался, этот Балахович? Я не понимаю, — удивилась Елена, и опять ее купольные глаза стали круглыми, как у совы. — Объяснитесь же, papa!
— По-видимому, Балахович сначала решил взять с Юденича крупный выкуп, а потом продать Юденича большевикам.
— Какой негодяй! Типичная для наших лет история, дорогая Елена. — Баронесса встала. — Спасибо, вы так развлекли нас, Петр.
— Простите мое любопытство, умоляю, ваше высокопревосходительство, — не сдержал себя дотоле молчавший Котляревский. — Но что же генерал Юденич?
— Насколько помню, газета «Нью-Йорк таймс» сообщала тогда. Вскоре, во всяком случае. Генерал Юденич на автомобиле с английским флагом бежал из Эстонии и ушел из армии... Забрав свое состояние, оцениваемое в сто миллионов марок.
— Бедняга, — подытожила баронесса. — Все свободны. Жду вас к ужину.
«Не сдержался, — подумал Врангель. — Похоже, насплетничал...»
Врангель, свободный теперь от утомительной, однообразной работы, значительно удлинил свои утренние прогулки. По улице Vanderkindere он выходил на шоссе Ватерлоо, поворачивая еще налево и по улице Теодора Верхагена направлялся до Южного вокзала. Или от шоссе Ватерлоо круто поворачивал на север, к бульвару Ватерлоо, и по нему — к старому центру города — доходил до дворца Эгмонта. Однажды он решил добраться и до поля Ватерлоо. Омнибус проделывал эти два десятка километров за двадцать минут. Остановка (он ведь шел мимо!) находилась поблизости, на углу бульвара Миди и улицы Русской (не знаменательно ли это?). Затем бульвар Ватерлоо переходил в шоссе того же названия. Лес Камбр оставался слева. Начиналась холмистая равнина — омнибус останавливался, впускал и выпускал пассажиров, пока не доезжал до конического огромного холма, видного издалека. На его вершине красовалась гигантская чугунная фигура Льва Ватерлоо, грозно глядящего в сторону Франции. С холма было видно огромное поле и многочисленные памятники над могилами погибших в битве.
Поднявшись впервые на площадку и оглядывая местность как человек военный, Врангель, вспомнив ту битву, подумал, что Наполеон допустил множество просчетов: плохо организовал разведку сил неприятеля, взаимодействие своей пехоты, конницы, артиллерии. И вообще действовал весьма нерешительно, а потом бросил разбитую армию и бежал в Париж. А дальше — сдача англичанам, ссылка на остров Святой Елены и конец. Почему так произошло?.. Ответа Врангель не находил. Посетив ферму, на которой Наполеон провел ночь накануне битвы, дом герцога Веллингтона и панораму «Битва при Ватерлоо», Врангель так и не решил ту трагическую загадку. Он еще дважды приезжал на историческое поле. Ходил, смотрел, думал. Так и не решив ничего, Врангель сделал определенный вывод для себя: он еще не проиграл свое последнее сражение, его Ватерлоо впереди; он должен продолжать бороться за себя и армию. Для этого нужен детальный план. План не сохранения позиций — план наступательный, план вторжения.
Утренние прогулки резко сократились. Петр Николаевич азартно работал и только к вечеру выходил из кабинета. Целеустремленность вернула спокойствие. Он снова искренне поверил в свою сегодняшнюю историческую миссию. Казалось, вновь обретал себя. Разложив карты, достав материалы и документы, раскрыв дневники крымской поры, он разрабатывал новый план интервенции против Советов, включающий предварительную и полную реформу его армии.
Прежде всего — успех операции определялся готовностью к быстрой мобилизации воинских контингентов. Его бойцы не живут больше на бесправном беженском положении. Они существуют по особому кодексу, по законам, данным им Врангелем, контролируемым Управлением военными миссиями в разных странах.
Первый раздел плана содержал реальный подсчет сил. Врангель рассчитывал, что ему удастся собрать два корпуса — армейский и кавалерийский двухдивизионного состава, по три полка в пехотной дивизии и по два в кавалерийской. Дивизиям придаются артиллерия и технические средства. Ничего в действительности еще не существовало — ни пригодных орудий, ни технических средств, ни коней, но, если англичан заинтересовать, французов убедить, они прикажут королю Александру и болгарской фашистской партии, на которую опирается болгарский царь Борис, взять на себя снабжение армии. Естественно, к плану самым тесным образом привлекалась Германия, Румыния, Венгрия и — как идеальный партнер, обладающий не только яркой антикоммунистической направленностью, но и реальной военной силой, — Италия под водительством Муссолини. Созданию подобного блока предшествовала самая серьезная и трудная дипломатическая работа по сколачиванию всех антибольшевистских сил. Человека, который сумел бы возглавить такую работу, рядом с Врангелем пока не было, и даже представить себе, откуда он мог бы появиться, предположить невозможно. Посему Петр Николаевич счел возможным уверить себя, что на первом месте Плана должны стоять вопросы чисто военные, а дипломаты — большие и малые — сами появится, когда пойдет Дело я никто не станет сомневаться в реальности Плана и участии в нем европейских держав... Много думал Врангель над вождем, над той фигурой, которую он поставит во главе похода. Логичней, чтоб русский поход возглавил русский «император» Кирилл, но и для привлечения Николая Николаевича — любимца армии — имелись весьма серьезные резоны. Однако — после обещания великого князя решительно отстранить Кутепова и отобрать от него РОВС. Полностью! Это было первое и самое решительное требование Врангеля.
Особое место в Плане занимал денежный вопрос. Кто даст кредиты на операцию — и не малые! — под какие гарантии и проценты? Какими — реально! — гарантиями он располагал? Лично он — никакими. Но он бросал на стол переговоров всю Россию. Хотя Россию не раз уже закладывали иностранцам Колчак «и Деникин, Юденич я лидеры Торгово-промышленного союза. Теперь Врангелю — он понимал это прекрасно! — предстояло придать нечто абсолютно новое этим торгам, нечто особенное, делающее его шансы предпочтительней тех, кто до него хотел распродать Россию. Врангель отлично сознавал — это самая уязвимая и трудновыполнимая глава его будущего Плана. И почти подсознательно все время отгонял от себя раздумья над вопросами о кредитах: его первое дело — военное обеспечение; со временем обязательно появится некто или нечто, что совершенно фантастическим образом решит все проблемы кредитования.
На первый случай имеется в Вашингтоне посол Бахметьев, старая лиса. Он сидит на мешках с посольским золотом, охраняя его от всех и вся много лет. Бахметьева следует превратить в особо доверенное лицо, любым способом привязать. В крайнем случае — убрать, заменив своим человеком. Этим Шабеко, хотя бы. Нет, лучше найти «ход» и заставить работать на себя. Деньги Бахметьева — реальность. При определенных и осторожных действиях, после ознакомления в общих чертах с Планом, можно быть уверенным в успехе...
Из обитого железом ящика Врангель достал аккуратно пронумерованные карты. К счастью, они сохранились, прошли с ним весь его тернистый путь, а недостающие, из тех, что легли на дно вместе с яхтой «Лукулл», презентовал ему Шатилов — хороший, мягкий человек, но плохой начальник штаба главного командования, на совести которого не одна проваленная операция войны в Крыму.
Карты ложились на стол, диван и кресла. Карты устилали пол кабинета. Юг России — прежде всего. Нет, начинать надо, пожалуй, с бассейна Черного моря. Откуда ушли, туда и вернемся... Врангель раскрывает тетрадь, вооружается циркулем, линейкой и лупой. Пишет на новой странице — крупно и четко: раздел первый — сосредоточение крупных воинских контингентов в Румынии (примерно двадцать тысяч человек), удар на северо-восток с захватом Одессы и движение на Киев; раздел второй — концентрация основных сил в Болгарии, перевод войск из Югославии, пополнение за счет офицерских частей и служащих в пограничной страже; подготовка их к десантированию в Крым и на Кавказ; раздел третий — десантирование в районы Кубани и Дона, объединение под одним командованием (для самостийников это проблематично!) весьма разрозненных и частично распропагандированных большевиками казачьих частей, сведение их в отдельный корпус под своим командованием с твердым обещанием им воевать только в родных местах. Мобилизация казаков крайне необходима!
Врангель перевернул страницу. Написал название новых разделов: артиллерийские формирования и организация необходимых технических средств. На следующих страницах место отводилось штабам, организации управления и связи, очень важным в условиях фронтов, растянутых более чем на тысячу километров. Необходимо создание «походных», или головных, штабов, находящихся в боевых порядках наступающих и руководимых инициативными, способными действовать самостоятельно офицерами.
Четвертый раздел содержал вопросы о союзниках и привлечении на свою сторону (свободный пропуск интервенционистских войск — в крайнем случае) прежде всего Эстонии, Латвии, Литвы и использовании русских военнопленных, оказавшихся на их территории. Вопрос о Польше был перенесен на отдельную страницу. Врангель выделил: «Перемыкин. Количество состоящих под ружьем. Количество, могущее быть мобилизовано в первую очередь (обучение). Возможность создания северной группы войск, наносящей удар на Петроград при поддержке флота союзников».
Были озаглавлены и другие страницы толстой тетради: «Тылы», «Пути снабжения каждой из армий, двигающихся в разных направлениях», «Путь следования главного штаба» — оптимальный маршрут для координации усилий всех и принятия самых срочных мер в случае непредвиденных обстоятельств, вплоть до провала какой-либо местной операции... Последний раздел составили вопросы, озаглавленные одним словом — «Конспирация», содержащий параграфы: «Зарубежные отделы ЧК»; «Милюковцы и другие „левые”» (сменовеховцы, «Союз возвращения на родину», «Красный Крест» и т.п.); свои — «николаевцы» и «Кирилловцы», способные из-за взаимной ненависти продать и предать в любой час. «Недопущение их к Плану. При крайней необходимости — ознакомление лишь с отдельными деталями...»
Врангель откинулся на спинку кресла. Подумал с чувством радости об оконченной огромной работе. Достал брегет. Почти три часа провел в кабинете. Начало положено. А впереди еще непочатый край работы, которую он твердо решил проводить сам, один, не позволяя себе привлекать к Плану даже технических исполнителей, даже тех, в ком был абсолютно уверен. План от «А» до «Я» принадлежал только ему. Он был только его ребенком, ничьим больше!.. Его! Его! Его!
2
Время до ужина и перед сном Врангель обязательно проводил в кругу семьи. Будущее снова будоражило его. Он считал, что мог бы (и должен!) работать больше, несмотря на копившуюся усталость. Но настроение у него выровнялось. Врангель позволял себе теперь в ре-менами со спокойным превосходством участвовать во всех разговорах, поддерживая любую тему, даже нескончаемые воспоминания баронессы Марии Дмитриевны о пребывании в Петербурге среди большевиков, в которых содержался с трудом скрываемый упрек ему, допустившему, что с его матерью могло происходить такое. Врангель намеренно не ложился спать рано: боялся бессонницы, против нее не действовал уже и порошок веронала. Бессонницы боялся панически. Лезли в голову отвлекающие мысли, ненужные воспоминания. Вставал с тяжелой головой, неспособный заняться делом. Приходилось идти на прогулку в лес Камбр и опять терять святое утреннее время, ибо по возвращении хотелось прилечь хоть на полчасика и постараться не заснуть. Короче, плохой сон отнимал у него утро совершенно, а вслед за утром ломался и весь дневной распорядок. В такие дни обед приносили ему в кабинет. Порядки в своем доме единолично определяла баронесса Мария Дмитриевна. Жена — Ольга Михайловна — вольна была распоряжаться временем по собственному усмотрению. Впрочем, на ней, естественно, лежали и определенные обязанности по уходу за детьми и их воспитанию. Петр, ставший уже почти совершеннолетним, готовивший себя по настоянию отца к военной карьере, правда, не очень и нуждался в ее поучениях. Он был аккуратен, тверд в своих устремлениях, замкнут — полностью перенял отцовский характер. Елена, очень повзрослев и похорошев за последний год, несколько беспокоила мать: Ольга Михайловна во всем узнавала самое себя — такая же порывистая, на грани экзальтации, с быстро меняющимся настроением, любящая природу, добрая к людям, постоянно выдумывающая себе кумиров, которым готова была беззаветно служить и поклоняться. Елена много и бессистемно читала, -книги заставляли ее то слишком радоваться, то беспричинно печалиться. Она оказалась способна и к языкам, ей давались легко и английский, и французский, и латынь, но занималась девочка неохотно, предпочитая приготовлению уроков вышивание и рисование акварелью бесконечных пейзажей.
Бабушка вечерами занималась воспитанием внуков: читала вслух уже написанные и обработанные Котляревским те части из своих воспоминаний, которые считала готовыми к публикации. Ольга Михайловна слушала с неподдельным интересом, поражалась, пугалась, восторгалась силой духа свекрови. Врангель не любил этих долгих и бесцельных для себя посиделок: в каждой строке ему слышался упрек матери — не позаботился вовремя, бросил, не вывез из большевистского плена, где каждую минуту она подвергалась смертельной опасности. Как-то Врангель намекнул матери, что очень устал и чувствует себя неважно, но Мария Дмитриевна так выразительно холодно и надменно посмотрела на него, что он осекся и уже никогда не искал новых предлогов ускользнуть от ежевечерних чтений, обязательных для семьи, точно молитва, и лишь успокаивал себя надеждой, что должна же кончиться когда-то и ее одиссея. Надо сохранить выдержку, не вмешиваться, даже не пытаться исправить некоторую неточность изложения, помочь ей уточнить хотя бы известные всем даты. Надо слушать. Или делать вид, что слушаешь. Мемуары — ее личное дело. Когда заканчивался вечерний чай и прислуга убирала посуду, Мария Дмитриевна доставала свой гроссбух, — как окрестил сын толстый альбом в сафьяновом переплете с медной застежкой, предназначенный для салонных любовных стишков, — надевала пенсне и начинала чтение ровным бесстрастным голосом, адресуясь демонстративно к Петру, Наталье и Елене.
«Я вставала в семь часов и направлялась за кипятком в чайную, — долетал до него ровный, какой-то железный голос матери. — Пила ржаной кофе с куском ужасного хлеба и шла на работу в музей города, что расположился в Аничковом дворце. Чулок у меня не было, ноги обматывала тряпками. Хорошо, сначала удалось купить калоши, а потом выменять их на сапоги. Обедала в общей столовой, вместе с курьерами, уборщицами, метельщиками. Ела всяческую бурду: воблу, иногда чечевичную похлебку — оловянной ложкой из оловянной миски... («Все какие-то мелочи, — машинально отмечал про себя Врангель. — Тряпье, вобла, миски, ложки. Недостойно матери главнокомандующего! Надо бы сказать, чтоб Котляревский выбросил, не забыть!») ...В пять часов возвращалась домой, топила печь, ужинала вареным картофелем — шесть штук за двести пятьдесят рублей, — чинила тряпье. («Опять тряпье!») В субботу мыла пол, в воскресенье стирала обмороженными руками. Сама таскала дрова, выносила помои, сидела на тумбе у ворот дома обычно с десяти до часу ночи, как и другие жильцы. Однажды председатель домкома, явившись и увидев портрет моего сына в военной форме, приказал немедля убрать «генерала», иначе он донесет в ЧК. Бог меня хранил. И хотя я потеряла два пуда веса, была желта, как воск, руки обморожены, ноги ослабли, глаза видели плохо — в свои шестьдесят лет я ни разу не болела... («все о том же — о своих обывательских интересах и мелочах. Надо решительно указать Котляревскому: как буду выглядеть я, когда подобные «мемуары» появятся в Европе, подписанные баронессой Врангель!») ...Едва обстановка в городе стала особенно опасной, я оставила квартиру и переехала к подруге, которая, в свою очередь, опасаясь за свою жизнь, перебралась к бывшей подруге. Я осталась в квартире одна. Три месяца денег никому не платили. Ни еды, ни керосина, ни свечей...»
— Ужас какой! — долетело до него восклицание жены. («фу! Какая, однако, неприличная несдержанность Ольги!»)
— Это не ужас, Оленька. Ужас был впереди, когда ко мне пришли с ночным обыском. Слушайте: «Я лежала одетая. Рядом в тумбочке самое дорогое — мои драгоценности и портрет сына. Услышав стук, я бросилась к печурке и все уничтожила и только после этого отворила им дверь. Вошли четверо, вооруженные: «Где хозяйка?» — «В Новгородскую губернию за провизией уехала», — соврала я. «Знаем, скрылась паразитка. Буржуазия работать не кочет, народ мутит». Они приняли меня, без сомнения, за служанку. Обыск шел до утра. Перевернули весь дом — и, потребовав, чтоб я сообщила в домком, как только хозяйка появится, ушли. Вскоре меня «уплотнили». Поселили безногого красноармейца, счетчицу из банка, семью многодетного еврея. Я перебралась в самую маленькую комнату — она при кухне и черном входе. В случае необходимости есть возможность и выйти незаметно... С марта двадцатого года начались новые осложнения. Мой сын стал главнокомандующим Русской армией. На всех стенах, афишных будках и заборах появились воззвания, плакаты и карикатуры. Каждую ночь я меняла место ночлега. Разве не счастье, что я уцелела?!»
Врангель, не выдержав, поспешно уходил, объясняя уход головной болью.
...Еще один день пролетел незаметно. Работа продвигалась медленно. И все крепла мысль, что он один с ней не справится. Следовало вызвать Шатилова и открыться во всем Павлуше. Но каков он теперь? С кем? И захочет ли вновь становиться под знамена, которые оставил, несмотря на все просьбы и увещевания?
Вечером мать, как всегда, продолжала свои чтения.
У Врангеля вновь разламывалась голова. Его знобило, ломило ноги и суставы рук. Он пил чай с ромом, но никак не мог согреться. Хорошо бы уйти и лечь на тахту, укрыться потеплей пледом и буркой. Но разве можно сделать это — опять обидеть мать, оскорбить своим невниманием? Она не простит. Надо терпеть.
Продуло, вероятно, когда раскрыл окна, проветривая от табачного дыма кабинет. Ведь прогулка была сегодня совсем короткой: дождевая пыль, пронизывающий холодный ветер — он дошел лишь до шоссе Ватерлоо и повернул назад. Плохо, очень плохо!..
— «...В конце октября двадцатого года меня разыскала девушка-финка, передала записку: «Доверьтесь подателю записки вполне. Все устроено», — продолжала читать баронесса. — Финка сказала: «Ехать надо завтра, без багажа. Оденьтесь теплее — путь долгий, по морю четыре часа». Я согласилась и даже оставила в канцелярии записку, что по случаю сильного переутомления прошу двухмесячный отпуск. Свидание наше состоялось на Тучковой набережной. С финкой мы пришли на Балтийский вокзал — день был субботний, народу много. Наконец, подали теплушки, поезд двинулся. На станции Мартышкино вышли. Смеркалось. Долго брели к морю. В маленькой хатке остановились. Хозяин русский, его жена — финка. Полагаю, гнездо контрабандистов, где пришлось провести почти сутки из-за патрулей, искавших кого-то. Ночью за мной пришел пьяный хозяин. С ним — еще двое. Пошли к морю. Ночь была морозная и беззвездная. Столкнули лодку. Меня, как куль, перенесли на руках. Пассажиров собралось человек пять. Поставили парус, вышли в море. Ветер оказался непопутным (нам следовало обогнуть Кронштадт, где рефлекторами освещали море), поднимал волну и мокрые брызги. Трос вычерпывали воду. Я промокла и замерзла. Усилившийся ветер сорвал парус, мачта обломилась. Пошил густой снег.
Был уже четвертый час ночи, когда все финны дружно взялись за весла. Через полчаса примерно лодка пристала к берегу. Меня вытащили. Казалось, вот-вот я лишусь чувств. Принесли в какой-то дом. Жарко топился камин. Стол накрыли скатертью... («Вот опять! — подумал Врангель. — Опять пойдут обывательские, гастрономические подробности»). Чего там только не было! Чудо! Яйца и сыр, масло, белый хлеб, кофе с молоком и сахаром. Я пришла в себя и улеглась. В доме появился новый человек, который присел рядом и сказал мне тихо: «Я знаю, кто вы, знаю о вашем сыне. Скоро мы поедем...»
Финн дал телегу. Двадцать верст — и мы в Териоках, на карантинной станции, где меня подвергли обычным расспросам, покормили и устроили на отдых в приличной и теплой комнате... («Опять! опять! — Врангель с усилием заставлял себя сохранять спокойствие.) ...На следующей неделе многие газеты заговорили «об отважной путешественнице, матери Врангеля». Представитель американской миссии посетил меня и распорядился снабдить всем необходимым... Я очень переживала за сына и крымскую катастрофу...»
«Нет! Это нестерпимо, наконец!» — Врангель, перестав сдерживаться, встал, подошел, склонился к руке матери, целуя ее, как бы оценив все услышанное и отдавая дань ее мужеству.
Мария Дмитриевна поцеловала сына в лоб, и он тотчас ушел в кабинет. Тех слов, которых она ждала, ободряющих слов благодарного сына, Мария Дмитриевна так и не услышала.
3
Неприятности преследовали барона одна за другой. Началось все с того, что черт дернул его, уставшего от Плана, устроить перерыв и вновь заняться разбором кое-каких документов и просмотром дневниковых записей, сделанных в Сербии. Он нашел отчет об одном из тайных и ярких совещаний, где шел разговор о новой интервенции против Советов. Но прежде попался на глаза Врангелю документ, содержащий частное дополнение к плану десантирования на Дон и Кубань. В углу пожелтевшего листа крупно и четко было начертано красным карандашом: «Одобряю! Кутепов», — и точно сам Александр Павлович, плотный, коренастый, налитый чугунок, заткнутый в ремни, как набитый кофр, блестя хитрыми, маленькими глазами, вышел из угла кабинета и, печатая шаг, приблизился к письменному столу и принял под козырек.
Врангель принялся листать запись того совещания, а потом, внезапно вспотев, стал погружаться в один документ, в другой, в третий. Снова обращался к дневнику и опять листал документы: приказы, сводки, справки, рапорты. Он не спал всю ночь, даже не прилег. А к рассвету выкристаллизовался и сформировался простой и трагический для него вывод: он «изобретал велосипед»! План, которому в последнее время отдано столько времени и сил, вчерне существовавший, был уже записан и продуман. Это казалось коварным ударом судьбы, от которого никогда не поднимаются, не встают на ноги, теряют самоуважение, веру в себя. Счастье, что Бог задержал обнародование его Плана, какое счастье! Он стал бы всеобщим посмешищем, мир счел бы его просто сумасшедшим, безумцем, место которому в психиатрической клинике. В подобном положении стреляются! Никто его не поймет. Даже мать, жена, дети. Оставить им письмо? Объяснить? Но что и какими словами? Где он найдет их, простые и возвышенные слова, которые сопровождали его всю жизнь, содержались в каждом приказе войскам, в каждой его речи и перед коронованными особами, и перед простыми казаками, готовыми поднять бунт...
Едва рассвело, не дожидаясь, пока поднимется служанка, Врангель выбежал на улицу. И походил — без мыслей и чувств, как сомнамбула, — по всем южным окраинам Брюсселя. Возникло видение — явственное, будто происходящее на самом деле. Он идет, склонившись вперед, навстречу ветру; ветер, как чья-то огромная длань, упирается ему в грудь, затрудняет дыхание, отодвигает в сторону. Часто кажется, рука эта одушевлена. Она, как гоголевский Нос, живет своей особой жизнью, она мыслит, больше того — выполняет чью-то злую волю. Смять его, смести, сравнять с самым ничтожным из беженцев — вот ее задача. Иногда рука, казалось, принимала ненавистные обличья: то коварнейшего Милюкова (врага русской армии номер один!); то старого сподвижничка Кутепова (он его всегда фельдфебелем считал, а тот уже в Наполеоны рвется, не остановить); то мудрого попа Антония, поднявшего смуту в русской церкви и немало преуспевшего в его изгнании из Югославии; то черносотенного идиота Мар-кова-2-го, который в каждом готов видеть либо еврея, либо калмыка, немца или другого иноверца. Он и Врангеля ненавидит, хотя и глядит с подобострастием... После «видения руки» Врангель пошел столь быстро, что со стороны казалось, он бежит от чего-то в испуге. Врангель не мог вспомнить, когда это началось, с чего и где именно. И еще в эти моменты мучила его неотвязная мысль о том, что он все же поторопился добровольно оставить пост главнокомандующего, снять мундир, облачиться в сюртук и переехать с одних задворков Европы на другие, в Брюссель...
Вернувшись и стараясь быть незамеченным, чтоб избежать обязательных сочувствующих вопросов, проскочил к себе, отказавшись от обеда и приказав принести ему в кабинет лишь бутылку коньяка и кое-какой закуски. В тот момент представлялось наиболее важным уйти от нежелательных встреч и вопросов. Впервые в жизни Врангель сильно опьянел. Он почти ничего не ел, прикончил бутылку «мартеля» и тут же заснул на диване, не потрудившись ни затворить окно, ни накрыться шотландским пледом, лежащим рядом на спинке кресла-качалки.
Проснулся он среди ночи от холода. За окном посвежело: шел густой и крупный снег. Голова болела. Он встал, нашел и допил рюмку оставшегося коньяка, чтобы согреться, и лег, всем существом ощущая свою несчастность, ненужность жизни, которую придумал здесь для себя, усталость от всего того, что он уже свершил, и ненужность борьбы за то, что ему хотелось еще свершить. Жизнь человеческая коротка, а он отдал ее целиком чужим людям и их интересам, думая, что руководит ими.
Размышления теряли конкретность, размывались. Врангель дремал. Ему стало душно. Он сбросил плед, но не встал, ощущая необыкновенную слабость, боль в висках, ломоту во всем теле.
...Внезапно представился отец — высокий, с непременным моноклем в правом глазу, — подошел близко, строго глядя и обидно усмехаясь. Губы его начали шевелиться, произнося гневные слова. И вдруг как будто кто-то быстро отодвинул его далеко. Он стал маленьким, бедно одетым стариком, копающимся в развалах Александровского рынка, среди старых вещей и хлама. И такое ведь было в действительности... «Зачем вы тут, отец? Что скажут люди?» — крикнул Врангель. Отец все же услышал. Хитро улыбнулся, сказал громко: «Здесь настоящее золотое дно Петербурга, Петр. Не одна жемчужина скрыта от наших глаз. Рерих, которого я часто встречаю, собирает здесь старых фламандцев, Дел я ров — помнишь его? — бронзу эпохи Ренессанса. Для настоящего коллекционера нет стыдного или бесстыдного. Остальное — химеры...» Отец зарывался в хламе, исчезал, как ящерица в песке...
Боль в суставах и пояснице усиливалась. Врангелю отчетливо слышались какие-то шорохи, звон и стук, сильный шум в ушах. Он пробуждался, с трудом пытаясь разлепить веки, позвать жену. Перед слезящимися глазами появлялись непонятные цветовые пятна. Глаза болели, точно кто-то давил на них пальцами. Его бросало то в жар, то в холод. Он бессильно переворачивался на спину, ощущая свою полную беспомощность, неотвратимость надвигающейся и захватывающей его непонятной болезни.
Нескончаема ночь. Порой Врангель бредит. А ему кажется, он в полном сознании принимает родных, друзей и соратников, приглашенных им самим на встречи.
Болезнь подкралась внезапно, усыпила всех и его самого своей простотой. Ну, что особенного: простудился, легкий грипп! И внимания обращать не стоит. До болезни он, несмотря ни на что, оставался самим собой, оставался Врангелем. И вот теперь расхворался окончательно. Он стал немощен, безволен, слаб, хил. Прикован к постели, и неизвестно, когда врачи разрешат ему подняться и вернуться к полноценной человеческой жизни...
Глава четырнадцатая. РУССКИЙ ДОМ В ПАРИЖЕ. ЕГО ОБИТАТЕЛИ И СОСЕДИ
1
Один недостаток имелся в очень необременительной работе Белопольской: в любой момент дня и ночи она могла понадобиться сумасшедшей Доротее. Поэтому, словно офицер при осадном положении, отлучаясь, она обязана была докладывать княгине Вере, где будет, сколько времени и как ее сыскать немедля. И хотя никаких особых дел ее жизнь нынче не содержала, в душе Белопольской, несмотря на безбедное и довольно веселое существование, зрел и кипел протест, который — уж она-то себя хорошо знала — должен был вот-вот найти выход. Понимая, что совершает очередную глупость, она сознательно шла навстречу ссоре. Ей нравилось по мелочам возражать Доротее Пенджет и злить ее по пустякам, не торопиться выполнять все ее бредовые приказания. Странно, однако, чем чаще Ксения «закусывала удила», тем больше привязывалась к ней американка. И все же Ксении приходилось соблюдать договоренность — предупреждать заранее обо всех отлучках, сообщать адреса. Вечера всегда принадлежали Доротее. Имелось, пожалуй, лишь два исключения. Однажды она вновь посетила Тургеневскую библиотеку, где с удивлением узнала, что многие советские писатели издаются ныне берлинскими издателями, и получила несколько книг на просмотр, ибо читать их у нее не было ни времени, ни особого желания: первым оказался роман Алексея Толстого «Хождение по мукам», про который много писали и много говорили. Граф-де, вернувшийся в Россию, переделывает все написанное в Парике по указке большевиков, которые все белое заставляют его представлять черным. Ксения открыла том, увидела описание Петербурга — у нее сжалось сердце, и она поспешно отложила книгу...
Во второй вечер она пошла на доклад о Льве Николаевиче Толстом и толстовстве, который делал Бунин. Бунина печатали, им гордились все русские. На трибуне появился не молодой уже, но необыкновенно красивый человек, сдержанный, с холодной улыбкой. Бунин заговорил — проникновенно, глубоко, убежденно, блистательно. И с первых фраз покорил аудиторию...
Иногда, если получалось, Ксения навещала и своих друзей в «Последних новостях». Выпивала с ними чашку кофе, обменивалась новостями. Они иронизировали друг над другом и над очередной сенсацией, сообщенной прессой...
Ни американке, ни Вере Кирилловне найти компаньонку не представляло никакого труда. Более того, если требовали срочные обстоятельства, за Белопольской посылался и таксомотор.
Однажды около полудня служанка доложила: Ксению Николаевну возле дома ожидает господин. Ксения задрожала: первая мысль ее была почему-то о братьях.
— Венделовский Альберт Николаевич, настоятельно просит принять его, — добавила служанка.
— Передайте господину, я выхожу, — сказала она.
Фамилия показалась Ксении знакомой, и, выглянув из окна дома, она тотчас узнала: этот Альберт Николаевич имел какое-то отношение к Врангелю и был представлен ей недавно — то ли на «русском оперном сезоне», то ли в балете, а скорей всего во время проведения светской лотереи. «Зачем, интересно, я ему понадобилась?» — подумала Ксения. Почему-то взволнованно окинула одним взглядом себя в зеркале, достала из сумки, легко коснулась пуховкой лба, носа, подбородка. И удивилась своей нервозности: можно подумать, встреча эта имеет для нее какое-то значение. Она, не торопясь, вышла на крыльцо.
— Я к вам, Ксения Николаевна. Дело безотлагательное, а я вынужден уехать в Берлин.
— Что же вам угодно? — против воли вспыхнув, спросила Ксения.
Она была удивительно хороша, и он залюбовался ею, задержавшись с ответом.
— Что же это за дело? — нетерпеливо повторила она.
Венделовский, сразу узнанный ею, выглядел сегодня не так, как при знакомстве. Он показался ей выше и прямее, подтянутый, в хорошо сшитом сером костюме, подходящем к его темному лицу и светлым глазам. Ксения, посмотрев на него с внезапно возникшим доверием, сказала, чтобы ободрить гостя:
— Значит, чужое поручение? А кто вы?
— Я? Хороший человек.
— Хороший человек — не профессия. А профессия?
— О ней чуть позже. Я хорошо знал вашего дядю, генерала фон Перлофа.
— Это не профессия. К тому же дядя мертв.
— Я выполняю его просьбу. Он хотел, чтобы я нашел вас и мы увиделись.
— Не спрашиваю зачем. Но вы не торопились: мы ведь встречались?
— Увы. Если признаться, всегда держал вас, насколько это представлялось возможным, в поле зрения.
— Теперь что-то изменилось и вы пришли?
— Совершенно верно, Ксения Николаевна. Теперь я выполняю поручение и другого известного вам человека.
— Кто же? Вы меня совсем заинтриговали, Альберт Николаевич. И я начинаю бояться вас.
— И совершенно напрасно. Не беспокойтесь! — сказал он горячо. — Я никогда ничем не обижу вас. Я обещал это другу вашего детства.
— Иван?! — обрадованно вырвалось у нее. — Он ведь был в Париже, я его видела. Где он?
— Он сразу уехал, Ксения Николаевна. Он просил меня передать вам этот сверточек и немного денег — все, что смог.
Ксения развернула обертку, раскрыла коробку. На красном бархате лежали хорошо знакомые ей с детских лет массивные серебряные часы с цепочкой и брелоками.
— Это все, что осталось после смерти Вадима Николаевича. Он был патриотом России. Вы можете им гордиться.
— И всегда гордилась. Какое счастье, что у меня останется память от него! Благодарю вас! — не сдержавшись, она внезапно поцеловала Венделовского в щеку. И оба смутились окончательно. Каждый, по-своему переживая случившееся, старался показать, что, собственно, ничего и не произошло — просто жест искренней благодарности, не больше.
— Что же мы стоим здесь, Альберт Николаевич? К сожалению, не могу пригласить вас к себе. Приглашаю в кафе — тут, рядом.
— Если это для вас не хлопотно, я с удовольствием. И вы расскажете мне о себе, хорошо?
— Не знаю, что и рассказывать. Пусть вас не вводит в заблуждение шикарный дом, где я живу.
— Я все знаю, — сказал он.
— Ох, что-то все вы знаете! — она взяла его под руку и повела по улице.
Они зашли в кафе. Официантка принесла поднос с кофейником, молочником, джемом, лимоном и двумя рюмками коньяка. Он невольно любовался каждым движением Ксении — точно рассчитанным, ловким и в то же время удивительно изящным!
— Вы — опасный человек, — продолжала Ксения. — Ваши таинственные исчезновения и появления, связи, знакомства. Я должна подумать, оценить все. Лучше вы рассказывайте о себе. Только правду! Иначе станем пить кофе молча. Столько вранья кругом. Все только и делают, что обманывают друг друга. Иногда без всякого повода и нужды, так просто. Вы, конечно, офицер? Я ничуть не удивлюсь, если сейчас окажется, что вы служили с кем-то из моих братьев.
— К сожалению, я не офицер и не имел чести служить с вашими братьями.
— Да, а вот вам лимон и джем. Клубничный! Его обожает княгиня Вера. А вы любите?
— Очень. Он пахнет детством.
— Итак? — очень серьезно сказала Ксения. — Я жду. Будете рассказывать?
— Обязательно. Правду и только правду — о том, на что имею право.
— Как это понять?
— Правда, связанная лишь с моей жизнью и не могущая повредить другим.
— Я не очень понимаю вас, таинственный незнакомец, но продолжайте: пусть сегодня все будет, как у Дюма или Майн Рида.
— Пусть будет как у Дюма, — покорно согласился он. — Разрешите выпить за ваше здоровье?
— Разрешаю. И одновременно за ваше.
Они чокнулись, глядя друг другу в глаза.
— Дорогой Альберт Николаевич, дорогой Альберт Николаевич. Теперь нам остается выпить еще и за то, что вы снимете, наконец, свою опереточную маску.
— А вы злая.
— Что поделаешь — жизнь такая, господин Венделовский.
— Да-c... Ну, так слушайте, Ксения Николаевна. Я понимаю, заставлять вас гневаться — опасно, — и он начал говорить о своем детстве на Васильевском острове, об отце — известном докторе, о начале дипломатической карьеры, оборванной революцией и арестом ЧК в Киеве, когда он пробирался на юг, чтобы отдать себя на службу Добровольческой армии. Его быстро выпустили: обличительных материалов против него не имелось, к тому же, по случайности, комиссар оказался петербуржцем и знал профессора Венделовского. Его освободили, взяв подписку не воевать против Советов. Он оказался один, без денег — даже часы и перстень при аресте пропали, — в чуждом городе. И тут вспомнил, что один из его друзей и коллег по министерству иностранных дел, некто Петр Куракин, удравший из Петрограда еще в начале марта, — киевлянин. Найти кого-либо из семейства графа Куракина оказалось делом простым. Он был обласкан матерью Петра Татьяной Георгиевной (Петр, избежавший большевистского ареста, к тому времени служил в Одессе, был связан с французской миссией) и, получив рекомендательное письмо к генералу Врангелю, счастливо добрался до Севастополя, где милостиво был принят самим главнокомандующим, ибо, как оказалось, приходился двоюродным братом графине Куракиной. Такое везение случается лишь раз в жизни!
— Вы счастливый человек, Венделовский, — заметила Ксения. — И чем же вы занимались при Врангеле, если знаете и фон Перлофа, и Климовича, и, поди, самого ротмистра Издетского?
— Отлично знаю — жандарм и гнусный тип. Дело в том, что главнокомандующему угодно было пустить меня в дело по дипломатической линии. Видимо, Климович негласно проверял меня. Это естественно, ведь я был допущен к секретным документам русской армии. Меня сделали дипломатическим курьером Врангеля, Ксения Николаевна. И приставили на какое-то время Издетского — явно для слежки. А почему он вас интересует?
— Он меня совершенно не интересует, — на ее лице промелькнуло и тут же исчезло брезгливое выражение. — А что же вы теперь, Венделовский, после отъезда командующего? — спросила она с явной издевкой.
— Он завещал меня генералу Кутепову, — невесело пошутил Альберт Николаевич.
— В качестве? — напористо спросила Ксения.
— Нечто вроде дипломатического агента, советника — называйте как хотите.
— А Иван? Откуда сие знакомство?
— О, это долгая история. И опять весьма «тайная». Я взял от него часы вашего деда лишь потому, что он, упросив меня, поклялся: вам можно вполне довериться. Вы будете молчать. Давайте считать, никакого Ивана не было. Согласны? Я спокоен?
— И не нужно ни клятв, ни слов? — Ксения посмотрела серьезно. Даже с обидой.
— Не нужно.
— Благодарю за доверие. А о вас разрешается помнить? Или вы исчезнете так же таинственно, как и появились, граф Монте-Кристо?
Венделовский посерьезнел. Он выпрямился, сказал нарочито просто и спокойно, точно прочел чужие слова, текст из книги или отрывок из газетной информации:
— В нашем мире сегодня так легко потеряться, Ксения Николаевна. И столько людей уже потерялось. Но я уверен и даю в том слово: я не дам вам исчезнуть. Уверен, не дам.
— Но почему так торжественно? А если я захочу?
— У вас не будет нужды хотеть.
— Откуда я знаю? Не терплю обязательств. Ну — не знаю! Вы что, влюбились в меня?
— Простите, нет. Хотя вы — очаровательная, милая, обаятельная, покоряющая. У меня слов не хватает.
— Тогда в чем же дело? — в ее голосе прозвучало нетерпение. — Все кутеповцы стали бескорыстными рыцарями?
— Дело в том, Ксения Николаевна, что не терять вас из виду я обещал Ивану. Я не стану навязчивым. И, умоляю, не пытайте меня больше. Ни о чем, Ксения Николаевна.
— Вы не так поняли — о навязчивости, мой рыцарь... Ну да ладно! Вы сказали, что уезжаете в Берлин? И дальше? Надолго? В чем же выразится ваша забота? Впрочем — все! Кончим эту тему. Все! Пейте кофе, пожалуйста. Я долью вам горячего? И будем говорить обо всем и понемногу, согласны?
— С большой радостью, — ответил Венделовский.
— Я почему-то доверяю вам.
— Я оправдаю ваше доверие, — сказал он серьезно и ободряюще. — Располагайте мною.
— Говорите так, уезжая?
— Но я вернусь. Обязательно вернусь, Ксения Николаевна.
— Связана эта поездка с опасностью? Вы обещали только правду.
— Любая поездка теперь связана бог знает с чем...
2
Княгиня Вера Кирилловна Мещерская, в свое время принадлежавшая к высшим аристократическим кругам Петербурга и хорошо знавшая все его тайные пружины (как она говорила), сохранила необыкновенную для своих лет остроту ума. Умела сразу разгадывать человеческие характеры, хорошо понимала, кто чего стоит. Княгиня первая заметила: обстановка в доме изменилась. Ксения, казалось, пылает от ярости. Ни на грош выдержки. Метнет взгляд — выстрелит. Язык — как бритва. Что на уме, то на языке. А американка? Ничему она ее не научила. Таких никто и ничто не научит. Никогда! Но ведь разве возможно забывать другое? Дом и условия, в которых они живут, деньги, прислуга, еда — и все без счета, без мелочной проверки. Эта Пенджет была истинным кладом, посланным ей богом! Что она требовала взамен? Ничего. Даже благодарности. Ничего ей не нужно. Одно удивляло княгиню Веру: отношения Доротеи с ее отцом. Судя по всему, они отличались определенной сложностью. Отправил дочку за океан и точно отрезал: ни письма, ни телеграммы за все время. Только деньги ежемесячно, аккуратно, и не по почте, а с нарочным. Первого числа, ровно в десять утра, появлялся немолодой, коротконогий и большеголовый коренастый человек в черном (независимо от сезона) и вручал мисс Пенджет чек на парижский банк. Согласно инструкция, только Доротее. Если ее не было или она спала, вернувшись под утро и запретив будить себя, пока сама не встанет, черный человек безмолвно уходил, чтобы появиться снова в то же время завтра. Без малейшего неудовольствия, протеста. Даже выражение его тупого лица не менялось.
Случалось, ему приходилось заходить и дважды, и трижды. И всегда он был корректен, скрытен и молчалив.
Однажды, воспользовавшись благоприятным, как ей показалось, вечером (усталая американка решила отдохнуть и не выходить больше из дому), Вера Кирилловна за самоваром, у которого хлопотала сама, отослав служанку, как бы между прочим поинтересовалась, не собирается ли мистер Пенджет приехать в Париж, чтобы воочию убедиться, что его дочь...
Нехорошо выругавшись по-русски (вот она, Ксенина учеба!), Доротея ответила, что посмей он только переступить порог этого дома, она сама спустит его с лестницы головой вниз, дав хорошего пинка в зад острым каблуком. Запретная тема осталась закрытой. Никогда не возникал подобный разговор у Доротеи и с Ксенией, которая, отвечая как-то на вопрос княгини Веры, лишь зло усмехнулась: «Никак нам не избавиться от исконно русского любопытства. Когда только мы разучимся совать нос в чужие дела?..»
Было лишь одно обстоятельство, которое заставляло Веру Кирилловну терпеть подобные порядки (вернее — непорядки!) в доме, где она жила и которым как бы руководила. Это — обещание Доротея, повторенное дважды, отблагодарить «свою русскую тетушку», купив ей жилье. Ради этого жилья княгиня Вера не просто ждать — готова была все терпеть от сумасбродной американки и от не менее сумасбродной соотечественницы, которой требовалась крепкая узда. Вот два дня назад опять они поссорились (по какой причине не сказала ни одна). Целый час Вера Кирилловна, становясь то императрицей Екатериной, то «Пиковой дамой», терпеливо внушала Ксении: потерпи, потерпи и не только ради себя, но и ради ближних своих, — решается важный вопрос для всех. «Вы представляете, Ксения, о чем речь? Мы можем стать обладателями собственного жилья. Одно это удлинит нам жизнь с этой богом проклятой Франции! Заклинаю всем святым: терпите! Эта Пенджет уже поговаривает о возвращении в Штаты. Если она не захочет выполнить обещание, мы останемся на бобах. Подумайте! Трижды, четырежды подумайте, прежде чем отвечать ей. А лучше — промолчите, сотвори молитву».
После этого разговора княгиня Вера с американкой все светлое время пропадали где-то — разъезжали по городу в такси, — смотрели, видно, продающиеся квартиры. Княгиня Вера возвращалась усталая, злая. Уходила к себе в комнату, куда ей приносили еду, никого не принимала. Ксении, поинтересовавшейся, что происходит, ответила сердито: «Американочка наша — экономистка. Закружила меня совсем. Торгуется, словно чухонка за два фунта масла. Ей — интересно, должно быть, а мне, в годах-то, каково на вонючих моторных колясках по окраинам раскатывать?» — «Могу я помочь вам?» — «Ты?! — «Пиковая дама» тут же превратилась в императрицу и сказала с пренебрежением: — Да пошли я вас одних, покалечили б одна другую сразу. Нет уж, это мой крест. Мне и нести. Дай господь силы вытерпеть».
Еще несколько дней по дому ходило словечко «Буа» или «де Буа», передаваемое встревоженной прислугой, всегда знающей больше хозяев и уже осведомленной, вероятно, о скором отъезде общей благодетельницы. События разворачивались все быстрей и быстрей.
Подарок Вере Кирилловне был, наконец, почти куплен. Предстояли последние смотрины. Старая княгиня уговорила мисс Пенджет ехать на извозчике. Так хоть и медленней, но верней. Не трясет, и голова не кружится от бензина. В назначенный час к особняку была подана четырехместная карета, так называемый отельный омнибус, запряженный двумя каурыми жеребцами. Весьма странное сооружение на больших колесах с открытым высоким сиденьем для возчика, с двумя фонарями по бокам, большими, опускающими окнами, дверцей и ступеньками сзади. На хороших рессорах, с мягкими сиденьями, обитыми кожей, омнибус, достаточно удобный и, можно сказать, комфортабельный, в городе, среди автомобилей, идущих потоком по центральным улицам, казался пришельцем из прошлого века. Лошади уже совсем уступили Париж машинам. Время летело! Прогресс — ничего не поделаешь, во всем прогресс!
В путь отправились вчетвером: княгиня Вера, Доротея, Ксения и служанка, у которой в плетеной корзинке было полно еды: путь хоть и не слишком длинный, но и не очень скорый, а на свежем воздухе перекусить ох как захочется.
Поздний осенний день выдался вдруг солнечным, теплым и почти безветренным. И как только омнибус миновал пригородный фабричный квартал, замелькали сады и огороды, сельские постройки. Пассажиры, опустившие окна, сразу почувствовали свежесть и чистоту воздуха, несущего уже совершенно иные запахи. Ветры с полей пахли землей, сухой травой, дымком жилья, навозом, пьянящими запахами жухлых листьев, жестко шуршащих под копытами коней.
Ксения измучилась: ей казалось, они едут уже чуть не целый день. Княгиня Вера, как всегда величественно-спокойная, молчала: путь к новому месту жительства был ей уже знаком. Американке нравилась ее роль дарительницы и патронессы. В ее голове один за другим рождались фантастические планы организации в местечке Сен Женевьев де Буа колония русских поселенцев наподобие тех, что строили первые американцы — с просторным салуном, каким-нибудь отелем на десяток комнат, крепкими постройками, магазинами, молельным домом.
— Эко хватила, милая барышня, — осадила ее в конце концов старуха. — Целый городишко, не хуже чем на острове Буяне, что Пушкин описал, придумала.
— Значит, решена покупка? — спросила ее Ксения.
Доротея радостно закивала: йес, йес!
— Жизнь нас практическими людьми делает, — невесело усмехнулась старая княгиня. — Будет и отель, и церковь — посмотришь. Крышу починят — вот тебе и Царское Село. А насчет русской колонии наша благодетельница, пожалуй, правильно сказала. В этом Буа хоть полк размещай...
На тридцать втором километре от Парижа, в местечке Сен Женевьев де Буа, в вековом парке и располагалась громадная усадьба, принадлежавшая в свое время одному из наполеоновских маршалов: запущенный дом с флигелями и подсобными помещениями для всевозможных служб, сад, два полу развалившихся домика наподобие охотничьих беседок в парке.
— И это для нас? Для двоих? — вырвалось у Ксении.
— Прошу, княжна, — строго осадила ее Мещерская. — Воспринимайте все молча, пожалуйста...
Карету встретили два пожилых господина, учтиво помогли дамам выйти. Повели осматривать хозяйство. Княгиня Вера хотела ознакомиться со всем сразу.
Американка ее торопила. Ксении чувствовала, как меняется у Доротеи настроение, вот-вот уедет. Она шепнула об этом Вере Кирилловне, но та рукой махнула в сердцах и ответила, что сегодня Доротее не удастся удрать.
Вскоре сделка состоялась, необходимые бумаги выправлены. Мисс Доротея Пенджет без сожаления выписала чек. Бывшие хозяева брали на себя ремонт гостиной и жилых помещений. Старая княгиня становилась владелицей имения.
— Я не представляю, как мы станем жить в этом замке, — сказала Ксения на обратном пути. — Одни, точно в лесу. Женщины... Я боюсь. Может, там и призраки наполеоновцев по ночам бродят.
— Не бойся, Ксенюшка, — старая княгиня после свершения покупки оживилась и даже взволновалась заметно. Красные пятна, выступившие на ее щеках и шее, не проходили. — Не останемся мы одни. На правах хозяйки я хоть десять своих родственников здесь поселю.
— Ваши знакомые! Родные! — возликовала вдруг американка. — О-о-о! Имею прекрасную идею. Мы устраиваем… как это по-русски? Один праздничный праздник и обед. Мы приглашаем не десяток ваших родных — нет, пять десятков, да! И пьем честь хозяйки нового Русского дома! Олл райт! Все будет очень замечательно! Все будут очень счастливо радоваться, кушать и смеяться.
— Да где ж там праздновать, неуемная твоя душа? И когда, если французы только-только за ремонт возьмутся?
— У вас нет проблем! У меня проблем нет! Все делают деньги! — она похлопала о ладонь чековой книжкой.
Американка, которой уже изрядно надоел Париж и все предоставляемые им развлечения, которая соскучилась в безделье, не зная, куда приложить свою энергию, со страстью принялась за подготовку задуманного ею банкета «для русских аристократических кругов». Какая-то посредническая контора согласилась со всеми ее сумасбродными идеями. Напрокат была взята и привезена в неотремонтированную гостиную необходимая мебель, посуда, столовое белье. Проведено дополнительное электрическое освещение, повешена огромная бронзовая с хрусталем люстра. Нанятые рабочие спешно приводили в порядок окна и двери, закрывали потрескавшиеся стены материей под старинные штофные обои, мыли окна, чистили, скребли, чуть не вылизывали пол. Печники возрождали к жизни кухню, не действующую, может, со времен Наполеона.
Все это являло собой странное зрелище: посреди общего хаоса и запустения в спешном порядке рождался оазис, отделанный с «шиком» на один день. Оживленная Доротея Пенджет носилась в такси между Парижем и усадьбой. Княгине Вере предстояло составить список приглашенных «из знатнейших русских семей», Белопольской — проследить за изготовлением и рассылкой специальных приглашений. Все делалось с отчаянной быстротой, размахом, широтой. Омнибус привез из Парижа поваров и лакеев. Следом во двор въехал грузовик, нагруженный всевозможной снедью, фруктами и винами. Был ярко освещен подъезд. Таксомоторы стали подвозить гостей. И грянул бал!..
Гостей Русского дома[58] (название это с легкой руки мисс Доротеи прочно привилось) встречали у входа в гостиную, как полагается, хозяева — княгиня Мещерская и княжна Белопольская.
Лестница, ведущая на второй этаж, была не слишком широка, и свежая краска во многих местах еще не успела просохнуть. Ксения отодвинулась чуть в сторону, и с каждой новой группой сановных стариков и старух росла ее неприязнь. Уж больно жалкий и одновременно смешной вид оказался у этих представителей бывших высших сфер. Столько лет прошло, а они все такие, как в Константинополе: изрядно потрепанные генеральские и сенаторские мундиры, плохо выбритые физиономии и пергаментно-желтые декольтированные плечи, обрюзгшие лица, беззубые рты — все это представляло картину жуткую. «Словно мертвецы на шабаш съехались, — подумалось Ксении. — Сколько их, и все одинаковые». Позднее появились, правда, человек пять-шесть во фраках с белыми сверкающими пластронами, приехавшие на своих автомобилях. Эти держались уверенно, отдельной группой, стараясь не смешиваться с толпой, сгрудившейся вокруг огромного сверкающего стола, от которого взгляд оторвать было невозможно.
Собрались все приглашенные. Задерживалась лишь та, что устроила все это. Садиться за стол без Доротеи Пенджет Вера Кирилловна считала неудобным, неэтичным. Гости нетерпеливо, точно по команде, пришли в движение, поток закрутился слева направо. Знакомые приветствовали друг друга, одни с преувеличенной радостью целовались, другие раскланивались, третьи лишь небрежно кивали. До Ксении долетали обрывки разговоров:
— ...Российская закваска — дело первейшее, нет силы из нас ее вытравить...
— Здесь и праздник не в праздник. Капустой и огурчиками не пахнет, колокольни не звонят, и православных с покаянными лицами не встретишь...
— Посмотри на того валета,ma chere! Фрак надел, перстни на каждом пальце. В Москве я его дальше прихожей не пускала.
— Говорят, в Симферополе наворовался, склады сумел вывезти.
— ...Слышала, Опричнин богу свою грешную душу отдал?
— Следовательно, вакансия тверского губернатора освободилась! Надо к управляющему...
— Собственной его величества канцелярией? Уже, ваше сиятельство, первые шаги я уже предпринял, жду ответа...
Спорят, горячатся три старушки — маленькие, худенькие, с личиками как у обезьянок, очень похожие друг на друга:
— Нет, сударыня, уж позвольте. Мне полагается поближе вашего к хозяйке сидеть. Мой муж в губернаторах верой и правдой царю служил.
— Это как кто посмотрит, государыня моя. Мой-то, царство ему небесное, производства в генерал-лейтенанты еще в Великую войну удостоился.
— А мой и не упомню...
— Да у вас и мужа не было!
— Как вы смеете! — гневно трясет кулачком оскорбленная старушка. — Я — родственница хозяйки по мужниной линия. Убедитесь: меня рядом посадят!..
Наконец появилась и мисс Доротея Пенджет — в умопомрачительном вечернем платье, подчеркивающем худобу и все несовершенства ее фигуры, украшенная бриллиантами, как рождественская елка блестками. Протиснувшись через толпу, она уселась во главе стола, стоящего «покоем», сделала знак Вере Кирилловне: можно-де всем садиться. Старая княгиня чуть дрожащим от торжественности, напряженным голосом объявила, что просит дорогих гостей откушать того, что бог послал. Приглашенные, изо всех сил стараясь сохранять достоинство и тем не менее незаметно толкаясь, суетясь и нервничая, ринулись занимать места, норовя оказаться как можно ближе к Мещерской и ее окружению. Упал стул. Кто-то не то вскрикнул, не то всхлипнул. Бухнул, точно выстрелил, разбитый фужер... Наконец все расселись. Первый тост — в память государя императора Николая II — провозгласил невысокого роста, важный генерал-лейтенант. Второй — за членов дома Романовых — он же. Третий — за благороднейшую дарительницу усадьбы, которая станет истинно Русским домом, мисс Пенджет — поднял под общие аплодисменты старичок в потертом мундире камергера, с большой головой на тонкой шее, похожий на одуванчик; он сидел по левую руку от княгини Веры. За «императора» Кирилла I не пили: за столом собрались, по-видимому, одни «николаевцы».
Скоро аристократическое застолье приняло вид обыкновенного благотворительного обеда, к которым уже привыкли. Общество разделилось на группы и группки. Повсюду произносились тосты и чокались. Где-то целовались и плакали о прошлой жизни, где-то ссорились. Вдоль стола ходили первые захмелевшие, назойливо приставали к сидящим со своими просьбами и обидами.
Ксения смотрела на происходящее с чувством усиливающегося омерзения. Эти вчерашние люди, собранные тут, эти суетящиеся мертвецы...
Незаметно для всех исчезла Доротея. Ушла к «себе», в еще не отремонтированную комнату, Ксения. Кроме продавленной софы и двух венских стульев здесь ничего не было. Болела голова. Присев на край запачканной мелом софы, она думала о том, что судьба вновь подготовила ей непростое испытание — если она согласится и останется здесь, среди этих омерзительных стариков и старух, замурует себя вдали от Парижа. Ксения подумала еще, что вполне могла бы добраться от Сен Женевьева до площади Данфер-Рошро на рейсовом автобусе: не ночевать же ей среди этого хаоса, не ждать, пока окончится прием и этих сумасшедших стариков и старух начнут отвозить в Париж? Вспомнив эвакуацию и Константинополь, она невесело усмехнулась, — до чего же человек стал быстро приспосабливающимся животным, безразличным к среде своего обитания. Ксения незаметно оделась н, стараясь не привлекать к себе внимания, вышла на улицу. Так было ознаменовано ею торжественное открытие Русского дома.
3
Словно по уговору, друзья Ксении никогда не вели политических споров в ее присутствии и не давали ей возможности вовлечь в них себя. А тут их обоих точно прорвало — когда она рассказала о Русском доме. Разговор пошел о политических метаморфозах русских эмигрантов — от предреволюционных лет и по сей день, от монархизма к «левой» группе кадетов и снова к черносотенному монархизму и даже фашизму — пути, пройденному за весьма короткий срок. Они сходились на том, что делалось это по мотивам скорей всего шкурническим, из-за того, что привыкли монархисты российские всегда находиться в центре так называемой «общественной жизни и борьбы» — дискутировать, составлять партийные программы, выступать с трибун, громя противников логикой своих доводов, стараясь навсегда закрепить за собой право сокрушать любого инакомыслящего.
Анохин и Грибовский, как оказалось, были большими политическими спорщиками. И с чего бы они ни начинали разговор, все крутилось вокруг фигуры некоего среднего человека, эмигранта, который независимо от положения, от того, был он военным или статским в прошлом, являл собой теперь как бы рядового эмигрантской армии, обладающего рядом обязательных черт. Каким же он стал, русский эмигрант, дитя трех эмиграций времен гражданской войны? Во-первых, он никем не стал и мало изменился — и внутренне, и внешне, — на этом решительно сходились Анохин и Грибовский. Он оставался в массе своей однороден, хотя бывали и исключения. Часть откалывалась, решительно рвала со своими соплеменниками. Другая как бы поднималась над ними. Тут были знаменитые артисты, художники, литературы, учителя, врачи, талантливые ученые и инженеры, которых стремились заполучить крупнейшие фирмы Европы и Америки. Их оказалось не так много — таковы условия эмиграции; подлинные таланты умерли в безвестности, но некоторые оставили заметный след и в мировой науке.
— Разрешите-с узнать фамилии? — спрашивал Грибовский с нескрываемой издевкой. — Тех, что в мировой науке.
— Извольте, — начинал сердиться Анохин. — Механик, теоретик и практик — Тимошенко; химик Титов; астроном Стойко; физик Зворыкин; зоолог Давыдов, археолог Ростовцев — вот!.. Вы, конечно, знаете о гигантском пароходе «Нормандия»? Корпус его проектировали русские инженеры Юркевич и Петров, дизеля созданы по проектам профессора Аршаулова, винты — по системе Хоркевича, вот!.. И еще! Я уж не стану говорить об Алехине, Протазанове, геологе Андрусове. Это лишь те, кого я сейчас вспомнил.
— Единицы, — спокойно возражал Анатолий. — Их можно перечислить по пальцам.
— Сотни! Многие сотни! — горячился Лев. — А тысячи, преодолев трудности и угрозы, возвращаются на родину.
— Из двухмиллионной эмигрантской толпы выкристаллизовывается особый индивидуум, живущий только по своим законам, исповедующий свои понятия о чести, доблести, суждения о той миссии, которую призвана дать одряхлевшей Европе его молодая беженская сила. Кровь молодых российских изгнанников, прошедших огонь, воду и медные трубы. Лучших представителей прежней России, которые с револьверами в руках стреляют в большевиков где только могут.
— Так что это за тип, по-вашему?! Формулируйте дальше.
— Извольте, — соглашался Грибовский. — Надеюсь дать добавочную характеристику. Прежде всего отмечаю полную неспособность к ассимиляции. Расшифровывается так: «Я никому не нужен, да? И вы мне не нужны». Принимается характеристика в целом?
— Принимается, — Анохин машинально водил карандашом по листу бумаги — получался автошарж, очень похожий и смешной; вместо кудрей — горелка от примуса. — Дальше, Анатоль. Я внимаю со всей серьезностью и обдумываю возражения.
— Итак. «Я» — фигура значительная. И по происхождению, и по судьбе, если всегда помнить прошлое и мыслить только его категориями. «Меня» распирает сложность собственной персоны. Кидает то в иллюзорные мечтания, то — без переходов! — в реальную депрессию. Привычка посещать церковь — это не мистицизм. Она помогает очиститься от скверны, помогает всем окружающим считать «меня» за доброго, праведного христианина. Что немаловажно при общей концепции личности.
— Концепция требует дискуссии.
— Не говори красиво, друг Лев. Делай скидку на аудиторию. Я ведь тупой.
— Себя к таковым не причисляю.
— И напрасно. Лично я — полный идиот.
— В таком случае, может быть, господин, именующий себя идиотом, что-то возразит? Это будет весьма интересно.
— Лишь об одном скажу. Упустил ты одно важное обстоятельство, характеризующее нашего формирующегося господина. Наш герой встречается в двух ипостасях. Одна его разновидность кичится надпартийностью. Он над схваткой. Он не ждет, чем кончится мышиная возня здесь. Его интересует лишь реставрация законной власти в России, на основе которой он и построит свою власть.
— Первая добавка к характеристике героя принимается, — в тон Грибовскому серьезно сказал Анохин. — Выясним, все, касаемое второй разновидности.
— Вторых большинство. Они серьезно заняты игрой в партийные распри. При этом настолько заигрались, столько претерпели метаморфоз, разделений, размежеваний и слияний, что забыли, «кто есть кто», кто с кем блокируется, кто против кого борется. Связи и противоречия настолько тонки, что порой с трудом поддаются классификации. В этой партийной сумятице, в этом мутном болоте, хорошо выводятся и начинающие фашисты.
В этот миг вошла Ксения. Приятели сразу же замолчали.
— Простите, у вас была раскрыта дверь и вы так кричали. Я слышала конец разговора. Продолжайте, я не помешаю, надеюсь.
— А у вас есть что добавить? — спросил Грибовский недовольно. — Вы с кем? С ним? Со мной?
— Прежде всего — я сама по себе, — ответила Ксения с вызовом.
— Собственно, мы и не кричали, — добавил мирно Анохин. — Как истые дарвинисты, мы занимались классификацией эмиграции.
— И ее эволюцией. Вы признаете ее эволюцию? — Грибовский галантно подал Белопольской стул. Он всегда делал это раньше Анохина. — Но!.. Можете не отвечать, если не хочется.
— В качестве эволюциониста могу предложить вам лишь моего отца, господа. Вы знаете его путь. Я нисколько не удивлюсь, если услышу, что князь Белопольский свободно и легко, став завтра другом, скажем, Бискупского, придет вместе с ним к фашистам.
— Ваш пример не исключение, — сказал Грибовский с торжеством. — Он подтверждает правило. Не сбегать ли нам в бистро: погода мерзейшая! Там и поговорим полчасика. Обстановка вполне располагает к философии.
— Как Ксения Николаевна, — неопределенно сказал Анохин, у которого, конечно, не было и су.
— Я — как солдат, отпущенный на два часа.
— Ну и отлично. Идем!..
Они сидели в бистро, в дальнем полупустом углу. Народу в этот рабочий час было еще немного и только возле «цинка» толпились забежавшие пропустить стаканчик. Дождь то переходил в мокрый мелкий снег, то усиливался, становился сплошной дождевой стеной. Посетители, чертыхаясь, стряхивали мокрые пальто, куртки и кепки, кляня «чертову зиму», начавшуюся беспрестанными ливнями и изрядно уже всем надоевшую.
— А мне до смерти надоела американка. Я не выдерживаю, друзья. Убить ее? Не хватает решимости. Убить себя?.. Или искать другую работу — идти хоть в судомойки?
— Не теряйте своего реноме, Ксения, — Грибовский улыбнулся одобряюще. — И моего. Поскольку я протежирую вам.
— Он прав, пожалуй, — добавил Анохин.
— Дайте время... Да найду я вам что-нибудь, — дружески пожал ей ладонь Анатолий. И не удержался, чтоб не сострить: — Разве мне впервой... Знаете, мы совершенно не принимали в расчет удачный брак. Разрешите, Ксения, я выдам вас замуж? Нынче очень модным стало жениться на русских. Начали, как всегда, эту моду великие люди — писатели, художники. Теперь — общее явление. Так как этот вариант?
Ксения промолчала.
— Я должен уточнить, Толя, — решительно вступил Лев, чувствуя, что поворот разговора неприятен Ксении и пора «отводить удар», приходить к ней на выручку: — Ты говоришь, жениться. Точнее сказать: выходить замуж. Наши мужики тоже пошли нарасхват. Вспомните историю трех братьев Мдивани, нашедших выгодные партии. Где? Среди звезд Голливуда! Или того кавалергардского офицера, который увлек принцессу Бонапарт. Забыл его фамилию, черт бы меня побрал!
— Его фамилия тщательно скрывалась. Поэтому и забыл.
— Если найдете приличного принца чистых королевских кровей — я, пожалуй, соглашусь, — сказала Ксения бесшабашно. — Но свободные принцы остались только в сказках.
— Это как сказать! — Анатолий вздрогнул, точно встрепенулся, глаза хитро блеснули. За этим обязательно следовала какая-нибудь находка: анекдот, история, сенсация. — Вам что-нибудь говорит фамилия Зубов, Александр Зубов?
— Что-то я читал, — неуверенно ответил Лев.
— Впервые слышу, — сказала Ксения.
— Ну, так слушайте внимательно, жалкие вы, оторвавшиеся от жизни люди! И запоминайте...
— А-а, да, вспоминаю!
— Теперь уж помолчи, Лев, опоздал! Живописную все в подробностях, как Немирович-Данченко... Итак, в одном из берлинских дансингов прозябает двадцатилетний Саша Зубов, рядовой танцор, бедный и ничем не выделяющийся из прочих. Внезапно образ жизни его кардинальном меняется. Абсолютно и во всем! Шикарно одетый Зубов появляется в модных ресторанах, сорит деньгами, посещает игорные притоны, где делает крупные ставки и, как правило, проигрывает, что, впрочем, не производит на него никакого впечатления. Новоявленным русским богачом заинтересовывается берлинская полиция. Кто он? Может, грабитель, убийца? На допросе в полиции милейший Саша без тени смущения называет себя... женихом принцессы Виктории Шаумберг-Липпе. Она, мол, и заботилась о том, чтобы жених представительницы столь знатного рода был прилично одет, находился при деньгах и вел соответствующую его положению жизнь. Проверив все, полиция отпускает танцора.
— А кто эта принцесса Виктория Липпе?
— Это шестидесятитрехлетняя сестра экс-кайзера Вильгельма. Во!
— О-о-о-о... — разом потрясенно вздохнули слушателя.
— Вот так, — Грибовский сделал паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. — Любовь, ничего не поделаешь, господа. Ей все возрасты покорны, как сказал поэт. Принцесса Липпе жила в Бонне и всегда отличалась эксцентричностью. Правда, ее последняя любовь несколько лет содержалась в тайне. Потом экстравагантная Виктория объявила о своем твердом желании выйти замуж. В доме Гогенцоллернов, понятно, паника. Экс-кайзер Вильгельм грозит карами, но невеста непреклонна: подайте ей Сашу и никого больше! Приходится соглашаться. Почему — не знаю и врать не хочу. Кажется, чего проще: объявить сумасшедшей — и в психиатрическую клинику на год! Ну, не знаю... Итак, назначается уже и дата венчания в русской церкви в Висбадене. И вдруг выясняется: у милого танцора в Париже имеется любовница. Одетта-манекенщица, красавица, отнюдь не отличающаяся светскими манерами. Она — представьте себе! — предъявила даже письма своего возлюбленного, когда какой-то репортер нашел ее и прибежал покупать пикантные подробности для прессы.
— Очень интересно, — сказал без всякого интереса Анохин.
— И свадьба расстроилась? Занимательно, — сказала Ксения, не скрывая любопытства.
— Ничего подобного! Старушка оказалась неколебимой. «Я любима и люблю, — заявила она. — Я чувствую себя теперь так, как если б мне было двадцать пять лет».
— Почему именно двадцать пять? Не двадцать, не тридцать?
— Да кто это может понять?! Вечно ты со своей логикой ученого, Лев. А на принцесс твоя логика не распространяется, пойми, наконец.
— Понял! Волнующая история. У нее близок конец, надеюсь?
— Ну, Лев! Почему вы все время перебиваете? Может, дальше самое интересное.
— Больше ни слова, если вам угодно, Ксения Николаевна. Молчу.
— Нет уж, продолжайте. Я заинтригована.
— Спасибо, Ксения. Просто черт знает что! Наш тишайший Лев стал агрессивным... Зубов громогласно заявил, чтобы его и принцессу оставили в покое. Короче, муниципалитет Бонна брак зарегистрировал. Жених родных не имел. То есть, конечно, имел, но потерял где-то. Родные невесты — дом Гогенцоллернов — брак дружно игнорировали. И ни одного штрейкбрехера! Вильгельм Второй, правда, не удержался от свадебного подарка. Он презентовал любимой сестрице книгу «Революция сверху, переворот снизу», стоимостью в десять марок.
— Старик не лишен остроумия, — заметил Лев.
— Которого не хватает всей немецкой аристократии, — сказал Грибовский. — Во всяком случае, авторам только что вышедшей в Германии книжонки «Любовные приключения принцессы Виктории и Александра Зубова», глупой и пошлой. Супруги обратились к судебным властям с просьбой о наложении ареста на это сочинение.
— И что же?
— Я считаю, все. Дальше Саша активно начнет разорять свою престарелую супругу, а потом бросит ее. Но пока что, считайте, ему подфартило, как не многим молодым эмигрантам.
— Вот-вот на арене появятся вчерашние гимназисты, кадеты, девочки из благородных семейств — наше второе поколение. Каким станет оно? К кому примкнет, под какие знамена встанет? Вот что самое важное, — задумчиво сказал Анохин.
— Разве у них есть выбор? — спросила Ксения.
— Безусловно. Прежде всего в плане духовном. Они станут свободнее нас, раскованней. У них нет ни наших знамен, ни икон.
— Они уже лишены тех обязательств, которые вяжут нас по рукам и ногам. Ты, пожалуй, прав, Лев. А вот за кем они пойдут? Диапазон очень широк. От фашизма до коммунизма.
— Но если предположить, что они останутся вообще вне политики?
— Ты меня все более потрясаешь, Лев. Человек нигде не может остаться вне политики.
— Ты упрощаешь, Грибовский. Если наука, есть искусство. Масса сфер, где человек может быть абсолютно свободен.
— Чепуха! Вранье, обман!.. Я не верю! Свободный — это видимость. Он все равно кому-то служит. Работает на кого-то. Либо на тех, кто у власти, либо против них. Каждая стихотворная строка, пейзажик, небоскреб — все делает политику, все по заказу...
— Даже несуществующие руки Венеры?
— Представь себе! Да, и они!
— По-моему, это демагогия, Анатоль.
— Вот и вся логика твоих доказательств.
Приятели замолчали. Воцарилась пауза.
— Вы мне не нравитесь, господа, — сказала Ксения жестко. — Не обычный разговор — заседание российской Думы. Того и гляди, кулаками начнете махать. Я требую мира!
— Но он начал первый. «Демагогия, демагогия» — зачем же так. Точно на булавку наколол, чтоб, как бабочку, чтоб под стекло на стенку повесить.
— Ну, Лев... Я прошу — ты, точно, первый начал.
Оба сунули друг другу руки. Ну прямо как мальчишки.
— Давайте выпьем еще кофе, — предложила она, чтоб окончательно разрядить обстановку. — Пожалуйста, Анохин. Ну, пожалуйста. Не в службу, а в дружбу.
— Вы знаете, не могу отказать вам, Ксения Николаевна, — сказал Лев, поднимаясь.
— Ты забыл добавить «ни в чем», — подсказал Грибовский.
— Мог бы и сам сходить. Ничего бы не случилось, не рассохся бы.
— Тебе приказано, ты и ступай, — проводив его взглядом, Анатолий сказал внезапно: — Жаль мне его, Ксения.
— Жаль? Почему? — удивилась она.
— Влюблен он в вас — разве не видите?
— Не надо, Анатолий Иванович.
— Разве я не понимаю, что не надо.
— Лев — замечательный: умный, добрый. Он — ученый, и еще вернется в науку. Я и подметки его не стою!
— И никаких шансов?
— Спросите о чем-нибудь другом. Пожалуйста.
— Хорошо. А что ваша американка? Собирается уезжать? — он увидел Анохина с двумя чашками кофе и вовремя переменил тему разговора.
— У нее семь пятниц на неделе. Очередное увлечение задерживает. И ремонт де Буа идет ни шатко ни валко. А она хочет попозировать во время открытия Дома перед фотокамерами — меценатка!
— Но вы обещали мне, Ксения, нейтралитет к САСШ — как минимум. Скажите: обещаю.
— Обещаю — пока мы ищем мне работу, — грустно пошутила она.
Анохин молча поставил перед ними кофе.
— А себе? — спросил Грибовский.
— Не хочется, — ответил невинно Лев. — Столько уже выпил сегодня, сердце побаливает.
— Ох, Лев, Лев! Когда ты хоть врать научишься? — укорил приятеля Анатолий. — Скажи, денег нет — разве не поверим!
— Кредит кончился, — грустно сказал Анохин. — И должок имеется, — и спохватился, что при Ксении ему не следовало бы в этом признаваться. Смешно засуетился, взмахнул руками и вдруг начал кашлять — да так, что слезы на глазах выступили. Справившись с собой, закончил с уверенностью, тоже несколько подозрительной: — Завтра я получаю за перевод наконец. Расплатимся, станем богатыми. Не унывайте, друзья. И пейте свой кофе!
Посмотрев на часы, внезапно вскочил, стукнул себя по лбу и кинулся к выходу Грибовский, всем видом показывая, что опаздывает, что забыл нечто важное. Покровительственно похлопал по плечу толстяка, хозяйничающего за «цинком».
— В семь буду в редакции! — крикнул он с порога и исчез.
Резко звякнул дверной колокольчик...
Глава пятнадцатая. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
Три года — 1928, 1929 и 1930-й были наполнены событиями, чрезвычайно важными для русской эмиграции. Во всяком случае, для той ее части, что активно занималась политикой, ставила свою сегодняшнюю жизнь и свое будущее в зависимость от партий, группировок, от армии и РОВСа. Для тысяч русских, работающих на заводах, за рулем такси, строящих шоссейные дороги в горах, врачующих людей в далеких селениях, сидящих за студенческими скамьями и преподающих в институтах разных стран, эти годы и эти события большого значения не имели. Каждый продолжал делать свое дело. Ну, случилось. Ну, произошло...
1
В январе 1928 года болезнь захватила Врангеля. Он сдался и уступил просьбам домашних обратиться к медикам. Врачи единодушно поставили диагноз: грипп. Элементарная простуда — всего-то! Проболев около двух недель, Петр Николаевич почувствовал себя значительно лучше. Ему разрешили сначала только вставать; потом — ходить по дому. Пересилив себя, он раньше объявленного срока вышел на улицу. И вновь возобновил свои обычные утренние прогулки по Вандеркиндер к лесу Камбр и обратно — через авеню дю Лоншам.
Но этот маршрут оказался ему все же не по силам. Он уставал, едва добравшись до шоссе, идущего вдоль леса. Ноги наливались свинцом. Холодная испарина покрывала лицо, шею и даже спину. Врангель сократил путь, считая, однако, что через пять-шесть дней «расходится». Все это от растренированности, от слабины, на которую он никогда не давал себе права, а теперь позволил себе — и вот...
Домашние мгновенно заметили: Петр Николаевич быстро утомляется, похудел, лицо приняло землистый оттенок. Он дышит с хрипотцой и часто хочет полежать, хотя старается скрыть ото всех, даже от детей, свое состояние и бодрится сверх всяких сил. И только поспав несколько часов, он как будто восстанавливается немного и становится нарочито веселым.
Доктор Вейнерт, лечивший барона, настаивал на прежнем своем диагнозе — грипп, но, ввиду того, что обнаружились болезненные явления и со стороны кишечника, объявил: гриппозный процесс затронул, несомненно, и пищеварительный тракт, это осложняет лечение. Он не возражал против вызова консультанта из Парижа, профессора Алексинского, а затем и доктора Говертса, считавшегося отличным диагностом-фтизиатром. Они прибыли в самом начале апреля, когда болезнь уже задела левое легкое. Однако все трое сходились на мнении, что и это лишь новое неожиданное Проявление того же гриппозного процесса, все более захватывающего организм.
Правильный диагноз был установлен в середине месяца, когда анализ мокроты установил наличие туберкулезных палочек. Болезнь быстро прогрессировала. На дверях дома, на большом листе бумаги, появилась надпись: «Просят не звонить и не стучать в окна», — врачи требовали полного покоя, еще надеясь на природные силы крепкого организма. Вскоре выяснилось: туберкулезный процесс захватил все легкое, начинается наиболее тяжелая форма его — скоротечная чахотка, захватывающая и сжигающая все органы...
Газеты, как обычно, врали. Пятого апреля — по сообщению И. Алексинского: «...болезнь генерала Врангеля не вызывает никаких опасений. Около двух недель назад он заболел кишечной формой гриппа... Болезнь длительная и довольно мучительная, ибо генерал плохо переносит высокую температуру. Она держится около 39° и даже поднимается выше. Сердце у Врангеля совершенно здоровое, но он не привык хворать». На следующий день в бюллетене о состоянии здоровья бывшего главнокомандующего говорилось: «Состояние генерала Врангеля по-прежнему без перемен. Температура за последние дни понизилась, но все же положение остается серьезным». Двадцатого апреля — новый бюллетень: «Положение генерала Врангеля является угрожающим. Врачи неожиданно констатировали туберкулез в крайне тяжелой форме. Температура доходит до 40°...» За несколько дней до смерти обнаружились определенные явления со стороны мозга. Это свидетельствовало о том, что и мозговые оболочки уже затронуты туберкулезом.
Владимир Бурцев, как всегда охочий до любых сенсаций, поехал в Брюссель навестить больного. Он корреспондировал в свою газету: «Когда я подошел к дому генерала Врангеля, находящемуся на окраинной улочке Брюсселя, меня поразила тишина. И только еще более приблизившись, я увидел на входных белых дверях большой лист белой бумаги, умоляющий всех сохранять полную тишину, в которой так нуждался больной. Я увидел сына главкома и показал ему знаком, что хочу войти. Меня встретила мать генерала Врангеля Мария Дмитриевна и рассказала о герое, свалившемся на их дом. Говорил я и с секретарем Врангеля г-ном Котляревским. Он был полон надежд и уповал на Бога...»
В пасхальную ночь случился сильный нервный и сердечный припадок, сопровождавшийся долгими судорогами. В ночь на двадцать первое апреля приступ повторился. Врангель страшно ослабел, температура резко упала. Врангель угасал. Врачи признали положение его безнадежным. Он силился что-то сказать. Мать нагнулась над ним, положив руку на его лоб, точно успокаивая его.
— Что говорит Петр Николаевич? — спросила жена.
Мария Дмитриевна, не ответив, отошла.
— Так что он? — переспросила Ольга Михайловна.
— Я не понимаю... Он повторяет: «Несчастная семья, несчастная семья», — но что он имеет в виду, я не понимаю, — стараясь скрыть душившие ее рыдания, Мария Дмитриевна поспешно вышла.
В девять утра двадцать первого апреля генерал барон Врангель умер. При кончине были доктор Говертс, генералы Гартман и Архангельский, секретарь, члены семьи. Была отслужена первая панихида. Бывший главком лежал в гробу в любимой черной черкеске. В ногах
Андреевский и Георгиевский флаги. Комната полна цветов. Венки. Почетный караул держат офицеры Корниловского училища с шашками наголо.
Попрощаться с комбатантом и соратником по совместной борьбе приезжают из Парижа генералы Кутепов, Миллер, Шатилов, представители великого князя Николая. Соратники выносят гроб светлого дуба. В нем тело того, кто еще недавно претендовал на право вмешиваться в историю. На крышке гроба — папаха и шашка покойного. Гроб ставят на катафалк, накрывают флагами и черно-желтым штандартом главкома.
Генерал Гартман — представитель РОВСа — командует: «Смирно! На молитву, шапки долой!..»
Затем погребальная процессия медленно трогается. Впереди — венки, за ними на трех подушечках ордена
Георгиевский крест, Станислава и Анны, далее английский и сербский ордена, крест Иоанна Иерусалимского. Далее — причет. Хор казаков дружно оглашает окрестности церковными песнопениями. По обеим сторонам катафалка — два офицера-корниловца при форме и шашках. За катафалком — семья, близкие, друзья, соратники покойного, толпа русских и иностранных делегаций. Процессия двигается мимо края леса Камбр, где так любил гулять Врангель.
— Достойные похороны. Торжественные, а? — говорит Кутепову Шатилов, идущий в ряду генералов.
— Жалкое зрелище! — безапелляционно возражает Александр Павлович. — Ни к чертовой матери — как любил повторять наш командующий. Срам на всю Европу. Бедность, нищенство, господа генералы. Где русские армейские традиции?! Станем мы, наконец, учиться на ошибках или нет?
Никто не ответил: процессия приближалась к протестантской церкви. Это куда же мы приехали? — грубовато спросил Кутепов.
— Православный храм Брюсселя очень мал, ваше высокопревосходительство, — пояснил голос сзади. — Приходится-с... Англиканская церковь...
— Плохо, — наставительно изрек Александр Павлович, не соизволив обернуться. — Бедняки один здесь проживают, что ли? Скупцы! На пристойную церковь собрать не смогли за столько лет. Пусть к нам на рю Дарю молиться ездят, — и он крякнул, недовольный.
Сзади кто-то подобострастно хихикнул и тотчас замолк, словно рот ему закрыли.
Возле церкви отдельной группой — сербский, греческий, румынский и венгерский посланники. Началась заупокойная служба.
Народу собралось не так уж и мало. Полиция останавливает транспорт на улице Пустири. Впереди, среди пустырей и садов, примыкающее к железной дороге, И к сельское кладбище. Чугунные ворота распахиваются, процессия двигается по усыпанной гравием аллее к временному склепу... Плывут слова молитвы... Курится голубой дым ладана. Безутешна вдова. Мать Врангеля и его дети застыли как изваяния. Приютские девочки возлагают последний венок на свежую могилу...
Великий князь Николай Николаевич немедля откликается коротким приказом — так сказать, срочным распоряжением после смерти главнокомандующего: «РОВС подчиняю себе непосредственно. Начальникам отделов Союза предписываю сноситься со мной через начальника моей военной канцелярии... Председателем РОВСа назначается генерал-лейтенант Кутепов А.П...» Свято место не пустует. Впрочем, публикуется поразительно короткий второй приказ, прямо относящийся к смерти Врангеля: «Сегодня волею Божьей скончался горячо любимый и высокочтимый соратниками главнокомандующий Русской армией барон П. Н. Врангель. Глубоко скорбим вместе со всеми...»
Вскоре достоянием общественности становится еще одно официальное сообщение, связанное с усопшим: «С соизволения Его Величества короля Александра и благословения сербского Патриарха Дмитрия прах генерала Врангеля будет перевезен из Брюсселя в Белград, где будет покоиться, согласно воле покойного, в русском православном храме под сенью боевых знамен и штандартов. Создан комитет: в Париже под председательством генерала Шатилова, в Белграде — генерала Барбовича. Сооружена мраморная доска с надписью «Генерал Врангель». На боковой стене — резной киот с иконой Воскресения Христова. Перед образом — лампада. К киоту привинчена медная доска: «Образ сей сооружен русскими людьми в разсеянии сущими, в память погребения здесь до перенесения в родную землю главнокомандующего Русской армией генерала барона Петра Николаевича Врангеля.
Так закончился последний поход Врангеля.
По словам дальновидного генерала Экка, «бремя возглавления пало теперь на генерала Кутепова». Александр Павлович же высказался весьма недвусмысленно: «Нельзя нам превращаться в беженскую пыль. Надо помнить: Русь создавалась на костях русского офицерства... Помните о незабвенном генерале Врангеле. Вы знаете, как любил он русское офицерство, как вся мысль его, вплоть до смерти, была направлена к Русской армии». Сказано не слишком высоким слогом, но ведь известно: генерал-лейтенант Кутепов терпеть не мог словеса. Гораздо больше — смотрины и парады. К параду в Белграде по случаю перенесения праха Врангеля он готовился с большим удовольствием.
Специальным приказом Александр Павлович снова уведомлял всех «русских людей в разсеянии сущих», что перенесение праха генерала Врангеля (заслуги которого перечислялись) состоится шестого октября: «Прошу все воинские части и военные организации, входящие в состав РОВСа, ознаменовать 6 октября служением панихид... Я этот день буду в Белграде и лично возложу на гроб покойного венок от зарубежного российского Воинства».
...В одиннадцать утра перед зданием русского посольства в Белграде выстроились части бывшей армии Врангеля. Под звуки оркестра Кутепов, с полным осознанием своей исключительности и ответственности, упругим строевым шагом обошел фронт. Затем дал команду перестроиться и двигаться колонной к вокзалу. Здесь, на пристанционной площади, были построены части сербской армии, толпились русские делегация и просто зеваки.
Парад русских и сербских подразделений Кутепов принял вместе с военным министром Югославия генералом Хаджи чем. На перроне была совершена служба, после чего из вагона вынесли гроб с телом бывшего главнокомандующего. Оркестр грянул «Коль славен». Чуть-чуть поколебавшись, Александр Павлович одним из первых взялся за ножку гроба и подставил плечо, Следом — генералы Шатилов, Экк, Лампе и другие. Кутепов впереди — вышло естественно, просто и политически мудро: армия существует, вот она — преемственность ее вождей, смотрите все!
Гроб медленно несут к орудийному лафету.
Над вокзальной площадью появляется сербский военный самолет. Делает круг, снижается, сбрасывает венок от югославской делегации. Следя за ним, Кутепов сбивается с ноги, оступается. «Плохая примета, генерал», — будто слышит он чьи-то тихие слова. И тут же приказывает себе забыть их: показалось, безусловно показалось. Рядом никого не было, а слова словно прошептали в самое ухо...
Все больше венков. От короля сербов, хорватов я словенцев Александра I, от княгини Елены Петровны, Русской армии, отделов РОВСа, воинских частей. Несколько тысяч человек идут за гробом. Траурная процессия радует Кутепова: православный крест, национальные флаги, ордена, венки, что несут офицеры всех родов войск, делегации русских воинских контингентов, кадеты и скауты, представители высшего духовенства, оркестр и хоры. Проводят коня главнокомандующего («где только и нашли?»).
За лафетом с гробом, покрытым Андреевским и Георгиевским флагами, семья барона, дипломатический корпус, высшие русские военачальники. Замыкает шествие часть лейб-гвардии Кубанской дивизии, в пешем строю и сербская артиллерийская батарея. Улицы заполнены народом. «Молодцы! — радостно думает Кутепов. — Это вам не Брюссель. На Балканах нас уважают, любят, боятся. Здесь мы стоим крепко!»
Последнюю панихиду служат патриарх Дмитрий и митрополит Антоний. Под скорбные звуки оркестров и прощальный салют гроб опускают в склеп...
Врангеля больше нет. Он, Кутепов, первый. Пришло его время...
2
Пятого января 1929 года, в девять тридцать вечера, в Антибе, на юге Франции, после непродолжительной болезни скончался великий князь Николай Николаевич... Спор «претендента» с «узурпатором императорской власти», таким образом, окончился. Окончился навсегда...
Генерал Кутепов не замедлил выступить с очередным приказом:
«... 1. Скорбная весть разносится теперь по всему миру. Тоскливо сожмется русское сердце от нового испытания. Да будет светлая память о нашем вожде той силой, которая сплотит всех нас для продолжения задачи, поставленной себе Великим Князем. Будем безо всяких отклонений следовать путем бескорыстного служения Родине, которым нас вел в Бозе почивший Верховный Главнокомандующий».
А вот и второй — деловой — параграф приказа:
«... 2. Сего числа вступаю в исполнение обязанностей, которое Его Императорское Величество Великий князь Николай Николаевич исполнял в отношении РОВСа, объединившего части зарубежного русского воинства и все существующие военные организации и союзы. Велика наша скорбь и наша тяжкая утрата, во я уверен, что и это испытание не сломит наш воинский дух и жертвенную готовность служить освобождению нашего Отечества.
Генерал Кутепов».
Генерал Кутепов клятвенно обещал проследить за объединением русского воинства. Уж он-то не бросал слов на ветер. Теперь с ним должны были считаться все. «Николаевцы» становились под его знамена...
В жизни Ксении Белопольской особых перемен не произошло. Доротея решительно объявила о своем отъезде, но не назначала никаких сроков. Неспешно заканчивались ремонтные работы в Русском доме. Ксении приходилось часто ездить в де Буа, и кажущиеся бесцельными поездки — лишь для того, чтобы рассказать княгине Мещерской, как идут дела, — изрядно ее утомляли. Радостью были только встречи с друзьями.
...Однажды, промозглым январским днем не успела она переступить порог редакционной комнаты, снять мокрый плащ и поставить сушиться раскрытый зонтик, как раздался требовательный телефонный звонок. Грибовский, сняв трубку, сказал свое обычное и неподражаемое «але-о-о-о» и, выразительно глядя на Ксению, с сожалением подвинул ей аппарат. (Телефон редакции давно уже был известен Пенджет.) Ксения неожиданно услышала голос служанки. Извиняясь через слово, та сообщила, что мадемуазель ждет господин, утверждающий, что он — отец Ксении Николаевны. Господ нет, а она боится пустить его в дом. Боится?.. Это озадачило Ксению. Она сказала, что выезжает немедля, пусть человек, выдающий себя за ее отца, подождет в прихожей: дождь адский и, кем бы он ни представился, он все же человек. До последней минуты Ксения не верила, что ее разыскал князь Белопольский. Зачем она ему?!
И лишь увидя мокрую и жалкую фигуру в непомерно длинном и широком пальто, она сразу узнала Николая Вадимовича, несмотря на разительную перемену, происшедшую во всем его облике, утратившем, казалось, все прежние черты. Ксения не знала, как должна вести себя с ним: ведь он выгнал ее на улицу, он за всю жизнь не сделал для нее ничего. Она была для него чужая, докучливая, постоянно попадающая в ситуации, требующие то лечения, то духовной поддержки, то просто денег. Ксения подумала, что она всегда обременяла его и он против воли обязан был помогать ей. А какой он был отец Виктору, Андрею? Какой муж ее матери, который вечно изменял, а возможно, и стал главной причиной ее смерти? Или сын деду? О чем вспоминать, если в страшной, трагической ситуации он посмел не посчитаться ни с именем князей Белопольских, ни с дворянской честью — и бросил старого отца среди чужих, враждебных людей. Уже за один этот поступок раньше люди отвернулись бы от него, осудили, не стали бы подавать руки!.. А он что же? Он повернул дело так, что во всем оказался виноват дед — ив неудачной эвакуации, и в размолвке, приведшей к ссоре, и в бедности своей потому, что принужден был часть фамильных богатств отдать солдату, который помог старому князю по пути из Симферополя в Севастополь. Ксения только теперь со всей ясностью впервые подумала о том, что отец, очевидно, обобрал деда, попросту взял и увез с собой все драгоценности, принадлежащие семье. Это — факт. Иначе откуда свободная и безбедная жизнь, которую он демонстрировал в Дубровнике, да и здесь, в Париже уже, когда он ненадолго взял ее к себе, позволив попользоваться крохами с барского стола? Значит, ее отец — не только ловкий политик, меняющий свои убеждения, но и вор? Мысль была невыносима, мерзка...
Все это пролетело за считанные секунды, пока Ксения поднималась ко входной двери, где стоял отец. Помилуйте, разве этот человечек, с рабской улыбкой поджидающий ее, — отец, князь Белопольский, занимающий важное место при дворе великого князя Николая? Что же случилось с ним? И когда?.. Они сделали по короткому шагу навстречу друг другу. Обняться? Поцеловать отца во впалую щеку, заросшую рыже-седой щетиной? После всего, что произошло между ними? Нет! Это казалось невозможным. Она стала злопамятной. «Явился, разыскал меня потому, что произошло нечто, и теперь он снова нуждается во мне. Боже, как он отвратителен! И что с ним сделало время — он совсем старик».
— Что вам нужно, отец? — сухим, металлическим голосом спросила Ксения.
— Прости, дочка, — сказал он и рухнул на колени. — За все... Если можешь... Прости отца своего.
Он протянул к ней руки... И вдруг зарыдал, пряча и отворачивая лицо. Плечи его сотрясались от рыданий. Ксения, не ожидавшая ничего подобного, остолбенела. Это, несомненно, не было притворством. Его вид, его состояние были правдой. С князем Белопольским случилось нечто, совершенно изменившее его прежнюю благополучную жизнь. Но что она могла сделать сейчас? Господин, упавший перед ней на колени, был ей абсолютно чужд и — более того! — неприятен. С радостью она приказала бы вывести его вон из дома. Но ведь он был ее отец. И существовали, в конце концов, правила, которые переступить невозможно.
— Встаньте, отец... Неудобно, — Ксения протянула ему руку, и он, со старческим кряхтением и каким-то хриплым клекотом в груди, поднялся. С тяжелого пальто натекла лужа. Лицо тоже казалось мокрым, будто его поливали сверху — с мокрых волос струйки воды быстро текли по бороде, исчезая за мятым воротом пальто. Сколько же времени он провел на улице, под дождем?
— Идемте... Обопритесь на меня, отец. Оставьте пальто здесь.
— Да, да... конечно, — бормотал он, захлебываясь словами. — Я сам... Сам... Минутку... Я... Я... — Он повис на ней, обняв за плечи, и они стали медленно, со ступеньки на ступеньку, подниматься на третий этаж. А вслед им по белому мрамору лестницы, по розовому бархатному ковру тянулся грязный след.
— Подожди, дочь — задыхаясь, сказал Белопольский, добравшись до площадки и повиснув на перилах. — Я... только... дух... секунду... переведу... — И наконец, справившись с дыханием, закончил: — Прости... прости. Мне лучше... сейчас... Ох!
И эти почти бессвязные слова старика, у которого не хватило воли ни на слово больше, ни на жест, обожгли Ксению жалостью такой силы, которую она не испытывала никогда в жизни, не хотела показывать и сейчас, ибо уже подсознательно продолжала не верить отцу — как не верила ему никогда. Ксения с трудом сдержала себя (ей захотелось успокоить и как-то утешить отца, уверить, что он не одинок — она, его дочь, с ним, она готова, несмотря на все обиды, прийти к нему на помощь...). Прежде всего следовало вернуть ему человеческий облик, помыть, обогреть. Накормить, наверное. А уж потом выяснить, что произошло. Чего он лишился? Кто превратил сановного барина в бродяжку?
Ксения привела отца к себе. Дала халат, заставила сбросить все мокрые обноски и принять ванну. Он выбрался из туалетной комнаты и упал на пороге. Нет, судя по всему, Николай Вадимович на этот раз не играл роль, а действительно нуждался в помощи. Он отказался от врача и от еды — Ксению это лишний раз убедило, что отец действительно плох. Она постелила ему на тахте и, как ребенка, уступчивого и податливого, уложила под невесомое шелковое одеяло в кружевном пододеяльнике. Полежав несколько минут с закрытыми глазами, Николай Вадимович сказал, хрипло преодолевая одышку: Ты вернула... меня... к жиз...ни... Благо... благодарю те... бя, — он замолчал. Лицо его посерело. Из прикрытых припухшими веками глаз текли слезы. — Но я... Я дол... жен рассказать... тебе. Я был при нем до... пос...ледней мину...ты.
— При ком? — удивилась Ксения.
— Императорском вы...вы...сочестве. В Анти... в... Антиб.
— Вы должны поспать, отец, — строго сказала Ксения. — Все остальное вы мне расскажете потом.
— Хорошо, — пробормотал он и тотчас заснул. Дыхание стало ровнее, хрипы превращались в легко похрапывание.
Утром Ксения застала отца совсем больным: вид потерянный, глаза опухли от слез. Он неотступно возвращался к одной и той же теме — смерти великого князя.
Превозмогая рыдания, полный священного трепета, Белопольский несколько раз принимался рассказывать о трагических событиях — и тут же замолкал, глаза наполнялись влагой, из горла вырывались булькающие, клокочущие звуки. Князь долго откашливался, вытирал слезы, и все начиналось сначала. Ни заставить, ни упросить его помолчать Ксения не смогла. С непонятным мазохизмом Николай Вадимович возвращался к прежней теме. Ксении казалось. Что у отца нечто вроде помешательства. Она покорно решила выслушать все волнующие больного подробности.
Оказывается, уже с весны прошлого года стал сдавать могучий организм великого князя, и тот все чаще чувствовал приступы слабости. С наступлением октября, по совету врачей, он переселился с семьей в Антиб, на дорогую его сердцу виллу «Thenard», где, кажется, еще совсем недавно жил бодрый, здоровый, полный сил и планов. Инкогнито. Под фамилией «Борисов».
Князь Белопольский, среди других приближенных, устремился следом за своим кумиром. Это был его высший долг. Он не раздумывал ни минуты.
В середине декабря стало сдавать могучее сердце великого князя и его снова, с большим трудом, уложили в кабинете на диван. Он крепился изо всех сил: лежал, укрытый белой буркой, приглашал к разговору то одного, то другого. С какой любовью вспоминал он Петербург, все с ним связанное и свой дворец на Невской набережной, подле Троицкой площади, построенный полукружьем к домику Петра I, с колоннами и куполом, венчающим здание. Таким красивым, особенно если смотреть на него с противоположного берега Невы, от Зимнего дворца. С восторгом истинно военного человека вспоминал он развод караулов, парады и высочайшие смотры. И свою полководческую работу в Ставке («Это только представить себе — полководческую! — подумала Ксения, не считавшая нужным перебивать отца: поуспокоился будто, пусть говорит. — Хорош полководец! Две армии погубил, столько лет прошло, а его по-прежнему все полководцем считают. Чудеса!»)
— Четвертого января великому князю стало значительно хуже, но сильный организм не хотел сдаваться. Торжественно, достойно, величественно уходил из жизни великий князь, в полном сознании. Он молил бога о даровании благополучия русскому народу, беспокоился с сохранении армии... Он подписал телеграмму русским воинам, в которой призывал всех и всегда помнить о России и крепить единство. Ты представь только силу его воли! Его любовь к России и армии! — восклицал отец. — Около десяти великий человек скончался. В одиннадцать была отслужена первая лития...
Рассказ прервался. Николаю Вадимовичу требовалось несколько минут, чтобы прийти в себя, осушить слезы, откашляться, выпить несколько глотков воды. И он начинал — снова чуть ли не с самого начала, добавляя все новые и новые незначительные подробности, от которых приходил в волнение и начинал лить слезы: вспоминал, как, точно живой, лежал великий князь в форме кавказских казачьих войск, украшенной лишь Георгиевскими крестами трех степеней, держа в правой руке деревянный крест, а в левой — горсть русской земли и камень с Кавказских гор, а вокруг, в торжественном почетном карауле, стояли, точно бронзовые статуи, высшие военачальники — «боевые генералы, украшенные многими орденами, полученными во славу России»... «Тело почившего в Бозе мы переложили в гроб, укрыв Андреевским флагом с «Меркурия»... Торжественная панихида в Париже... Сам маршал Петен, масса официальных лиц... Траур в Италии... Сербский король Александр на богослужении в Белграде».
— А он? Мой кумир, мой вождь? Тот, кто по праву должен был объединить русскую эмиграцию, — он мертв, безгласен... Его светлая и мужественная душа героя-воина... он покинул нас, его верных слуг, его душа отлетела в рай, — сдержанность окончательно оставила Николая Вадимовича, он безудержно отдавался охватившей его скорби и вновь заливался слезами.
Ксения не могла представить себе, насколько это серьезно и соответствует ли подлинности чувств человека, который всю жизнь отличался холодным эгоизмом. Врачу не понадобилось много времени, чтобы установить диагноз, — нервное потрясение, связанное с крушением каких-то личных планов и долго вынашиваемых надежд... Когда князь Белопольский поуспокоился и пришел в себя, Ксения дозналась, чем вызван и внешний вид отца и полная его несдержанность. Причиной оказалась неуемная любовь к усопшему, толкнувшая его и вовсе на неожиданный поступок. Когда кто-то, в экстазе монархистского верноподданничества, крикнул в толпу, что усыпальницу и часовню над ней надлежит строить на всенародные средства в память об истинно народном вожде, тут неизвестно откуда появился гренадерского вида офицер с серебряным подносом, и люди стали, истово крича, кидать на поднос деньги, а дамы, стеная, срывать с себя кольца и серьги. Николай Вадимович, зажегшись общим настроением, мгновенно воспарив над толпой и став, как ему показалось, ее центром, произнес вдохновенную речь (содержания ее он не помнил, состояла она из восклицаний, призывов и угроз в адрес «вечных хулителей России») и, сняв с пальца фамильный перстень, присовокупив булавку с крупной жемчужиной и массивные золотые запонки, хлопнул свое имущество о поднос под общие крики: «Браво! Браво! Виват, князь! Честь патриоту!»
Белопольский стал самой заметной фигурой среди аристократов, собравшихся на каннском кладбище, возле церкви, где сооружен был склеп для его императорского высочества. А когда улеглись верноподданнические страсти и толпа патриотов весьма быстро растаяла, Николай Вадимович обнаружил, что остался буквально без средств. На этот раз — уж точно. Он был растерян, обескуражен, более того — напуган. Князь направился на дачу «Thenard», где его приняла безутешная вдова. Он не знал, зачем и пришел сюда. Выразил еще раз свое соболезнование и, не получив предложения остаться или просто приходить при случае, откланялся. Только теперь он ощутил обреченность своего нового положения. Выразив любовь и преданность умершему вождю, он был немедля отринут его партией, всеми этими генералами и статскими, которые с первого и до сегодняшнего дня продолжали считать князя Белопольского перебежчиком из лагеря «левых» и «белой вороной», недостойной монаршего доверия. Николай Вадимович понял, что наступает новая полоса в его жизни. Пожалуй, самая трудная, ибо требовалось решать не только к кому примыкать и за кого бороться, но и — впервые в его жизни! — на что существовать, где жить, спать, чем питаться. Пришло окончательное отрезвление, и он ощутил боль и пустоту от поступка, названия которому теперь не находил, ибо это было короткое ослепление, мгновенная потеря сознания. Грустные мысли! А нужны были действия. И первое — вернуться в Париж и вновь определить свое место в жизни, используя кое-какие оставшиеся связи. Следовало решить — какие связи...
Оставшихся денег в Париже едва хватило на обед. Но все же, придя в себя, он решил, что в создавшейся ситуация помочь ему могла только церковь. Других вариантов у него не было. Николай Вадимович отправился на рю Дарю. И даже скорее, чем надеялся, был принят митрополитом Евлогием (имел благожелательный разговор, который, к сожалению, окончился чуть не спором и предложением «ехать искать своих единомышленников в Белграде...»).
Тогда уже вовсю «гуляла» церковная распря, начавшаяся еще в 1921 году, на съезде в Карловцах, который по цензу самого патриарха Тихона был объявлен «не выражающим официального голоса русской православной церкви». Указ Тихона укрепил оппозицию. В Карловцах «правил» бывший митрополит Киевский Антоний. У него в руках находились тысячи прихожан, семинария, церковный суд и ряд церковных учреждений, монастырь, названный «Сербским Афоном», и еще тринадцать монастырей; его поддерживала группа влиятельных русских эмигрантов-монархистов. Евлогий считал Антония «детски наивным в политических вопросах», его автономию — преступной и раскольнической. Между двумя церковными партиями имелся ряд непримиримых противоречий. Основное — об отношения церкви к династическому вопросу: подлежит или не подлежит он обсуждению церковного собрания, могут ли духовные лица за границей выступать от имени русской церкви? Каждая группа, как водятся, осталась при своем мнении. С течением времени споры усиливались, возрастали непримиримые расхождения. В Париже Евлогий образовал свое Епархиальное управление, имеющее двенадцать церквей, высшую духовную школу, Сергиевское подворье. Обеспечил поддержку Маклакова, Гирса и других богатых жертвователей и благотворителей, помогающих ему против Карловацкого синода. Объявил Антония и его духовенство «лишенными благодати», а все его акты — недействительными...
По поводу действий Карловацкого собора и вышли недоразумения у Белопольского в беседе с Евлогием. Не оценивая деятельности Антония, он (вот она, невоздержанность! В его-то положении...) высказался лишь в том смысле, что собор оказывал помощь и духовную поддержку всем начинаниям великого князя Николая, которого он, Белопольский, боготворил и всегда боготворить будет. Этого оказалось достаточным, чтобы Евлогий, посчитав его, вероятно, послом Антония, предложил ему поездку в Белград — к своим. Такая промашка! А все любовь к разговорам, привычка к дискуссиям. Сидел бы и молчал лучше. Так не повезло!..
Искренне пожалев отца вчера, Ксения думала теперь о нем уже как о постороннем. И не с жалостью — с неподдельным удивлением. Когда он пришел в себя и отоспался, все вернулось на круги своя. И выяснять отношения князь Белопольский принялся первым, несмотря на все нежелание дочери. Он хотел расставить все точки над «i» — таков был новый, непреложный закон его жизни (были ли в ней вообще законы?). Николай Вадимович попытался объяснить, как он нашел Ксению, как узнал, что она подле княгиня Мещерской. «А собственно зачем? — холодно поинтересовалась Ксения. — С какой целью? Ведь наши отношения не давали вам, кажется, права?» — «Я — отец, ты — дочь моя, — безапелляционно ответил он. — И долг твой дочерний...» — «Не надо о взаимных долгах, отец! Я считаю себя свободной...» — «Ни слова более! — воскликнул он с полным и искренним отчаянием. — Ты что же, гонишь меня?» — «Но это вовсе не мой дом, пойми. Я здесь служанка». — «Вечно ты усложняешь Ксения. Побуду два-три дня и...» — «Не может быть и речи! Княгиня Мещерская не потерпит...» — «Мещерская? Вера Кирилловна?.. Да я сам поговорю с ней!» — «Твое дело. Только не рассчитывай, пожалуйста, что я стану тебя представлять ей. И жить с тобой не хочу». — «Спасибо, доченька, за все спасибо, за хлеб-соль... Надеюсь, в этом доме найдется уголок для меня на несколько дней и без твоих усилий. Мир не без добрых людей...»
И Николай Вадимович, конечно, остался. Княгиня Вера, растроганная, по-видимому, его рассказами о последних минутах Николая Николаевича, дала ему комнату. Обитатели дома смотрели на него снизу вверх, как на особого представителя, удостоившегося чести присутствовать при последних минутах великого человека. Его расспрашивали о новых и новых подробностях, соблюдении каждого обряда, о реакции великой княгини и ближайшего окружения. Белопольский совершенно освоился в Русском доме. Большую часть дня и все вечера он проводил в обществе американки. Между ним и Доротеей, несомненно, уже возникли какие-то отношения.
Прошла неделя, другая...
Доротея Пенджет объявила наконец о точном дне своего отъезда.
В канун его, утром, Ксению навестил отец. Она встретила его холодно, сухо. «Будет опять что-то просить», — подумала она с неприязнью.
— Хочу посоветоваться с тобой, — торопливо сказал он. — Дело в том, что Доротея Пенджет предложила мне... — неожиданно голос его пресекся от волнения, — предложила сопровождать ее в Америку, — высказав это, он вздохнул с облегчением. — Как ты думаешь?
— А в качестве кого ты собираешься вояжировать? — спросила она безжалостно.
— Ну... В качестве гостя, вероятно. И — поверь! — для меня это почетное и интересное приглашение.
— Ты ведь хорошо узнал мисс? Где гарантии, что, перевезя тебя через океан, она на следующей же неделе не выдворит тебя из своего дома? Вернее, дома отца.
— Существуют же человеческие обязательства. Приличия, в конце концов.
Ксения рассмеялась:
— Ты знаешь, что в Америке прилично, а что нет? Поражаюсь твоей наивности. Для тебя это не очень характерно.
— Имеешь ли ты право поучать меня?
— Ты же пришел советоваться. Как это благородно: ты подумал о дочери, пришел сказать мне последнее «прости». Огромнейшее тебе спасибо!
— Но... Ты не права, Ксения, — горячо возразил князь. — Сейчас не время сводить счеты, надо вместе подумать...
— Знаешь, я устала от твоей лжи. Бесконечно устала. Мы ведь, в сущности, чужие люди. И не надо лишних слов: все слова, слова... Я не представляю, на что ты надеешься в этой Америке, если мы, русские, не можем приспособиться и к Европе, которую, как нам казалось, знаем. Но — все равно!
— Я бы с удовольствием взял тебя с собой, — Николай Вадимович, которому Ксения не предложила сесть, помялся, но все же опустился на стул, сняв кувшин с водой для умывания и поставив его на пол. — Но это не в моей компетенции, к сожалению.
— Всю жизнь я не в твоей компетенции.
— Я пришел, собственно, попрощаться с тобой.
— Хорошо, что не советоваться. Это уже было. Ты молодец. У тебя счастливая способность осваиваться в любой роли. В Русском доме ты — нуждающийся в помощи и духовной поддержке. Я, дура, беспокоилась: Доротее ничего не стоило турнуть разом двух Белопольских — у нее настроение меняется со скорость ураганного ветра. Но свершилось чудо — ты понравился, а я стала ей не нужна. Но ты не молодой уже человек. К чему эти постоянные игры? К чему какие-то новые идеи, зовущие тебя теперь в Америку? Разумны ли они? Не уверена.
— Если ты скажешь: «Нет, не уезжай», — я останусь подле тебя.
Ксения, думая, как вновь может осложниться ее жизнь, внезапно увидела, что отец вставил передние зубы. Когда это произошло? Она не знала. Может, и давно. Но, замеченное теперь, это пустячное, в сущности, событие озлило ее еще больше: несчастный страдалец никогда не забывает о своей внешности. Для себя он всегда на первом месте!
— Я не скажу так. Счастливого пути. Пусть тебе сопутствует удача. Впрочем, она тебе всегда сопутствовала.
— Спасибо на добром слове, дочка. Я уверен, мы не потеряемся.
— Не велика и потеря, — Ксения встала, показывая, что разговор ей неприятен и пора окончить его.
— Ты во второй раз стараешься обидеть меня.
— И, заметь, каждый раз при прощании.
— Ты даже не спрашиваешь, зачем я уезжаю.
— Зачем ты уезжаешь?
— Я решил постричься, Ксения. Митрополит Нью-Йоркский в ответ на мое письмо приказал: «Приезжай и готовься. Я сам совершу твой постриг», — соврал он. — Буду в богословском институте учиться. Как того захотел Бог.
— Ты вспомнил о Боге? Это замечательно! Только я не очень верю.
— Это твое право, — сказал Николай Вадимович и встал. И тут же сел снова. Он заметно волновался. — Давай по русскому обычаю, Ксенюшка. Разреши поцеловать тебя, и присядем на дорожку. Помолчим.
— Не надо этого отец. Считай, мы уже попрощались. Я ведь пожелала тебе счастливого пути. Будь здоров. И пусть тебе сопутствует успех.
— Ты злая, безжалостная! У тебя озлобленное сердце. Буду молить Господа, чтоб он наставил тебя и облегчил твою жизнь, дочь.
— Молись, отец. И пусть услышит тебя Бог. Служи ему.
— Ты, по-видимому, останешься в Русском доме?
— Не знаю, что со мной произойдет уже через неделю.
— Все мы под Богом ходим, — сказал он с притворным смирением.
— Ну, понятно, понятно!.. Это я не раз слышала на рю Дарю, — ей хотелось как можно скорее закончить тягостное прощание, которое никак не заканчивалось.
— Что ж! Ты нервничаешь и, как обычно, стараешься обидеть меня. Ты безжалостная, Ксения! И всегда была такой. Это, несомненно, у тебя от матери.
— Не смейте говорить о матери! — сорвавшись, закричала Ксения и, упав лицом на софу, разрыдалась — впервые после тяжких константинопольских времен.
Когда, взяв себя в руки и заставив успокоиться, она встала, князя Белопольского в комнате не было...
После отъезда отца в жизни Ксении особых перемен не произошло. Некоторое время она работала — учила русскому языку группу маленьких и непослушных французов (в ее обязанности входила и двухчасовая прогулка с ними по Булонскому лесу); занималась переводом на французский специальной книжки по биологии, изданной каким-то украинцем, приехавшим по делам из Советского Союза, — перевод ей отдал Анохин из-за того, что окончательно перетрудил глаза. Лето и один осенний месяц Ксения работала переводчицей в бюро путешествий — иногда ее вызывали «на подмену» профессиональных гидов. Она специализировалась по Лувру и довольно прилично знала его экспозиции. Но платили ей мало, нерегулярно. Ксения по-прежнему жила (вернее сказать, ночевала) в Русском доме, который все больше заполнялся жильцами и напоминал корабль, потерпевший крушение и выброшенный на остров. Спасибо княгине Вере, которая не гнала Ксению, не выказывала и малейшего неудовольствия ее присутствием, не предлагала ей комнату поменьше и похуже или каким-то другим способом не пыталась ущемить ее. После отъезда американки Вера Кирилловна Мещерская потеряла всякий интерес к бывшей компаньонке...
ИЗ ЦЕНТРА В ПАРИЖ «ДОКТОРУ»
«Приступайте к подготовке операции «Багаж». В ваше распоряжение направляются через Варшаву в Берлин три сотрудника. По прибытии в Париж найдут вас по каналам связи «0135».
13 января, у себя в московской квартире, убит Слащев. Полагаем: месть «активистов» — ровсовцев, месть генералу за крымский террор. В деле фигурирует некто Коленберг — будто бы брат рабочего, повешенного Слащевым в Николаеве. Желательна проверка версий через штаб РОВСа.
Желаем успехов.
Центр».
Глава шестнадцатая. КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ
Артузов должен был принять Венделовского на конспиративной квартире в Москве, в районе Патриарших прудов. Такой приказ был передан ему в Финляндию...
Центр обеспечивал и спокойный проход группы ровсовцсв через границу и Ленинград.
1
...Позади остался тренировочный сбор в Териоках, на который для инспекции неожиданно приехал сам генерал Кутепов. Александр Павлович приказал построить обе пятерки «боевиков», готовые к отправке в Советскую Россию. Прошелся медленно вдоль строя, внимательно вглядываясь в лицо каждого. Остался вроде доволен. Скомандовал зычно: «Смирно!» — и тут, заметив под тулупом расстегнутый ворот косоворотки Монкевица, не замедлил сделать внушение и пообещал при возвращении посадить на семь суток. Это выглядело смешно, если учесть, куда и зачем отправлялись его люди. Затем, сменив гнев на милость, Александр Павлович, продолжая прохаживаться взад-вперед, сказал:
— Господа офицеры! Террористская работа в Советской России нами ведется успешно. Почва и для вас подготовлена. Ждать осталось недолго. Иностранные державы и дальше будут нам помогать, но не бескорыстно, конечно. Они и о своей пользе заботятся. Но, как только увидят наши успехи, предложения помощи посыпятся со всех сторон. Мне нужны люди, которые пойдут на все, готовые выполнить любой приказ. Ясно? Европа дает деньги за дело. Она верит только фактам. Она платит за подвиг каждого из вас!
Подобное обращение, естественно, не слишком ободрило ровсовцев. Но Кутепова все знали. Чего от него требовать...
Потом было «окно» возле Белоострова, через которое Венделовский, Монкевиц и незнакомый им обоим обезьяноподобный, коротконогий, похожий на краба поручик без фамилии (его так и звали все: «поручик») прошли сравнительно чисто. Следом, правда, раздалась внезапная винтовочная пальба, крики «стой!», а к Сестрорецку семь отставших «боевиков» так и не явились. Счастливчики прождали час в снегу в условленном месте, и Монкевиц (он был за старшего: все-таки полковник, да и поручили ему идти исключительно для того, чтобы проверить Венделовского и, вероятно, испытать его в деле) дал команду пробираться в Ленинград поодиночке, чтобы к вечеру, в семь десять (почему десять?) встретиться возле углового магазина Гостиного двора, с Перинной линии, убедившись, естественно, что не «тянешь за собой хвост».
Венделовский знал, что Монкевиц и «поручик» уже арестованы, — он стал свидетелем этой сцены. «Боевики» тихо подняли руки и, как ему показалось, даже с чувством некоторого облегчения сели в мгновенно подъехавшую санитарную карету.
Альберту Николаевичу, попавшему к своим после стольких лет, хотелось, конечно, пройтись по родному городу, добраться до Васильевского острова, но ему разрешили лишь короткую автомобильную прогулку.
Через оконца посмотрел он на знакомые дома, на Невский проспект, покрытую деревянными шашками Большую Морскую, Исаакиевскую площадь, где, к его удивлению, все оставалось прежним, даже конная статуя Николая I, полноводную Неву цвета расплавленного свинца — ледостава еще не было. Западный ветер гнал воду встречь течению, и зло вихрились белые гребешки волн. Сопровождающий Венделовского молчаливый человек с усталым, в склеротических прожилках лицом, словно угадав желание гостя, приказал шоферу ехать через Николаевский мост и свернуть на заснеженную Первую линию. Венделовский увидел дом своего детства с чугунными тумбами, вросшими в землю у ворот, давно не ремонтировавшимся фасадом и окнами своей квартиры на втором этаже. Он с трудом сдержал волнение, махнул рукой: поехали, достаточно...
Вечерним поездом, в общем вагоне, с фиктивными ровсовскими документами Венделовский выехал в Москву. На перроне его встретил чекист. На извозчике, покрутившись по городу, отвез в Марьину рощу, куда должна была через день прибыть еще одна кутеповская пятерка. Эта предосторожность оказалась совсем не напрасной: по пути в «Кресты» Монкевицу дали возможность сбежать, и он благополучно добрался на явочную квартиру. Тут им предстояло находиться до получения распоряжений из Парижа (а может, и из Москвы, — затаился здесь какой-нибудь из подручных Кутепова, он и прикажет).
Венделовский, наотрез отказавшись составить компанию жестоко пьющему Монкевицу, прождал сутки: указаний не поступало. Кроме хозяина дома никто не появлялся уже вторые сутки. Истомившись бездельем, Венделовский приказал купить ему советских газет, и тут хозяин, отведя его на кухню, огорошил сообщением, что через час за «ноль сто тридцать пятым», за Альбертом Николаевичем Венделовским (ровсовская кличка, данная ему, была «Ленинградец»), придет авто, которое станет за углом, на параллельной улице... Что это? Кутеповская провокация, новая перепроверка после неудачного перехода группы через «окно»? Но кто «расшифровал» его и откуда этой сошке стал известен его чекистский псевдоним? Или именно это обращение и есть пароль, призывающий довериться хозяину явки? Альберт Николаевич не ответил. Он думал. Время шло. Час был на исходе. Открыв дверь в соседнюю каморку, он увидел, как хозяин старательно подливает водку уже довольно пьяному Монкевицу, и упокоился: для него готовился вполне достоверный «уход»...
И вот — о, чудо! — он уже в другой квартире, из окон которой виден большой замерзший пруд и мальчишки и девчонки, катающиеся на коньках. Откуда-то доносится приглушенная музыка. Открывается дверь, и... входит Артузов. Они не виделись почти девять лет. Крепкое рукопожатие и внимательный взгляд друг на друга. Артур Христианович заметно погрузнел, виски — совсем седые, лицо округлилось, под глазами серые тени. Это первое впечатление, и оно как бы тут же стирается: Артузов по-прежнему легок и подвижен. Умные глаза блестят молодо, азартно.
Венделовский докладывает об условиях новой работы, о друзьях и коллегах, которые действуют «слева» и «справа» от него, о «Докторе» и его связных.
— А не кажется ли вам, дорогой Альберт Николаевич, что «Доктор» уже достаточно намозолил глаза парижским властям? Нет ли признаков усталости, которую не передать ни в одном донесении? Подумайте, взвесьте все, прежде чем отвечать. Ведь он — центральная фигура во Франции. И не только во Франции, — Артузов пружинисто прошелся по комнате, прислонился к подоконнику, засунув кулаки под мышки. Ждал ответа спокойно.
— У меня нет подобных ощущений, Артур Христианович, — сказал Венделовский. — «Доктор» всегда готов выполнить любое задание. Поразительный ум, способность анализа. И хладнокровие. Я многому научился у него.
— Мы все должны учиться друг у друга, — несколько отстранение, думая уже о другом, сказал Артузов. И, сев на широкий подоконник, кивнул в сторону катка: — Завидую ребятам. Сам с превеликим удовольствием погонял бы по льду — некогда. Всегда некогда! А вам хотелось бы помолодеть лет на двадцать? У вас нет чувства усталости? Столько лет за кордоном — и все в поездках, в поездках. Тяжело? Может, дать вам отдохнуть, ну… полгода?
— Прикажете по возвращении подать рапорт генералу Кутепову? Нет, Артур Христианович, пока — тьфу, тьфу! — я в порядке. И после того как с таким трудом удалось устроиться в РОВСе, было бы просто неразумно уезжать... ну, в Крым.
— Можно и Лазурный берег организовать. Все в нашей власти, дорогой ноль сто тридцать пятый.
— Но я не прошу отпуска и, честное слово, пока не нуждаюсь в нем.
— Хорошо. С этим ясно, — Артузов сел за стол напротив Венделовского, посерьезнел, нахмурился. — Что считаете главным недостатком своей оперативной работы, товарищ Венделовский?
— Хромает связь с «Центром» и друг с другом. Поэтому, бывает, устаревает и часть разведданных. Связников не хватает. Приходится пользоваться каналами «Доктора». Это опасно для всех вас.
— Согласен. Тут одна из труднейших проблем. Где взять связных — их, точно, не хватает. Считаю, что я подготовка их затягивается. Мне возражают товарищи. И они правы: спешка вредна. Нужны архинадежные и умелые люди... Мы должны следить за развитием современной техники. Вооружать — и повсюду! — сотрудников портативными радиостанциями. Недавно познакомили меня с компактным приемником-передатчиком «АФУ», который выпускает фирма «Телефункен». Занятная игрушка! И имеет большое будущее для разведки. Хотя и против радио есть уже противоядие. Видите, заговорил, стихами? Суть в том, что три стационарные радиостанции смогут при помощи радиопеленга определить точное место, откуда передаются шифровки. Оружие рождает контроружие. И одно не может надолго перегнать другое. Это касается любого вооружения, не так ли?.. Ну, а пока? — он хмыкнул весело: — Старые, надежные способы: курьеры, «почтовые ящики», а, Альберт Николаевич? Тут кое-что мы меняем. Но об этом потом. Расскажите-ка мне о политической ситуации во Франции и на Балканах — как она видится дипкурьеру Врангеля, — он пытливо посмотрел в глаза собеседнику и добавил: — После «трестовского» периода — так скажем. И после двух смертей — Врангеля и Николая Николаевича. Начнем с эмиграции.
Венделовский, стараясь быть кратким и в то же время не упустить ничего важного, дал характеристики главным партиям русской эмиграции (по всему фронту «от правых до левых») и их лидерам.
— Политическая жизнь эмиграции, без сомнения, имеет тенденцию к затуханию. Большинству русских надоели партийные распри, заговоры, ожидание затянувшейся на такой долгий срок команды «в поход». Массы взялись за работу, чтобы обеспечить свою жизнь. Подросло второе поколение. Большинство аполитично, хотя часть его — определенное явление, на которое нам следует обратить внимание. Я вернусь к этому, Артур Христианович... Главные противники по-прежнему, конечно, крайние монархисты. Они — идейные вдохновители РОВСа, который содержится за счет «Торгово-промышленного союза» и тщательно скрываемой финансовой поддержки иностранных держав. «Трест» нанес сильный удар вождям белого движения, выставив их людьми легковерными, недалекими, дававшими столько лет водить себя за нос. Они восстанавливают свое реноме, но торопятся. В каждом готовые видеть большевика из нового «Треста» — стали очень подозрительны. С другой стороны, стараются придумать нечто такое, что немедленно восстановит лицо РОВСа и его руководителя. Кутепов остается Кутеповым. Его никто ничему никогда не научит. Он — несгибаемый «вождь», принявший на себя все то, что не смогли-де сделать ни Врангель, ни Николай Николаевич.
— В прессе промелькнуло сообщение о второй тайной квартире Кутепова, в Двенадцатом округе Парижа. И о запросе одного из левых депутатов министру внутренних дел, после которого генералу пришлось высказаться. Кутепов заявил: он-де «работает» там. Получает советские газеты и книги, делает выписки и тому подобная чепуха! Была ваша шифровка, но хотелось бы подробнее, Альберт Николаевич. О роли конспиративной квартиры.
— Это штабная квартира РОВСа, товарищ Артузов. Там удалось побывать и мне. Правда, только однажды и короткое время.
— Охраняется?
— Да: весь дом — и весьма искусно.
— Так что вы там увидели?
— Типичная школа «активистов». Для наиболее проверенных руководителей. Избранных. Они действительно читают советские газеты, изучают структуру наших учреждений, пути сообщения. Упражняются в подготовке диверсий, приготовлении взрывчатых снарядов. Кутепов лично участвует в разработке маршрутов боевых пятерок. Обеспечение курьерской связи, изготовление документов, кодовых таблиц, паролей, путей отхода. Ну, и тому подобное. Генерал пошел на самые тесные и даже неравноправные контакты с разведслужбами Франции, Англии, Польши, Америки.
— И Германии?
— Да, ведь там очень быстро восстанавливается разведка и контрразведка.
— Есть прямые данные о связях с разведслужбами?
— Пока только косвенные. Кутепов разъезжает в автомобилях. Его жена появляется в соборе на рю Дарю в мехах и модных туалетах. У него и у Союза появились деньги — без сомнения.
— Когда вы в последний раз видели его? Не считая Финляндии.
— Монкевиц представлял меня ему в Париже месяц назад. В русском ресторане.
— Впечатления?
— Ничего ему не делается. Снял, правда, форму, разгуливает в твидовом костюме, котелке и с зонтиком или тростью — типичный рантье. Его охраняют? — Артузов посмотрел напряженно, пристально.
— Один человек всегда при нем. Сравнительно молод, несомненно военный, гордящийся своей миссией. Среднего роста, набриолиненные очень черные волосы с прямым пробором, темные живые глаза, длинные руки. Вот все, пожалуй. Кутепов в пиджачке — лишь витрина. С другой стороны — боевики, курсы генштабистов Головина. Начата организация во Франции школ, готовящих унтер-офицеров.
— И полицейские курсы, — напомнил Артузов. Широкие брови поднялись. — Кадровая политика. Организация политического и уголовного розыска, техника допроса, ход следствия, сбор информации.
— РОВС призывает на курсы всех желающих, чтобы, как писалось в приказе, «умело, организованно и систематически вести антикоммунистическую работу». Кутепов торгует русскими офицерами в розницу и получает с головы. Кто из разведок больше платит — неизвестно. Говорят, Дефензива, а у Александра Павловича широкая душа. Он не торгуется.
— Каковы отношения с «Внутренней линией»? — напористо продолжал спрашивать Артузов.
— Ее задачи и возможности несколько сужены Кутеповым. Как и аппарат и его функции. Задача — поддерживать авторитет начальников, потерявших карательную власть; вторая — осведомление о настроениях эмиграции; третья — борьба с большевистской агентурой. Есть закрытый фонд — увеличение ежемесячных ассигнований на «почтовые» расходы.
— Интересно. Появились ли у вас новые знакомые, коллеги?
— Капитан Каржевский. Настроен на возвращение домой, в Смоленск.
— Ну, право на возвращение еще надо заслужить. Любого подбирать не станем: времена не те... Подведем некоторые итоги — для вашей ориентировки, Альберт Николаевич. К своим успехам можем отнести: «проводку» по России Шульгина, дело таких матерых волков, как Сидней Рейли и Савинков, которых мы «переиграли». Это факты, но не по вашему, мы вели с двадцать второго по двадцать седьмой год и добились многого. Есть и проколы. Вот почему считаю долгом остановиться на «Тресте». На ошибках учимся, как призывал Феликс Эдмундович. Тем более — это в значительной степени моя ошибка. Она связана с Опперпутом. Вам известна эта фамилия?
— Из эмигрантских газет.
— Начинал он в конце двадцатого года в Смоленске, в должности помначкомвойсками Западного фронта, хотя мы знали его некоторые антикоммунистические связи. Привлекателен, молод. Страшно тщеславный, изворотливый, готовый к авантюрам. Твердых политических убеждений не имел, медленная карьера в Красной Армии его не устраивала. Через некоего Заржевского был завербован савинковцами, стал заметной фигурой в их антисоветском подполье. К этому времени он — начальник Минского укрепрайона, что, естественно, повышало его акции. Опперпут четыре раза нелегально переходил границу. Встречался с Савинковым, получал деньги, инструкции, прокламации. Им заинтересовалась французская разведка. И мы тоже «повели» его.
На западной границе образовалась целая антисоветская компания: командир запасного батальона Щерба, уездный военрук Максимов, комендант Гомеля Чнбирь, военспец Корсунский. Мы их взялн сразу, одним махом. И сразу я выделил Опперпута. Почему? Нужен был адъютант из офицеров — главное. По происхождению из крестьян, Опперпут, хоть и нарушил наши законы, помог следствию, хотел искупит} вину. Под фамилией демобилизованного Эдуарда Оттовича Стауница мы поселили его в Москве, внедрили в «Трест», а для страховки «укрепили» через второй отдел польской разведки под фамилией «Денисов». Ему поручали проводку людей через «окна». Через него и Якушева шла дезинформация, которую покупали поляки, перепродавая подороже французам и англичанам...
Стауниц сначала работал пристойно, но позднее стал вилять. Я вызвал его на беседу. Он показался мне чрезвычайно нервным, издерганным. Курил одну папиросу за другой, говорил слишком много. Но он клялся, что хорошо выполняет все поручения, обещал верно служить и никогда не отступать от своего обещания. Я сказал: не хочу вас обидеть, но легковерие мне не свойственно. Он ответил, что чужд вероломству и хотя его прошлое дает основание для подозрений, он вновь готов доказать преданность. Я полагал, у Опперпута нет пути назад.
И ошибся. С появлением Марии Захарченко и других доверенных Кутепова Стауниц, связавшись с ними, стал заниматься валютными махинациями, а затем, переправляя в очередной раз Захарченко через «окно», удрал с ней. «Переправщик» счел себя не в праве задерживать его. Через «Трест» мы объявили Стауница провокатором, пустив в обращение записку, оставленную им жене. Там были такие слова: «Ты услышишь обо мне как о международном авантюристе».
Пришлось принимать срочные меры, чтобы полностью нейтрализовать его. Ряд эмигрантских газет сообщил: «Опперпут — чекист, он вводил РОВС в заблуждение, поставляя ложные сведения и имитируя теракты». Опперпут оказался между двух огней. Первое, что ему пришлось делать за рубежом, — доказывать, что он не агент ОГПУ. Он ответил всем сомневающимся через рижскую газету «Сегодня». Клялся в лояльности, выражал готовность к любой проверке, обещал даже взорвать в Москве здание, где работают главные советские чекисты. По старому знакомству за него поручилась Захарченко. С ней и бывшим офицером Вознесенским они снова перешли через финское «окно», добрались до Москвы.
Артузов налил себе холодного чая, выпил залпом. Встал, подошел к простенку, открыл карту Москвы — коренастый, крупноголовый, широкоплечий, с широкими скулами, темно-серыми выразительными глазами. Показал карандашом на карте:
— Малая Лубянка — вот. А тут, в бывшей гостинице «Бристоль», общежитие чекистов. Теракт психологический в первую очередь — взорвать общежитие, хотя и человеческих жертв было бы предостаточно. Под самым-де носом ОГПУ.
Захарченко и Вознесенский прикрывали. Стауниц проник в здание, заложил мощный мелинитовый заряд и шашки. Но взрыва не произошло: проснулось несколько человек и с риском для жизни обезвредили устройство. Террористов погнали к западной границе. Первым, отказавшись сдаться, был застрелен Стауниц-Опперпут. Ну, а позднее — остальные. Пришло время закрывать «Трест». — Артузов, заложив кулаки под мышки, твердо прошелся по одной половице. Подумал, остановившись возле окна, и, глядя через занавеску на московские крыши, сказал: — Хорошо поработали. Но ошибки были. Недооценили противника — это тоже факт. О своей ошибке я докладывал Коллегии: никуда не денешься, провел меня Опперпут. — И тут же, повернув крепкую шею и словно оттолкнувшись от окна, пошел к креслу, говоря с улыбкой: — А знаете, кто нам с МОЦРом[59] помог бороться? Бурцев! Великий разоблачитель! Шерлок Холмс и Нат Пинкертон российской журналистики — дома и в эмиграции. Нюх у него был, он и подсказал нам, чем мы должны заниматься. Читали? Он опубликовал все.
— Бурцева не припомню, а вот высокие отзывы Струве и Керенского о нашей работе — да.
— Три задачи поставил Бурцев перед собой и нами. Организовать наблюдение за контрреволюционным элементом, войти в сношение с иностранными контрразведками и организовать наблюдение за ними, объединить все эмигрантские контрреволюционные организации и попытаться руководить ими. И на оперативном совещании лучше не сформулируешь, а? — Артузов коротко засмеялся. — Приказано прислушиваться к Бурцеву. И поближе присмотреться к вашему старому знакомому Знаменскому, которому «Внутренняя линия», перестроившись, поручила охрану руководства РОВСа, предложив стать глазами и ушами воинского союза.
— Запомню.
— Не так давно русские офицеры весьма неохотно принимали в свою среду «голубые мундиры»[60]. Теперь иное. Полное пренебрежение к нравственному чистоплюйству, как высказываются господа сиятельные, равнодушие к крови и грязи. Во имя исторической миссии. Перед нами качественно новая эмиграция. Вы правы: продавшие свою честь легко становятся покупателями чужой чести. Пойти на сделку с совестью всегда легче под руководством уже предавшего совесть. Мы с вами наблюдаем антисоветскую часть эмиграции. Теперь она деморализована. И у нас иные задачи: мы вышли на борьбу с контрразведками мира, ибо они охраняют тех, кто не расстался, да и не расстанется никогда с идеей уничтожить государство рабочих и крестьян. И «дубьем», и рублем. А в головном отряде пойдут фашисты, сблокированные с самими неразоружившимися эмигрантами.
— Об этом я и хотел сказать, Артур Христианович, — о фашизме. Разумеется, наблюдения в пределах моего европейского района. Моего и «Доктора». Он человек дальновидный, так что я — от нас двоих. Речь идет о молодом поколении эмигрантов, которые поносят стариков за болтовню и опираются на опыт итальянских и немецких фашистов.
— И на японских, — перебил Артузов. — У нас имеются любопытные данные о харбинцах и их лидере Радзиевском. Простите, перебил. Слушаю.
— Мы имеем в виду европейцев, хотя, уверен, они мало чем отличаются от дальневосточных фашистов и группы некоего Вонсяцкого в Америке. Это Национальный союз русской молодежи, хорошо подготовленные террористы, стоящие на крайних антисоветских позициях и идущие на сотрудничество с РОВСом. Пока их небольшая группка, но мы уверены, что и с нее нельзя спускать глаз. Центр — в Белграде. Программа: разработка крайне оголтелой шовинистической идеологии в противовес коммунизму, подготовка кадров для включения в новый «революционный процесс» в России, выработка основ будущей российской государственности. Их называют «нацмальчики».
— О фашизме будет особый разговор на ближайшей Коллегии. Теперь давайте о вас. Что будем делать с Монкевицем? Арестуем? Арестуем вас? Надо обдумать. И срочно: все равно он протрезвеет. А нам нужен еще не один час, чтобы обговорить с вами важную операцию. Вы должны ехать на Кубань, чтоб связаться с местным подпольем и инспектировать его, так? Зачем вам Монкевиц? Для достоверности провала группы? Увеличится достоверность от того, что вас осталось двое?
— У нас ведь общее задание, Артур Христианович. Мы — политические эмиссары. Возможно, уже пожаловала новая группа кутеповских боевиков. И предположим, не Монкевиц, а некто вновь прибывший — старший в группе. И станет дальше проверять меня. Одно дело — наш доклад и донесение с Кубани. Оно пойдет через море, через Болгарию, а меня пока что будут перепроверять. А тут — вот он, свидетель. Весь опаснейший путь рядом прошли.
— Уговорили! — Артузов вновь откинулся на спинку кресла. — Но нам вы нужны хотя бы на сутки... — он подумал» прикрыв глаза и что-то прикидывая в уме. — Пятерку мы взяли только что. Одного отпустим к вам. Для этого организуем драку с милиционером» скажем.
— На драку может не пойти. Новенький для меня абсолютно темная лошадка. И кого вы решите отпускать?
— Ладно, это наша забота, берем все на себя. Арест у вас завтра в полдень. По недоразумению, часов в пять.
— Дома? Монкевиц может не выйти.
— Уйдете вы... Куда? Зачем?
— Скажем, на станцию за билетами, — предложил Венделовский. — Хотя это должен был сделать хозяин.
— Его не будет. Вы уходите на вокзал, а тут милиция, проверка документов. После ареста вы сразу возвращайтесь... Не очень ладно придумано. Нет вашего активного участия в борьбе.
— Да, и это подозрительно, — согласился Венделовский. — Мне, собственно, надо «спасать» лишь Монкевица.
— А насколько можно считать его уже «прирученным»?
— О, Николай Августович — хитрая бестия. Правда, он уже оказал мне определенную услугу с переводом в РОВС. Я показал, что знаю о нем достаточно. Но это все, так сказать, в рамках белого лагеря. О перевербовке пока не могло быть и речи. Нужно время, укрепление моих позиций в РОВСе.
— Вот времени у нас нет, — жестко сказал Артузов. — Все задачи придется выполнять одновременно, здесь.
— Не перегнуть бы палку. Вот генерал Перлоф...
— Монкевиц — не Перлоф, — решительно возразил Артур Христианович. — Тут будем действовать «бурей и натиском» — Sturm und Drang, как говорится... Мы его напугаем. Вернее, вы. Фигурально выражаясь. Вы ему откроетесь и расскажете, как долго он выполняет чекистские поручения. Деваться ему некуда: он в большевистском «логове».
— Но есть еще кто-то из последней пятерки, — возразил Венделовский. — Кто-то старший. Какие у него полномочия и задачи? Не исключаю, он послан лишь для нашей перепроверки.
— Прибежит к вам как миленький, не беспокойтесь. Монкевиц его знает, видел?
— Полагаю.
— Да, это приходится полагать, — согласился Артузов. — В крайнем случае подставим к вам пятым своего. Его и арестуем у вас на явке. Договорились? А куда побежите с Монкевицем? — задумался, потер лоб. — Придется дать вам ключик отсюда, — обвел он взглядом комнату. — Объясните: с врангелевской, мол, еще службы сохранилась. В детали не вникайте, детали — не его дело. Посидите дотемна, а потом, со всеми возможными предосторожностями, — на Курский вокзал. Там и потеряться легко до отхода поезда. Поезд рано утром.
Постучав, зашел молодой человек в надвинутой на глаза фетровой шляпе и модном пальто, шепнул что-то Артузову.
— Доложите, Александров, — приказал Артур Христианович. И улыбнулся: — Тут все свои, — но знакомить прибывшего с Венделовским не стал и раздеться не предложил, всем своим видом показывая, что времени у того для сообщения мало.
— Старшего группы мы легко выявим, — голос у Александрова чуть дрожал от желания рассказать все как можно быстрее. — Боевик очень надеялся на свои документы и легенду: живет в Могилеве, русский, беспартийный. Из Красной Армии уволен из-за ранения, подчистую. Теперь приехал к дяде в столицу, чтобы купить ситчику, обувку и кое-что из конской сбруи. Пришлось делать ему очную ставку с «дядей». Все правильно!
— Вот что значит русский диверсант — у него любая русская легенда звучит правдоподобно, — сказал Артузов. — Одевается и говорит как русак, не забыл еще родного языка. С таким бороться труднее, чем с Сиднеем Рейли.
Венделовский насторожился.
— Спросили мы боевика о всех его спутниках, — продолжал тот, кого назвали Александровым, — о «Ленинградце» и его начальнике. — «Не знаю, говорит. Раньше не видел, не встречались». — «А через «окно» не вместе проходили из Финляндии?» Раскололся. Шел сдаваться, говорит. Давно решил, но очень вас и Монкевица боялся. Им, говорит, право такое дано — убивать на месте любого из группы, каждого колеблющегося, струсившего. Они — звери. Он и побежал от нас потому, что вам удалось скрыться. Побоялся, неубедительно получилось. У него в Берлине жена и сын бедствуют. Переживал: вернется «Ленинградец» — и им житья не будет. Успокоили: не скроются от нас ни «Ленинградец», ни Монкевиц.
— Хорошо, конечно, — Венделовский вздохнул свободно. — Только вы его не выпускайте в Берлин. Раз струсив, может струсить вторично. Не мне вас учить, Артур Христианович, но...
— Говорите, я слушаю.
— Может, открытый способ внедрения? Прошел арест и — вольный казак.
— За это не беспокойтесь. Хотя проследить за ним придется. Мы к нему семью привезем. Из Берлина. Вы свободны, товарищ Александров...
Артузов проводил глазами сотрудника, встал, снова пошел, задумавшись, по одной половице. Сказал тоном приказа, точно подводя итог разговору:
— Вы возвращаетесь, Альберт Николаевич, и осторожно занимаетесь только Монкевицем. Результаты передаете через хозяина квартиры. В случае неудачи следует наше нападение и подготовленное для вас бегство на Курский. Продемонстрируйте все свои возможности. На вокзале вас любезно возьмут и привезут ко мне. Нет ли вопросов, вам все понятно?
— Так точно, Артур Христианович. Все!
— В таком случае до встречи, — рукопожатие у Артузова было просто богатырским...
Операция развивалась по плану.
Совершенно протрезвев к возвращению своего напарника, Монкевиц уже отлично понимал, что попал в ловушку. Неясной оставалась ему лишь роль Венделовского в их провале. Долгое отсутствие подчиненного, его поразительное рвение: самому ехать за билетами, обещание проследить, нет ли за их квартирой слежки — все это заставило Николая Августовича задуматься, а не чекист ли этот приятнейший Альберт Николаевич. Все, что произошло, могло быть заранее спланированной и хорошо проведенной операцией. К тому же ни одному из последней пятерки боевиков не удалось добраться сюда. Тут и хозяин явки был явно их человеком. Монкевиц, с которого слетел и весь лоск и самоуверенность, невесело раздумывал о своей участи, лихорадочно подбирая выход из создавшегося положения. Убьют его тут же, за ненадобностью, или сошлют в Сибирь? Или уготована ему иная участь — быть может, перевербовка? Где смогут его использовать? Вряд ли они вернут его в Европу, чтобы сделать «двойником». Остерегутся, вероятно. Потребуют весьма сильных гарантий. Он ведь был один, Монкевиц. Один-одинешенек, давно растерявший всех родных и близких. У него не было ни состояния, ни счета в банке. Какие гарантии он мог предложить чекистам? И на какие они согласятся? Человек практический, хоть и не очень опытный в делах разведки и контрразведки, Монкевиц избрал, однако, правильное в тот момент решение: предоставить инициативу и право сделать первый ход противнику. Он рассуждал примерно следующим образом: он, не колеблясь, принимает все предложенные чекистами условия (цель — сохранение жизни!), делает все, чтобы завоевать их доверие. В конце концов его посылают — в Европу, на Дальний Восток, куда угодно! — он открывается Кутепову, разоблачает «Ленинградца» и всю его сеть — в Москве и Париже... Монкевиц успокаивался, он был уже почти спокоен. И выслушал ложь Венделовского с полным доверием. Альберт Николаевич понял, что лишние слова не нужны. Пора было переходить к главному.
Их разговор напоминал дебют шахматной партии равных по силе противников, которым отлично известны каждый следующий ход и все его варианты. Довольно быстро Монкевиц сдался — признал себя побежденным, спросил об условиях сдачи и заранее пообещал, что сделает все, что от него потребуют.
«Хозяин» вызвал по телефону автомобиль, и они отправились на Лубянку, где их ждал Артузов, Но не в своем рабочем кабинете, а в одной из комнат следственных работников, где обстановка была самой казенной: канцелярский стол, несколько венских стульев, портрет Ленина и карта Советского Союза на стене. Монкевиц нервически оглядывался: подозрения о немедленном аресте вспыхнули с новой силой. Заметив это, Артузов пришел к нему на помощь. Он задал полковнику несколько коротких вопросов о прошлой жизни и отношении к последним событиям в мире, чтобы определить его точку зрения, точно Артура Христиановича и впрямь очень интересовало мнение Николая Августовича относительно Абиссинии или, скажем, о вооруженной борьбе генералов против гоминдановцев в Китае. Выслушав Монкевица, который от волнения косил более обычного и нервно сжимал пальцы, Артузов внезапно спросил: неужели полковник верит в силу кутеповских терактов, в наивные попытки создать подпольные контрреволюционные банды на Дону или Кубани? Ведь он, будучи опытным разведчиком, не может не знать о каждом случае провалов групп, посланных из-за рубежа.
Монкевиц ответил, что не верит. У движения нет будущего. Правда, в общей куче активистов переходят границу и люди, прошедшие специальную подготовку в разведшколах иностранных государств. Но это не его компетенция. Увы.
— Но компетенция Кутепова? — быстро задал вопрос Артузов.
— Вероятно, — уныло подтвердил Монкевиц. — Изначально это его люди. Он сам производит отбор.
— Понятно, Николай Августович, — Артузов широко улыбнулся. Улыбка очень шла к его сегодняшнему облику. Он выглядел обычным совслужащим: толстовка, подпоясанная узким кавказским наборным ремешком, хромовые, тесные в полных икрах сапоги, темно-синее галифе и брезентовый портфель на столе. — Мы не стараемся сразу завербовать вас, полковник, и дать задание. Не думайте. Сейчас объясню почему. Первое — убедиться в вашей лояльности к товарищу Венделовскому. Вы сделаете, что вам поручено Кутеповым, на Кубани и благополучно вернетесь в Париж. Там отчитаетесь обо всем. Кроме московских эпизодов, естественно, и наших разговоров.
— Потом вы уничтожите меня? — вырвалось у Мон-кевица.
— Почему же? Бели вы захотите честно сотрудничать с нами — будем рады поступку подлинно русского патриота. Не захотите — поможем уехать и скрыться. Это второе.
— Но какие гарантии предоставляются мне?
— Мы полностью доверяем вам жизнь и судьбу нашего товарища — после возвращения в Париж.
— Резонно... А что вы потребуете от меня сейчас? Расписку о добровольном сотрудничестве, разумеется?
— Да, и расписку, конечно, — в голосе А рту зова впервые прозвучали твердые, командные ноты. — Мы хоть и не купцы, но безопасность дела требует, Николай Августович... Впрочем, будет вам и подарок. От нас — за будущие, так сказать, заслуги. Где-нибудь в пригородах Парижа... А если захотите, в Нормандии или ни юге вам будет куплена вилла. Особнячок, что ли, не очень бросающийся в глаза. Куплен на имя Альберта Николаевича. Вы можете владеть им одновременно или по очереди — как заблагорассудится.
— О! — Монкевиц понятливо кивнул. Поморщился, сказал обескураженно: — Вы ловко привязываете меня к вашему чекисту. Это очень умно и дальновидно. Спасибо за дар, — и усмехнулся. — Я в тупике и... и сдаюсь, поднимаю руки.
— Ну, зачем же так мрачно, полковник. У вас всегда будет выход — сбежать, скрыться. Еще раз напоминаю вам об этом.
— Премного обязан, — не скрывая иронии, поклонился Монкевиц. — Есть и еще выход. Застрелиться — разведчики должны уметь проигрывать, не так ли?
— Я надеюсь, вы не столь глупы, Николай Августович. И достаточно любите жизнь — по моим данным. Незачем считать себя проигравшим. Вы ведь по-прежнему будете работать на Россию. На истинную Россию, Монкевиц... Петров! — громко позвал он и постучал кулаком в стену.
Тут же вошел длинный парень с шапкой золотых кудрявых волос и подвижным лицом, чуть тронутым оспой, в коротковатом и узком ему пиджаке.
— Билеты принес? — спросил его Артузов. — Когда поезд?
— Как приказывали. На самый первый, утренний.
— Видите, все в порядке, Николай Августович. Завтра можете ехать. Товарищ Петров проводит вас на квартиру. А Альберта Николаевича мне придется еще задержать. Ненадолго... Для обратного пути у вас, насколько мне известно, подготовлен южный вариант?
— Так точно! — Монкевиц встал, не в силах скрыть растерянности и охватившей его вдруг апатии. Значит, пока не увидимся. Желаю здравствовать. И прошу: не принимайте необдуманных решений.
— Честь имею! — сухо произнес полковник и по привычке козырнул. Этот жест, абсолютно не вязавшийся с его более чем скромной штатской одежонкой, еще более подчеркнул его растерянность: полковник, судя по всему, окончательно потерял почву под ногами.
— Считаю, это дело закручено нормально, — сказал Артузов. — Зажали господина полковника — ему и деться некуда.
— Полагаю, петлять не станет, — сказал Венделовский. — Я, признаться, не ожидал, что он так быстро сломается.
— Судя по вашим сообщениям, он сломался еще тогда, когда поменял Врангеля на Кутепова. Самое время и нам переходить к Кутепову, — Артузов пересел на место, которое только что занимал Монкевиц, раскрыл брезентовый портфель, вынул папку. Пригласил подвинуться поближе, сказал: — От «Доктора» донесение — очередной приказ боевого Александра Павловича по РОВСу. Он и только он — прямой наследник великого князя Николая. Слушайте, читаю: «Они призывали нас к единению, стойкости и жертвенному служению Отечеству. Покажем же на деле, что эти заветы не мертвая буква и они действительно живут в наших сердцах...» Так, ну, далее о плохой работе боевиков и недостаточной подготовке пятерок. Большой процент не возвращается из Советской России. С этим мы, пожалуй, согласимся, а, Альберт Николаевич? Согласимся и с мерами, которые предлагает бравый генерал. Тут что? Предлагается еще раз проверка и перепроверка каждого: возможны враги — провокаторы, слабые духом трусы, интеллигенты, старающиеся, сознавшись, заслужить прощение большевиков. Подписано генералом от инфантерии Кутеповым. Когда, кстати, он стал полным генералом?
— Приказа о производстве не было — это я точно помню. Да и от кого?
— Не вспомните, Альберт Николаевич, не старайтесь. Так Кутепов доказывает миру: он — первый русский за рубежами России. Еще и в маршалы себя произведет. Если успеет. С ним и бороться нам, раз он сам объявил о высшем положении его Союза в общественной жизни русской эмиграции. Назвался груздем — полезай в кузов, генерал от инфантерии, — Артузов хмыкнул, заглянув в какую-то бумагу: — Посмотрите, каким слогом заговорил: «...первейшая и главнейшая задача заключается в единении и сохранении тех заветов, кои в нас заложены прежней нашей службой под увенчанными славой императорскими знаменами. РОВС должен составить действительно мощную организацию...» Вот сукин сын! — не сдержался Артузов. — Теперь уж ему приказы не Бенько пишет... А вот и другие газеты с речами героя: «Я, как председатель РОВСа...», «Нельзя ждать смерти большевизма, его надо уничтожить...» — ну и в том же духе. Неистовый Кутепов! Силы ему девать некуда! «Доктор» сообщает: РОВС стал хорошо кредитоваться с нескольких сторон. Что ни день — приемы, банкеты, совещания, зарубежные вояжи в Югославию, Болгарию, Чехословакию. Вот адрес новой явочной квартиры, сообщенный «Доктором». В Ленинграде, на Басковом, в бывшем доме княжны Оболенской. Оперативно, молодец! Но Кутепов, Кутепов — самый активный из своих активистов. Организованный ранее фонд имени князя Николая он берет в свое распоряжение «на патриотические цели». А вот сообщения из Праги: «Прибыл экспрессом...», «Многолюдный банкет, многообещающая речь в твердых и решительных выражениях», «Идем по пути великого князя», «Армия жива», «Будущих форм государственного устройства России пока предрешать не будем»... Каков? Откуда полились деньги, Альберт Николаевич? — Артузов, отодвинув кресло, прошелся по комнате. — Это предстоит узнать в первую очередь. Точно!
— Есть! — просто ответил Венделовский. — Будем узнавать.
— Ага! Вот что еще характерно — встречи: Струве, Крамарж, князь Долгоруков. Заявления о необходимости «коалиционной жертвенности, о необходимости поднять людей, умеющих владеть оружием»... То же и из Белграда: Эк к, Палеолог, Марков, Артамонов от казаков — широко шагает мальчик! — Артузов взял из папки еще одно донесение: — Речь Кутепова на банкете воинских организаций: несмотря на утраты, нет уныния, ибо... Нет, послушайте!.. «Преемственность вождей является гарантией, что борьба не прекращается...», «русской армии не придется краснеть за годы изгнания...». Его принял король Александр. А вот и итоги поездок — любопытно. Наберемся терпения. Тут ничего нового, но ознакомить вас должен: «Есть объективная разница между настроением десять лет назад и теперь. Раньше многие боялись говорить о борьбе. Теперь об этом говорят открыто. Я вижу это по настроениям во многих странах. Но идет ли борьба? Я думаю, борьба идет тогда, когда об этом не знает никто. Мы все узнаем лишь о благородных жертвах этой борьбы... Я побывал во многих странах. Я увидел русских офицеров, работающих шоферами, служащих. Они испили чашу до дна, но остались офицерами. Есть одна опасность — типа обывательщины, растворения в местных, узких интересах. Некоторые прогнили и опаскудились, стали ненадежны. Велика честь сложить голову за родину. Дорожите же своей организацией, любите ее, держитесь теснее друг друга!..» И последнее сообщение, Альберт Николаевич, — из Финляндии. Где оно? Вот! — достал из папки пол-листка бумаги, осторожно расправил, но читать не стал, только заглянул и сказал, не скрывая усталости:
— После ваших проводов господин Кутепов вновь посетил Финляндию. Останавливался, как всегда, в Териоках, на даче Фролова. Да не один, а в сопровождении английских агентов Росса и Бойса. Это уже серьезно. Итак, Кутепов, Кутепов и еще раз Кутепов. Так и передайте «Доктору»... Мы уже не увидимся на этот раз. Может, пару дней отдохнете? Мы сумеем задержать Монкевица...
— Для пользы дела не стоит, Артур Христианович.
— Так и я думаю, Альберт Николаевич, — и лукаво добавил: — Исчезаю. Успехов вам, привет товарищам. Считаю, все с пользой для дела.
Они крепко пожали друг другу руки. Артузов уже словно со стороны оглядел Венделовского и закончил, довольный своей придумкой:
— Ну, а со всем остальным вас познакомит другой товарищ — ваш коллега.
Открылась дверь, выпустив Артузова, и в комнату шагнул... Гошо «Цветков». Вот уж кого не ждал увидеть здесь, в Москве, Венделовский. Они обнялись.
Прежде всего о деле, и, вероятно, именно для этого они были сейчас сведены. Но тут заглянул в полуоткрытую дверь улыбающийся Артузов. Глаза его смотрели с хитрым блеском.
— Что, господа? — улыбнулся торжествующе. — Ждете, появится бог из машины и принесет вам инструкции друг для друга? Инструкций сейчас не будет. Разговор может иметь чисто приватный характер. Так запланировано — два часа. Это мой вам подарок. Счастливо оставаться — и чтоб никаких дел! — он тихо прикрыл дверь и исчез.
— А ты все такой же, Гошо.
— И ты такой же... Что нам делается? Ну, рассказывай.
— Рассказывай ты. Как у тебя?
— Нормально. Доучусь — и снова в путь. Судя по всему — Прага. Там сильная болгарская студенческая колония, много болгар-огородников. И кроме того, — он широко, заговорщически улыбнулся, — военные заводы «Шкода», на которых чехи готовят оружие для новой войны. Дезьем бюро и Интеллидженс сервис обеспечивают контроль за его производством и секретность. Лицензии вроде английские. Поживем в Праге — ах, какой город!.. Вацлавская площадь, мосты через Влтаву, Старо Място! Где еще найдешь такие древние улочки, погребки, памятники средневековья?! Мне повезло, считаю. А ты уезжаешь? Или приехал?
Венделовский кивнул. Лишние вопросы задавать у них было не принято.
— Утром уезжаю, дружище.
— Жаль. Думал пригласить к себе, с женой познакомить. Живу недалеко, у Белорусского. Может, от меня и на поезд? Машину и конспирацию обеспечу, Альбертик. Артузов, по-моему, еще здесь. Разреши, обсудим вариант?
— Не стоит, Гошо. Я с другого вокзала и не один. Дали два часа — радуйся. И за это спасибо.
— Не женился?
— Да нет пока. Все не влюблюсь никак.
— Привередлив... А чему ты все улыбаешься?
— Вспомнил, как мы тебя никак не могли вытолкнуть с родных Балкан. Хватался за каждый кустик.
— Да, тут, если признаться, переоценил я себя. Дело прошлое, можно и рассказать. Чтоб тебя повеселить. Хочешь, а?
— Повесели, — сказал Венделовский. — Самое время нам посмеяться. Но сначала о жене. Где, когда, кто? — все, одним словом.
— Очень, просто, друже. В Вене я сидел. Тихо, спокойно. Один! И вдруг команда: прими радистку, она же шифровальщица, подумай над «крышей». Вот! Не было печали! Но я должен знать, что за человек, что может? Так? Мне отвечают: немка, двадцать семь лет, знает языки, может работать переводчицей в любой технической экспертной фирме. Встретил — женщина потрясающей красоты! Даже слишком — для нашей профессии. В глаза бросается. Все за ней ухаживают. Я, разумеется, тоже. Из соображений конспирации мы «поженились»... Не успел я оглянуться, как влюбился по уши. Мы с Кларой стали мужем и женой по-настоящему. Она мне и сына родить успела, Стояном назвали. Замечательный парень, весь в меня. От ее немецкой породы ничего не осталось!
— Поздравляю, Гошо. Значит, опять расставание?
— Ты про меня? Ничего подобного! Еду с женой и Стояном. Что может быть более надежным прикрытием?!
— Ты прав. А теперь рассказывай то, чем хотел повеселить.
— Незадолго до отъезда из Вены потащил я за собой «хвоста». Знакомец оказался давний. Еще по варненским временам, представляешь? Как будто узнал меня, но вижу, не очень уверен. Мне сменили документы. Стал я польским евреем, изучающим юриспруденцию. А что? Не похож? Посмотри внимательно... Я основательно познакомился с географией родного Белостока — расположение улиц, вокзала, главной площади и базара. Маленький совсем городок, грязный, нищий. Усвоил характерные особенности польских евреев, манеру их разговора, жестикуляции, манеру одеваться, держаться в «обществе». Совсем евреем стал. Сам черный, нос с горбинкой, парик приладил и пейсы отпустил — брат не узнал бы. И я считал, что обрубил «хвост». Начал готовиться к поездке в Союз. Кружным путем через Белград — Софию — Афины. И морем в Одессу. В Афинах я становился армянином. Мелким торговцем, пострадавшим от резни турок. Хорошо? Как бы не так! Чуть не в последний день опять на него наткнулся. Случайно, нет, — кто знает? Ухожу без волнения: вижу, опять сомневается мой сопровождающий. Тут я и промазал. Надо, рассуждаю, пообедать, и время подходящее. Где обедает состоятельный еврей?
В хорошем еврейском ресторане, тем более — есть там известный мне запасной выход для выноса контрабанды в случае появления полиции... Настроение отличное, захожу. Сажусь за столик, шляпу тут же на вешалку, берусь за газету и за окно поглядываю, на своего друга-филера. А он прильнул к стеклу, меня высматривает. И вдруг замечаю, все официанты потрясены, а посетители смотрят удивленно и с возмущением. И «мой» сразу понял, что никакой я не еврей. Все евреи вокруг в шапках — как это им и положено. «Повел» меня вновь и со всем рвением. Сутки не мог и на миг оторваться, хоть стреляй в него. Дошел и до этой мысли, да пистолета с собой не оказалось. К счастью. Пришлось срочно менять квартиру, документы и весь путь следования. Через Берлин к Гамбургу и морем — в Ленинград. Под видом эмигранта. Прошло. Нет мелочей в нашем деле. Был у меня, как это... посыльный, на год прикомандировали. Честнейший парень, настоящий коммунист, Неделков. Одна неприятность — храбрый очень, во все драки готов ввязываться... Помнишь, атентат двадцать пятого года? Акция болгарских «леваков», взорвавших Софийский собор.
— А потом судилище и трое повешенных? Помню.
— А кровавый террор реакции? Она получила возможность убивать любого где попало, без суда и следствия. Сотни товарищей просто исчезали. Их обезглавливали, бросали на свалку. Или тайно хоронили где-то за городом. Излюбленный прием убийц был знаешь какой? Подкрадывались сзади, набрасывали проволочную петлю и душили, натягивая проволоку в разные стороны. Тихо и просто, да? Мой Мишо Неделков в те дни, спасая неизвестных ему людей, ввязался в перестрелку и был замечен цанковцами. А через два дня пал их жертвой. И его убили проволочной петлей средь белого дня недалеко от центра Софии. Он нарушил приказ, а наказали меня. Пришлось убираться из Болгарии, где так хорошо разворачивалась моя коммерция. И Мишо жаль...
— Столько раз уже тебе приходилось бегать, Гошо? Бедняга. Но ты прав: мелочей в нашем деле нет. В Софии вместо тебя теперь «фунтик»? Были с ним контакты? Как он справляется? Его подготовка, как мне показалось при встрече, нуждается еще в у совершенствовании. Опыта нет, практика мала. Да и условия, в которых он оказался, специфические.
— Наш «Фунтик» справляется. Справляется потому, что пока «законсервирован». — «Цветков» рассмеялся. — Возле отца родного Николай Абрамов как у Христа за пазухой. Герой! Бежал от большевиков, сумел добраться до Болгарии чуть не вплавь. Чествовали его по первому разряду. Отдохнуть предлагали, но Николай, конечно, отказался: времена не те, чтоб отдыхать и благодушествовать. Трудится в местной канцелярии РОВСа под руководством боевого капитана Фосса. А папа, генерал Эф-Эф Абрамов, глядя на сына, не нарадуется. А вместе с ним и весь болгарский отдел Воинского союза, который он возглавляет. Второй генерал после Кутепова. Теплое местечко! И теплое прикрытие. Нам с тобой потрудней приходилось: перепроверка за перепроверкой. А он еще и отца перевербует, увидишь!
— Не получилось бы наоборот, — заметил Альберт Николаевич. — Черт знает, как может все повернуться. Отец, сын... Думаю, как я бы работал в таких условиях? Против отца. Мне было бы очень трудно, честно тебе скажу. Но я не «Фунтик». Я его плохо знаю.
— А я достаточно хорошо! — горячо возразил «Цветков». — Вполне солидарен с начальством — можно положиться на все сто процентов. И пусть «законсервирован»: он себя еще покажет, клянусь.
— А ты стал хорошо говорить по-русски, Гошо. Что-нибудь известно о гибели Слащева? Подробности, детали, новые обстоятельства?
— Мне ничего вообще не известно, — неожиданно сухо ответил «Цветков». — Дело темное. И не мое направление.
— Понятно. Тогда давай о другом. Расскажи-ка мне о Москве и нашей советской жизни. Подробно, обстоятельно обо всем новом. Я хоть послушаю: ни Ленинграда, ни Москвы так и не поглядел, все сквозняком, на скорости. Когда удастся еще приехать — кто знает...
2
В редакции «Последних новостей» январь тридцатого года начался тихо. Сотрудники казались друг другу необычайно благожелательными и ленивыми. Никто, словно по уговору, не гонялся за сенсациями и гонорарами. Будто рождественские каникулы в этом году затянулись или надоело сразу всем заниматься неблагодарным и трудном делом — возрождать изо дня в день отечественную журналистику за рубежом. Будто разом иссякли все эмигрантские источники, дающие газетную информацию. Мир, как известно, держится на энтузиастах. Так вот, в «Последних новостях» сразу повывелись все энтузиасты. И деньги словно потеряли притягательную силу, столь необходимую для поддержания жизни. Это касалось сразу всех и каждого в отдельности. И было совершенно необъяснимо. Словно кризис, наступивший после долгой и тяжелой болезни. Словно глубокий штиль перед бурей в океане, хотя ничто не предвещало ее... Газета выходила каждый день. И все материалы находились на местах, где им положено было находиться на полосе: рассказик, «подвал», содержащий чье-то воспоминание о былом или обстоятельную статью «к дате»; международные известия, «Про все» и «Вести отовсюду»; хроника парижских событий, материалы о жизни в Советской России, политические обзоры за неделю; заведомо ложная информация, претендующая на сенсационность; научные заметки; театр, синема и музыка, спорт; непременные крестословицы; новый отдел шахмат; отдел «Сегодня», сообщающий о лекциях, собраниях, богослужениях; обширная реклама... И все-таки с газетой что-то происходило. Каждый из сотрудников редакции это видел и искал причину в себе самом, в своей житейской ситуации, настроении, радостях или невзгодах, отнимающих его рабочее время. И, разумеется, не торопился поделиться своими сомнениями с коллегами. Эмиграция приучила к этому. Каждый боялся за себя. Хотя в тот январь дело было совсем в другом. Газета «устала». Нужен был какой-нибудь «взрыв», революция или реформа — кто знает. Во всяком случае, некое обновление. В любой области. В большом или малом — неизвестно. Нужен, необходим был толчок. Может быть, все и ждали именно его, этого толчка.
Днем в редакции было непривычно многолюдно. Сидели по кабинетам, курили, разговаривали, ходили сообща пить кофе в ближайшее бистро, а если получалось — собирали информацию по телефонам, с удовольствием принимали посетителей, подолгу беседуя с каждым.
Шел ленивый разговор и в кабинете друзей. Лев заканчивал составление очередной крестословицы, дело не ладилось, а тут еще Анатолий, сознательно мешая, лез со своими вопросами, чтоб поговорить о чем угодно. Хотя стало уже законом: о чем ни начинали говорить русские эмигранты, разговор так или иначе оканчивался политикой. Грибовский не являлся исключением. Федоров-Анохин — иное дело. «Он всегда исключение из правил, — не раз подшучивал Анатолий: — Лев любой разговор оканчивает Ксенией Николаевной». Льва на людях подобные замечания задевали, конечно, хотя по добродушию своему он не считал возможным из-за этого ссориться с товарищем. Знал его обычай — «ради красного словца продать и добра молодца». Анатолий, без всякой меры применяя этот прием, терял друзей, добрых знакомых и потом сам мучился, казнился от своего пустого краснобайства. Лев жалел его. И прощал ему все, даже довольно обидные высказывания в свой адрес...
— А тихо, полагаю, стало так потому, что сам наш дорогой идеолог, господин Милюков, удалился в берлогу, где сосет лапу, выдумывая новый ловкий поворот своим сменовеховским теориям, — сказал Анохин, с неприязнью откладывая ненавистную крестословицу.
— Не ладится, — участливо констатировал Грибовский. — Только зря ты Милюкова торопишься в берлогу отправить. Его идеи активно подхватывают и в рижском «Пути», и в харбинских «Новостях жизни». От моря до моря! Я уже не упоминаю о «Накануне» — знатоки утверждают, что это явно просоветская газета, разлагающая эмиграцию. Увидишь, господин профессор переживет всех — такие бессмертны. И идей у него полный чемодан.
— Особенно если судить по нашей газетенке.
— Я тебе открою новость. С риском — потому что ты по природе простодушный болтун, не скрывающий секретов более одного часа.
— Ладно-ладно. Это я уже слышал. Выкладывай свои тайны!
— Тайна редакционная. Я, можно сказать, случайный ее владелец. Теперь станешь и ты. Учти: обладание знанием этого — определенный риск, — как всегда, непонятно было, шутит Анатолий или говорит серьезно. — Не передавай никому. Даже Ксении.
— Ну. Я уже понял и готов дать любую клятву.
— Милюков придумал новый газетный «гвоздь». И политический удар по Кутепову и РОВСу — на грани бурцевских газетных авантюр. Ему бы и заниматься этим, Бурцеву, но наш придумал эту идею раньше. Если идея материализуется и «Последние новости» начнут печатать материал, — самое время переходить к другому хозяину.
— Тайно просто мадридская, — отшутился Лев. — Что же мы начнем печатать? Новые воспоминания Вырубовой, Кшесинской? Или дневник самого Кутепова — с планами взрыва земного шара?
— Напрасно иронизируешь, — серьезно сказал Грибовский. — Жди выстрелов по сотрудникам или бомбовый снаряд в редакцию. Что за организация РОВС — тебе, надеюсь, объяснять не надо? Хорошо. Наш идеолог оказался храбрейшим мужем. Берлинский выстрел, когда Набоков подставился вместо него, его ничему не научил.
— Ты, наконец, можешь о сути? — у Льва возникло ошущение, что Грибовский опять взялся разыгрывать его. — Хватит предисловий!
— Сядь поглубже и держись. Все, все! Милюков решил схватить Кутепова за руку. Он хочет заслать в РОВС своего верного человека. Вполне надежного со всех сторон. Тот внедряется в РОВС, пробивается к руководству, открывает блокнот и затачивает карандаш.
— Кто же этот безумец, столь верный Милюкову?
— Ты.
— Шутишь?
— Конечно. Идет дворянин, бывший строевой и боевой офицер. Ныне — ярый сменовеховец. Фамилия будто бы не очень русская... Вагар... Катар... Магар... Или что-то в этом духе — неважно! Начнет присылать свои материалы — держись, Анохин!
— Но о чем станет писать этот... наш осведомитель?
— Его задача — доказать, что Кутепов и компания открыли лавчонку, где продают членов своей военной организации.
— Кому нужны эти мертвые души, этот залежалый товар? — изумился Анохин.
— Ты всегда был и останешься на всю жизнь штафиркой. И никудышным газетчиком, Лев. Напряги свое воображение — ну! Сообразил? В этом деле заинтересованы чуть ли не все европейские разведки, мой милый. Понял, чем грозит разоблачение мне, тебе и всей редакции?
— Но, в первую очередь, вероятно, этому... Макару.
— Поразительная догадливость!
— Надеюсь, он станет подписывать свои материалы псевдонимами?
— Надеюсь. Но для профессионалов раскрыть псевдоним — что расколоть орех. Вот тебе тайны мадридского двора, дорогой, — невесело улыбнулся Грибовский. — Учти и берегись: моя информация стала твоей. Не дай бог — ни слова никому, ни полслова. Все, дружочек!
— Сколько можно об одном и том же! Не повторяйся, Грибовский.
— Это не повторение — учение. Чтоб добраться до автора, ровсовцы смогут схватить Полякова и человек пять из редакции, похитить, упрятать и пытать. Убить в каком-нибудь подвале, в Булонском лесу, а труп — в Сену, и концы в воду.
— Мне уже страшно, — насмешливо сказал Анохин, и саваофовская борода его воинственно задралась. — Запугал меня изрядно. А я ведь даже не репортер — курьер. Об одном прошу тебя: не пугай даже намеками Ксению Николаевну.
— Ксении до поры до времени вообще не стоит появляться в «Последних новостях».
— Как раз собиралась забежать сегодня. По-моему, она снова без работы и тщательно скрывает это.
— Это мы прочтем на ее лице — незамедлительно! И вновь займемся ее устройством, — Грибовский перегнулся через стол, приблизив лицо и внимательно посмотрев в глаза приятелю, сказал с обезоруживающей наивностью: — Слушай, Лев. Возьми ты ее в жены наконец. Не сердись, я с толковым предложением к тебе.
— Если ты скажешь еще слово на эту тему, я... я... Замолчи сейчас же! Иначе мы разойдемся окончательно. Предупреждаю серьезно.
— Замолчал окончательно. Потому что не хочу терять тебя окончательно, — Анатолий поднял вверх обе руки и тотчас вскочил, увидев через раскрытую дверь Белопольскую. Поспешил навстречу, приветливо, точно желая обнять, раскинул руки. — Будете жить сто лет, Ксения. Только что говорили о вас, — и подставил ей щеку для поцелуя.
Анохин встал и застыл как изваяние, боясь, что Ксения слышала конец их разговора. На него было жалко смотреть.
— Судя по следам озабоченности на лице, имеют место некоторые житейские невзгоды? Вопросов не задаю: знаю, какие у всех нас проблемы. Угадал?
— Угадали. Опять лишилась работы. Неделю продержусь благодаря Русскому дому, но не ездить же мне и дальше в Париж и обратно ежедневно. Придется искать работу и конуру.
— Не огорчайтесь, Ксения. Бог дает день, дает и пищу.
— Поможем, — разомкнул уста и Анохин. — У Анатолия это хорошо получается. Вы же убедились. Он знает весь русский Париж.
— Я стала вашей хорошей ученицей, Анатоль. Но теперь мне не нужна помощь: я сама нашла работу. Каково? В начале тридцатого года, в Париже. Вы можете себе представить это?.. Не возьмут — прямо в Советское представительство и домой!..
— Мы гордимся вами, Ксения. Расскажите же, что за работа. Она должна иметь визу ваших друзей, не так ли?..
Объявление в «Le matin» было не очень вразумительным и понятным: «Для работы на вилле художника приглашается женщина, знающая языки, способная к ведению домашнего хозяйства. Оплата по соглашению. Переговоры с десяти до двенадцати утра. Предварительно просят позвонить...» Следовал номер телефона.
Случайно обратив внимание на объявление в газете, оставленной кем-то в кафе, Ксения сначала лишь усмехнулась: чтобы сделать утром омлет или хемендекс, не обязательно знать английский или немецкий. Прочитав заметочку во второй раз, она задумалась.
Привлекали два обстоятельства — художник и указанный адрес: Шарентон, улица Гравей...
Последнее время, недели две-три, в частых перерывах между работой, которая спустя непродолжительное время то и дело менялась, Ксения, предоставленная сама себе, полюбила прогулки по художественным галереям. Они прекрасно укрывали ее от непогоды, от гнилой парижской зимы. С этого началось. Потом посещение галерей, где шли шумные сборища и у картин велись нескончаемые споры. Где толпы любопытствующих разглядывали экстравагантных художников и их не менее экстравагантные полотна. Где собирался «весь Париж» и рядом с экспозицией картин обязательно возникала еще одна выставка — знаменитостей, мод, драгоценностей.
Ксении нравились маленькие тихие залы, малолюдные, в которых ничто не отвлекало от рассматривания картин. В Париже существовали десятки таких галерей. Можно было провести целый день в галерее Воплара. На другой — отправиться в галерею Ивера. На третий — в салон Тюильри, в галерею Гийома... Это не только поглощало свободное время, давало работу уму и сердцу; в картинах современных художников Ксения искала и находила отблески своей собственной жизни — улицы Парижа, по которым она бродила, маленькие кафе и бистро, наподобие того, каким владела добросердечная мадам Колетт, где пила кофе с рогаликами, женщин и мужчин — бедняков со знакомыми лицами, которых ежечасно видела вокруг себя. Эта жизнь не требовала ее участия — только созерцания, только восхищения. И это было самое простое...
Имена художников, привлекших ее внимание, часто повторялись. Ксения уже запомнила их и, войдя в очередной зал, искала своих «знакомых», сразу могла догадаться, кто автор понравившегося ей полотна, виденного в другой галерее... Может быть, тот, кто дал объявление в «Le matin», — один из них?..
Она поехала в Шарентон на улицу Гравей. Это оказалось совсем рядом с Венсенским лесом. Ксения как-то летом была в этой зеленой части Парижа. Дома и виллы, окруженные живыми зелеными изгородями вьюнка или дикого винограда, редкие автомобили и экипажи, тихие одинокие прохожие на улице. Наверняка в жарких день здесь слышно было даже пение птиц.
«В конце концов, мне предстоит просто приятная прогулка, если не будет весь день моросить дождь», — подумала Ксения и решилась позвонить по указанному телефону. Ей назначили прийти на следующий день. С десяти до двенадцати...
Разыскивая дом художника, Ксения, вновь очарованная районом Шарентона, уже страстно желала получить именно здесь какую угодно работу. Место показалось ей просто райским. Это теперь, в самом начале года, зимой, когда деревья были еще голы, немногочисленные листья, кое-где уцелевшие на вьюнках, пущенных по стенам домов, потускнели, казались точно металлическими; из-под стаявшего снега виднелась прошлогодняя серо-желтая трава, а мокрые, подстриженные аккуратно кустарники, словно озябнув, вздрагивали от несильных порывов январского ветра.
Дома, далеко отстоявшие друг от друга, казались сказочно прекрасными. Были ухожены, сверкали промытыми до блеска окнами комнат и большими стеклами террас. От изгородей вели к домам аккуратные, выложенные кирпичом или каменными плитами дорожки, разбегающиеся в глубине садов тропинками. Среди садовых деревьев и кустов — беседки, врытые в землю столы, скамейки. Кое-где гаражи, надворные постройки непонятного назначения. Не то конюшни, не то каретники или склады. И тишина, покой, безлюдье...
«Пусть бы здесь, в этом доме», — мечтала Ксения, приближаясь к растянутому по фасаду одноэтажному строению — розовые стены, огромные застекленные поверхности, затейливые жалюзи на окнах, черные, ажурные чугунные кружева забора и калитки.
«Или вот этот, — думала она. — До чего ж красиво!..»
Двухэтажная белая вилла с полукруглым широким балконом наверху, нависающим над садом, с застекленной беседкой, спрятанной за деревьями. Это только зимой она вся видна — с плетеным ивовым столом и такими же креслами и жардиньерками.
Нужный ей дом художника был, пожалуй, лучшим на улице. Два этажа на высоком цоколе здания, словно разорванного посредине. Две наружные лестницы вбегали к площадкам флигелей слева и справа. А посреди, вместо стен и крыши, — огромные рамы со стеклами. «Здесь, наверное, ателье художника, — догадалась Ксения. — Хорошо придумано». Стеклянную стену затягивали серые и зеленые холщовые занавеси. Свет шел через крышу, вероятно. Оба флигеля увенчивали башенки с флюгерами — затейливыми, мастерски выкованными из черного металла. Дом казался пустым, вымершим. Ксения, остерегаясь собаки, осторожно открыла калитку и шагнула в сад.
Ее встретила седовласая, сухопарая и чуть сутулая дама в очках, возникшая внезапно на дорожке, — точно ждала.
— Значит, это вы звонили вчера? — спросила она, очень подробно и очень откровенно рассматривая Ксению. — Хорошо, что вы приехали точно в указанное время. Очень хорошо! Но знаете, с вами хочет и должен побеседовать сам Мэтр...
— Я готова, — улыбнулась Ксения. — Но скажите подробнее, пожалуйста, о какой работе, собственно, идет речь?
— Это потом, все потом! — отмахнулась дама, и ее глаза под очками словно увеличились. — Главное, чтоб вас принял, чтоб согласился сам Мэтр... Но — увы! Сегодня он должен был с утра уехать. Извините. И, если сможете, приходите завтра, в это же время.
— Что же, — растерянно сказала Ксения. — Я приду...
Назавтра история повторилась. Ксения приехала в одиннадцать. Зная, что будет представлена Мэтру и от этого испытывая уже непонятную робость, она много времени провела перед зеркалом, решая, какой шарф больше подойдет к ее серому пальто, лиловый или розовый. Остановилась на лиловом. Долго причесывалась, против обыкновения напудрилась... Потом слегка подмазала губы и долго собиралась до Парижа в автобусе. Потом — до Шарентона уже под лениво начавшимся дождем, думая, что от немудреных ухищрений с туалетом и косметикой за долгий путь мало что осталось. Она устала, и у нее испортилось настроение.
Однако и сегодня оказалось, что Мэтр не сможет ее принять: у него маршан — важный покупатель.
— Речь идет о последней картине Мэтра. Ее хотят приобрести сразу несколько галерей. И поэтому... Мадам? Мадмуазель?.. Простите, ваша фамилия? Ах, мадмуазель Белопольски! Вы должны понять и извинить Мэтра. Я прошу вас приехать завтра. Пожалуйста. Я очень сожалею, поверьте, — на этот раз седовласая дама была несколько растеряна. Ей действительно было неловко, но... — Поймите, — взывала она, — в доме слово Мэтра, его время, его занятия живописью — все свято, все требует беспрекословного подчинения.
С трудом Ксения заставила себя сдержаться. Черт возьми! Второй раз тащиться из Сен Женевьев де Буа через весь Париж, чтобы опять уйти ни с чем! Проклятье!.. Но этот прекрасный дом... И запах красок, который проникает даже сюда, вниз, из мастерской. И неведомый, но заинтересовавший ее Мэтр. Это становилось просто любопытным.
— Как имя Мэтра? Хотя бы, — бесцеремонно спросила Белопольская.
Седая дама с ужасом взглянула на Ксению. Ее стрекозиные глаза стали огромными, как блюдца:
— Вы не знаете, куда пришли? Не знаете имени Мэтра? — вопрошала она, непроизвольно повышая голос от негодования. — Но его знает весь мир!
— А я вот не знаю! — дерзко ответила Ксения. — Как вы произнесли? Мэтр N? Да... Кажется, я видела две-три его картины. И что?! Но поскольку я очень нуждаюсь в работе, я приду и завтра, мадам. Предупредите своего хозяина, прошу вас...
«В третий и последний раз», — так решила для себя Белопольская. Она появилась на улице Гравей ровно в одиннадцать, уже взвинченная, сердитая, готовая к новой отсрочке. Чем ближе подходила она к дому, тем сильнее охватывала ее злость, охватывала неотвратимо, и не было, казалось, уже сил сдержать ее, не выплеснуть. Именно здесь, в этом прекрасном и таком благоустроенном доме... Кого здесь не хватает еще, чтобы преклоняться и благоговеть перед Мэтром? Уборщицы? Судомойки? Экономки или секретаря?..
Ей даже захотелось, чтобы хозяина не оказалось дома. Тогда она обязательно скажет этой седовласой стрекозе все, что думает о хваленой французской вежливости, о чувстве человеческого достоинства и порядках в этом доме.
Все оказалось так, как она и предполагала. Смущенная и растерянная мадам начала встречу с извинений:
— Но это так неудачно, так неловко, мадмуазель... Обычно у нас такое не случается. В это время... Тут просто рок — редкий, исключительный случай вашего невезения. Но вы должны понять: Мэтр — не обыкновенный человек. Мы обязаны прощать многие его поступки... Даже его причуды, мадмуазель.
— Не понимаю. Он умер, что ли? — грубо спросила Ксения. — Заболел?
— Как вы могли сказать такое! — замахала руками дама. — Бог мой, как вы могли! Он спит. Он очень устал после ночной работы. Прошу вас, тише. Говорите тише.
— Ах, тише! Ах, устал? — Ксения сама не узнавала своего голоса: столько в нем было ярости и негодования. — Но знаете ли вы, как устала я?! Как мне надоело ездить сюда, в эту дыру, в ваш прекрасный дом. Вы и ваш обожаемый Мэтр отвратительны мне. «Он занят!», «Он спит!». Здесь не ценят достоинства человека. Это непристойно! Позорно! Ноги моей здесь больше не будет!
В это время на площадке лестницы появился высокий, неопределенного возраста человек с гривой красивых седых волос, падающих на плечи, и молодым, бронзовым от загара лицом с повелительным выражением.
Некоторое время он стоял незамеченный и слушал, потом, воспользовавшись паузой, крикнул:
— Вы приняты, мадмуазель. Простите! Жозефина объяснит все. Все ваши обязанности. Жду утром! — и быстрыми шагами удалился куда-то вправо.
Ксения хотела еще что-то сказать, спросить, но потом рассмеялась, радостная, махнула рукой, кивнула Жозефине — «до завтра!» И на следующий день ровно в десять утра приехала на виллу Мэтра.
«Приказ по РОВСу.
26 января генерал Кутепов в 10 часов 30 минут утра вышел из дому и более не возвращался.
Ввиду безвестного отсутствия Председателя РОВСа генерала от инфантерии Кутепова я, как старший заместитель его, вступил в должность Председателя РОВС.
Генерал Миллер.
27 января 1930 года...»
«...Наши проклятые враги нанесли нам исключительно тяжелый удар. Но пусть знают они, что и теперь от этого удара мы не зашатаемся... Каждый должен внести свою лепту в фонд для розыска генерала Кутепова...
Генерал Миллер».
Из беседы с Г. К. Миллером:
«... — Я могу только настойчиво рекомендовать русскому обществу соблюдать полное спокойствие. В то же время всемерно помогать французским следственным властям, другим органам и представителям печати в производимой работе по выяснению всех обстоятельств случившегося. Повторением непроверенных слухов и небылиц люди могут работать на руку нашим врагам, распространяющим всякую ложь с целью запутать поиски и внести сумятицу в ряды белых.
Генерал Кутепов очень не любил охраны. Он надеялся на себя и был бесстрашным человеком. К тому же охрана редко может предупредить покушение. Если монархи и президенты государств, несмотря на все принятые меры, имея к услугам весь полицейский аппарат, делаются жертвами террористических актов, то насколько беззащитнее русские эмигранты, хотя бы и глава эмиграционной организации!.. Генерал Кутепов берег чужое время и совестился пользоваться им в своих надобностях»...
(Журнал «Иллюстрированном Россия», 1930, № 7)
«...На похищение нашего Вожди мы даем ответ большим, поголовным вступлением в ряды РОВСа. Пусть призыв 1930 года навсегда войдет в историю под названием Кутеповского призыва!
(Журнал «Часовой», 1930, № 25)
Парижские газеты напечатали сенсационную новость: правительство Франции в качестве награды тому, кто укажет местопребывание генерала Кутепова (живого или мертвого) или наведет полицию на след похитителей, выделяет миллион франков.
Участие тысяч добровольных сыщиков весьма затрудняло поиск профессионалов. Каждый день рождались новые сенсации — одна неправдоподобней другой...
ИЗ ЦЕНТРА В ПАРИЖ «ДОКТОРУ»
«На Ваш запрос: генерал Миллер Евгений Карлович окончил кадетский корпус, кавалерийское училище, Академию Генерального штаба.
Военный агент в Бельгии, Голландии, Италии.
В 1909 году командир 7-го гусарского полка, генерал-майор, затем — начальник кавалерийского училища; начштаба Московского военного округа, начальник штаба 5-й армии. В 1915 году пожаловано звание генерал-лейтенанта. Гражданскую войну провел на севере России (Архангельск, Мурманск). Крайний монархист.
С июля 1920 года по апрель 1922-го — главноуполномоченный по военным и морским делам Врангеля в Париже. С апреля — начальник штаба главнокомандующего Русской армией, отличающийся либеральными взглядами. С июня 1923 года — в распоряжении великого князя Николая Николаевича. С 1929 года — старший помощник председателя РОВСа. Упрям, целеустремлен. Однако не всегда тверд в достижении своих целей. Порой бесхарактерен, неуверен в себе. Типичный штабист, исполнитель.
Центр».
3
Штаб РОВСа находился недалеко от Елисейских полей, на узкой боковой улочке Колизе, на втором этаже старого дома под номер двадцать девять.
В довольно большой комнате — не такой, правда, чтобы ее можно было назвать залом, — за длинным столом, накрытым бордовой плюшевой скатертью (ох уж эти русские плюшевые скатерти — на все торжественные случаи жизни!), собралось почти все руководство Воинского союза. Сюда всегда приходили при полном параде — независимо от выполняемой работы, при всех царских орденах и знаках отличия гражданской войны. В центре стола — новый начальник Союза генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер, бывший заместитель Кутепова. Назначение его явилось для всех неожиданностью. Миллера не очень жаловали: он считался не боевым генералом, прошедшим «ледяной поход», победы и отступление Добровольческой армии, а скорее — интеллигентным губернатором Северной области, диктатором края, где и на стоящих-то боев не было. Помнилось, что при первых орудийных залпах начальник края, быстро собрав свое имущество, бросив и войска, и свою губернскую канцелярию, бежал на ледоколе с помощью союзников. Политическая ориентация его тоже казалась не очень четкой, не очень самостоятельной: представитель ставки главковерха, представитель Колчака, друг англичан и американцев... Союзники, вероятно, и поставили его на столь высокую должность. Всего год ходил среди других в заместителях Кутепова — и вот, пожалуйста, новый начальник РОВСа! Любите и жалуйте. А за что? За какие доблести? За какие такие заслуги!
Весть о внезапном исчезновении генерала Кутепова мгновенно облетела Париж, следом — всю Францию и наделала слишком много шума. Первые полосы газет соревновались в сенсационных заголовках, печатали фотографии начальника РОВСа, его жены и сына, высказывания его подчиненных, интервью не только с заинтересованными лицами, но и с первыми встречными на улицах, имеющими свою версию происшедших событий. Военные, дипломаты, просто авантюристы ряда европейских стран считали своим долгом внести лепту в расследование, которое под давлением правой общественности начала французская полиция. Чуть ли не ежедневно возникали новые, непрочные, как мыльные пузыри, очередные версии, объясняющие происшедшее с Кутеповым. Версии росли, пухли от «самых проверенных» подробностей и через день-два лопались, не оставив после себя ничего, даже воспоминаний.
И лишь штаб РОВСа хранил пока многозначительное молчание.
Правительство подтвердило миллионную награду тому, кто найдет Кутепова или укажет на его похитителей или убийцу.
...Миллер сидел в центре стола, ждал, пока наступит тишина. Слева и справа рассаживались, тихо переговариваясь, генералы Шатилов, фон Лампе, Лукомский, Экк, Штейфон, срочно приехавший из Болгарии Абрамов и примчавшийся неизвестно откуда Туркул, о котором в последнее время говорили разное.
— Господа? — чуть поднял голос Евгений Карлович. — О чем это вы, разрешите полюбопытствовать? Пора начинать.
— Генерал Лукомский изволил вспомнить тот исторический Военный совет, который решал вопрос о Деникине и Врангеле, — поспешно отвечал Экк, больше всего боящийся недомолвок и ложных подозрений, из которых, как он хорошо знал, в любое мгновение может вспыхнуть долгая генеральская ссора. — Как давно это было, ваше превосходительство! Иных уж нет, а те — далече.
Миллер, и тут усмотревший выпад против себя лично («тебя-то тогда с нами не было! Исторический совет. Все у них историческое!»), все же удержался от комментариев. Он встал, чтобы начать заседание, но в это время дверь от толчка резко раскрылась, и появился генерал Эрдели — рослый, мужественного аскетического вида, — в партикулярном, но напоминающем какую-то служебную униформу костюме и фуражке. Бывший начальник кавдивизии и корпуса был несколько смущен.
— Прошу прощения, господа, — сказал он глухим от усталости голосом, — за появление здесь в подобном виде и невольное опоздание. Виноват-с... Покорнейше прошу извинить — обстоятельства.
— Может, вы все же поясните, генерал? — сказал недовольно Шатилов. — У каждого из нас свои обстоятельства.
— Извольте учесть, генерал Шатилов... Не знаю, как вам, а мне лично приходится добывать средства к существованию для себя и семьи, — в голосе Эрдели прозвучал вызов. — Я работаю ночным шофером такси, господа. Сегодня была трудная ночь. Вы удовлетворены, генерал Шатилов?
Тот лишь безразлично пожал плечами.
— Господа, господа! — решительно вмешался Миллер. — Садитесь, пожалуйста, Иван Егорович. Мы открываем второе заседание, ради которого я имел честь собрать вас, сознавая, что отрываю каждого от его личных дел в пользу дел общих. Общевоинского союза, — поправился он. — Слово для информации имеет полковник Монкевиц — по долгу службы, так сказать!
Николай Августович, взяв указку и папку, набитую до отказа газетами и газетными вырезками, прошел к стене, где за зелеными занавесками висели карта Франции и план Парижа. Он хотел было отбросить занавеску, но раздумал и принялся прикалывать рядом чистый лист бумаги, а затем черным мелком — точно и споро — рисовать квадраты, одни под другим, разделенные прямыми линиями. Справа появился еще прямоугольник. Монкевиц поставил несколько жирных крестов, сделал несколько надписей и обернулся. То, что он начертил, выглядело так:
— Прошу обратить внимание на мою схему, господа. Какими доподлинными сведениями мы располагаем? Ежедневно, будучи человеком весьма пунктуальным, генерал Кутепов спускался в десять утра через эту парадную своего дома на Русселе, двадцать шесть, — это вот здесь, — поворачивал направо и обходил свой квартал, — он нанес штриховую линию до угла и, повернув ее направо, довел до звездочки. — Здесь, как, вероятно, известно присутствующим, генерал садился в такси. Русские офицеры, состоящие на службе в такси, ежедневно меняясь, привозили начальника РОВСа сюда, на Колизе, и к вечеру отвозили его обратно, желая хоть как-то обезопасить своего командующего, на которого, особо в последнее время, шла буквальная охота.
— Кем же? — нетерпеливо бросил Туркул, развалясь на узком ему стуле и боком повиснув на спинке. — Знаете?.. Кто? Большевички? Или, может, свои — из инакомыслящих, с целью устранения конкурента? Наподобие убиенного Романовского, раз все мы, как юные девы, предались воспоминаниям о временах командования генерала Деникина.
— Попрошу вас, генерал Туркул, все же выбирать выражения, — осадил его Миллер и милостиво кивнул Монкевицу: — Продолжайте.
— Вероятней всего, большевики, — сухо сказал Николай Августович. — Но точность тут относительная. А я докладываю лишь о подлинных фактах. По словам самого Александра Павловича, он, к примеру, подозревал, что за ним следят из бакалейной лавки противоположного дома. Это место отмечено двумя звездочками.
— И кому это говорил генерал Кутепов? — недоверчиво пробурчал Туркул.
— Мне, — просто ответил Монкевиц.
— И ничего больше?
— Ничего. Сотрудникам «Внутренней линии» не удалось зафиксировать факта слежки.
— Как всегда: не удалось. Плохо работаете, господа!
Монкевиц и бровью не повел.
— Разрешите, я продолжу? — спросил он, обращаясь исключительно к Миллеру.
— Разумеется, полковник. Мы вас слушаем.
— Что же мы узнали об исчезновении генерала? Обычным своим путем, в обычное для себя время он вышел из парадной и, добравшись до ожидающего его такси, почему-то отпустил офицера, сказав, что сегодня не нуждается в его услугах. Я нашел и опросил офицера. Он видел, как Кутепов, повернув снова направо, неторопливо двинулся вдоль своего квартала и скрылся за углом.
— Вспомнил, что оставил в квартире нечто важное, быть может? — подал голос генерал Абрамов, бывший командир Донского корпуса.
— Никак нет, господин генерал. Александр Павлович, как ни странно, не возвращается к себе домой, хотя и подошел снова к своей парадной. Тут судьба посылает нам второго свидетеля, в точности показаний которого я ни минуты не сомневаюсь. Это санитар больницы Святого Иоанна, подошедший в тот момент к одному из окон второго этажа, расположенных по фасаду. Он увидел два автомобиля, стоящие возле парадной двери, и высокого человека в полицейской форме. Генерал Кутепов, приблизившись, сам сел в первое авто — дверь ему предупредительно открыли изнутри, — ажан сел во второе авто, и обе машины тронулись в сторону бульвара Удино и далее, по улице Севр, к Монпарнасу.
— По сообщению полиции, известным мне наблюдателем оказался не санитар, а уборщик Опост Стемнец. Он вытряхивал через окно коврик и увидел машины. По его словам, одна была зеленая. То же подтвердила и больная женщина с верхнего этажа, вставшая, чтобы закрыть форточку, — перебил фон Лампе, любящий во всем точность. — Случайные свидетели — лучшие свидетели. Но генерал сам сел в авто — это факт.
— Прошу все же не перебивать, господа, — достаточно строго приказал Миллер. — Иначе мы никогда не продвинемся вперед. У каждого еще будет возможность высказаться.
— Прошу прощения, — слегка поклонился Монкевиц. — Еще несколько деталей, собранных мною и моими людьми. Александр Павлович был в темном пальто и мягкой фетровой шляпе. Жена генерала свидетельствует, что супруг находился в веселом настроении, покидая дом. На обратном пути ему встретилось еще такси с русским водителем. Тот приветствовал генерала, но генерал почему-то не ответил. Вот и все. Я заканчиваю. Сработано весьма ловко, хитро и профессионально. Похищен кем-то или бежал — подходит при любой версии. Снова обращаю ваше внимание на два обстоятельства. Вышел из дому в веселом настроении и добровольно сел в авто. Для чего? Примерный семьянин, хорошо жил с женой и пятилетним сыном. Бюджет — официальный! — тысяча двести франков от РОВСа в месяц. Но никаких документов нет. Только записная книжка. На конец месяца назначено лишь одно собрание, какая-то встреча и ничего больше.
— Любопытно. Но что дальше? — насмешливо поинтересовался Туркул и переменил позу, высоко закинув ногу за ногу. — Насколько я понимаю, все концы в воду. Так, по-вашему выходит?
— А у вас есть какая-то своя версия, генерал? — Миллер недовольно запыхтел от непочтения к высокому собранию.
— Естественно! — громоподобно объявил Туркул с гордостью. — Мой единственный вариант — большевистский. В нем не сомневаюсь и сам веду в этом направлении расследование. Ожидаю полных успехов, господа!
— Может, вы поделитесь с нами?
— В самых общих чертах. Надеюсь, вы понимаете... Утечка информации, печать... Вполне можем спугнуть красных агентов. Так уж учен, ничего не попишешь!
— Приступайте же к сути дела, генерал Туркул, — не выдержал начальник РОВСа, который не терпел этого гиганта из молдаван. — Говорите, что считаете возможным. Хотя это странно... Коллеги... Военный совет, наше общее дело. Не понимаю. От кого вы прячетесь тут?
— Большевистский вариант — для меня сомнениям не подлежит! — продолжал Туркул, словно и не услышав слов Миллера. — За домом Кутепова из прачечной и лавчонки постоянно наблюдали. Кто, зачем?! Его неоднократно фотографировали в кафе. Кто, зачем?! Краснопузые! Вам нужны еще факты — пожалуйста! С аэродрома Бурже поднимается частный аэроплан, на который поначалу не обращают внимания таможенники. Схватившись, узнают, что улетел некий русский, по фамилии Сканлан. Не Кутепов ли это? Нет? Возможно!.. Может, его похитили и скрывают в подвалах советского посольства? Следует проверить. Есть свидетели. Один видел, как в саду посольства рыли могилу. Другой слышал крики...
— Да, но министр-президент Тардье уже поручал начальнику парижской полиции энергично проверить эти слухи, — воспользовавшись паузой, вступил в разговор генерал фон Лампе. Среднего роста, очень подвижной штабной работник, долгое время исполнявший должности военного агента, он неукоснительно придерживался в своей деятельности прежде всего дипломатических, а не военных установлений. — Полиция произвела обыск в доме, населенном советскими служащими. И ничего не нашла. Газеты требуют обыска в советском посольстве. Но посол Советской России на приеме у Тардье выразил энергичный протест: Советы считают ниже своего достоинства даже опровергать столь абсурдные слухи.
— Вы говорите так, будто прячете Кутепова у себя. Или уже знаете иное его местонахождение.
— Я бы попросил вас, генерал! — побагровел фон Лампе.
— Иначе — что? Дуэль с десяти шагов? — Туркул захохотал. — Оставьте, профессор! Чепуха все это! Дерьмо!
— По праву старшего, я попрошу вас выйти отсюда, — неожиданно твердо сказал Миллер и резко встал. — Вас, вас, генерал Туркул. Забываете, где находитесь. Я приказываю: прекратить брань!
Собравшиеся переглянулись: новый начальник РОВСа «тренирует» голос, показывает, что и он может быть строгим, может применить власть. Но ведь и Туркул не из тех, кто позволял всякому командовать собой. Особо теперь — десять лет спустя после конца гражданской войны.
— Разрешите удалиться, генерал? — поднялся он во весь свой двухметровый рост, показывая, что решение уйти им уже принято. — Не имею времени, к сожалению...
— Не задерживаю, генерал, — сухо ответил Миллер, — Придется уж без вас разбираться во всем.
Туркул хотел, видно, сказать что-то обидное всем этим генералам-канцеляристам, но раздумал, только хекнул насмешливо и, нарочито громко топая, вышел.
— Исключать за такое из Союза надобно, — обиженно сказал фон Лампе, и его поддержало еще несколько голосов: этот бывший лихой рубака пленных давно противопоставляет себя организации, забывает, где конюшня, а где собрание боевых офицеров, продолжающих дело своих вождей и борьбу с всемирным большевизмом.
— Тише, господа генералы, — поморщился Миллер. — Не станем отвлекаться и выяснять личные отношения. А с господином Туркулом я разберусь. В самое ближайшее время, — начальник РОВСа продолжал разыгрывать роль отца-командира. — Так на чем мы остановились, обмениваясь мнениями об исчезновении Александра Павловича? Вы садитесь, полковник.
— Я докладывал о провале версии французской полиции в отношении обследования советских учреждений, — сказал с еще не прошедшей обидой фон Лампе. — Даже укради Кутепова, стали бы они держать его где-то в подвале? Смешно!
— У меня своя версия происшествия, — вступил в разговор бывший генерал-майор, а ныне действительный член Союза русских писателей и журналистов Штейфон. — Полагаю, генерал Кутепов уехал по своим неотложным делам. Да-да, господа, генералы! В последнее время он бесконечно вояжировал, выступал на торжественных собраниях и банкетах, а на деле проводил воинские инспекции. Многие это знают. Кроме Праги, Белграда, Софии генерал часто бывал в Берлине и Финляндии. У границ с Советской Россией. Я располагаю прямым высказыванием Александра Павловича, сделанным недавно. Он говорил: «Если мы не будем бороться, то мы станем дряблыми и в будущем для нас оправданий нет. Надо перебрасывать как можно большее количество наших в Прибалтийские страны. Они будут совершать налеты, организовывать теракты, захватывать ближайшие от границы пункты хоть и на короткие сроки». Кутепов назначал даже день захвата Петрозаводска, что, как он выразился, «станет большим скандалом, который произведет сильное впечатление на Европу».
— И что же? Он сам хотел захватить Петрозаводск? — насмешливо спросил до сих пор молчавший Павел Николаевич Шатилов. — Влететь в город на белом коне?
Штейфон продолжал, не отреагировав на иронию:
— Нет, это должно было произойти без него, Павел Николаевич. Разрешите, я продолжу. По сообщению генерала Скоблина, примерно месяц-полтора назад Кутепов ездил в Венгрию к Хорти с паспортом на имя Романа Сойкича. Цель — изыскание определенных сумм на дальнейшую борьбу. Двадцать третьего июня, как известно, Александр Павлович собирал членов РОВСа в зале на улице Дюментнль, где он во всеуслышание заявил: «Нельзя ждать смерти большевизма, его надо уничтожить!» Он был полон энергии. Он серьезно увлекался идеей «пройтись» по России и просил ныне почившего в Бозе великого князя разрешить ему подобную вылазку. И лишь после разоблачения «Треста», когда выяснилось, что большевики каждый раз «встречали» и «провожали» Шульгина в его походах по России, Александр Павлович отринул самое эту идею, — генерал Штейфон сделал паузу, точно задумался, и вздохнул: — Хотя... — он покашлял в кулак, — организатор группы «Крестьянская Россия»[61] Маслов в беседе со мной высказал свой вариант исчезновения генерала Кутепова, не расходящийся в основе с моим: у Александра Павловича-де были друзья из числа старших командиров Красной Армии. Он отправился на встречу с ними. Если бы его попытались увезти силой, он, без сомнения, совершил бы самоубийство. Но мне почему-то думается, пройдет какое-то время, и наш достопочтимый руководитель окажется здесь, среди нас.
— Времени прошло предостаточно, — сказал Александр Сергеевич Лукомский с сомнением. — За это время и в Америку можно съездить.
— Тем не менее моя версия такова! — с вызовом ответил Штейфон.
Монкевиц, заняв свое место в торце длинного стола, чужим, как бы посторонним взглядом осматривал собравшихся, не очень и прислушиваясь к их словам. Командиры, начальники! Их время ушло безвозвратно. Куда любому из них до Врангеля — полководца, политика, вождя?! Или до того же Кутепова, который имел одну твердую цель и идеи, направленные к ее выполнению. Мог приказать и добиться исполнения своего приказа. Осудить и даже повесить любого из сомневающихся, мешающих ему. Всех держал в кулаке. Это была личность! А кто заменил его? Этот чуждый армии и офицерству Миллер — смешной бесцветный старичок? Полысевший, отчего уши на похудевшем лице кажутся непомерно большими. Как у тушканчика, что ли. Или у какого-то другого зверька — как его там?.. А выживший из ума Лукомский?.. А писатель Штейфон? Пожалуй, одному «Павлуше» ничего не делается. Этот и друга своего «болярина Петра» пережил, и всех нас переживет. Дождемся — и он РОВСом командовать станет... Размышляя так, Монкевиц понимал: подобные мысли и его новый взгляд, трезвая оценка вчерашних своих командиров помогают ему оправдать я свои поступки в Москве, и здешнее поведение — сегодня и завтра. О будущем он думать не хотел...
— Между прочим, господа генералы, есть и американская версия, — подал реплику подтянутый генерал Абрамов и смущенно улыбнулся. — Среди многих таинственных, так сказать, незнакомок, появляющихся на страницах газет в связи с этим делом. Помнится, один продажный листок утверждал, что Александр Павлович с некоей блондинкой, прихватив крупные суммы РОВСа, улетел в Южную Америку.
— И что? Вы верите этому? — голос возмущенного Миллера срывается на визг.
— Я? Как это возможно, ваше превосходительство, — Абрамов одним из первых назвал Миллера «ваше превосходительство» во всеуслышанье — признал его главенствующее положение в Воинском союзе. — Я не верю. И ни секунды не верил.
— Пятьдесят тысяч долларов на счету Кутепова до сих пор не тронуты. Это для всеобщего сведения, господа! — отчеканил Миллер. Разговор о деньгах почему-то особенно сильно задел нового начальника, и он никак не мог успокоиться. — Речь о святой борьбе, о жизни и смерти. И тут у нас опять деньги!.. Простите, господа. Прошу продолжать высказывания.
— Разрешите мне, ваше превосходительство? — встал Шатилов и достал из сафьяновой папки бумагу, напечатанную на машинке. — У нас, штабных, первостепенное значение имеют не слухи, не эмоции, — он снисходительно обвел взглядом собравшихся. — Мы преклоняемся перед документом, перед фактами прежде всего. Далее — анализ и направленное действие. Посему прошу дать мне возможность процитировать. Это принадлежащий мне документ. Авторство его я позволю себе пока скрыть: не имеет значения. Итак, я читаю и прошу общего внимания: «В начале января к Кутепову явились генералы Дьяков и Корганов и заявили, что состоят в связи с контрреволюционной организацией в Красной Армии и что от ее имени предлагают Кутепову встретиться в Берлине с ее представителем для связи действий. Кутепов не отказался, но в Берлин ехать не захотел, а послал туда полковника Зайцева. 16 января полковник Зайцев встретился с прибывшими из России. К удивлению, в одном из них он узнал полковника де Роберти, в другом — полковника Попова. Они заявили, что не уполномочены говорить с кем-либо, кроме генерала Кутепова, и Зайцев послал телеграмму. Кутепов выехал в Берлин. Первая встреча произошла в гостинице, где жили Роберти и Попов. В соседней комнате явно находился кто-то, кто мог слышать весь их разговор, — легкий шум выдавал его присутствие... Вторая встреча была в другом месте. У Кутепова возникло подозрение, что приехавшие — агенты ГПУ, что никакой контрреволюционной организации в Красной Армии не существует. После этого Кутепов уехал в Париж». А вот дополнение — вследствие неполноты материала и в целях восстановления истины: «Непосредственной связи у Кутепова с генералом Дьяковым не было, а встреча с двумя представителями Красной Армии была установлена письменно осенью 1929 года. Вся корреспонденция по этому делу производилась только через Корганова, рекомендованного ему Поповым — одним из тех лиц, с которыми Кутепов встретился в Берлине. С Поповым Кутепов встречался и в Париже еще в 1928 году. Тот лишь передавал письма Кутепова в Берлин, содержание которых ему неизвестно...» И вот свежие известия: «Уже после исчезновения Александра Павловича генерал Антонов сам явился в полицию, чтобы присягнуть: ни Николай де Роберти, ни Александр Попов не являются большевиками. В подтверждение он рассказывает биографии своих друзей. Биографии не очень-то привлекательные...» С авантюрным душком. И, наконец, самые свежие факты последней берлинской встречи. Цитирую еще документ: «Кутепов уехал девятнадцатого, а я приехал двадцать первого и остался до тридцать первого января. Там же были Попов и Роберти, мы встречались три раза. Они очень испугались: если пресса узнает об их свидании с Кутеповым в отеле Рейхгорн и назовут их фамилии, они будут «провалены». В начале февраля оба вернулись в Россию. По поим сведениям, они расстреляны — газета «Возрождение» писала о них». Однако директор сыскной полиции Перрье и комиссар Фо Па Биде возражают: встречи с Кутеповым проводились открыто; а когда полковник Зайцев предупредил всех о необходимости конспирации, Попов ответил, что в Москве их деятельность вне подозрений. А вот дублирующее событие — сообщение из Берлина. Кутепов-де получил известие, что с ним хотят увидеться прибывшие из России эмиссары тайной антибольшевистской организации. Место встречи — Берлин или Копенгаген. Не доверяя эмиссарам, Кутепов — как нам уже известно, одиннадцатого января выслал вперед Зайцева. До шестнадцатого января свидание не состоялось — так как не явились ни Попов, ни Роберти. Семнадцатого по телеграмме Зайцева приехал Кутепов. Это точно. Остановился в отеле Штадтхольн. Разговоры носили политический характер. Эмиссары просили прислать в Россию пятьдесят офицеров для организации крестьянских восстаний. Осведомитель донес, что эмиссары — агенты большевиков. Кутепов тут же прервал переговоры и вернулся в Париж. Вопрос к собравшимся. Почему Зайцев, предполагая, что Кутепов едет на встречу с провокаторами, ничего не сделал? Не предупредил ни самого генерала, ни кого-либо другого из штаба РОВС? Подозрительно. Я занимаюсь Зайцевым. У меня все, господа генералы, — он развел руками с видом победителя.
— Благодарю вас, Павел Николаевич. В вашей — назовем ее «берлинской» — версии мне видится наибольшее количество узелков и темных мест, за которые такой опытный человек, как вы, наверняка сможет с пользой для дела зацепиться. Благодарю вас.
— Спасибо, ваше превосходительство. Приложу все силы для того, чтоб в самом скором времени «отыскался след Тарасов», — Шатилов вновь улыбается снисходительно.
— Ни минуты не сомневаюсь. Слово вам, генерал Экк.
— Почту за честь, ваше превосходительство. Хотя мое сообщение, признаюсь, может шокировать кое-кого. Дело в том, что я исхожу из того, что наш любимый вождь — увы! — уже убит. Да-с, господа офицеры, убит. И, вероятней всего, большевиками: он им мешал, был словно кость в горле. Простите за грубое сравнение. Генерал Шатилов любит факты. Я — тоже. Итак, я исследую факт первый. Таинственный человек в пальто и мягкой шляпе идет (или едет) на свидание с элегантной дамой в бежевом манто. Свидание происходит на конспиративной квартире в двенадцатом округе Парижа, где Кутепов неоднократно встречался с нужными ему людьми. Я с трудом узнаю фамилию дамы. Это Людмила Ивановна Победоносцева-Чабан, жена бывшего начальника личного конвоя генерала Шкуро. К удивлению моему — работающего ныне шофером и буквально сорящего деньгами. Сама Людмила Ивановна — кельнерша русского ресторана. Политическая ориентация мужа и жены неизвестна. За несколько дней до исчезновения генерала она, бросив все, неожиданно покинула «Виадук отель», где они жили, и скрылась. Ее видели на парижских улицах лишь в день печального события. Из квартиры в Двенадцатом городском округе она вернулась в отель одна, в расстроенных чувствах — ее хорошо запомнил русский водитель такси. Муж встретил Людмилу Ивановну в дверях и, подвергнув оскорблениям, побил, отнял сумочку и сбежал. Его задержала французская полиция. Сама Людмила Ивановна сумела скрыться и исчезла столь же загадочно, как и наш руководитель. Ее не обнаружили до сих пор. Вероятней всего, убита. У мужа — и это весьма характерно! — нашли извещение, что его ходатайство о зачислении в советское гражданство пока отклонено. Что он, агент Коминтерна?.. Можно лишь гадать, господа, ибо Чабан покончил в камере самоубийством. Возможно, это и убийство, чья-то месть. Мое предположение о смерти Кутепова повело меня на поиски трупа, господа. Я обследовал Македонский лес и один из гаражей парижского предместья, побывал в Марселе и Ницце, в окрестностях Лиона. У меня в досье собраны приметы нескольких предполагаемых похитителей. Тут два блондина немецкого вида, плюс опасный чекист Габслюк — огромного роста и страшной силы, недавно прибывший во Францию...
— Не об этом ли Габслюке высказывался ясновидящий из Польши? «Человек по типу кронштадтского матроса похитил Кутепова, ударив его по голове»?
— Именно, господин Штейфон. Но это не он. Я напал на следы шантажиста Селезнева, бывшего офицера гвардии, выдававшего себя одно время за агента ОГПУ, и некоего безымянного полицейского с бородкой «под Кутепова», которые достаточно «наследили» в этом происшествии.
— Да, если мне не изменяет память, последний оказался сотрудником «Пти журналь», взявшимся доказать, что в Париже, под прикрытием полицейской формы, можно сделать все, что угодно, — Штейфон неожиданно рассмеялся.
— Rira bien qui rira le dernier![62] — заметил сурово Экк. — Я буду и дальше идти своим путем.
Раздались жидкие аплодисменты.
«Каждый избрал свой путь, — пришел к неожиданному выводу Монкевиц. — И не хочет ни сопровождающих, ни их помощи. Почему? Да потому, что они меньше всего думают о своем исчезнувшем комбатанте и начальнике: каждый из них хочет заработать свой миллион. Вот в чем причина!» Он оглядел собрание словно новыми глазами...
— Круг, однако, не замкнулся, господа генералы, — почему-то с неподобающим торжеством заметил новый начальник РОВСа. — Нам всем необходимо ознакомиться и с исследованиями широкоизвестного журналиста Бурцева.
— О! Вселенский разоблачитель! И великий путаник! Бурцев знает! Бурцев разоблачает! Не надо! Профессионал-разоблачитель?! Он способен лишь все запутать! — раздались негодующие голоса.
— И тем не менее, — решительно встал Миллер и требовательно постучал карандашом по графину. — Каждый волен принимать или отвергать его изыски. Но выслушать и про себя оценить их мы обязаны. Это не займет много времени, полковник Монкевиц подготовил обзор газеты Бурцева «Общее дело». Прошу, полковник.
— Я постараюсь телеграфно, господа генералы, чтобы не очень задерживать вас, — сказал Николай Августович. В руках у него, точно у фокусника, неизвестно откуда появилась пачка одинаковой величины листочков. — Итак, прежде всего Бурцев слетал в Берлин.
— Ого! Берлинская версия! — не скрыл торжества Шатилов.
— Точно так... И вернулся с огромным списком похитителей. Все, конечно, большевики. Это произошло в день, когда французское министерство иностранных дел выпустило особое коммюнике: «Советское правительство напрасно обижается, его и не думали обвинять, похитителей ищут среди граждан разных национальностей». Афронт?! Но Бурцев добился приема у Перрье. Его допросили. Он заявил: «Как журналист я занимаюсь расследованием с первого дня и берусь доказать обвинение против имеющегося у меня списка лиц, который готов немедля опубликовать, если мои информаторы разрешат». Перрье убеждал Бурцева в необходимости проявлять терпение и опубликовать списки преступников лишь после полной уверенности. Он не очень поверил Бурцеву и отослал его к следователю Деладе, который ведет это дело... Якобы в записной книжке Кутепова Бурцев нашел рядом с фамилиями Попова и Роберти пометку — второй «Трест» — и кинулся доказывать это, но доказательств не нашел. Им немедленно выдвигается следующая версия. Появляется сообщение: Кутепов отравлен. Вскоре второе сообщение: Кутепов похищен при помощи авто, отравлен наркотиками, а труп как дипломатический багаж отправлен через Данциг в Москву, где сожжен в крематории, в присутствии членов Политбюро. Доказательства приведены весьма слабые — пока, мол, до конца расследования открыться невозможно. О чем же все-таки говорил Бурцев? Одурманенный Кутепов сел в машину добровольно. Он — раненный в грудь — не мог перенести наркоза, что подтвердил и профессор Алексинский. Кутепов давно находился в конспиративных отношениях с представителями Красной Армии. Среди них были и агенты ГПУ, похитившие генерала. Попутно Бурцев обвинил чуть не весь штаб РОВСа, особенно Зайцева, которого вызвал на очную ставку с шоферами трех автомобилей. Зайцев уклонился, ссылаясь на запрещение командования. Бурцев публикует фотографию малолетнего сына Кутепова с трогательной подписью: «Верните мне папу». Между тем выдается и третья версия: похищение осуществлено под руководством Детердинга и двух-трех великих князей. Почему? Доказательства обещаны в ближайшие недели.
— Н-н-нда, — развел руками Шатилов. — Постарел наш главный российский разоблачитель. Был я у него как-то в отеле «Пантеон». Две клетушки — жалкая картина! Но у самого еще вполне респектабельный вид: седые волосы зачесаны назад, усы, бородка клинышком, рубаха с черным галстуком, жилет, две ручки в кармане пиджака. Хоть куда! Прошу прощения, полковник: увлекся.
— У вас еще много? — спросил Миллер.
— Достаточно, но я купирую. Итак, читатели ждут доказательств, читатели требуют. Бурцев вынужден заявить: «Я могу сказать, дело Кутепова раскрыто. Но я дал слово молчать и буду молчать, невзирая на клевету РОВСа и правых кругов». А вскоре — называется имя. Главный похититель — Андрей Фихнер, обрусевший немец, второй секретарь берлинского торгпредства. Резидент ОГПУ в Центральной Европе! С помощью подручных он и похитил Кутепова.
— Но ведь не в Берлине же, в Париже?
— Это не уточняется. Фихнер, бежавший из Европы, дал разрешение назвать свое имя. Более того, он сам пишет книгу, где названы все похитители. Если Фихнер не сделает этого, Бурцев опубликует все сам.
— Бред какой-то, господа! Полный!
— С этим согласно и советское посольство. Оно выступило с опровержением: Фихнер действительно был вторым секретарем в Берлине в двадцать четвертом и пятом годах. С двадцать девятого года — первый секретарь посольства в Ковно. За это время никуда не выезжал и лишь теперь находится на отдыхе в Советском Союзе. Ничуть не смущаясь обвинением в диффамации, Бурцев называет еще фамилию — Евгений Думбадзе. Это якобы один из невозвращенцев. С Фихнером ехал в одном купе восемнадцатого ноября двадцать девятого года из Парижа в Берлин. Неожиданно дверь раскрылась, и в купе вошел... Кутепов. Ночь они провели за тихим разговором. В одиннадцать утра генерал вышел на станции Шарлоттенбург.
— И Шекспир не придумал бы лучше! Не хватит ли, господин полковник? — не выдержал и терпеливый Абрамов.
— Только еще одно высказывание нашего «разоблачителя», господа генералы. Бурцев пишет: «Как и раньше... я хожу по Парижу и днем с фонарем в руках отыскиваю хоть кого-нибудь, кто мог бы бороться с большевиками... кто действительно хотел бы разоблачить похищение Кутепова». Он полностью расписался в своем бессилии.
— С этого следовало бы начать, — добавил Штейфон. — И времени терять не стоило. Тем более что, насколько мне известно, ныне Бурцев всецело увлечен великосветским процессом в Париже. Графиня Елизавета Шувалова предъявила иск своему управляющему Шейдеману. Он растратил деньги доверительницы. Предстоит шумный процесс. Это уже заслоняет дело Кутепова. К нему теряется интерес даже в военных кругах.
«Как бы не так, — подумал Монкевиц. — Про миллион ни один не забыл».
— Не исключаю, не исключаю!.. — снова встал Евгений Карлович Миллер. — Однако полагаю, мы обязаны доложить последние сведения об исчезновении Кутепова, полученные по нашим каналам. Это, собственно, версия Знаменского и «Внутренней линии», которую абсолютно не разделяет, правда, полковник Монкевиц. Поэтому я сам доложу ее высокому собранию. Полагаю, могу начать?
— Просим! Просим! — раздались голоса. — Ждем! Слушаем, Евгений Карлович!
Монкевиц подобрался, насторожился, готовый опровергать любое положение своего нового шефа, несмотря на то, что у них уже складывались хорошие отношения. Этого требовали обстановка и его новое положение. Миллер же вообще не любил служебных перестановок, у него не было своих людей, которых следовало определить в ближайшее окружение РОВСа.. Он привык опираться на уже сложившиеся, сработавшиеся группы.
— Итак, суммируем все сказанное в этих стенах, — придавая голосу значительность и некоторую даже таинственность, начал Миллер. — Нет ни одного свидетеля, видевшего Кутепова в Париже. Ни его, ни его двойника. Ни живым, ни мертвым, ни одного, ни в компании с какой-нибудь загадочной красавицей. Следовательно. .. — акцентируя свои слова, Евгений Карлович погрозил кому-то пальцем и поднял глаза к потолку. И повторил громче, как безапелляционный вывод: — Следовательно, его нет в Париже. Помните, еще в первые дни имелись свидетельства о двух авто, из которых большее — зеленое. Мы сосредоточились на авто, полагая, что именно они и везли куда-то Кутепова. И получили интересную картину. Вот ряд донесений. Агент Сафронов докладывает: два авто проехали по Русселе к дому Инвалидов по Версальской авеню и скрылись через ворота Сан Клу. Далее... В одном из гаражей предместья коллегой Сафронова обнаружен зеленый лимузин, который собирались перекрасить. Осмотр показал, что обшивка изнутри порвана: вероятно, шла борьба. Железнодорожник, доставленный в гараж, узнал зеленое авто: оно останавливалось у переезда в Трувилль. — Он перешел к карте Франции, отдернул занавеску. — Вот данные полиции, опубликованные в прессе. Зеленое авто и красное такси — его появление, признаюсь, и для меня неожиданно, откуда и когда оно появилось? — были замечены в местечке Эвре в одиннадцать утра. В полдень — в Ривьер Тибу вилл ь. Через час сторожиха магазина видела обе машины в Понт л’Эвеке. В два пополудни мэр города замечает их в Бонвилле. Прошу проследить за движением этих машин: Париж — Эвре — Ривьер Тибувилль — Понт л’Эвек — и, наконец, Бонвилль. Дальше лишь путь на Трувилль и вдоль морского берега. Только так! Сафронов выезжает на место и, представьте, вскоре находит свидетелей. Около четырех пополудни они видели машины на пустынной дороге, ведущей к пляжу. Правда, быстро темнеет, и свидетели путаются в определении цвета автомобилей. Но что важно? Их ждала лодка! И тут полиция, конечно, теряет след. Деладе, полицейский следователь, приехавший позднее, обнаруживает отличное место: широкий пляж, глубина у берега около шестидесяти сантиметров — для причаливания большой лодки вполне пригодно.
— Зеленое авто превращается в зеленую лодку? — недоверчиво спросил Шатилов. — Давайте начнем искать лодку.
— Вы напрасно иронизируете, генерал. Я доказываю, Кутепова нет в Париже. Ни живого, ни мертвого. Он уехал. Либо его увезли пароходом.
— Каким пароходом? Куда и зачем? Где стоял этот пароход? Видел ли его хоть кто-нибудь? — раздались новые вопросы генералов.
— Куда и зачем увезли Кутепова, я не знаю. В Берлин, в Москву, в Парагвай! — повысил голос Миллер. — Это и предстоит нам узнать.
— Что же! Давайте искать и пароходы, — безнадежно сказал Абрамов.
Миллер сел. Воцарилась минутная пауза. Руководители РОВСа смотрели друг на друга растерянно: новая версия перекрывала почти все предыдущие.
— Мы знаем, что мы ничего не знаем, — сказал, как отрубил, долго молчавший генерал Эрдели. — У меня кончается терпение, господа.
— У всех довольно складные версии, это и настораживает, — добавил Лукомский. — Версии правдоподобные, но взаимоисключающие. Я не верю ни одной!
— Интересно все же подробнее узнать о ваших расхождениях с полковником Монкевицем. В чем они? Дайте ему слово, Евгений Карлович, — предложил Штейфон.
— Говорите же, Николай Августович, — неохотно приказал Миллер.
— Благодарю, — Монкевиц чуть заметно поклонился. — Дело, как вы изволили заметить, весьма запутанное, а обилие различных версий и рождает противодействие им. Истина, видимо, в стороне. Вот лишь несколько номеров газеты «Сегодня». Разрешите коротко. Так... «Новая сенсация в деле Кутепова», содержащая массу невероятных подробностей. Названы известный парфюмер Франсуа Коти, редактор газеты «Актюалите» Филипп Маркс... Перехвачен подозрительный телефонный разговор... упомянут роскошный особняк на авеню Рафаэль, принадлежащий явно подставному лицу. И автомобиль «Делаж», в который сел Кутепов, выйдя ночью из особняка. Каков вывод? Генерал уехал в Италию, где живет по подложному паспорту? Никаких доказательств! Нам просто предлагают поверить в эту версию, рассчитанную на простаков... Или вот еще. Тут «откровение» одного из заключенных в тюрьме Френ. Он знает тайну Кутепова. Начальника РОВСа свезли на виллу Фонтенбло и там после допроса задушили. Тут есть и доля правдоподобия: вилла с зелеными ставнями — как авто, заметьте! — принадлежит художнику Луи Миллеру. Никто такого не знает.
А когда этого заключенного, профессионального налетчика, спросили, почему он не захотел миллионной премии за «тайну» Кутепова, он ответил, что у бандитов, видите ли, кодекс чести. Виллу Фонтенбло вообще не нашли. Зато нашли двух новых, очень осведомленных свидетелей. Я добился беседы с ними, но это все пустое. Первый — шофер Газольс — привез в больницу на рю Удино какого-то иностранца, видел, как ажан сел радом с шофером второй машины. Кутепова он не видел. Вторая свидетельница — консьержка соседнего дома Бадер видела наручники на том, кого вталкивали в большое авто. Я задал ей вопрос об ажане. Она стала путаться и менять свои показания. Это не свидетели, господа! Подобное же отношение у меня и к «нормандской» версии: ни наши люди, ни французские полицейские не оказались здесь на высоте. Много недоработок, много неперепроверенных предложений — тумана, одним словом.
— Так что же вы предлагаете, полковник? — напористо спросил Шатилов.
— Миллион — это много, господа генералы. Прошу прощения за откровенность. Пусть она не покажется обидной. Если мы хотим получить миллион франков, необходимо прежде всего прекратить собственные разработки и объединиться. Часть миллиона — меньше целого, конечно. Зато шансов у нас будет больше, господа. Я за объединение усилий всех. И пусть никого это не обижает. Время еще не упущено!
— Что ж! — сказал Штейфон. — Браво, полковник!
И все члены штаба дружно зааплодировали. Только Евгений Карлович Миллер не смог скрыть своей озабоченности. Был уязвлен, считал, что сотрудники его штаба слишком уж легко пошли на поводу у этого косого ловкача Монкевица и демонстративно не посчитались с ним, новым начальником РОВСа...
Оглядывая собрание генералов, говоривших долго, но так и не приблизившихся ни на шаг к истине, Монкевиц все сильнее отдавался чувству злости. И на них и на себя, ибо и он волею судьбы попал в капкан, из которого не видел выхода. У него вспыхивала дикая, еретическая мысль — хотелось сказать этим легковерным и глупым генералам, как все было в действительности. Как готовилось, умно начиналось, как гладко шло и было точно завершено к намеченному сроку... И с его, полковника Монкевица» помощью. Что произошло бы тут, в штабе? Не поверили бы, конечно... Ерунда! Одна из очередных «липовых» версий, не стоящая внимания. Ни одному слову не стоит верить. Дивиденды для своей «Внутренней линии» зарабатывает. Не иначе они деньги не сегодня-завтра попросят...
Вечером следующего дня на пляс Конкорд возле обелиска Рамзеса Венделовский ждал Монкевица. Теплый ветер Атлантики принес моросящий дождь. Полковник чуть задерживался, и Альберт Николаевич нервничал. С полей шляпы капала за ворот вода. Он чувствовал себя неважно в легком плаще не по погоде. И сердился: разве нельзя было назначить встречу где-нибудь в кафе, в ресторане, в конце концов. Они могли позволить себе подобную открытую встречу — сотрудники одной службы, начальник и подчиненный, проверенные совместной акцией в Советской России, свершившие все, что им предписывалось, и благополучно вернувшиеся в Париж...
Внезапно, почувствовав приближение постороннего, Венделовский резко обернулся и увидел полковника, держащего над собой необъятный зонт. Они поздоровались кивками, не подав друг другу руки.
— А вы прекрасно держались на заседании штаба, — сказал Венделовский.
— Благодарю. Вам и это уже известно?
— Мне все известно. Но почему это должно вас теперь волновать?
— Меня больше интересует цель нашей встречи. У вас есть для меня задание?
— Помилуйте, Николай Августович! Я пришел посоветоваться. Мы говорили, помните, в Москве...
— Говорите, пожалуйста, тише, Альберт Николаевич.
— Хорошо... Можно купить виллу, недорого.
— Где? — машинально спросил Монкевиц, думав о чем-то важном...
— В Озуаре, двадцать восемь километров отсюда. Там отличное место. И уже селятся русские. Облюбовали... Например, генерал Скоблин со своей женой, несравненной певицей Плевицкой. Хотите по соседству? А? Интересно.
— Да делайте вы все, что хотите! — вырвалось у Монкевица. — У вас все?
— Юпитер, ты почему сердишься? Договоримся, как встретиться при срочной необходимости. Где я отмщу вас? В штабе? На квартире?
— У вас же есть все мои телефоны, — Монкевиц продолжал размышлять о своем.
— Я знаю ваши мысли, Монкевиц, — неожиданно серьезно сказал вдруг Венделовский. — Вы хотите убрать меня.
— С чего вы взяли?
Видя, как волнуется полковник, Альберт Николаевич понял, что не далек от истины.
— Напрасные идеи, Николай Августович! О наших дружеских отношениях знают друзья не только в Москве, но и в Париже. Учтите. Вы ничего не добьетесь. Вместо Венделовского к вам придет кто-то другой. Так что будем лояльными по отношению друг к другу.
— Вы мне глубоко несимпатичны, Венделовский.
— Господин Венделовский: я — дворянин, полковник, учтите.
— Господин, — согласился полковник. — Пусть. Но это не меняет сути.
— И вы мне несимпатичны, представьте. Целиком и в деталях. Но какой смысл в подобных открытиях? Лично я замерз основательно, ожидая вас. Предлагаю по рюмочке перно, полковник. Не возражаете? Согреемся, поговорим о жизни. Идете?
— Считайте, и тут вы меня уговорили.
— Вот и прекрасно, полковник. Наконец, человеческий разговор. Поздравим друг друга и — в путь.
— Но вам-то известна правда о нейтрализации Кутепова?
— Возможно, — улыбнулся одними глазами Венделовский. — Разве вас это удивляет? Меня же Кутепов лично вербовал. Вспомните, как он нас обоих перепроверял в Финляндии.
— А эти двое офицеров из германского генштаба — тоже ваши люди?.. Н-да-с!.. С вами, действительно, можно работать.
— Благодарю за признание, Монкевиц. И с вами можно — свидетельствую.
Постепенно имя пропавшего генерала Кутепова стало исчезать со страниц всех европейских, в том числе и русских, газет разных политических направлений.
Миллион франков, обещанный нашедшему Александра Павловича живым или мертвым или указавшему его похитителей, остался невостребованным.
4
От денег, полученных за перевод никому не нужной книги, за вычетом всех расходов почти ничего не осталось. И все же Анохин, не желая натыкаться на знакомых в своем районе, повел Ксению в ресторан «Петроград», тот, что находился рядом с собором на рю Дарю. Он предложил спуститься в подвальное помещение, где находились собственно ресторанные залы, но Ксения решительно воспротивилась (там обычно собиралась знать, окружающие ее завсегдатаи церкви и кабака, проводящие внизу дни рождения и тризны, непременно отмечающие все юбилеи членов дома Романовых и победные даты из истории старой России).
Наверху ресторан занимал две комнаты, из которых одна являлась и магазином, и складом, вторая походила на уютную семейную столовую. Многие посетители, перекусив здесь на скорую руку, покупали в магазине «настоящую русскую еду»: черный ржаной хлеб, вологодское масло, икру и калачи, жирную сельдь, крошечные соленые огурчики — «нежинские», как они назывались когда-то дома...
И Анатолий, и Лев не любили ходить сюда: «настоящая русская еда» среди избранной публики и по-европейски вымуштрованных официантов казалась ненастоящей, искусственной.
Но сегодня Анохин решил, что слова, произнесенные им здесь, у врат главного православного храма, приобретут особый смысл и вес. Ксения не была очень набожна, но домашнее воспитание в княжеской семье наложило, конечно, особый отпечаток на се жизнь, мораль, отношение к определенным церковным догмам и заповедям. И ничто не могло поколебать этого, даже все пережитое и в Крыму, и в Константинополе, и на Балканах...
Именно тут Лев ей первой откровенно рассказал о решении вернуться домой, в Россию. О решении, принятом еще в те дни, когда Белопольская поступила на службу к художнику и он понял, что совсем не нужен ей. Анохин не поведал о желании уехать даже Грибовскому. Зачем испытывать судьбу? Может, и не выйдет ничего? Лев и не подозревал, а вот коснулось его это испытание — и оказался он обыкновенным суеверным человеком, как и многие его соотечественники-эмигранты...
Хлопоты, ожидание вызова, хождение в Советское полпредство, ответы на десятки вопросов, которые задавали ему там, длились почти всю весну.
По-настоящему теплый март внезапно сменился прохладными днями начала апреля. Подули влажные ветры с Атлантики, принесли ежедневные моросящие дожди. Температура днем не поднималась выше пятнадцати градусов. Парижане сетовали: в природе началось светопреставление. Люди забыли, как солнце выглядит. Да и существует ли еще оно, солнце? Кому светит, где?..
Вместе с тем всю весну Лев продолжал делать свою привычную работу в редакции, хотя давно уже пропал у него интерес к своему делу — короткие заметки, переводы, даже составление крестословиц казались ему вымученными, он придумывал их механически, не стараясь, как когда-то, внести в повседневную иссушающую газетную барщину хоть частицу своего ума и сердца.
И вот, наконец, вновь пришел первый теплый и влажный день. Солнце вспыхивало и сияло в окнах домов. Вкусный, с арбузным запахом, ветер шевелил занавески раскрытых окон. Лев — с непокрытой головой, растерянный, непонятно счастливый и ошеломленный, шел по улице Гренель к пляс Конкорд, а в голове билась одна мысль: «Еду, еду! Позволили, разрешили, наконец!..»
Объяснение с Ксенией представлялось нелегким. Казалось, как были чужими, так и остались. Добрые знакомые — не больше. И все-таки, понимая, что он для нее только друг, приятель, Лев страшился разговора с ней. Его не покидало ощущение, что он предает в чем-то и Ксению, и Анатолия, оставляя их тут, в чужой стране, среди чуждых, а то и враждебных людей. Его преданность этой прелестной женщине, уважение, которое он к ней питал, трепет при каждой встрече — да что там искать слова! — просто любовь, да, любовь, его собственное и, увы! неразделяемое чувство — накладывали на него святую обязанность беречь ее, хранить, быть под рукой в любой час, в любую минуту, когда ей это понадобится.
А теперь он уезжает, не сказав друзьям, не посоветовавшись с ними. Быть может, на решение его повлиял один из последних разговоров с Поляковым, беззастенчиво указавшим ему его место? Или, скорей, перемены в жизни Ксении: она нашла основную работу, в которой, он чувствовал это, она растворялась целиком и нашла себя. Как подшучивала Ксения вначале над порядками в доме Мэтра, где ей предоставили роль... кого? Секретаря, экономки, служанки? Она смеялась, рассказывая, что делает все, что приходится, что даже — представьте себе! — Мэтр однажды просил ее позировать для картины.
— Как? — взорвался Анохин. — Позировать? Ню?
— Ню, — звонко рассмеялась Ксения (она никогда раньше так не смеялась). — Абсолютно ню! Он рисовал мою руку, только ладонь, представь себе!..
Позднее оказалось, что Мэтр обращается к Ксении и с более ответственными просьбами — договориться с галереей о выставке, проследить за упаковкой картины для маршана. И насмешливые ноты в рассказах Ксении встречались все реже и реже. Она гордилась подобными поручениями Мэтра! И выглядеть стала иначе — уверенней, нарядней, спокойней...
«Я вовсе не нужен ей. Она прекрасно обойдется теперь и без меня», — уговаривал себя Лев, но что-то точило, омрачало радость отъезда, и он уже несколько дней все откладывал и откладывал разговор с Ксенией...
Они сидели вдвоем в самом углу тесного зальчика. Молчали... Анохин глядел в милое, изученное до последней черточки лицо. Низко надвинутая — как носили в тот сезон — черная круглая шляпа скрывала ее чистый лоб, даже брови, бросала тень на красиво очерченный помадой рот и подбородок. Сиренево-серое легкое пальто на спинке стула то и дело сползало на пол. Лев кидался подбирать его, но Ксения каждый раз опережала его ленивым жестом и снова вешала на спинку стула, смотрела на Анохина, как ему казалось, выжидательно и чуть насмешливо.
— День-то какой сегодня замечательный... — начал Дев и умолк.
Ксения сделала вид, что отвлеклась увиденным на противоположном тротуаре, и не отреагировала на его слова.
— А помните, вы когда-то утверждали, что правое ухо у меня больше левого?
Ксения улыбнулась.
— Ну же! — сказала она нацонец. — Говорите же, Левушка.
— Что?
— Не знаю. Но думаю, вы приготовились сказать мне что-то важное. Должны сказать... Надеюсь, это не будет объяснением в любви? Это ведь уже было, не так ли?
— Да, да, конечно... Ксения, родная... — начал Лев и не почувствовал, не понял сразу, что заплакал. — Дело в том, что я решил... Я уезжаю. Совсем скоро.
Лицо Ксении переменилось. Его волнение мгновенно передалось и ей: она поняла, о каком отъезде идет речь.
— Туда, домой, — проговорила она чуть слышно. — Вы решились? И вам разрешили? А я... Я не думала, что вы... Так вот просто...
Он мог только кивнуть. Боялся, начнет говорить — разрыдается.
Ксения протянула ему через столик обе руки. Он приник к ним ладонями, потом лбом, целовал, гладил, стараясь проглотить острый ком, застрявший в горле...
— Вы прощаете меня? — выдавил он наконец. — Вы не сердитесь... Не обижены?
— Глупый! О чем вы? Вы решили все правильно, и я завидую вам. Все здешнее у вас позади. Вы возвращаетесь к своему дому. Человек должен возвращаться к своему дому. Даже если вместо него — одни развалины и пожарище.
— А вы, вы, Ксения? Может, и вы? Со мной... Я дождусь вас тут. Это месяц, ну, полтора. Нет, нет!.. — сообразил вдруг он. — Как с другом, как с братом! Я давно понял, что другое невозможно между нами... Я и не претендую. Главное — видеть вас, знать, что вы рядом.
— Нет, милый, нет! Теперь, пожалуй, нет, — это было сказано твердо, без колебаний, как говаривала прежняя Кэт. — Дед умер, никто не ждет меня в Петрограде. Мое место здесь. Пока я нужна Мэтру — вы должны понять это. Не хочу ничего объяснять сейчас. Я не знаю ничего, кроме того, что нужна прекрасному, великому человеку. Простите уж меня, Левушка. У вас добрая душа. И больше об этом ни слова! — она поцеловала Анохина в лоб, а когда он поднял мокрое от слез лицо, перекрестила его троекратно. — Благодарю вас, дорогой, милый. Пусть Бог будет вашим поводырем, и у вас все станет хорошо, вот увидите.
— Спасибо вам, спасибо, Ксения, — бормотал он. — Вы снимаете с моей души камень.
— Русский человек должен жить в России. Ему нет на земле другого места. А вы еще так много сумеете сделать, там, дома. — Ксения помолчала, а потом сказала раздумчиво: — Может быть, когда-то и мне будет суждено вернуться. И тогда я найду вас, Левушка! Обязательно найду!.. Каким вы станете? Наверняка, вы добьетесь многого — я уверена. Все правильно — поезжайте! Поезжайте! Поезжайте!.. И давайте скорей выпьем водки, пусть вам путь к дому будет легким и счастливым! Спасибо за все, что сделали для меня в Париже. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, спасибо!.. Я никогда не забуду вас. Вы — брат мой кровный. Вы — больше, чем брат. Родная кровь, родная душа, родные 'руки, — Ксения склонилась снова и поцеловала Анохина...
Все вокзалы — от столичных гигантов до маленьких тупиковых одноэтажных станций — похожи друг на друга особой атмосферой. Атмосферой прощания, разлук и печали, расставанием с дорогими людьми, тревожным настроением перемен. Минутная суета у касс, возле входа и в багажном зале... И особая, настороженная тишина, наполненная щемящей грустью. Невольно приглушаемые голоса — на перроне, возле отходящего состава, — в последние минуты перед отправлением, когда вот-вот прогудит паровоз и по составу, перекатываясь от головы к хвосту, от первого к последнему вагону, с нетерпеливым и несильным лязганьем буферов и сцепок, пробежит живое, елё сдерживаемое движение торопящегося в путь поезда, который через миг оторвет близких людей друг от друга и развезет их по разным странам и землям...
Анохин и Грибовский, придя чуть загодя — так уж случилось помимо их воли, — стояли у вагона, под крытой стеклянной галереей, покрывающей железнодорожные пути. Оба — задумчивые, молчаливые (обо всем переговорено, все обсуждено), тяготясь приближающейся процедурой проводов. Анохин захотел было сразу отослать Грибовского, но тот из непонятного чувства протеста заупрямился и решительно отказался. Они смотрели на человеческую реку, текущую мимо. Время двигалось тягуче медленно, тоскливо.
— Значит, все, брат. Уезжаешь? — спросил Анатолий, чувствуя затянувшееся молчание. — Уезжаешь — это хорошо. Особо когда возвращаешься. Домой. И все-таки жаль.
— Жаль, что ты остаешься, Толя. У меня ни здесь, ни там никого. Ты и Эйфелевая башня.
— Любой московский храм, кремлевская башня быстро заменят тебе меня.
— Я у тебя многому научился. Ты давал мне хорошие уроки, нет, без шуток, хорошие уроки жизни.
— И ты действовал на меня... как бы сказать точнее... облагораживающе, Лев. Рядом с тобой всегда хотелось... — не удержался и сыронизировал по привычке: — Чаще умываться. Руки и лицо по крайней мере.
— Ты молодец.
— В «Последних новостях» напишут: они были друзьями.
— Да, пожалуй. Меня это обрадует.
По перрону мимо них прошла группа бородачей, человек семь, в казачьей форме, местами залатанной, застиранной, в рваных сапогах, лихо заломленных папахах, с вновь пришитыми, видно, красными лампасами. Вперед шагал молодой парень с гармошкой. Два казака постарше, растянув во всю ширь перрона, несли плакат: «Да здравствует СССР!»
Анохин и Грибовский проводили казаков сочувственными взглядами.
— Как поздно начинаешь понимать простые вещи, — сказал Анатолий с грустью, — своя земля, свой язык, дом.
— И свой народ.
— Да, и свой народ — это не слова, особо когда живешь среди чужих и тебя называют «нежелательный иностранец». Ну, для тебя все позади, Лев. Поэтому-то, наверное, мне и грустно.
— Надо, чтоб меня еще приняли в России.
— Примут. Ты что, Врангель? Деникин? Бежал в стаде других баранов. Вот со мной сложнее: чего только я не писал про большевиков, с кем только не сотрудничал! Со мной все кончено, все позади... Идем к тамбуру: сейчас дадут отправление.
— Я напишу тебе, Толя. Как устроюсь и сориентируюсь. И о тебе поговорю — обещаю. Уверен, многие помнят тебя еще по Петербургу. Твоя высочайшая квалификация — король репортажа! — не забылась.
— Брось, Лев! Все равно меня не возьмут: чуждый, враждебный элемент. Не связывайся: это и тебе повредит.
— Меня это не пугает. Готов всегда и повсюду за тебя поручиться.
— Обещаю оправдать твое поручительство, — усмехнулся Грибовский. — Хоть корректором, хоть метранпажем. На все согласен. Будет случай, поговори там.
— Обязательно. Обещаю тебе.
— Знаешь, если честно... И я сыт эмиграцией — во! — Грибовский ребром ладони резанул себя по горлу. — Будь она проклята. Но возвращаться, чтоб тебя тут же к стенке поставили, я тоже как-то не тороплюсь, — он засмеялся невесело.
— Ты о Ксении помни, Толя.
— Не волнуйся, я же обещал... Давай обнимемся, дружище, напоследок.
— Прости, если что не так сделал.
— И ты прости, Лева.
Они обнялись и расцеловались трижды.
— Ну, поехали, — отстраненно сказал Грибовский. — Садись и не забудь свое имущество, — ногой он подвинул к Анохину чемоданчик. — Не хватает и теперь опоздать. Залезай, залезай! Будь! А я пошел: надоело, прости, — и он, не оглядываясь, зашагал к зданию вокзала. Больше всего в жизни Анатолий Грибовский боялся показать свою тщательно скрываемую сентиментальность.
Подхватив чемоданчик, Анохин полез на ступеньки. И все глядел Грибовскому вслед в надежде, что тот хоть раз обернется. Поезд тронулся и стал быстро набирать скорость.
Грибовский не оборачивался. Он шел по перрону, упрямо глядя под ноги, и представлял себе, как всего через пару дней, миновав Негорелое, Лев выглянет в окно вагона и увидит неказистую русскую деревеньку, какой-нибудь старый колодец, бабу, по брови обвязанную платком, которая тащит из колодца ведро воды. Эта картина так явственно предстала перед ним, что он зажмурился: глаза внезапно ожгло слезами.
Увидит ли он это когда-нибудь сам?
Россия лежала далеко — громадная, бедная от пережитых войн, родная н, несмотря ни на что, упрямо строящая неведомую ему новую жизнь. Сколько дорог вело к ней! Сколько русских людей шло по этим дорогам из эмиграции, шло домой с чужбины... Его Россия не ждала. Надо было самому найти к ней дорогу...
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
1
«...Мы выстрадали право быть русофилами. Соблюдая законы приютивших нас стран, мы думаем только о пользе Родины. Вот наша тонка зрения:
1) Если какая-либо страна начнет борьбу с Московскими сатрапами, во имя человечности и культуры, мы, ни минуты не задумавшись, всеми мыслями и делами будем с ней.
2) Германия сделала много для большевиков до последнего времени. С приходом Гитлера к власти ситуация изменилась. Компартия разгромлена, однако Рапалльский договор будет возобновлен, и все пойдет по-старому. Так же, как мне непонятна свастика на русском национальном флаге, мне было бы больно смотреть, если б русские во Франции украсили свои флаги лилиями или в Италии надели черные рубашки фашистов.
3) Полагаю, что расистские реформы и армейская свастика как идеология не могут быть применимы к нашей Родине. Объявляя себя «социалистами» какого-то особого вида, РОНД[63] сводит свои шансы на успех в России к нулю. Бороться в России с коммунистами под флагом социализма совершенно невозможно.
4) В силу международной обстановки РОНД, присвоив себе определенное имя и надев, как ни объясняй, немецкую эмблему, сделался исключительно внутригерманской организацией и никакого распространения получить не может...
I
Единственная наша задача — борьба с большевиками. Мы ищем союзников и соратников. Надо готовить силы, не отвлекаясь мелочами, спорами, опостылевшей всем полемикой и самобичеванием. Мы должны создавать сильный, здоровый, устойчивый тыл...
В. Орехов»[64]
«Русский национал-социализм зарождался и креп в душе русского эмигранта по мере того, как рос успех немецкого национал-социализма, объявившего борьбу большевикам. И если бы во Франции национал-социалисты помогли ей освободиться от правительства «жидов и масонов» и вытравить у себя коммунистическую заразу, русские эмигранты восприняли бы эти идеи как средство борьбы с большевиками в России и это бы оздоровило страну. РОНД чтит и уважает русскую военную славу — она принадлежит всем русским одинаково. Но для поддержания славы необходима борьба и победа. Борьба — это не только создание военно-исторических музеев. Победа не обеспечивается описанием былой доблести русских полков.
Германия спасет Европу от коммунизма. Германия приблизит поражение одной из крепких цитаделей. Германия доказывает, что есть средство борьбы с коммунизмом, и воскрешает нашу веру в возможность нашей скорой победы. И это сделает Гитлер под эмблемами своего креста... Нам не приходится здесь защищать честь России, которую оскорбляют с правительственных трибун народные депутаты, не приходится слышать, что чувство патриотизма нам не присуще, что Достоевский, Толстой и Тургенев проповедуют те же идеи, которые проводятся сейчас коммунизмом. Не слышим мы призывов к искренней дружбе с Советской Россией (депутат Торрес), никто не говорит нам о том, что нас, эмигрантов, надо «прижечь каленым железом» (депутат Доррио). Почему же нам не питать симпатий к немцам? Которые платят нам тем же...
Н. Никольский»
(Журнал «Часовой», 1933, июнь)
2
«Чего хочет и за что борется НСНП?
Национальный союз нового поколения — организация русских молодых сил по обе стороны границы. В основе нашего мировоззрения — идеализм. Историю творят идеи и сильные духом люди, а не экономический процесс. Идея национализма более сильна, чем интернационализм.
Для нас, членов НСНП, конечная цель — победа над материалистическим и интернационалистским коммунизмом, которую мы взяли на себя и которую во что бы то ни стало доведем до конца. НСНП борется за Россию, за свободу и равенство всех перед законом. Чтоб каждый мог свободно высказывать свои убеждения. Чтоб каждый мог располагать кровным своим имуществом, продавать и покупать все. За землю крестьянам! Никаких помещиков — ни старых, ни новых! За раскрепощение рабочих, свободный труд, за создание свободных профсоюзов, за тайные выборы в фабзавком, чтоб рабочий мог свободно выбирать место и род занятий. За участие рабочих в прибылях, улучшение быта, рабочее законодательство и его улучшение. За мирное сотрудничество классов и прекращение классовой борьбы. За правильное всеобщее обучение, за изгнание из школ засоряющей мозги марксистско-ленинской политучебы. За то, чтоб армия служила России, а не Интернационалу. За проведение во внешней политике здорового национального эгоизма.
Довольно тратить народные деньги на поддержку интернациональных паразитов!
За создание надклассового и надпартийного Всероссийского Национального Правительства — сильного и крепкого, несущего за свои действия ответственность перед народом. НСНП считает, что все эти задачи могут быть достигнуты лишь после свержения престола коммунистической власти.
И потому наш клич: Даешь Национальную Революцию!»
(Журнал «•Часовой», 1935, март)
Народно-трудовой союз, который возник из остатков белой армии, находился прежде в услужении гитлеровской и других фашистских разведок, а ныне — у натовских секретных служб. Сначала эта белоэмигрантская организация называлась Национальным союзом русской молодежи (сокращенно НСРМ), затем, с конца 1931 года, Национальным союзом нового поколения (НСНП). Далее, с 1934 года, Национально-трудовым союзом нового поколения (НТСНП) и, наконец, с 1942 года была окрещена как НТС. Словесная чехарда с наименованием нисколько не меняла сущности этой организации, давно уже скомпрометировавшей себя всякими неблаговидными делами.
3
«Приказ по 1 отд. РОВС № 5 1 марта 1938 года...
§ 4. Объявляю полностью общие выводы Комиссии по вопросу так называемой «Внутренней линии».
Организация «Внутренняя линия» внедрилась в РОВС, т.е. в военное объединение, построенное по принципам воинского подчинения, вопреки первоначальному замыслу, в виде некоей тайной силы. Сила эта образовала у себя независимо от местных начальников РОВС линию подчиненности во главе с особым центром, ускользавшим от влияния возглавителя РОВСа.
При таком ее устройстве она являлась орудием неких честолюбивых людей и их личных целей к ущербу и для возглавителя РОВСа, и для общего направления жизни воинского Союза.
Работа этой организации своими формами тайнодействия отравляющим образом повлияла на некоторых ее участников. Наконец, она возбудила крайнее к себе недоверие соприкасавшихся с РОВСом национальных организаций молодежи, следствием чего является публичный скандал «разоблачений», вредных для всей эмиграции в целом.
Польза же, которая ожидалась при возникновении «Внутренней линии», была очень невелика. Однако не следует преувеличивать размеры этого вреда ни по его влиянию на духовное состояние толщи участников РОВС, ни по его последствиям вне этого Союза. Общий состав РОВС и большинство самих участников тайной организации остались духовно здоровыми. Изображение «Внутренней линии» в том виде, в каком предоставлена она общественному мнению известным выступлением НТСНП в Париже, есть резкое искажение действительности. «Внутренняя линия» никак не являлась могущественной мафией, руководимой большевиками во вред РОВСа и эмиграции и достигающей своих целей всеми мерами до покушения на убийство включительно. Такое представление о ней есть следствие отравленного воображения и недостаточной дисциплинированности мозга некоторых лиц, имевших то или иное касательство к этой организации.
По единодушному выводу Комиссии, «Внутренняя линия» должна быть упразднена. Вышеприведенные полностью общие выводы должны совершенно прекратить распространяемые неверные и вредные слухи по поводу «Внутренней линии» — в составе которой, по удостоверению Комиссии, числилось не свыше 30 человек.
§ 5. В дополнение к ранее имевшим место указаниям — ныне приказываю так называемую «Внутреннюю линию» упразднить и всякую деятельность прекратить.
§ 6. Не могу не отметить отрадного заключения Особой Комиссии, что русское зарубежное воинство, несмотря на все удары и тяжкие испытания, по-прежнему непоколебимо остается верным исконным началам Русской армии и отстоит национальную основу всего Воинства за рубежом — РОВС.
Вр. и. д. Начальника I отд. генерал-лейтенант
Витковский
И. д. Начальника канцелярии полковник
Мацылев».
4
В октябре 1938 года в Сан Бриаке появился листок, подписанным сыном Кирилла — Владимиром:
«12 октября умер отец мой Государь император Кирилл Владимирович. Потеря супруги сломила жизнь Государя.
Мои незабвенные родители завещали мне любовь и жертвенное служение России и Русскому народу...
По примеру моего отца, в глубоком сознании лежащего на мне священного долга, преемственно воспринимаю, по дошедшему до меня наследственно Верховному праву Главы Российского Императорского дома, все права и обязанности, принадлежащие мне в силу Основных законов Российской Империи...»
(«Комсомольская правда», 1982, 13 августа)
«От главы Российского Императорского дома
Поздравляю всех русских людей по обе стороны рубежа с Новым Годом, и голос мой да встретит живой отклик, в каждом русском человеке, будя в нем чувство долга и веру в радостное воскрешение нашей земли. И если на то будет милость Господня, да будет первый год моего служения России и последним годом пребывания нашего на чужбине.
Владимир.
I января 1939 г., г. Аморбах.
С подлинным:
начальник управления по делам Главы Российского Императорского Дома
Контр-адмирал Граф».
«Обращение к молодежи
...Я первый хочу вернуться в Россию, вооруженный широкими знаниями и опытом, чтобы иметь возможность наиболее полно выполнить доле, возложенный на меня Свыше. В первую очередь я решил практически изучить постановку техники и условия труда в Западной Европе. Я хочу на опыте знать труд от рядового рабочего до высших технических работников. Только тот может управлять людьми, ценить их труд, который сам обладает знаниями и опытом, умеет работать и подчиняться дисциплине.
Отдавая занятиям главное время, я буду продолжать руководить политической работой, которая легла на меня после смерти Августейшего Родителя. Все дела по-прежнему должны направляться в управление по Моим делам, которое будет представлять их мне для получения руководящих указаний.
Владимир.
I марта 1931 года. С. Бриак».
(Журнал «Часовой», 1931, март)
5
«Заготовка царей в Берлине
В обозе второго разряда германско-фашистской армии, где-то между походными кухнями и домашним скарбом «господ офицеров» скромно следует «русский царь». Его спешно изготовили в Берлине из первого попавшего под руку материала. Раньше о нем не было и речи. По-видимому, в последнюю минуту вспомнили, что ежели превращать советский народ в рабов, то надо позаботиться и о царе для них. На всякий случай изготовили двоих. Не подойдет один, есть на выбор другой.
Материал для царей теперь дефицитней. Был «претендент» на царский престол — «великий князь» Кирилл. Однако он своего часа не дождался и помер.
У него есть вторая дочь, по имени Кира. Она три года тому назад вышла замуж за второго сына бывшего германского кронпринца. Вторая дочь бывшего «великого князя» и второй сын бывшего германского кронпринца — чем это не царская парочка на радость германского фашизма!
Но вдруг этот изготовленный из суррогатных материалов царь не подойдет? Зовут его Луи Фердинанд Прусский, он — германский офицер и, конечно, ни одного русского слова не знает. На случай его негодности заготовлен второй царь. Это младший брат Киры.
Конечно, цари эти неважные. Даже немцы-фашисты смотрят на них с пренебрежением...
Достаточно взглянуть на этот план и на русских царей немецкого образца, чтобы сказать, кто автор всей шутовской затеи. Конечно, это Гитлер. Это его мрачное невежество, его фантастический бред, циничная наглость. Он не знает и не хочет знать историю русского народа. Он не имеет и не может иметь представления о Советской стране».
(«Правда», 1941, 28 июня)
Конец третьей книги
Примечания
1
Замечание (болг.).
(обратно)2
Тысяча чертей! (нем.)
(обратно)3
Ах, дерьмо! (франц.)
(обратно)4
К черту! (нем.)
(обратно)5
Как это называют по-русски?.. Извините (серб.)
(обратно)6
Мы умерены в этом (серб.)
(обратно)7
Я глубоко опечален (серб.).
(обратно)8
Поэтому не один раз... (серб.)
(обратно)9
Не должно быть и тени сомнение (серб.).
(обратно)10
1 Я к вашим услугам (серб.)
(обратно)11
К сожалению, ничего не могу сделать (серб.).
(обратно)12
Хорошо, поступайте как хотите, но помните, что а не отвечаю за последствия (серб.).
(обратно)13
Я глубоко сожалею... (серб.).
(обратно)14
Больше не могу вас задерживать. Спасибо, что посетили нас (серб.).
(обратно)15
Прозвище болгарского царя Фердинанда.
(обратно)16
Все фамилии подлинные.
(обратно)17
Третьего не дано (лат.).
(обратно)18
Ужасным ребенком (франц.).
(обратно)19
(обратно)20
Известные торговые ряды в Петербурге.
(обратно)21
Фамилии подлинные.
(обратно)22
Так великий князь окрестил своего родственника.
(обратно)23
В прошлом кайзеровская резидентка в Мадриде, подруга Мата Хари.
(обратно)24
По-видимому, это произошло уже после пребывания в имении герцога Лейхтенбергского.
(обратно)25
В 1933-1942 гг. к идее «возрождения Анастасии» обращались Гитлер и Гиммлер, мечтавшие вернуть «Руслянду» царя из дома Романовых; однако они оценивали шансы Чайковской — Андерсон — Шанцковской весьма невысоко, считав ее неспособной для участив в политической игре... И в наше время полуглухая старуха продолжает борьбу за наследство Романовых. Ей помогают антисоветские газетчики. издатели, кинематографисты. В ряде стран недавно вышла ее весьма объемистая книга «Я, Анастасия, рассказываю...»
(обратно)26
Польская разведка.
(обратно)27
Российский общевоинский союз.
(обратно)28
Сергей Добровольский — генерал-лейтенант Генерального штаба, вернулся в СССР, работал преподавателем Военной академии РККА.
(обратно)29
Метек — оскорбительная кличка иностранца.
(обратно)30
Армия, руководимая проходимцем Аваловым, состоящая из прибалтийских немцев, русских военнопленных в Германии и всякого сброда. Одно время входила в подчинение генерала Юденича.
(обратно)31
Внимание (польск.).
(обратно)32
Каждый за себя, бог за всех (франц.)
(обратно)33
Нежелательные иностранцы (франц.).
(обратно)34
Участник тергруппы. действовавшей против советской делегации а Генуе.
(обратно)35
Времена меняются, и мы меняемся с ними (лат.).
(обратно)36
Весь цвет (франц.).
(обратно)37
Само собой разумеется (франц.).
(обратно)38
Французское ругательство.
(обратно)39
А.А.Игнатьев, поработав в советском торгпредстве в Париже, вернулся на родину. Генерал-майор, затем генерал-лейтенант Советской Армии. О пережитом — широко известные его мемуары «Пятьдесят лет в строю».
(обратно)40
В первый раз Шульгин тайно десантировался с небольшим врангелевским отрядом а Крым а 1921 году. Десант был обнаружен береговой охраной, и только пятерым его участникам удалось бежать.
(обратно)41
Эта Лига па звана в честь адвоката Обера, защитавшего на процессе в Швейцарии убийцу В. Воровского.
(обратно)42
Цитируется по газете «Парижский вестник» за 1925 год.
(обратно)43
Тише (франц.).
(обратно)44
Ладно (франц.).
(обратно)45
Так презрительно французы называли иностанцев.
(обратно)46
Прообраз нынешних кроссвордов.
(обратно)47
Сказал и облегчил душу (лат.).
(обратно)48
Жаль (франц.).
(обратно)49
Форма офицеров жандармских частей.
(обратно)50
Чем больше все меняется, тем больше остается тем же (франц.).
(обратно)51
Старый пес (нем.).
(обратно)52
Немецкое ругательство.
(обратно)53
Ты, дерьмо! Сиди, пожалуйста (нем.).
(обратно)54
Не более того! И точка! (нем.)
(обратно)55
Немецкое ругательство.
(обратно)56
О, эти очаровательные русские! (франц.)
(обратно)57
Речь идет о взрыве в софийском соборе «Снята неделя», совершенном 16 апреля 1925 гола группой из Военной организации БКП (так называемых «тесных социалисток», представляющих ультралевый уклон партии) с целью ликвидации руководителей монархо-фашистского режима. Апрельские события позволили правительству Цинкова организовать массовый террор против всех левых организаций и особенно против коммунистов В сражениях с полицией и облавах героически погибли тысячи людей: деятели антифашистского движения, многие руководители Военной организации. Трое после суда были повешены. Г. Дмитров и В. Коларов оценили атентат в соборе как отход от марксистско-ленинского учения о революции.
(обратно)58
Русский дом в Сен Женевьев де Буа действительно был подарен дочкой американского миллионера Пенджета княгине В.К. Мещерской. Вначале там поселились ближайшие родственники Веры Кирилловны (ее сестра Елена Кирилловна Орлова и др.), позднее многие знакомые из числа высшей петербургской аристократии. К концу 1929 года в поместье проживало уже около трехсот человек. Первыми директорами Русского дома имени императрицы Марии Федоровны были генерал Вильчковский и князь Путятин. Неподалеку от усадьбы стихийно родилось и стало разрастаться кладбище на территории, отведенной французским муниципалитетом (наряду с безвестными сановниками, десятками, а может, и сотнями корниловцев, алексеевцев, дроздовцев, марковцев, там похоронены И Бунин, Н. Тэффи, Дм. Мережковский, И. Шмелев, актер И. Мозжухин, П. Струве, В. Бурцев, героиня французского Сопротивления Вика Оболенская и многие другие) Рядом с кладбищем на пожертвования русских эмигрантов (среди них первым был композитор С. Рахманинов) в 1938 году по проекту Альберта Бенуа началось строительство церкви в стиле новгородских храмов XV — XVI веков, расписанной Бенуа и его женой. В начале 30-х гадов Русский дом перешел к министерству социального обеспечения и утратил свой сословный характер.
(обратно)59
МОЦР — Монархический центр России — эмигрантская антисоветская организация.
(обратно)60
Так называли жандармов в России.
(обратно)61
Самостоятельная группа, выделившаяся в эмиграции из партии эсеров.
(обратно)62
Хорошо смеется тот, кто смеется последним (франц.).
(обратно)63
РОНД — Российское объединение неродного движения — группе русских национал-социалистов, сформировавшаяся после прихода к власти а Германии Гитлера.
(обратно)64
Один из редакторов журнала «Часовой».
(обратно)







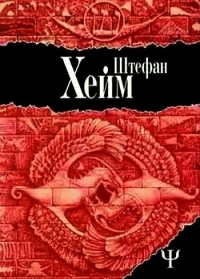

Комментарии к книге «Семь смертных грехов. Роман-хроника. Соль чужбины. Книга третья», Марк Соломонович Еленин
Всего 0 комментариев