Семь смертных грехов. Роман-хроника. КРУШЕНИЕ. КНИГА ВТОРАЯ.
Глава первая. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. С УТРА ДО ВЕЧЕРА
Поручик Дузик проснулся в состоянии неизбывной, злой тоски. Она не покидала его с того часа, когда он, ловко избегнув карантина, ступил на землю.
...Шли третьи сутки стояния на рейде. Было плохо с питьевой водой. Угнетала неизвестность. Внизу, в чреве «Херсонеса», гулял тиф. Турецкие фелюги и шеркеты держались поодаль. Лишь два раза в день пришвартовывались к борту союзнические катера. Привозили жидкий морковный суп, прозванный «суп-чай», немного хлеба, иногда — английские консервы, апельсины величиной с пол-арбуза — один на четверых, их неумело делили, обливаясь соком. Устраивались, ловчили. Некоторые, щедро заплатив, тайно съезжали на берег. Возникали фантастические слухи. Самый стойкий, что повезут дальше — в Египет, в Южную Америку. На вторые сутки застрелился на юте молодой подполковник. Кинулась в воду беременная женщина. Спасло ее котиковое манто, удержало на поверхности. Женщина билась в руках турецких рыбаков, плакала, кричала глазевшим с палубы соотечественникам: «Будьте вы прокляты! Будьте все прокляты!..» Ксения все видела. Лицо у Ксении было землистое, страшное. В глазах — смерть. Дузик чувствовал, что и она готова к прыжку в воду, к самоубийству, к самому дикому поступку.
Под вечер приехала французская комиссия: надменные взгляды, голубые кепи с золотым галуном, блестящие ордена. Словно в обезьяний питомник пожаловали, любопытствуют с брезгливой осторожностью, недоумевают: во что их вчерашние боевые союзники превратились. На лицах — безразличие и холод. Обступили их эмигранты, пройти не. дают. Каждый лезет. Дузик сумел вперед пробиться, смешался с французами, суетится, порядок наводит. Они его за своего приняли. Генерал говорит перед уходом: «А вы что же, м’сье? Не едете?» Дузика осенило: «Помилуйте, господин генерал. Я брата хочу с собой взять, брата с женой. У меня в городе дело, возьму его компаньоном на тысячу лир в месяц. Извольте, вот его паспорт», — и свой протягивает.
У него еще с евпаторийских времен паспорт был заготовлен — высочайшего класса фальшивка... Француз улыбается: «Да, да, м’сье, конечно, конечно. Давайте паспорт брата. Желаю успехов в делах. — И адъютанта подзывает: — Распорядитесь». Тот через минуту подает паспорт уже с печатью, разрешающей съезд на берег...
Так Дузик и Ксения очутились в Константинополе, одними из первых представителей той «севастопольской волны», что вскоре захлестнула город. Поэтому им и с жильем повезло — заплатив последние деньги за три месяца вперед, сняли они каморку на втором этаже дома мадам Клейн.
Мадам Клейн — огромная, грудастая, с сиплым голосом и темными, заметными волосками над верхней губой — приехала в Константинополь из Одессы. Мадам жаждала поместить свой капитал в надежное дело. Она умела лишь хорошо готовить и обслуживать мужа. Ничего больше Эмма не умела. Но она не боялась даже самой черной работы. Эмма купила «заведение» — небольшой домик среди многих подобных, на узкой Галатской улице, круто сбегающей с холма к Босфору. У нее служили тихие «девочки». «Девочек» было пять. Они принимали гостей в дощатых выгородках, разделявших «залу», — в узких клетушках помещалась лишь кровать, в головах было оконце. Гость, отворив тонкую фанерку, незамедлительно попадал в кровать. «Девочки» целыми днями валялись полуодетые, нечесаные, лузгали семечки, пили кофе, вышивали — ждали клиентов. Трое были русскими, «детьми эвакуаций», четвертая — армянка, пятая — немка, приехавшая из голодной Германии на заработки собственного приданого.
Второй этаж заведения Эммы Клейн, где она занимала две лучшие комнаты, сдавался внаем с пансионом («Чтоб не готовили у себя в каморках: не приведи господь, зажгут дом!»). Поручик Дузик и Ксения жили в угловой. Из разбитого окна всегда дуло, виднелся кусочек лазоревого пролива, косой парус рыбачьей шхуны, иногда паром, ползущий на Скутари. Потолок протекал. Сквозь крупные щели в полу постоянно доносились бесстыдные звуки — смех, стоны, скрип кровати. Поначалу острое любопытство приковывало Дузика к полу. Но после того, как Ксения внезапно застала его за этим занятием и зло посмеялась над ним, поручик сумел заставить себя отказаться от «домашнего театра», а потом и возненавидел его — похожих друг на друга гостей, наглые звуки, требовательные мужские голоса, одни и те же слова на всех языках мира. Дузику казалось: там, внизу, валяется один ненавистный стоязыкий мужик, в спину которого хотелось выстрелить.
Денег не было. И заработать их казалось невозможным. Да Дузик и не умел ничего. Он часто ловил себя на том, что способность думать о будущем вернулась к нему, вероятно, потому, что с ним оказалась Кэт — милая, растерявшаяся, подавленная, — и он почувствовал себя ответственным за нее. Кэт очень беспокоила его. Целыми днями она бродила по городу — искала своих, возвращалась в темноте, утомленная, почерневшая от чужого горя и страданий, от своих истаявших надежд. Куда девалась прежняя Кэт?! Женская, девичья беззащитность зримо проступала в ней. Каждый вечер поручик ждал: она сломается, совершит нечто непоправимое. После того как неделю назад пьяный французский моряк изуродовал лицо одной из «девочек» и ее отвезли в больницу, а одна из каморок опустела, Дузик опасался, что Кэт просто спустится вниз и, не рассуждая, займет место в заведении Клейн, откуда уже нет обратного пути. Размышляя о Кэт, Дузик понимал, что не может вновь стать бандитом. Он должен искать выход, пока был оплачен кров и пансион.
При мысли о том, что надо встать, побрызгать на лицо вонючей водой из кувшина, съесть каждодневную, чуть теплую рисовую кашу с гнилыми фруктами — неизменный завтрак и ужин, выдаваемый хозяйкой постояльцам, — Дузик зажмурился от ненависти к самому себе. Покосившаяся, продавленная кровать, на которой спала Кэт, была пуста. Ушла! И записки не оставила. Дузик пошлепал в угол, посмотрел через щель вниз — «девочка» принимала клиента. С мстительным удовольствием Дузик помочился на коротко стриженный, седоватый затылок клиента и стал одеваться, не реагируя на отборный русский мат, несшийся снизу. Есть не хотелось: во рту стойко держался набивший оскомину вкус пресно-гнилой каши, съеденной вчера вечером. Ругая на чем свет стоит скупую немку, которая скорее удавится, чем истратит лишний грош, он вышел на скрипучую деревянную галерею, опоясывающую дом по второму этажу, и зажмурился от яркого солнца.
— Эй, там! Вы! Вашу мать! — послышалось снизу.
Не успел Дузик опомниться, как рядом оказался худой, полупьяный седой человек неопределенного возраста, в одном белье, страшный.
— Веди! — яростно приказал он Дузику, хватая его за шиворот. — Туда! — и потащил его по галерее в комнату, продолжая материться.
— Кто вы? Что? — упирался Дузик. — Оставьте.
— Оскорбляют, сволочи! Убью!.. Я Белопольский — князь и офицер! — Он толкнул ногой дверь каморки, заглянул туда. — Сбежали мерзавцы, — сказал устало.
— При чем здесь я? И я — офицер, — возмутился Дузик. — Вы не имеете права! Извольте отпустить меня.
— Проваливайте!.. К черту!.. — Страшный человек, качнувшись, скатился по лестнице и исчез...
Дузик спустился со второго этажа, еще не зная, куда направиться, и остановился.
Рядом в окне, медленно пережевывая тягучую халву, лежала немка. Дузику вдруг очень захотелось халвы, захотелось так же бездумно полежать рядом, помять огромные коровьи груди, покрутить эту бабу в кровати, пошлепать ее по ягодицам, укусить в жирную складку па затылке. Почувствовав его взгляд и его желание, немка открыла кукольные голубые глаза и сказала вопросительно-приглашающе:
— Herein?[1]
Дузик хотел улыбнуться, сказать что-нибудь ободряющее, комплимент какой-нибудь, но войти к немке-соседке было подлостью. Злость на все и вся вновь захлестнула его, он грязно выругался, обозвал ее свиньей и торопливо зашагал вниз по улице, невесело размышляя о том, что заразить эту немку, а через нее все человечество и тем самым отомстить всем, — пошло, дурно и неумно.
— Schwemots Kerl![2] — крикнула ему вслед немка...
Кривые, узкие улочки, сбегающие к Галатскому мосту, были уже полны жизни. Собственно, она никогда и не затихала здесь. Это был район притонов, бесчисленных публичных домов, сомнительных кофеен и обжорок. Тут всегда бурлила толпа. Толкались турки в красных фесках, шотландцы в юбках, негры в шароварах, итальянские солдаты с перьями на шляпах, французские моряки с красными помпонами на беретах, поджарые англичане и, конечно, русские — военные и гражданские, одетые кто во что горазд. Вертелись под ногами стаи голодных бродячих собак. Истошно кричали продавцы воды и сластей, кафетджи, торгующие кофе на тротуарах. Сложная смесь запахов плова и шашлыка, пота, жареной рыбы и овощей, гнилых фруктов и всевозможных отбросов стойко держалась в этих непродуваемых улочках Галаты.
А выше шумела всегда праздничная улица Пера — центральная магистраль Константинополя. Лучшие здания города, посольства и миссии, почты и банки, богатые магазины, полиция, караулы, нарядная публика. Звенел трамвай, сновали авто. Страсти и грязь Тартуша, казалось, не доходили сюда.
Большое золотое солнце, как глазок яичницы, поднималось над Скутари, высвечивало холмы и город. Теплело. Дузик не спеша брел по узким ступенчатым улочкам и переулкам, спускаясь к Золотому Рогу, без любопытства поглядывая по сторонам. Стамбул смотрелся точно город из сказок Шехеразады: стремительные пики минаретов, белые воздушные султанские дворцы, сбегающие беломраморными ступенями к самой воде, белопарусные разбойничьи яхты, впаянные в неподвижную лазурь Босфора. А рядом — рукой можно дотянуться! — по-прежнему шла иная жизнь. Демонстрировали себя белые, коричневые, желтые и черные проститутки; согнувшись, несли на спинах невероятные тяжести носильщики-хамалы; верткие молодые люди торговали тайно кокаином, «золотом» и «приличными девочками»; из домов с утра до утра неслись крики, проклятья, шум драк.
Дузик миновал здание бывшей немецкой почты и направился к Галатскому мосту. Возле него было особенно многолюдно: тут толпились беженцы — униженные, растерявшиеся, никчемные, не умеющие ничего и готовые на все. Он вышел к мосту и увидел уже не раз виденную им по утрам картину — чернокожие сенегальские стрелки гнали в Стамбул сотни полторы людей, задержанных в течение ночи, показавшихся кому-то подозрительными. Для соблюдения порядка город был разделен на шесть участков. В трех патрулировали французские войска, в двух — английские. Порядок в одном должны были поддерживать итальянцы. Русских переводчиков при патрулях не было. Естественно поэтому, наиболее подозрительными при ночных облавах оказывались русские беженцы, их хватали, по нескольку раз обыскивали, конфисковывали что хотели. У военных забирали оружие, даже у тех, кто мог доказать свое право находиться в городе. Ну а тех, кто не мог, — препровождали в тюрьму, а затем на пароходе «Поти» вывозили в неизвестном направлении. Межсоюзная полиция не в силах была разобраться с этими обезумевшими беженцами, понять, кого считать благонадежным или хотя бы лояльным, кого нежелательным. Союзники оправдывали издержки своей полицейской службы тем, что под видом беженцев сюда заслано большое число большевистских агентов.
Толпа, окруженная рослыми сенегальцами, брела понуро, обреченно, безучастно. Мимо Дузика проходили военные и штатские, мужчины и женщины, старые и молодые. Ему показалось даже, мелькнуло в дальнем конце ряда грубо вытесанное, характерное лицо капитана Дубинина, начштаба их Орловского отряда. Нет, это был не Дубинин: показалось, конечно. Капитан Дубинин расхаживает теперь по Елисейским полям. Или махнул за океан, где можно прожить без риска и не встретить ненароком кого-нибудь из своих бывших подчиненных, обнищавших донельзя...
Дузик ступил на широкий — метров пятьдесят — Галатский мост. Здесь было еще многолюдной — словно две манифестации шли навстречу друг другу стесненные тротуарами с решетками и фонарями на столбах. Дико кричали ослы. Медленно продвигались повозки и коляски. Возвышались над толпой плетеные заспинные корзины виртуозов носильщиков, большие черные зонтики турок в европейском платье и непременных красных фесках, выделялись люди в белых балахонах, женщины в темном, закрытые с ног до головы. Под ярким солнцем толпа казалась одетой необыкновенно пестро и красочно, точно на оперной сцене. Тут же продавали цветы и сласти, сновали вездесущие мальчишки с газетами, важно прогуливались толстые, равнодушные полицейские. К самой воде подступали неказистые, грязные строения — склады, что ли, или мастерские; вода была грязная, масляная, в слабом течении медленно плыли дынные и арбузные корки, гнилые фрукты, всевозможный сор и отбросы. Возле моста — по обе стороны — скопище лодок, гребных и парусных, катера, крытые полосатыми тентами, прогулочные яхты, допотопный паром с длинной закопченной трубой.
Солнце рассеивало негустой утренний туман над морем. Слева зримо, как на фотографической пластинке, проступали очертания азиатского берега — Скутари, корабли на Босфоре, гололобые холмы.
Следовало подумать наконец и о заработке. Дузик направился на главный вокзал. Миновав двухминаретную мечеть Валиде, он свернул налево и тут же оказался на привокзальном пятачке, окруженном несколькими двух- и трехэтажными домами европейского типа и множеством лачуг. Вокруг лачуг закручивались буйные пестрые человеческие многоязычные водовороты. Люди быстро передвигались, жестикулировали, что-то с жаром доказывая друг другу, отступая и наступая, хватая за руки и полы. «Дерьмо какое, нехристи, — подумал с ненавистью Дузик. — Воздух продают, сволочи!» Он пробился на захламленный перрон. По счастью, видно, только что пришел какой-то местный поезд и из вагонов, точно семечки из треснувшего арбуза, беспорядочно вываливались люди с корзинами и мешками, толкаясь, торопились навстречу Дузику. Он поспешил войти в эту бурную реку, зорко посматривая по сторонам в надежде увидеть пассажира, которому потребовалась бы его помощь. Уже отчаявшись, Дузик увидел такого человека — низенький толстый турок или грек (черт их разберет!) стоял у вагонных ступенек, а возле его ног возвышались два объемистых чемодана, перевязанных прямо-таки корабельными канатами. Дузик одним прыжком оказался подле и схватился за веревки. Оба чемодана поднять ему оказалось не под силу. Он решил повесить их через плечо и стал было проворно снимать свой брючный пояс, но в тот же момент почувствовал, как чьи-то твердые руки взяли его за локти и отставили, отодвинули от чемоданов. Дузик повернулся, поднял голову. Сзади стоял гигант — голова Дузика приходилась ему до живота, — а рядом второй — маленький.
— А ну, — пробасил гигант угрожающе, держа Дузика за ворот.
— В чем дело? Кто вы? — поручик не выказал даже испуга, одно удивление.
— О! Вы русский! — обрадовался малыш, — Это все упрощает.
Дузик рванулся, но тело его окаменело. Гигант загрохотал — словно камни полетели по крутой осыпи.
— Оставь, Василий, — строго приказал маленький. — Бери груз. — И пояснил совершенно обескураженному поручику: — Видите ли, мон ами, этот перрон обслуживает наша артель. Исключительно! Заметьте! И мой друг Василий готов жестоко покарать каждого, кто перейдет нашу границу. Извините, мон ами, жизнь заставляет. Распродались до нитки, шпалеры продали, надежд нет, а жить, как ни странно, хочется.
— Однако вы неплохо устроились, — сказал оправившийся от внезапного натиска Дузик, показывая на гиганта, легко несущего чемоданы.
— Исключительно прошлые заслуги, — объяснил малыш. — Мой денщик. Счастливое разделение, так сказать. Мой ум, его руки. И вы офицер, вероятно? Очень приятно. Разрешите представиться, мон ами.
Глава артели грузчиков назвался поручиком Петровых. Был он в недавнем прошлом артиллеристом, пережил ранение и тиф в Новороссийске и считал себя чуть ли не константинопольским аборигеном. Глаза у поручика были больные, мертвые. Он все говорил, говорил, поглядывая снизу вверх в лицо Дузика, и куда-то вел его, направлял, цепко держась за локоть своей маленькой и сухонькой куриной лапкой.
Великан с чемоданами давно потерялся в стоязыкой толпе. Дузик косился на Петровых. Вначале размягченно и расслабленно: что еще скажет? Что может сделать такой малышок? Потом появилось легкое недоумение — чего привязался? — сменившееся беспокойством. Дузик не успел оглянуться, они уже вышли из здания вокзала и зашагали вдоль каких-то заколоченных досками пакгаузов, заржавленных рельсов, поросших кое-где пыльной травой и ведущих несомненно в тупик. Место было глухое, тайное. Дузик испугался: похоже, опять попадает он в историю. Неожиданно Петровых остановился:
— Позвольте, вы дрожите? Вас лихорадит?
— Нет, это вы объясните, — Дузик тщетно пытался освободить локоть. — Куда вы меня ведете?
— Мы искали встречи с вами.
— Кто это «мы»? — Дузик осмелел окончательно. Вокруг никого не было, и он решительно освободил локоть. — Объясните, наконец.
— Охотно, охотно. — заулыбался Петровых, в упор, оценивающе глядя на Дузика мутными, больными глазами. — Мы — «Лига зашиты трона и отечества», руководимая монархическим советом. Вам доверяют, поручик. Однако здесь не место, — оборвал себя Петровых. — Мне приказано привести вас, при соблюдении полной секретности, разумеется. Вы согласны?
— Согласен, — пожал плечами Дузик, совершенно сбитый с толку происшедшим, не знающий, радоваться ему или печалиться оттого, что он вновь становился под чье-то командование.
Они пошли дальше, забирая в сторону от железнодорожных путей и углубляясь в участок складов, где под ногами противно скрипел галечник и крупный песок, пока не оказались на узкой улице, тесно застроенной одноэтажными домами с одинаковыми деревянными пристройками наверху. Вокзал ощущался уже далеко позади, за их спинами справа, а впереди открывался храм святой Софии — громадный, белоснежный, как гора, купол в окружении четырех минаретов, пиками вздернутых кверху. Купол, точно воздушный шар, казался причаленным к мачтам-минаретам. Впрочем, они не дошли до Айя-Софии: Петровых увлек Дузика правее, в еще более узкую улочку, в конце которой торговали шашлыком и долмой, толпились группы людей.
Петровых купил по палочке шашлыка, по рюмке анисовой водки, разбавленной холодной водой, и вновь напомнил о неразглашении всего того, что тот увидит и услышит.
— Катитесь к дьяволу! — рассердился Дузик.
— Терпение, терпение, поручик. Мы пришли. И учтите: руки у нас длинные. Задумаете бежать, мы вас хоть в совдепии разыщем.
— Это смешно, наконец! Перестаньте меня пугать и испытывать, поручик! Я за шашлык готов ежедневно продаваться с потрохами кому угодно.
— Вот-вот, — многозначительно заметил малыш и осклабился, пропуская Дузика.
Тот вошел в сводчатый узкий коридор, неизвестно откуда и куда ведущий. Петровых дышал ему в затылок. Естественный свет слабел, становилось темновато. Дузик ударился коленом о выступ и выругался.
— Идите же вперед и хватит монтекристничать, а! — сказал он зло. — Ни черта не вижу,-
— Да мы пришли, — хихикнул малыш и чуть подтолкнул Дузика.
Он оказался в хамаме, турецкой бане. В большой комнате с мраморным полом, с бездействующим фонтанчиком в центре, деревянной колоннадой по кругу и лавками для мытья. Слабый свет шел из крохотных круглых окошек в куполе. В теплом парном воздухе блеклыми, размытыми пятнами виднелось несколько фигур. Гулко, точно в пустом ведре, бухали голоса. Дузик не разобрал, что говорили, но отчетливо услышал русскую речь
— Мы что же, мыться будем? — спросил Дузик, стараясь скрыть растерянность и сохранить право разговора на равных.
Но Петровых, насупившись и посерьезнев, буркнул: «Следуйте за мной» или что-то в этом роде и двинулся, скользя, вперед, в банное облако, мимо непомерно толстого, с отвислыми грудями человека, лениво стирающего китель. В каменном небольшом корыте, сидя друг против друга по шею в мутной, мыльной воде, мокли еще двое. У одного, чернобрового и пышноусого, лоб был перетянут красным платком. Лысый конусообразный череп другого тускло отсвечивал, как восковой. Усатый открыл один глаз — он оказался огромным и темным — и настороженно проводил им проходящего Дузика.
— Извольте обождать, поручик? — холодно сказал Петровых и, раскрыв низкую дверь, юркнул в нее.
Дузик остановился. Глаза его уже привыкли к слабому свету, он огляделся с чувством удивления: в банном зале, оказывается, было довольно много людей, ведущих себя весьма странно. Часть их спала, вытянувшись на лавках и укрывшись с головой рубахами; другие, полураздетые, тихо беседовали, даже спорили вроде бы, горячились и торговались друг с другом; третьи — он глазам своим не верил! — спокойно закусывали, пили чай, играли в карты и шахматы; но большинство занималось стиркой различных предметов собственного туалета. Несомненно, перед ним было подобие общежития. Все эти люди были беженцами, его товарищами по несчастью. Почему же никто не обратил на него внимания, не спросил ни о чем, не подошел — точно все они были заговоренные? Догадка насторожила его и обеспокоила: люди, находящиеся в хамаме, не заметили его — у них не было на то приказа, следовательно, они здесь находились потому, что кому-то это представлялось необходимым, кто-то командовал всеми этими мужчинами, и он, Дузик, тоже призывался в это сообщество непонятно с какими целями, если за ним давно следили, наводили справки, решали, достоин ли он подобной чести. Все это совершенно не устраивало Дузика, который сумел избежать деникинского, слащевского и врангелевского командований, предпочел отсидеться в Евпатории под началом неудавшегося кандидата в Наполеоны, капитана Орлова, а на деле оставался всегда вольным казаком, подчинявшимся лишь самому себе. Дузик вспомнил о Кэт, которая вернется и не застанет его у мадам, и решил удрать немедля. Он стал осторожно пятиться, но тут же за его спиной возник молодой человек в белом кителе и с погонами штабс-капитана. Приблизив серое, туго обтянутое на худых выпирающих скулах лицо с вылупленными стеклянными глазами, он прошипел: «Куда, сволочь?» — и хотел было посадить поручика на лавку, но сзади раздался еще более грозный голос: «Э-э, оставьте, Пупко!», и штабс-капитан мгновенно растаял в парном облаке, точно его и не было.
— Заходите, Дузик, — торжественно пригласил маленький поручик, широко распахнув дверь.
Дузик вошел и остолбенел. Вторая, более жаркая банная комната, покрытая другим куполом с маленькими отверстиями, представляла собой как бы кабинет. И не просто кабинет, а кабинет значительного должностного лица — генерала, скажем, или действительного статского советника. Вокруг лавки, покрытой скатертью, стояли стулья с высокими прямыми спинками; на стене — портрет императора Николая II во весь рост, в углу — белый с синим косым крестом Андреевский флаг. Напротив — иконы, негасимая лампада. На круглом каменном возвышении в центре зала — высокое пустое кресло с красной сафьяновой спинкой, подлокотниками и сиденьем. Рядом, на стуле, выпрямившись, точно напружинившись, сидел плотной комплекции лысоголовый человек лет сорока, с черными злыми глазами, посаженными глубоко подо лбом, к белой тонкой шелковой сорочке, что носилась офицерами под кителем. За ним по стойке «смирно» стоял молодой подполковник с каменным лицом, выражавшим гордость и почтение.
Лысый приказал Дузику рассказать о себе. Дузик, оцепенел под его немигающим взглядом, начал докладывать, испытывая затруднение оттого, что не знал, кто перед ним — статский или военный, в каких он чинах и посему как к нему полагается обращаться: «господин...», «ваше превосходительство» или, может, даже «ваше сиятельство», ведь Лысый несомненно был значительным лицом, если подполковник прислуживал ему. И эта баня, и вся обстановка — аксессуары, таинственность, конспирация... Чего они хотят от него — эти люди, зачем он понадобился им? Дузик иногда замолкал, делая паузы, ожидая, что его остановят, оборвут, поправят, быть может. Дело в том, что Дузик немилосердно врал, рассказывая историю некоего поручика, незаконного сына графа, доблестного офицера, с честью прослужившего Великую войну и храбро сражавшегося с большевиками. Он понял: кроме фамилии, они ничего о нем не знают, и ждал, чтобы заговорил кто-нибудь из троих слушающих, но те молчали, глядя на него доброжелательно.
— Итак, вы монархист, господин поручик, — подытожил Лысый.
— Естественно, господа, естественно! — воскликнул Дузик и сам поразился подхалимской угодливости, прозвучавшей в его голосе.
— Ну и отлично! Мы не сомневались, поручик, и мы вполне доверяем вам. Пригласите-ка, подполковник, — кинул он через плечо и пояснил Дузику: — Вы будете представлены, поручик, одному из руководителей нашего союза. Это большая честь, поручик, и определенные... э... — он цокнул зубом и поморщился: видно, зуб болел. — Определенные обязанности. В этот тяжелый для России час наша лига...
Лысый замолк и, вдруг легко поднявшись, вытянулся. Неизвестно откуда появился подполковник, поддерживая под руку старика в адмиральском мундире, похожего на древнего и потрепанного орла, с большим крючковатым носом, нависающим над пышными усами, которые переходили в еще более пышные бакенбарды. Поднявшись с трудом на каменную эстраду и усевшись в кресло, адмирал милостиво кивнул — и все облегченно и словно благодарно переглянулись.
— Разрешите, ваше сиятельство, представить нового члена нашего союза, истинного патриота...
— Поручик Дузик, ваше сиятельство! — гаркнул Дузик, не переставая себе удивляться.
Тот, кого называли «ваше сиятельство», протянул ему белую вялую руку. Дузик схватил ее и, совсем изумившись, поспешно и осторожно поцеловал.
— Браво, браво! — заулыбался Лысый.
Адмирал яростно покосился в его сторону строгим глазом из-под пушистых бровей, взмахнул рукой, точно дирижер, и неожиданно четко повернулся к портрету Николая II. Было душно, парно. Где-то над головами на одной ноте басовито гудела большая муха. Адмирал сказал возвышенно:
— Государь! Если б ты видел! Если б знал, что пережили и переживают все те слуги твои, в ком не уснула совесть. — Он вздохнул и неожиданно тонко вскрикнул: — Священная кровь твоя и твоей семьи, мученически пролитая во искупление грехов народа, — на нас и наших детях! Со всех сторон ополчились враги. — Его голос сел, стал спокойным и тягучим. Адмирал уставал, его голос становился все тише.
Дузик старался отыскать глазами муху. Лысый стоял с непроницаемым видом, чуть покачиваясь с носка на пятку. Подполковник застыл, словно изваяние. На лице маленького поручика блуждала счастливая улыбка. «Вековые устои самодержавия...», «триединая формула.,.», «царевы верные слуги...» — долетали до сознания Дузика слова. «Что они хотят от меня, почему я им понадобился?» — мелькала беспокойная мысль... «Вступая ныне в священную лигу белых мстителей...» — отчетливо донеслось до него. «Мстителей? Кому они хотят отомстить с моей помощью? — подумал Дузик. — Еще, чего доброго, кровью заставят расписываться!»
— В то и веруем! — крикнул адмирал.
— Веруем! — вздохнули разом присутствующие.
— В том и клянемся!
— Клянемся! — отозвались все и Дузик.
«Они сумасшедшие, — твердо решил он. — И если немедля не дадут денег — сбегу, только меня и видели».
— Поздравляю вас, поручик! — вывел его из раздумий твердый голос лысого. — Извольте подписать. — Он протянул лист бумаги, густо и слепо напечатанный на машинке.
— Что это? — Дузик отшатнулся инстинктивно.
— Наш устав и закон. — Лысый начинал хмуриться, черные вишни подо лбом вспыхивали, как горящие бенгальские огни. — Все, что вы слышали.
— А-а, — сказал Дузик, принимая от подполковника протянутый ему карандаш. — Конечно, конечно, господа! — он расписался внизу листа, где уже стояло несколько фамилий. — Что же я теперь должен делать?
— Соблаговолите обождать в соседнем помещении.
Дузик вновь очутился в первой банной комнате. Он присел возле двери, надеясь, что его позовут тотчас. Все замеченные им люди находились на своих местах и занимались теми же делами — мылись, спали, стирали белье, играли в карты. И штабс-капитан со стеклянными глазами был подле, смотрел с ненавистью, сипел что-то похожее на «живесссволочь». Посидев, Дузик побрел вдоль стены от одной группы к другой, стараясь приблизиться к выходу, прислушиваясь к разговорам и настороженно ожидая, что выкрикнут его фамилию.
Дузик всматривался в лица. Все казались ему злобными либо несчастными, искаженными полутьмой и парным облаком. «Помыться, что ли, задаром? — подумал он, но тут же отверг и эту мысль. — Сейчас позовут, а ты — голый. Отложим до выяснения обстановки». Поручик присел на краешек лавки и, привалившись спиной к теплому камню, прикрыл глаза. Похоже, о нем забыли. Но почему, собственно, он должен дожидаться неизвестно чего? Дузик встал и направился к двери. И тотчас дорогу ему заступил костлявый вездесущий штабс-капитан Пупко со стеклянными глазами.
— Куда, сссволочь? — задал он обычный свой вопрос и протянул руку, чтобы схватить Дузика за ворот.
— Сам сволочь! — Дузик решительно отбил его руку.
Пупко коротким ныряющим движением вырвал из-за голенища нож. Дузик, не раздумывая, ударил его головой коротко и сильно, точно боднул, — это был удар, которому его научил еще капитан Орлов. Выдержать его не мог никто. Пупко, издав горлом странный булькающий звук, осел на пол, под ноги Дузика, загораживая выход. Поручик оттолкнул штабс-капитана, точно бревно, и бросился прочь...
Он бежал по мощенной плитами улочке, слыша за спиной топот молчаливой, смертельно опасной погони. Преследователи были сильней и тренированней. Его догоняли, он задыхался. Поскользнувшись на каком-то огрызке, Дузик упал и, инстинктивно сжавшись, покатился в сторону, по некрутому откосу, чувствуя все усиливающийся резкий запах гнилых овощей. Падение спасло его. Затаившись за помойкой, в узкой щели между домами, он увидел, как пробежали мимо маленький поручик, за ним с револьвером в руке подполковник — он и бежал с каменным, ничего не выражающим лицом — и последним — незнакомый Дузику, в бриджах и порванной, несвежей рубашке, что надувалась как парус за его спиной. Не успел Дузик решить, что ему делать, как послышались голоса возвращающихся преследователей.
— Напрасно спорите, господа. Он свернул за угол, — горячо убеждал тот, что был в рубахе.
— А я говорю, он здесь! — возражал Петровых, — Смотрите внимательно.
Дузик, энергично работая плечами и головой, полез в кучу отбросов, чувствуя, что его сейчас вырвет, и сдерживая дыхание.
Преследователи, не заметив его, уходили, переругиваясь. Дузик услышал, как сказал подполковник: «Придется искать теперь по всему Константинополю», а Петровых добавил, что ничего, мол, «он от нас не уйдет...».
Наконец Дузик смог вылезти из помойки. От него воняло, как из сточной канавы. Он снял потрепанный китель, вытер подкладкой голову, лицо и руки, обтер кое-как брюки и сапоги и отбросил китель без сожаления. Жизнь осложнялась. Не за себя боялся Дузик, за Кэт. Она могла пострадать — ее могли убить, захватить, держать в плену и издеваться над ней, чтобы отомстить ему. Да, Кэт следовало обезопасить. Но как это сделать, куда спрятать ее, если за пансион заплачено вперед и мадам скорей удавится, чем вернет деньги? Значит, уйти следовало ему. Но куда?
Дузик, невесело раздумывая над будущим, долго и бесцельно толкался на Капалы чаршу, крытом рынке, где можно было легко потеряться. Потом, осмелев и решив испытать судьбу, но соблюдая крайнюю осторожность, вернулся на вокзал Сиркеджи и рискнул выйти на перрон к прибывшему поезду. Он поднес до извозчика две непомерной тяжести корзины молодой гречанке и заработал лиру. Дузик купил теплую лепешку с тмином и, жуя ее на ходу и не чувствуя вкуса, направился через мост в Галату. Он часто оглядывался, резко останавливался — никто вроде бы не шел за ним, не следил. Постепенно Дузик начал успокаиваться: происшедшее начинало казаться ему анекдотическим случаем. Он понимал: так ему хотелось. И вновь заставлял себя вспоминать и лысоголового, и лицо сиплого штабс-капитана, и лица тех, что преследовали его. Нет, это было страшно, этого следовало бояться. И он тоскливо думал о том, что теперешняя константинопольская жизнь становится адом, постоянным. безостановочным кружением, переменой мест, документов и внешности. Страх, рождающийся и крепнущий в нем, теперь останется навсегда и будет преследовать его ежечасно.
Жизнь, наказавшая его дурной болезнью, приготовила ему новое испытание. Дузик решил, что жить не стоит, смысла нет, но с испугом подумал о том, что он вряд ли найдет в себе силы покончить самоубийством. Стреляться ему нечем — давно продал револьвер, это было бы самым простым и естественным; резать себя тупым ножом, взятым у мадам Клейн, было бы пошло; кинуться вниз головой с Галатского моста в грязную воду, в мазутное пятно или нечистоты — после сегодняшнего спасения в помойной ямс — омерзительно...
Так ничего и не решив, Дузик слонялся по городу, кружил по улицам, толкался на набережных и пристанях, бродил в порту — ждал вечера. И лишь только начало темнеть, кинулся к дому: Кэт — умница, она успокоит, найдет выход. Убедившись, что никто не преследует его, Дузик одним махом влетел на второй этаж. Нашарил ключ над притолокой, открыл дверь — комната была пуста. Первая мысль: здесь уже побывали люди лиги. Трясущимися руками он зажег лампу — нет, все лежало на своих местах, и постель не тронута, и старый фибровый чемодан не раскрыт. Но где же Кэт? Она никогда не задерживалась так поздно: в городе с наступлением темноты совсем опасно — убивают, грабят, насилуют, продают в публичные дома и гаремы. Дузик заметался по комнате, ища следы Кэт. И нашел на столе, гае стояла лампа, записку. «Милый, милый поручик. Я встретила близкого мне человека и ухожу. Простите. С прошлым покончено. Спасибо за все. Храни вас Господь».
Один... Теперь совсем один!.. В чужом, враждебном городе, в целом мире... Дузик упал на кровать Кэт, — она еще хранила, казалось, запахи дорогого ему человека, — и неожиданно для себя моментально заснул, не успев даже погасить лампу.
Его мучали кошмары. Кто-то огромный и волосатый гонялся за ним по узким улочкам, поднимающимся на крутые холмы, и. настигнув, душил, наступив пудовым коленом на грудь... Дузик задыхался, крутился, стараясь освободиться, кричал... И вдруг проснулся. Резко сел, полный недобрых предчувствий. Лампа, прогорев, погасла. Комната была темна, и лишь дальний угол зеленовато-голубым, холодным светом озаряла заходящая луна. Возле окна слышались приглушенные голоса. Рама, скрипнув со стоном, растворилась. Резко обозначились две Фигуры.
— Ни черта не видно, — прошептал один. — Его нет.
Дузик сполз с кровати и затаился: если за окном стоял Петровых, ясно, зачем они пожаловали. Один осторожно перелезал через подоконник.
— Зажги лампу! — приказали с галереи.
— А если он вооружен?
— Не бойся: я выстрелю раньше.
Находившийся в комнате завозился со спичками, которые не зажигались. Дузик, чувствуя трагичность своего положения — он все еще сидел на полу, — тщетно искал выхода. Ему и оборониться было нечем.
— Вон он! — воскликнул тот, с галереи.
Словно пружина подбросила Дузика. Он вскочил и, перевернув кровать, кинулся вниз. Сзади запоздало и негромко хлопнул револьверный выстрел. Пансион мадам Клейн отозвался немедленно: повсюду стали раздаваться взволнованные голоса — зажигали свет, в коридоре появились полуодетые «девочки» и несколько их испуганных клиентов, опасающихся быть замешанными в «мокрую» историю. Притаившись среди мешков с углем, корыт и ведер на кухне, Дузик увидел, как по высвеченной луной улице быстро уходили двое — высокий и маленький. Это были Петровых и его денщик Василий. Значит, страхи Дузика оказались не напрасными. Монархисты из лиги все же выследили его. Да, пришло время бежать из Константинополя...
Едва рассвело, Дузик пошел в порт. С час он слонялся между грязными пакгаузами, потом, смешавшись с толпой людей, идущих наниматься на разгрузку судов, вышел на пирс. Здесь подошел к нему коротко стриженный седой человек и, зло растягивая рот, представился:
— Ротмистр Издетский. Штаб Верховного командования. Прошу следовать за мной.
За ним скалоподобно возвышались трое, с угрюмыми, плоскими, точно сковородки, лицами и глазами-щелочками. «Казаки? Или из калмыков? — подумал Дузик, понимая, что сопротивление бесполезно. — Что им всем от меня надо? Этот... Типичный осваговец, контрразведчик: ежик, пенсне — сволочь, сразу видно».
— Я слушаю вас, господин ротмистр, — сказал он, но дрогнувший голос выдал его страх.
— Но не здесь же, — возразил Издетский.
— А где? Куда вы хотите меня вести? По какому праву, наконец?! — крикнул Дузик. — Я человек! Не раб! Не клейменый!
Толпа равнодушно текла мимо. Никто не обратил внимания на истерические крики Дузика. Поручик оробел. Двое скалоподобных стали по бокам Дузика, третий сзади, и группа двинулась вслед за ротмистром...
Глава вторая. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «ЖОКЕЙ-КЛУБ»
Человек, которого в деловых кругах Константинополя знали уж с год как завсегдатая привилегированного «Жокей-клуба», французского коммерсанта м’сье Роллана Шаброля («Торгует чем попало, удачлив, каналья, поэтому и богат, живет в свое удовольствие»), высокий, сухой, неопределенного возраста, быстро и уверенно шел галереями Большого базара — Капалы чаршу. На типично галльском оливковом лице — презрительная улыбка, коротко стриженные смоляные волосы набриолинены и сверкают, в правой руке массивная трость с затейливым набалдашником слоновой кости в серебре. Роллан Шаброль смотрел поверх голов, и люди расступались перед ним, давали дорогу, знакомые кланялись первыми.
Константинопольский базар, обнесенный стенами, окружающими более четырех тысяч лавок и магазинов, был точно город со своими кварталами, улицами почти из ста торговых рядов, не имеющих ни названий, ни номеров, закоулками и тупиками, где покупалось и продавалось все. Как утверждали знатоки — от дредноута, острова в Мраморном море и рабыни до халвы, ювелирных изделий, старых вещей и семечек. Город этот жил по своим законам. Впрочем, толкотня, царившая здесь, в душном лабиринте, можно сказать, почти круглосуточно, лишь непосвященным казалась беспорядочной и бессмысленной: полумиллионная толпа (газеты утверждали: рынок ежедневно посещает более четырехсот тысяч человек) жила и двигалась по неписаным законам. И продавцы, и покупатели вели себя по тем же законам.
И даже праздношатающиеся бродяги и нищие не являлись тут простыми статистами: они играли немаловажную роль в этом огромном пестром спектакле.
Крытая, полутемная — свет лишь через узкие отверстия в крышах — галерея, разделенная невысокими колоннами, поддерживающими многочисленные арки, делала плавные повороты. Слева тянулись лавки менял, оперирующих валютой всех государств и дающих взаймы под залог, и солидных купцов, торгующих тканями, — образцы их товаров были развешаны на специальных крючках, — разложены на прилавках и в глубоких нишах. Справа на нескончаемо длинной скамье, поджав под себя ноги, сидели, подстелив коврики и стеганые ватные одеяльца, продавцы победней. Они предлагали фески, платки, рубахи — всякую матерчатую мелочь. Их богатство умещалось на квадратном метре стены над их головой. У колонн — лепешечники в широченных штанах и фесках, кафетджи, продающие кофе, мальчики, разносящие воду; рассевшиеся на невысокой решетке, отдыхающие хамалы. А по галерее-улице потоком двигается толпа.
Роллан Шаброль чувствует себя здесь как в собственном торговом доме. Дойдя до переписчика бумаг в красной феске и черном халате, восседающего перед раскрытым Кораном, Шаброль почтительно приветствует его, прикладывая ладони к груди и склонив голову, а затем, каким-то скользящим движением повернув налево, мгновенно исчезает...
Шум человеческой, реки, текущей по галерее, едва слышался тут, в задней, складской части лавки. Тюки материи на стеллажах глушили все звуки. На полу — ковры. На коврах, среди горы подушек, Роллан Шаброль пил кофе, скрестив ноги по-турецки. Его спутник — коренастый рыжеватый молодой человек, похожий на немца, — лежал, опершись на локоть, рядом. Он никак не мог устроиться, принять удобную позу, пытался сесть, снова ложился и, наконец, рассмеялся:
— Не могу постичь турецкую грамматику — ноги отваливаются!
Они говорили по-французски.
— Ни вздохнуть ни охнуть! Все разведки мира в Константинополе! Французы, англичане, греки, врангелевцы. Я уж не говорю про турок-султановцев. Но что? Я торгую. Торговать трудно, воевать легче.
— Я думаю. Но главное — «Баязет» и связь. Мы должны его прикрывать, на нем по-прежнему оперативные дела. Наши же задачи старые: эмиграция, партии, особо монархисты — их лидеры. Здесь, на чужбине, партии начнут делиться, лидеры — плодиться. Разберитесь, кто с кем работает — четко. Своевременно сообщать обо всех контактах, перемещениях, узнавать и перепроверять сведения о том, кто субсидирует: деньги пахнут. Врангель переехал на «Лукулл». Дано задание: изучить охрану и возможность проникновения на борт, установить суточный ритм жизни всех обитателей и команды, где стоит на берегу авто, откуда вести наблюдение. Врангель — главнокомандующий, но с каждым месяцем сепаратистские настроения в его семейке будут возрастать — Кутепов, Слащев, казаки. Не за горами день, когда французы перестанут содержать врангелевские войска.
— И тогда-то барон кинет их в новую авантюру.
— А мы с тобой?! Для этого и сидим в Константинополе. У рядовых эмигрантов нет денег, нет иллюзий. Надо работать среди них, ищите надежных. Ищите людей, на которых можно опереться. Ищите повсюду! — Роллан говорил нетерпеливо, истинно по-парижски перекатывая во рту звук «р» и сознательно повторяя слова и целые фразы, словно для того, чтобы собеседник выделил и накрепко запомнил наиболее важное. — Еще одно. На Пера есть сыскная контора, французская. Необходимы справки о м’сьс Роллане Шаброле. Это весьма полезно: промахи вылезут. — Шаброль усмехнулся. — Следите за собой прежде, чем за вами начнут следить другие. А что у тебя?
— Получена шифровка. Центр считает, пора выводить Венделовского.
— Рано. У него за спиной Перлоф.
— Передано сообщение, которое может помочь ему Касается матери Врангеля. Представь, пока мы доколачивали барона в Крыму, баронесса Мария Дмитриевна спокойно проживала в Петрограде и даже работала, получала паек, жалованье, ежедневно расписывалась в служебной книге, лежащей в швейцарской. Все, как полагается. Ничего? А?
— Хорошо, — кивнул Шаброль, и большие черные, чуть навыкате глаза его, сверкнув, засмеялись. — Она что же? Возглавила монархическую группу?
— Отнюдь. Она оставалась просто мамой Врангеля. Продавала вещи, ходила в чайную за кипятком, обедала в столовой, стирала, дрова таскала, даже дежурила у ворот. Жизнь ее осложнилась после того, как сын Петя стал главкомом, — повсюду появились воззвания, плакаты, карикатуры. Мадам пришлось менять квартиру. По новым документам она стала вдовой Веранелли, художницей. Похоже, Врангель не очень-то и беспокоился о ее безопасности. Он не только стратег, он и сын неважнецкий. Все это продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся — кто? — Перлоф!
— За все берется. Опасная фигура Что же он?
— Вошел в контакт с савинковцами. Они переслали ей письмо Перлофа: «Доверьтесь подателю записки вполне». Податель добавил: «Завтра без багажа... оденьтесь теплее» придется три-четыре часа ехать по морю, встретимся на Тучковой набережной». Баронесса согласилась. Посыльный встретил ее, они отправились на Балтийский вокзал, сели в теплушку и добрались до Мартышкино. Под Ораниенбаумом, помнишь? Ночью финн-контрабандист и два его подручных вытащили из амбара лодку. Спустили на воду, поставили парус, взяли направление на Толбухинский маяк. Путешествие — надо признать! — было нелегким. Пошел снег. Светили прожектора из Кронштадта.
— Ну и? — как говорят в Одессе.
— Наш парень, что «вел» савинковцев в Петрограде, с риском для жизни тоже переправился в шугу, отпихивая шестом льдины, чтобы обезопасить мадам Врангель. Он — друг Венделовского.
— Так, так... — Шаброль возбужденно потер лоб, забормотал: — Интересно, перспективно, опасно. Не надо торопиться, надо все узнать — точненько. Пощупать савинковца, а уж потом решать с Венделовским. Пока по этой линии ничего не предпринимать. Хотя «Баязету» стало трудно, ох как трудно! Штаб главкома расформирован, в Константинополе удержаться невозможно, а в Галлиполи жизнь — врагу не пожелаю... И все же будем ждать. Над Венделовским не каплет. А что у тебя с этими... банщиками?
— Название придумали — «Лига меча и креста». Реальную власть там забирает бывший виленский жандармский полковник Бадейкин, в подручные к нему пробивается поручик Петровых, из контрразведки. Разворачивают борьбу за монархию, против масонов. К таким они и Врангеля причисляют.
— Пусть и борются. Мы мешать не будем, — широко улыбнулся Шаброль, и белоснежные крупные зубы его перламутрово блеснули. — Эту линию продолжайте. Пусть банщики созревают. Посмотрим, к кому они за деньгами побегут, когда свои кончатся. — Посмотрев на часы, он мгновенно посерьезнел, сказал сухо: — Надо разбегаться — засиделись. Кажется, все обсудили.
— Это сейчас кажется.
— Ну, если — не дай аллах! — что-нибудь экстраординарное, встречаемся здесь же, в это же время. Если меня нет — бери авто или извозчика и лети в «Пера Палас», посматривая по сторонам: не тащишь ли за собой «хвоста».
— Учили яйца курицу!
— Это не звучит по-французски, «Мишель». Давай, на дорогу. — Роллан Шаброль разлил коньяк, и они чокнулись. — Я все время думаю: во сколько я обхожусь стране, которая оплачивает каждый мой шаг?
— Брось, Роллан! Мы с тобой как два хорошо вычищенных и заряженных пистолета, всегда готовые к действию против врагов.
— Иди, иди! И позови Сулеймана. Счастливо!
— Будь здоров! — рыжий, сделав несколько приседаний, чтобы размять ноги, вышел. Одно плечо у него было ниже другого.
И тотчас из-за двери, прикрытой пестрым паласом, показался хозяин лавчонки — маленький и толстенький турок в феске. Шаброль милостиво улыбнулся, сказал:
— Ты можешь поздравить меня, Сулейман. Только что я совершил выгодную сделку. И получу за нее пару-другую английских фунтов.
— * Господин изволит шутить? Я рад! Я очень рад, слава аллаху. — После каждого восклицания он кланялся все ниже: — Поздравляю вас!
— И чтобы отметить победу, я решил принять твое предложение, Сулейман. Я покупаю всю партию твоих текинских и мешхедских ковров, если ты сбросишь десять тысяч лир хотя бы — сейчас это ничтожные деньги, Сулейман, ты знаешь.
— О, вы великий коммерсант, господин! Я — ничтожный! — преклоняюсь перед вами. Семь тысяч — и все ковры ваши, господин. В благословенной Франции их разорвут на кусочки!
— До Франции их надо довезти. Сулейман. Это далеко. И в морях опасно. Ты сбросишь восемь тысяч, и мы ударим по рукам. Я правильно сказал это по-турецки?
— О, аллах! Слова «по рукам» звучат для меня, бедного купца, как музыка. Я согласен, согласен, господин! Хвала аллаху! Когда я вновь увижу моего господина, свет очей моих?
— Я предупрежу тебя накануне.
— Пусть над вами будет мир, покой и благоденствие...
Через час, покатавшись на открытом автомобиле по самым людным улицам Константинополя, Роллан Шаброль подъехал к отелю «Токатлиан». Здесь он снимал номер-люкс, имеющий все, персональный, небольшой правда, садик.
Шаброль небрежно пожал руки нескольким знакомым, встреченным в холле, обильно украшенном мохнатыми пальмами в кадках, и быстрой походкой направился к стойке портье. В отеле он слыл преуспевающим коммерсантом, жуирующим, озабоченным не торговыми операциями, а приятным времяпрепровождением, деликатесной едой и поисками всевозможных похождений.
— Как дела, друг мой? — обратился он к портье, могучего сложения парню с пудовыми кулаками и квадратной челюстью. — Есть ли новости? Новые красотки?
— Ничего интересного, м'сье Шаброль, — с трудом составляя французские слова, ответил портье, протягивая постояльцу большой, витиеватой резьбы ключ.
— Плохо, друг мой, плохо! Ты совсем не оправдываешь моих надежд. Здорово бы я выглядел, если бы надеялся только на тебя. — Шаброль сказал это чуть недовольно. Но тут же лицо его подобрело, появилась обычная насмешливая улыбка. — Впрочем, через час-полтора меня будет спрашивать одна куколка. Проследи, чтобы ее не перехватили.
— Не беспокойтесь, мосье. Она назовет себя?
— Назовет? — Шаброль весело рассмеялся. — Она русская! А эти русские фамилии — разве я могу их запомнить?! И пусть бой проводит ее.
— Все будет в порядке, мосье Шаброль.
— Ты ужасно произносишь «мосье», мой друг. У меня лопаются барабанные перепонки. — Он похлопал портье по плечу и стал подниматься по широкой лестнице, застланной ярко-алым ковром...
В дверь постучали — торопливо, требовательно, достаточно громко, но не уговоренным способом — два длинных, два коротких, — а обычно, несколько раз подряд.
— Хэлло?! — беспечно воскликнул Шаброль, падая на диван, — Заходите, тут не глубоко.
Бой пропустил в номер девушку.
Шаброль кинул ему лиру. Мальчишка коротким взмахом руки, точно обезьяна, схватил ее и исчез. Шаброль смотрел на гостью. Девушка была невысокая и хрупкая. Суконное платье с закрытым воротом, негустая вуалька, лайковые перчатки, высокие башмаки со шнуровкой — скромно, со вкусом. «Из бывших, — мелькнула мысль. — Честолюбивому французу вполне подходит такая любовница. Но почему она не постучала так, как было условлено?»
Шаброль молчал. Молчала и пришедшая. А ведь первый вопрос должна была задать она.
— Что же вы стоите, мадам? — спросил он. — Прошу.
— Я постою.
— В таком случае, что вам угодно?
— Я пришла узнать, не нужен ли вам секретарь?
— А кто послал вас? У вас рекомендации?
— Это неважно. — Ответы она давала правильные.
— Вы русская?
— И это неважно: я говорю по-французски и изучала фарси.
Девушка глубоко вздохнула и, присев на краешек глубокого кресла, подняла вуаль и сняла шляпку. Она улыбалась. У нее было милое девичье лицо, большие серые глаза, в которых еще не прошел испуг, и маленькие ямочки на бледных щеках.
— Меня зовут Надя... Надежда Андреевна Бекер.
— Превосходно, Надин. Я стану так звать вас?
Она кивнула и, приложив палец к губам, вопросительно посмотрела на него. Он ответил ей понимающим кивком, сказал игриво:
— Разрешите, я покажу свое гнездышко? Надеюсь, оно понравится вам.
Шаброль провел девушку в дальнюю комнату — она была огромная, выложенная голубыми изразцами, с белой ванной и небольшой чашей бассейна, наполненного удивительно яркой, зеленой водой. Шаброль принес из сада два удобных плетеных кресла, открыл оба крана — хлынули мощные струи, сказал буднично:
— С приездом, Нади. Как добрались?
— Все в порядке.
— И сразу ко мне? Встреч, контактов не было?
— Да. Сразу к вам. Не было.
— Хорошо. Расскажите о себе — самое основное.
— Мне двадцать три. Дочь преподавателя классической гимназии. Окончила два курса историко-филологического факультета Новороссийского университета в Одессе. И школу медсестер военного времени. На фронт империалистической не попала. Но в гражданской участвовала. Сначала бойцом Черноморского революционного отряда моряков, потом в штабе Юго-Западного фронта — шифровальщицей, потом на Лубянке. И вот Константинополь. Может быть, у вас есть еще вопросы?
— Пока нет — Шаброль улыбнулся и стал прежним, преуспевающим коммерсантом. — Вы мне подходите.
Девушка молчала.
— Связь всегда наиважнейший фактор, учтите. И должна быть двусторонней. В Центр — информация, из Центра — инструкция. На связи, как правило, разведчики и проваливаются. Вы это знаете. Вы будете связной. Но не сейчас, не сегодня во всяком случае.
Девушка продолжала молча смотреть на Шаброля.
— Мне нравится ваше молчание, Надин. Умение не задавать вопросов — немаловажное качество разведчика. Хорошая школа. Здесь, в Константинополе, сосуществуют, пожалуй, все разведки мира — Дезьем бюро, Интеллидженс сервис. Это и легко и трудно — попробуй потягайся. — И вдруг оборвал себя: — Об этом мы еще поговорим, когда я стану вводить вас в обстановку. А пока у вас совсем иная жизнь. По легенде вы, Надин, моя любовница. Я снимаю вам квартирку, вы изучаете город — улицы, кварталы, офисы, транспорт. Вы должны ходить по Пера и Галате, по Стамбулу и Скутари с закрытыми глазами, как в Новороссийске. Кстати, придется поработать и над вашим французским. Пока он несколько литературен и вяловат. Больше говорите на улицах. И слушайте. Мы изменим прическу, туалет — внешность. Вы — француженка. Вот документы: Мадлен Леруа, девица. Надежда Бекер исчезает. Появилась Мадлен Леруа. И подведем итоги. Итак! Вы, как мышка, сидите у себя дома, я навещаю вас по субботам и воскресеньям, в десять утра. Остальные дни ваши. Вы изучаете столицу бывшей Оттоманской империи. Никаких знакомств! Никаких случайных контактов — нигде! На первый случай и легенда у вас простая. Вы из Нанта, из семьи преподавателя гимназии, работали в Париже — обычная мидинетка — вам ясно, что это? Отлично! И вдруг пылкая любовь, на которую способна только такая замкнутая и романтическая девушка, как вы. Он — морской офицер, самый красивый, благородный и храбрый из всех молодых людей, которых встречала Мадлен. К тому же он любит ее и обещает жениться. Она становится его любовницей — это так естественно: отпуск после ранения. Он служит, ну, скажем, на крейсере «Вальдек-Руссо». И фамилия у него звучная... Фушье.
— Де Фушье, — подсказала девушка.
— Прекрасно! — подхватил Шаброль. — Вполне мог быть родственником какого-нибудь адмирала! Но когда от него перестали приходить письма, Мадлен была вне себя. Она крепилась полгода, потом отправилась сюда, в Константинополь, чтобы разыскать любимого или узнать всю правду о нем: она уверилась в том, что он ранен в борьбе с большевиками, а вероятнее всего, убит. Мадлен добралась с трудом и долгими мучениями до этого ужасного Константинополя и получила не менее трагическое сообщение: на «Вальдеке-Руссо» лейтенант де Фушье никогда не служил. Подлый человек обманул ее! И вот она — совсем одна, в чужом городе, без средств к существованию.
— Я запомнила, — сказала она. — О де Фушье мне самой узнавать?
— Ни в коем случае! Девушка никогда не решится идти в штаб оккупационной армии или лезть по трапу на крейсер. Вы немедленно «засветите» себя, Мадлен. При необходимости вы, конечно, будете ссылаться на некоего майора, человека пожилого, положительного, вашего случайного попутчика, который проявил себя с самой лучшей стороны и взял эти хлопоты на себя. К вашему горю, вы ничем не могли отблагодарить этого замечательного человека: майора Буанисьи отослали по срочным делам в Африку.
— Я запомнила, — сказала девушка.
— Вы бедствовали, Мадлен. У вас не было денег даже на обратную дорогу. Да и в каком виде появились бы вы перед своими родителями и насмешливыми подругами? И потом — эти нравственные пытки, это оскорбленное самолюбие!.. Ничего удивительного. А тут вдруг ваш земляк Шаброль — он такой внимательный и заботливый, такой предупредительный, интересный! Жаль только, занят коммерческими делами и позволяет себе отдыхать только в субботу и воскресенье... Да! Если у вас возникнет нечто сложное и не терпящее отлагательств, звоните мне. Но только не из отеля. Вот телефон. Звоните с девяти до десяти утра и с одиннадцати до одиннадцати тридцати вечером. Первая фраза, если все чисто: «Ты меня забыл. Я не выдержу, я должна тебя видеть немедленно». Тогда мы встречаемся немедленно здесь. Если ты срочно понадобишься мне, я помешу объявление. У меня обширные связи, тебе ежедневно придется просматривать все французские газеты: в какой выскочит предложение о купле-продаже ковров за подписью Булл, Булье, Болмашев, Болидзе.
— Булл, Булье, Болмашев, Болидзе, — повторила девушка.
— Последнее. Ты, конечно, имеешь пистолет? Я был уверен, — Роллан засмеялся. — Так вот: никаких пистолетов. Отдай немедленно! Нет, нет! И прятать не надо. Во-первых, найдут, во-вторых, он тебе не понадобится. Ты — связная, а не диверсант. Запомни! Инструктаж окончен, Мадлен Леруа.
— Мы едем ко мне на квартиру?
Шаброль засмеялся. Он очень хорошо смеялся — весело, заразительно, с полной отдачей, неизменно вызывая ответные улыбки.
— А конспирация? Ух! — сказал он с издевкой. — Забыла, что ты — моя любовница?! Обязательно примите ванну, мадемуазель. Она — прекрасная, и просто грех ею не воспользоваться: как говорится, за все заплачено. Я разрешаю взять один из моих халатов — лучше всего самый безвкусный, красного шелка — и в таком виде встретить кельнера, которого я вызову, чтобы заказать шикарный обед. Пусть все знают, как француз принимает женщин, тем более что, насколько мне известно, кельнер, который придет, был связан с немцами... Не знаю уж, на кого он нынче работает. Мы отлично пообедаем, ты останешься тут, а я отправлюсь по делам. Время деньги — потехе час. Так, кажется,, говорят эти русские?.. Заодно куплю тебе необходимые туалеты. Обслуга отеля знает: м’сье Шаброль — не скупой человек. Так что за дело, Мадо! В воду! А я иду вызывать своего друга-шпиона.
Когда горбоносый иссиня-черный кельнер-турок вкатил в номер двухэтажный столик на колесиках и мгновенно, из-под полуприкрытых век оглядел гостиную, ему представилась вполне ожидаемая нм картина. На тахте, разбросав по плечам не просохшие еще волосы, небрежно запахнув полы алого халата и выставив голые коленки, развалилась среди подушек девка (которую, как сообщил ему за лиру бой, он сам привел к французу пару часов назад). Француз в белой шелковой рубахе, расстегнутой на волосатой груди, подошел к столу и стал придирчиво следить за сервировкой.
— Простите. Чем я, ничтожный, посмел не угодить господину?
— Не будь здесь дамы, я сказал бы тебе все. В подобающих выражениях, скотина! Это что? — поднял он бутылку коньяка — Шустоф! А что привык пить Шаброль? Роллан пьет только Камю. Ясно, морда?! Иди.
— Ну и в местечко вы меня пригласили, — с неподдельным удивлением сказала Надя-Мадлен.
— А что? — засмеялся Шаброль. — Самое тихое место в Константинополе!..
Громко пел граммофон.
— Разведка всегда жестока, Мадо. Наши враги делают ставку на разведчика-сверхчеловека. Нет под руками такого — на массовость засылаемых во все дыры людей: у них денег хватает. Между ними и нами — пропасть. И цели у нас разные. Мы вынуждены защищаться... Ты отдохни, девочка. Как следует выспись. Здесь ты под охраной Шаброля, здесь тебе ничего не грозит. Я уеду, закрою тебя, а ты не отвечай ни на стук, ни на телефонные звонки. Выспись. Завтра я отвезу тебя на новую квартиру, и ты будешь одна. Готова? — он улыбнулся ей совсем по-отечески.
— Я не знаю, — ответила девушка. — Но я не боюсь.
— Вот и отлично, — сказал Шаброль и остановил граммофон...
Шаброль походил по номеру, постоял у каждого окна, наблюдая за улицей. С сожалением посмотрел на полбутылки коньяка, оставленного вместе с десертом. Поморщился: как только вызовешь кельнера или уборщицу, унесут, все сожрут и выпьют. Бесполезное швыряние деньгами, как того требовало его положение, раздражало Роллана. Выросший в нищете, проведший юношеские студенческие годы в эмиграции, где приходилось ежедневно считать каждый грош, он, если можно так сказать, стал скуповат по необходимости. С этим следовало бороться: скуповатость м’сье Шаброля могла его провалить, вызвать подозрение кого-нибудь из «конкурирующей организации».
Шаброль присел к конторке и принялся зашифровывать записку «Баязету». Ровно выстраивались в столбики четко прописанные ряды цифр:
ОТ «ДОКТОРА» «БАЯЗЕТУ»
«Центру необходимо уточнение количества солдат, офицеров, оставшихся в строю, размещенных в Галлиполи, Чаталджи, острове Лемнос, Константинополе; моряков в Бизе рте, примерное число эмигрантов — в первую очередь бывших сановников двора, политических деятелей, капиталистов, писателей и артистов. Необходима дальнейшая информация об ориентации различных партий — число, лидеры, кредиторы, — передвижении эмигрантов, желательны списки «неблагонадежных» из тех, кто желал бы вернуться. Действительно ли Кутепов становится «противовесом» Врангелю, ибо командует реальной воинской силой? Подтверждаются ли штабом главками настроения французского командования, сообщенные вам? «Приятель» вынужден бездействовать.
Доктор».
В преддверье ужина Роллан Шаброль направился я «Жокей-клуб» — самое аристократическое место Константинополя, куда пускали лишь избранных и где француз появлялся, как правило, ежедневно.
У входа в клуб высился гигант негр, такой устрашающей наружности, что к нему боялись приближаться даже пьяные матросы. Ходили слухи, что однажды грозный швейцар поднял в воздух особенно досаждавшего его пьяного и перекинул его на другую сторону улицы с такой силой, что тот пробил головой зеркальную витрину магазина готового платья... В гардеробе гостей встречали слуги в ливреях, белых чулках и лакированных белых туфлях — невозмутимые и молчаливо-надменные. Почтительно, но с достоинством кланялись, принимали пальто. Извиняясь, тоном, не терпящим возражения, просили предъявить карточку «Жокей-клуба». Они, точно дипломаты, говорили, казалось, на всех языках и отлично были обучены всем параграфам протокола. И даже чаевые брали без видимого энтузиазма, словно из милости.
Здесь всегда было малолюдно. Завсегдатаи шутили: членов клуба меньше, чем комнат. В годы всеобщей нестабильности и потрясений, рожденных войнами, «Жокей-клуб» представлялся каждому чуть ли не землей обетованной, где можно было укрыться от всех бурь и невзгод житейских. Кухня клуба поражала даже гурманов. Здесь можно было заказать обед или ужин на самый изысканный вкус.
Наиболее богатые, знатные и чиновные иностранцы, волею судеб оказавшиеся на берегах Черного и Мраморного морей, считали для себя честью стать членами клуба. Кроме безупречной репутации требовалось еще три рекомендации. И лишь русских здесь почти не было.
..Любезно раскланиваясь с встречными и перебрасываясь ничего не значащими фразами на английском и французском языках, Шаброль направился в ресторан. По пути его внимание привлекла компания преферансистов, расположившихся не там, где обычно собирались картежники, а в уголке комнаты, откуда просматривался почти весь ресторанный зал. Роллан поймал себя на этой мысли, но тут же прогнал ее: «Устал, мерещится всякое и в каждом встречном — разведчик». Он хотел было пройти, но задержал шаги: один из игроков был человеком новым в клубе, и в то же время его маленькая головка с безукоризненным пробором, прямая спина, выдававшая в штатском костюме человека военного, будто были знакомы Шабролю, но не в жизни, скорее всего он видел его на страницах газет, на какой-то фотографии или знал по чьим-то рассказам. Роллан вспоминал лихорадочно, а ноги сами несли его к ломберному столику под большой зеленой лампой на высокой ножке. «Кто же этот человек? Кто и зачем привел его сюда?» — думал он, подходя и отвешивая общий поклон.
— Складывается ли ваша игра, господа? — спросил он, обращая свой вопрос главным образом к своему частому сотрапезнику и соотечественнику, тучному французу Гильому Мишле, представителю Красного Креста в Константинополе, почти открыто и безнаказанно занимавшемуся крупными аферами.
— Два часа мои друзья не отпускают меня, изголодавшегося вконец, — капризно пропищал Мишле. — А я, победитель, вынужден сдаваться на милость побежденных, — сострил он, и все сдержанно улыбнулись. — Не замените ли вы меня, м’сье Шаброль? — взмолился Мишле. — Хотя бы на полчаса.
— Если господа не имеют ничего против — мой долг помочь соотечественнику.
— Господа, сжальтесь! — возопил толстяк. — К тому же Шаброль плохой игрок, и вы несомненно поправите свои дела.
— Идите. Пожалуйста. Мы вас отпускаем, — раздались голоса.
И лишь «немец», как мысленно окрестил незнакомца Шаброль, не подал голоса.
— Мы незнакомы. Разрешите представиться — Роллан Шаброль, — и протянул визитную карточку.
«Немец» живо поднялся. Он оказался высоким — на голову выше Шаброля. Щелкнул каблуками и мотнул головой, не протянув руки:
— Фон Граас.
— Очень приятно. — Они сели. — Вы военный?
— В далеком прошлом.
Его ответ и фамилия, явно вымышленная и ничего не сказавшая Шабролю, еще более насторожили его.
— А вы, м’сье Шаброль, не воевали? — раздавая карты, в свою очередь, как бы между прочим, поинтересовался «немец».
— Нет, — спокойно ответил Шаброль. — Никогда. У меня плоскостопие, господин Граас. И считайте поэтому, вам повезло. Если б я воевал, исход сражения под Верденом был бы иным.
— Да, но я — русский, господин Шаброль. Так что мы союзники. Надеюсь, мы вернемся к этой теме.
— К вашим услугам, — весело ответил Шаброль. — Я слышал, на службе у русских царей всегда было много преданных немцев...
После возвращения Гильома Мишле — сытого и благодушного, довольного еще и оттого, что партнер не испортил его игру, — Шаброль направился в ресторанный зал и сел за свой столик, в углу, возле окна.
Тотчас к нему подлетел гарсон с карточкой всевозможных кушаний и напитков, протянул ее, раскрытую на середине, замер в молчаливом поклоне. Молчал и Шаброль, уйдя с головой в изучение меню. Как обычно, м’сье Шаброль? — с дозволенной долей лакейского панибратства спросил гарсон, средних лет, с малопримечательным лицом типичного и опытного слуги. — Разрешите? Получены свежие устрицы. Обратите внимание на дичь. Куропатки наисвежайшие.
— О Морис! Ты — демон, ты — искуситель. В моем возрасте пора заботиться о фигуре. Впрочем, оставь карточку.
— У русских есть прекрасный обычай. Пока м’сье думает, я принесу м’сье рюмку водки «Смирнофф» и икру «для разгона», для хорошего аппетита.
— А свежая ли икра?
— О м’сье! Настоящий «малосоль»! — Оставив карточку, гарсон исчез.
Удостоверившись, что за ним не наблюдают, Роллан Шаброль рассчитанным коротким движением вытащил из карточки кусочек — с ладонь — рисовой бумаги и так же быстро положил туда свою шифровку.
Гарсон принес рюмку водки и черно-серую икру.
Шаброль лихо выпил водку, зачерпнул ложечкой икру. С удовольствием потянул ноздрями воздух, сказал:
— Ну хорошо, хорошо, Морис. Мне надоело листать вашу раблезианскую библию. Принеси что-нибудь по своему вкусу. Только полегче, полегче, пожалуйста. Бутылочку Шабли, куропаточку и десерт. — И рассмеялся:
— Ты просто кудесник, Морис! Я абсолютно не хотел есть. — Смеясь, он взмахнул рукой, тонкий золотой портсигар Шаброля скользнул по столу и упал на пол.
Гарсон поспешно поднял его.
— Узнай, кто тот, с пробором...
Морис прикрыл на миг глаза, показывая, что понял.
— Благодарю, Морис, — громко сказал Шаброль, раскрывая портсигар и доставая сигарету, — и это тебе зачтется при сегодняшней нашей расплате.
Очень признателен вам, м’сье. Вы балуете меня. — Гарсон чиркнул спичкой и дал прикурить Шабролю. — Я бегу. Вы будете мною довольны, м’сье Шаброль.
— Ладно, ладно, Морис, — поморщился Роллан. — Сочтемся на том свете... Ох уж эта восторженная прислуга!
— Последняя фраза предназначалась тем, кто сидел за ломберным столом.
В ЦЕНТР ЧЕРЕЗ «ДОКТОРА» ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ОТ «БАЯЗЕТА»
«Штаб, конвой, главнокомандующий, штабной ординарческий эскадрон в Константинополе составляют 109 офицеров, 575 солдат и казаков. Первый армейский корпус в Галлиполи — 9363 офицера. 14 698 солдат; донской корпус — 1977 офицеров, примерно 6 тысяч казаков. Данные о кубанцах, требующие уточнения: офицеров 300, казаков около двух тысяч. При армии находятся более двух тысяч женщин, 495 детей.
Монархический союз (генерал Бискупский, Дурново) разрабатывает европейский заговор с участием русских, германских, австрийских, венгерских монархистов. Готовится меморандум союза держав для восстановления тронов. Союз составляется из военного и политического центра, вождей национальных монархических групп. Русская константинопольская «Лига» готова к действиям. Налаживается связь с Врангелем, позиция которого пока нечеткая.
Ежемесячная смета расходов союза:
Содержание «Военного центра»:
а) жалование — 50 тыс. марок; б) бюро разведки и контрразведки — 35 тыс. марок; в) секретные представители и офицеры связи в Мюнхене, Вене, Будапеште, Ревеле, Риге, Ковно, Белграде, Праге, Софии, Константинополе, Москве — 100 тысяч; г) служба связи — 35 тысяч; д) непредвиденные расходы — 450 тысяч.
Содержание «Политического центра» 450 — 500 тысяч марок по следующим статьям:
а) розыски законного государя, установление связей с его персоной; б) субсидии действительным членам союза; в) связь, переписка и секретное представительство; пропаганда и печать.
Кроме того, испрашиваются средства на поддержку белых кадров за рубежами (обмундировка, пища, жалование, общие расходы) и на территориях советской Белоруссии и Украины.
Задачи: « Троны будут восстановлены, для чего все средства хороши».
Смета утверждена конференцией союза. Хорти уже выдал Бискупскому миллион крон из шести, обещанных для развертывания работы.
Баязет».
Приложение:
«Мы, нижеподписавшиеся, генерал В. Бискупский и полковник М. Бауэр, поручили предъявителю настоящего письма г. Теодору Лакатос поехать в Милан к г. Муссолини, редактору «Popolo d’Italia», и вести с ним, его представителем или с другими лицами переговоры по всем политическим, военным и финансовым вопросам. Мы разрешаем ему сбор или получение денег в наш счет.
Фотокопию документов вышлю обычным путем.
Баязет».
Резолюция на информации:
•Почему молчит Берлин? Проверить. Фотокопии переправить в Англию и Францию».
Заметка на информации:
«Опубликовано в „Times" и „Matin"».
Глава третья. ПОЛУОСТРОВ ГАЛЛИПОЛИ. ЛАГЕРЬ «ГОЛОЕ ПОЛЕ»
1
Пройдя Мраморное море, пароходы «Херсон» и «Саратов» под желтыми карантинными флагами («Забыли спустить, подлецы! За всем надо смотреть самому! Все проверять!») приближались к мелководной Галлиполийской бухте. Пароходы везли лучшие части армии — соединения Первого кутеповского армейского корпуса. Дул набирающий силу норд-ост. Налетал порывами и сек лица холодный дождь. На палубах и мостиках молчали. Цепи пологих гор, серый голый берег, сливающийся со свинцовым небом, рождали ощущение безысходности. Из туманной пелены справа выступали близкие склоны холма, прорезались какие-то развалины, несколько чахлых кипарисов, высокие уцелевшие стены с пустыми глазницами окон, башня и единственный минарет.
— И это город? — разочарованно спросил Кутепов.
— Исторические места, ваше превосходительство! — поспешил высунуться один из квартирьеров, интеллигентного вида полковник Шацкий, которого командующий корпусом не выносил. — В переводе с греческого Галлиполи — город красоты, позволю себе заметить, — добавил он, играя голосом.
— А что вы можете рассказать об этой красоте?
— Именно здесь разъяренный полководец Ксеркс приказал высечь Геллеспонт.
— Его можно понять, а, господа? — перебил Кутепов, оглаживая расчесанную надвое бородку.
Несколько человек из окружения подобострастно хихикнули. Громче всех полковник Шацкий: при всей своей интеллигентности, изысканных манерах и золоченых очках он имел славу классического дурака.
— Разрешите продолжить, ваше превосходительство? — спросил он.
— Разумеется, — буркнул Кутепов. — Развлеките нас историческими экзерсисами, полковник.
— Да-с, господа! — почувствовав внимание, взбодрился полковник. — Тут стояли шатры крестоносцев! И был рынок рабынь! Древняя остановка на пути караванов из Азии в Европу. Расцвет здесь произошел при Риме и потом, во времена могучего Константинополя.
— Что вы все расцвет да расцвет! — опять сердито перебил Кутепов. — От ваших расцветов здесь камня на камне не осталось! Кто может добавить, господа офицеры? — Оглядев своих понурых соратников широко поставленными, монгольскими глазами, Кутепов приказал: — Кто что помнит? Прошу! Коротко. Не размазывая.
На мостике молчали.
— Так я и думал! — констатировал Кутепов. — Продолжайте уж вы, полковник.
Эти места были известны генуэзцам, — обрадовался Шацкий. — Турки, захватившие проливы, построили тут крепость. Во времена Крымской войны французы устроили базу и держали русских пленных — они и погребены тут.
— Короче, — поскучнев, приказал Кутепов.
— Слушаюсь... Русские приходили на Галлиполийский полуостров во времена войны с турками в семидесятых годах прошлого века. Во время Балканской войны сюда сбежалось более двухсот тысяч мусульман — от гнева сербов и болгар.
— По моим сведениям, триста тысяч, господин полковник, — серьезно вставил капитан Калентьев.
— Совершенно справедливо, — не заметив подвоха, согласился Шацкий. — Они грабили жителей-христиан. Город подвергся уничтожению и во времена Великой войны. В пятнадцатом году здесь десантировались англо-французские войска — после артобстрела и бомбометания с воздуха.
— Простите, — вновь заметил Калентьев. — Бомбометания не было.
— Да, не было, — покорно согласился Шацкий.
— Впрочем, возможно, и было бомбометание. Я запамятовал.
На мостике заулыбались.
— Понятно, — с нескрываемой неприязнью к Шацкому оборвал разговор Кутепов. — Мы подходим, господа. Прошу к частям. На рекогносцировку со мной поедут начштаба, дежурный офицер, адъютант и квартирмейстеры. Все, господа офицеры!..
Сошедшего на берег генерала Кутепова встретил начальник французского отряда, комендант города майор Вейлер. После коротких переговоров (Кутепов терпеть не мог дипломатию и то, что он называл «бесполезным шарканьем по паркету») договорились: город сможет принять едва ли четверть прибывших войск, остальные разместятся в шести-восьми верстах. Поняв, что это не прихоть майора, а приказ союзного командования, Кутепов молча сел на лошадь и поехал за французским офицером, указывающим путь.
Жалкая турецкая кляча еле двигалась, с трудом вытаскивая ноги из жидкой грязи. Медленно приближалась цепь высоких холмов, покрытых серым низкорослым кустарником. Слева серела полоска Геллеспонта. «Исторические места! Загоняют нас в дыру союзнички, мать их!.. — выругался про себя Кутепов. — Господа Врангели будут в Константинополе представительствовать, а мы — в богом проклятом поле грязь месить. Серые шинельки! Серое быдло!» — и он опять выругался.
— Мы прибыли, господин генерал! — майор Вейлер, не то улыбнувшись, не то усмехнувшись, сделал приглашающий жест. И это все? — Кутепов не удержался от восклицания и посмотрел на француза с ненавистью. — Разве я могу привести сюда корпус?.. Впрочем, русский солдат все сможет! Это известно.
— Простите, мой генерал! Я лишь выполняю приказ...
Я тоже солдат. Вам будут выделены палатки.
— Господа! — сказал Кутепов жестко. — Лагерь будем разбивать здесь, по берегам речушки. Завтра утром я дам приказ к выгрузке. До прибытия сюда частей корпуса разговоры об этом... — он замялся, подыскивая слово, — об этом поле строго запрещаю. Следуйте за мной, господа! Тут нечего более осматривать.
Утром началась высадка корпуса. Из-за мелководности Галлиполийской бухты высадка шла мелкими партиями, грузившимися на фелюги. Толпы измученных людей, голодных и вшивых, провели день и ночь под холодным дождем. Сооружения, которые с трудом можно было назвать домами, принадлежащие грекам или туркам, были уже заняты офицерами штаба корпуса. В полках роптали. Кутепову доложили: имеются случаи самоубийств — девять солдат и один подпоручик. Командир корпуса приказал: в кратчайший срок завершить разгрузку, убедительно потребовал от французов привезти наконец все обещанное.
Рослые сенегальские стрелки, тут же названные кем-то «сержами», привезли паек, шанцевый инструмент и шестьсот палаток. Палатки оказались двух типов, но одинаково неудобные. Одни — очень большие, госпитальные, со слюдяными оконцами, другие — очень маленькие. Кирки, мотыги, лопаты были выданы в ограниченном количестве. Пил — и того меньше. Топоры и вовсе не выдавались («Испугались нас, что ли?» — предположил кто-то). Дождь не прекращался.
Наконец командиры получили приказ строить полки. Огромный человеческий муравейник пришел в движение. Поначалу оно казалось хаотичным. Все полковое имущество и полученные палатки грузились на солдатские плечи. Спины гнулись к земле. По лицам, точно слезы, сбегали дождевые струйки. И даже команды, казалось, звучали приглушенно. Гнетущая тишина могла ежесекундно взорваться — истерическим криком, выстрелами, взрывом гранат.
— С богом! — дал знак Кутепов.
Полковые колонны, змеясь, в походном строю стали покидать город. Майор Вейлер вздохнул с облегчением: что могли сделать пятьсот его сенегальцев даже при двадцати восьми пулеметах против целой армии русских, выйди она из подчинения? Слава богу, они пока еще подчиняются своим начальникам. Но надолго ли? Вейлер был достаточно опытный офицер. Он заметил в толпе солдат и офицеров ненавидящие взгляды, сцепленные зубы, сжатые кулаки. Сухой порох! Тут одной искры достаточно. Необходимо поставить вопрос перед оккупационными властями об усилении гарнизона...
Дивизии занимали почти всю долину. Ближе к городу — пехота (цвет корпуса — корниловцы, марковцы, дроздовцы) и артиллерийские части; у подножия горы — конница; у устья реки, ближе к морю, — сводный, формирующийся уже, «беженский» батальон. Выполняя приказ, кляня свою долю, солдаты и младшие офицеры ставили палатки, искали дерево на колья, собирали топливо, ходили в город за камнями и черепицей. Эта работа заняла еще трое суток. Потом лагерь залез в палатки и замер, точно все заснули разом.
Когда Кутепову доложили об этом, он немедля приказал оседлать коня и в сопровождении адъютанта и трех терских казаков из личной охраны поехал за семь километров в долину Роз, которую русские уже окрестили по-своему и называли «Голое поле».
Он проехал мимо нескольких палаток — никто и не высунул носа. Рассвирепев, Кутепов спешился и зашел в большую палатку. Там было парно, тихо и тесно: человек сто, никак не меньше. Командира корпуса не сразу заметили. Щуплый помятый поручик вскочил с опозданием. Доложил точно со сна. Кутепов взорвался. Лицо побагровело. Крикнул зычно:
— Я вас с говном смешаю, поручик! — подойдя, сорвал с него погоны, круто повернулся и вышел.
И тут же наткнулся на солдата — в шинели без хлястика, колоколом, под фуражкой полотенце — не то уши, не то зубы болят, вероятно. Солдат нес что-то за пазухой. Украл, наверное, скотина!
— Стой! Смирно! — гаркнул генерал.
От неожиданности солдат встал как вкопанный. Словно в воздухе повис: замер — руки по швам, голова небритым подбородком вверх, глаза едят начальство! (И какое! Он генерала Кутепова за всю войну два раза и видел: впервые во время парада, когда на Москву наступали, во второй раз в Крыму, при эвакуации, будь она проклята!) Из-под шинели вывалился плоский круг сыра и, покатившись, завертелся волчком у ног командира корпуса. Кутепов яростно оттолкнул сыр. Спросил почти равнодушно:
— Фамилия?
— Рядовой Лях, ва-имп-соч-сс-т-ство! — рявкнул солдат.
— Болван! Знаешь, кто я!
— Так то-ч-с! Ваш-ссо-ч-ство — генерал-лейтенант Кутепов!
— Повесить тебя, что ли? — генерал «отходил», удивляясь обращению к нему солдата, как к члену императорской семьи. — Старый солдат, а вид, форма! Позор!
— Виноват, ваш-с-тво!
— Получай двадцать суток и докладывай командиру.
— Благодарю!
— За что, скотина?! — изумился Кутепов.
— Не изволили вешать, ваш-с-тво!
Кутепов досадливо махнул рукой и пошел прочь. И тотчас приказал собрать старших офицеров.
...Начальники дивизий генералы Туркул, Витковский, Скоблин и их штаб-офицеры сидели понурые: знали, о чем станет говорить командир корпуса, который не скрывал крайнего недовольства. Кутепов, известный тем, что никогда не терял самообладания, явно сдавал — это отмечал про себя каждый.
Рассказав о возмутительных нарушениях воинской дисциплины, свидетелем которых он только что явился, Кутепов заговорил спокойней и убежденней:
— Русский солдат, господа, лучший в мире. Но он привык к дисциплине, полному подчинению. Если мы хотим сохранить армию, мы обязаны держать солдат в крепкой узде. В крепкой! Керенщина, либерализм развалили вполне боеспособную армию. То, что не могли сделать немцы, господа! Россия не простит нам этого! Дисциплина, дисциплина, господа! — Преамбула кончилась: Кутепов не умел говорить «просто так», он умел лишь командовать и хорошо знал язык команд. Он прошелся перед собравшимися в штабной палатке, наслаждаясь своим превосходством, своей крепкой волей, умением, как он выражался, «держать строй». Посмотрев в лицо Туркула, которого отличал среди всех, Кутепов продолжил: — А посему приказываю. Первое! Военный лагерь частей корпуса должен стать образцовым. Во всем! Выровнять лагерные линейки. Часовых под грибок и во всех положенных местах. Регулярная смена круглосуточных караулов... Второе. У солдат ежедневные занятия, закон божий и строевая подготовка. В свободное время — оборудование лагеря. Свободного времени у солдата не должно быть, господа! Совершенно! От него разводятся вши и свободомыслие. — Кутепов нарочно сказал про вшей и посмотрел, какое впечатление произведет его фраза. Начальники дивизий, начальники их штабов, квартирмейстеры и штаб-офицеры корпуса отреагировали слабо, никто не улыбнулся. Похоже, и слушали-то плохо, невнимательно, подавленно. Сделав про себя это малоутешительное открытие, Кутепов намеренно не изменил своего директивного выступления и продолжал медленно, отрывисто, прежним назидательным тоном: — Считаю необходимым сооружение въезда в лагерь, полковых вензелей, навеса для содержания боевых знамен и символа империи Российской — двуглавого орла, господа! Солдатам приступить к плетению коек — одной на двоих хотя бы, создавая для сооружения оных команды по сбору веток кустарника с гор, тростника и морской травы на циновки и матрацы... Третье. В целях укрепления порядка и безоговорочного соблюдения уставов полагаю необходимым организацию дисциплинарной роты, усиление роли военно-полевого суда, рассматривающего каждый проступок и дающего ему оценку. Проступки господ офицеров, как всегда было принято в русской армии, подлежат компетенции офицерского суда чести... Четвертое. Для укрепления управления частями вверенного мне корпуса я счел необходимым произвести перегруппировку частей. В первую пехотную дивизию — начальник генерал-лейтенант Витковский — сводятся: Корниловский ударный полк, Алексеевский полк и артиллерийский батальон. Конную дивизию генерал-лейтенанта Барбовича составляют: первый, второй, третий и четвертый конные полки и конный артдивизион («Ни коней, ни пушек», — подумал в этот момент каждый). В технический полк сводятся: саперные, телеграфные, железнодорожные, авиационные, бронеавтомобильные и другие технические части («И тут — одни названия»). — Услышав неясный гул, Кутепов сделал паузу, исподлобья посмотрел на задние ряды. Черная бородка его воинственно задралась. — Что-о? — спросил он напористо. — Кто-то хочет что-то сказать? Но я еще не кончил, господа! — это прозвучало с угрозой. — Подчеркиваю еще факт, о котором, возможно, не все знают. Во время стоянки на константинопольском рейде генералы Писарев и Егоров объявили офицерам и нижним чинам, что любой из них может уйти из армии. К счастью, нашелся человек, верный нашему общему делу. Он приказал арестовать Писарева и Егорова и объявил их приказ недействительным. Посланный мною для разбора дела начальник штаба генерал Доставалов провел тщательное расследование, подтвердив правильность действий офицера, верного долгу. Я приказал поощрить его. Это — генерал Туркул, господа! Прошу принять это к сведению, господа! Я высоко ставлю офицерский мундир и беспощаден к тем, кто роняет его достоинство. Я буду поощрять каждого, но и строго карать независимо от звания и прошлых заслуг, господа офицеры! Иначе я не смогу выполнить миссию, возложенную на меня, — сохранить армию, ее боевой дух и постоянную готовность к будущей борьбе. Каждому из нас надлежит помнить: мы являемся единственным боевым кадром будущей великой русской армии... Все! Есть ли вопросы?
Из задних рядов встал офицер с солдатским «Георгием» («Храбрый, — отметил машинально Кутепов. — Не раз поднимал солдат в атаки: боевое отличие. Что скажет, интересно?»).
— Подполковник Грибовский, первый полк Корниловской дивизии, — доложил тот простуженным голосом. — Интересуюсь сроками приезда главнокомандующего, ваше превосходительство.
— Генерал-лейтенант Врангель ничего не сообщал мне о своем приезде. — Раздражение прорвалось вновь, но Кутепов взял себя в руки и тут же поправился: — Он и его штаб в Константинополе, как известно. Прибудет командующий, встретим, как положено, господа.
Каждый из присутствующих заметил, конечно, оговорку командира корпуса. И все сочли ее неслучайной. Вопросов больше не было. «Доложат барону, обязательно доложат, — решил Кутепов. — Найдется дерьмо, дрянцо какое-нибудь, — Кутепов, мол, не признает Врангеля. А, черт с ним! Узнает, и ладно!»
Начальников дивизий и штабов дивизий прошу остаться. Остальные свободны, господа! — Дождавшись, пока все лишние ушли, Кутепов позволил себе сесть и сказал: — Задержу вас ненадолго. Поговорим конфиденциально. Надеяться нам не на кого. Только на себя, господа. Уйти отсюда будет трудно. Со всех сторон море, а на сушу могут и не пустить. Французы станут кормить так, чтобы только с голоду не умерли. Мы должны надеяться только на себя... Мы должны сохранить армию. Всеми мерами, господа!
Кутепов покидал лагерь, когда стемнело. После неожиданно затянувшейся беседы с начальниками дивизий настроение у него значительно поправилось, возвратилось душевное спокойствие.
По выезде Кутепова догнал Туркул с тремя дроздовцами. Объяснил: боевые охранения редки, могут быть и не очень надежны. Видя малочисленность конвоя, считает необходимым для безопасности командира корпуса проводить его до города.
— Мы далеки от фронта, генерал, — пошутил Кутепов, оценив про себя преданность Туркула.
— Всякое может быть, ваше превосходительство. Появились случаи дезертирства.
— Побродят по полуострову и вернутся с голодухи.
Туркул шел рядом со стременем.
— Хорошо, — согласился Кутепов. — Вон до того огонька — разрешаю, — и показал вперед, где в пламени костра виднелись две сидящие фигуры. Часового и подчаска, вероятно. И даже пошутил: — Не годится. Не принято в русской армии, чтоб один генерал другого пешим сопровождал.
— Чего не бывает, ваше превосходительство.
— Благодарю, генерал, — еще больше оживился Кутепов. — Мы еще с вами повоюем.
— Надеюсь! — зычно отозвался Туркул. — Счастлив буду.
Приблизились. Один из солдат обернулся на голоса, всматриваясь в темноту. И только когда в пламени костра блеснули золотые генеральские погоны, оба часовых вскочили. Винтовок при них не было: кинутые прикладами в костер поверх веток кустарника, они горели. Такое никому не приходилось видеть. Кутепов остолбенел.
— Расстрелять! — коротко кинул он.
Генерал Туркул рванул из кобуры револьвер. В сумрачной тишине долины прозвучали два выстрела. Солдаты упали по обе стороны костра: Туркул всегда славился как один из самых метких стрелков в армии. Воевавшие с ним утверждали, что больше всего он любит яичницу с колбасой и собственноручный расстрел пленных, — этот гигант, богатырь, в жилах которого текла и молдаванская кровь, любитель анекдотов, матерщинник, начавший войну прапорщиком, пришедший с отрядом Дроздовского из Ясс и ставший генералом...
2
Галлиполийцы ждали приезда Врангеля. А он все не ехал. Усиливалась растерянность. Возникали и широко расходились из города в лагеря всевозможные слухи. Кутепов был вынужден послать официальный запрос. Генерал Шатилов ответил: главнокомандующий ведет упорную дипломатическую войну, требующую много времени и сил, — добивается сохранения русской армии и участия ее в борьбе против большевиков...
22 декабря на французском дредноуте «Прованс» Врангель наконец прибыл в Галлиполи. Он стоял на корме катера, несущегося к пристани, в корниловской форме, прямой и плоский, как доска. Легко перескочил на мостки. Сошел на берег. Глядя немигающими, чуть поблекшими выпуклыми глазами, выслушал рапорт Кутепова. И с той же величественной, чуть брезгливой миной — приветствие французского коменданта. Милостиво кивнув, пошел по фронту сенегальских стрелков, высоко поднимая колени, — к почетному караулу из батальона юнкеров Константиновского училища. Под звуки Преображенского марша, крики юнкеров и офицеров, медленно, словно вглядываясь в лица, обошел фронт караула. Пропустив юнкеров, идущих церемониальным маршем, впервые обратился к Кутепову:
— Вы прекрасно выглядите, Александр Павлович. Рассказывайте, как тут у вас, что? Настроение в частях?
— Вы все увидите сами, ваше высокопревосходительство, — Кутепов подчеркнуто не принял обращение по имени-отчеству. — Обживаемся.
Французы, расщедрившись, подали автомобиль. («Жаль, — подумал Кутепов. — Лучше посадить бы его на турецкую клячонку: наш барон ведь кавалерист прирожденный...»)
— А что французы? Как кормят?
— Пятьсот граммов хлеба, сто пятьдесят каши, двести пятьдесят консервов — ужасные! — сто картофеля, двадцать соли, сахара и жиров, семь граммов чая. Считают, питание человека стоит им примерно два и двадцать восемь сотых франка в день.
— По моим данным, два с половиной франка, — 1 поправил Врангель.
— Врут! Наживаются!
Автомобиль, подпрыгивая на ухабах, ехал городом. Полуразбитые мазанки лепились по холмам. Во все стороны разбегались кривые переулочки. На площадке гортанно гомонила черная толпа греков и турок в красных фесках — шла шумная и мелкая торговля, страсти кипели вокруг горстки инжира, вязанки хвороста, лоскута самотканой материи.
Неприлично подержанный «рено» («Вот оно, нынешнее отношение союзников. Теперь мы им до поры до времени не очень и нужны») миновал пустырь, груды рассыпавшихся кирпичей и камней. Остались позади огромный остов разбитой мечети и две крошечные мельницы, машущие крыльями. Врангель молча сидел рядом с шофером, чуть полуобернувшись к Кутепову, глядя без любопытства вперед, словно в одну точку, бесцветными колючими и страшными глазами. «Он все тот же, — с завистью подумал Кутепов. — Ничего ему не делается. Такой же высокий, тощий и прямой, — гордыня его не съедает и забот будто никаких... Никогда не был генералом, политик. И теперь далек от русской армии».
— К сожалению, я и теперь не имею права занять свое место здесь, с вами, во главе войск, — сказал Врангель резко и громко, точно угадав мысли командира корпуса. — Сейчас главное — быть дипломатом.
— Представляю ваши трудности, Петр Николаевич, — голос выдал Кутепова: фраза прозвучала чуть ли не издевательски. Он хотел поправиться, смягчить тон и добавил как можно почтительней: — Не извольте беспокоиться. В лагерях полный порядок, настроение бодрое. Войска готовы к выполнению любой боевой задачи.
Врангель посмотрел чуть удивленно. Сухо кивнул, отвернулся. И не сказал более ни слова — до встречи с почетным караулом. Роняя короткие слова, пожал руки встречавшим его начальникам дивизий я старшим офицерам. Обошел лагерь, заглянул в лазарет, осмотрел починочную мастерскую, сдержанно похвалил работающих на сооружении церкви. Солдаты делали аналой из ящиков, престол и жертвенник. Одеяла, набиваемые на рамы, готовились под иконостас. На них вешались иконы.
Из одеял же шились и облачения. Умелец резал деревянный напрестольный крест. Другой кромсал жесть консервных банок на лампады. Несколько человек под руководством седобородого волосатого священника в защитного цвета рясе с «Георгием» подбирали звонницу из рельсов и гильз крупнокалиберных снарядов. Врангель, подойдя, преклонил колено, и священник благословил его...
Затем главнокомандующий прибыл на место парада. Войска были построены «покоем». На правом фланге — пехота, в центре — артиллеристы, на левом крыле — конники. Оркестр бухнул Преображенский марш. Врангель, подтянувшись, приосанившись и от этого став еще выше, начал обход частей. Временами он останавливался, провозглашал: «Здорово, орлы!» — и, с видимым удовольствием выслушав дружное «ура-а-а!», перекатывающееся по рядам и все усиливающееся, двигался дальше, сопровождаемый отставшим на положенное расстояние Кутеповым. Командир корпуса тщетно гасил растущую неприязнь к Врангелю и острое недовольство собой, родившееся еще по пути в лагерь: не сказал бывшему правителю Юга России главного — армия накануне развала, необходимо крайнее напряжение всех сил.
Врангель между тем поднялся на мелкий бугорок и застыл, резко возвышаясь над группой окружающих его офицеров. Сухие глаза его горели, короткая жесткая щетинка усов величественно задралась. С гордостью оглядев строй, он взмахнул левой рукой, и вдруг зазвучал его резкий звенящий голос:
— Приветствую вас, боевые мои орлы! Приветствую на чужой негостеприимной земле, куда бросила нас лихая судьба, чтобы испытать крепость русских сердец. Крепитесь! Мужайтесь, соратники! Не пройдет и трех месяцев, и я поведу вас вперед, в Россию. Знайте, верьте! Возрождение России близко! Мы принесем русскому народу освобождение от ига большевиков. А пока — держитесь! Пока мы должны жить здесь, среди голых полей и голых гор, мы должны быть твердыми, мужественными. Бог оценит наши подвиги! Солнце воссияет нам!..
И тут произошло неожиданное. Ветер разогнал облака, и из-за туч показалось, разрастаясь, огромное солнце, осветило унылую долину, где размещался лагерь, дохнуло желанным теплом. Шеренги дрогнули, качнулись: после стольких дней холодного, свирепого норд-оста и пронизывающего дождя это было как божественное озарение, как счастливая примета. Врангель — опытный психолог — не преминул воспользоваться этим. Показывая на солнце, он кричал о миссии, возложенной на русскую армию богом и людьми, о святой справедливости дела, которому он служил, служит и будет служить.
— Верьте, орлы! — взывал Врангель патетически. — Большевизм будет свергнут, и это яркое солнце вновь воссияет на небе нашей измученной родины! Держитесь, орлы! Я — ваш командующий! — всегда с вами! Я приведу вас с победой домой!
Солнце вновь закрыли низкие тучи, и в долине потемнело. Врангель, выкрикнув напоследок здравицу в честь русского воина, замолчал: у него совсем некстати внезапно пресекся голос.
Бухнул оркестр. И как-то вдруг, привычно-спокойно и плавно качнувшись, пришли в движение длинные ряды серых, печальных и грязных шинелей. Мерными, привычными шагами проходили части корпуса мимо бугорка, на котором стоял главнокомандующий. А он возвышался надо всеми и смотрел куда-то поверх голов свиты, поверх серых шеренг своими страшными, бесцветными, сухими глазами, точно был он где-то далеко и все происходящее в этом галлиполийском лагере уже ни в малейшей степени его не касалось...
Прошло больше месяца. Минуло тоскливое рождество. Покатился 1921 год. За это время Врангель еще раз посетил галлиполийский лагерь — уже не на французском боевом корабле, а на своей яхте «Лукулл», где жил, — привез несколько орденов святого Николая-чудотворца, им же учрежденного еще в Крыму. Кутепов продолжал «закручивать гайки». В городе и лагере четко действовал комендантский час, ходили патрули, была учреждена гауптвахта, выработан даже дуэльный кодекс и запрещена брань, «порожденная разгулом войны». Каждой части вменялось в обязанность строго соблюдать все свои полковые праздники, проводить смотры и парады по любому поводу. За продажу (и обмен на продукты питания) оружия военно-полевой суд без долгого разбирательства выносил смертные приговоры. Французы понемногу сокращали паек. Специально учрежденная рыболовецкая команда не могла наладить дела: почти половина улова отдавалась богатому турку, у которого арендовали сети. Специальные команды ходили десятки километров за топливом, пытались воровать пустые немецкие снарядные ящики. Случалось, выкрадывали и снаряды, — несмотря на стрельбу часовы х-сенегальцев, разряжали их с риском для жизни и продавали порох местным охотникам. В лавочках для генералов и старших офицеров торговали кое-какой мелочью по диким ценам, в два, а то и в три раза превышающим рыночные галлиполийские.
Солдаты зубрили устав внутренней службы. По утрам на полковых линейках трубили сигнальные рожки, захлебывались мелкой дробью барабаны, торопливо отдавались рапорты. «Встать!.. Смирно!.. На носках — бегом!.. Живо!.. Ложись! Шагом — марш!.. Кругом!» — раздавались строевые команды до обеда — шла очередная репетиция парада. Обстановка накалялась. Не помогал и рукописный журнальчик «Развей горе в чистом поле», выпускаемый «весельчаками» из кавдивизии, не помогало и создание фехтовально-гимнастической школы. Солдаты и офицеры бежали к Кемалю, завербовывались в Иностранный легион, нанимались в полицию, матросами на корабли, чтобы пробраться на Балканы и в Европу. Их арестовывали: у них не было ни прав, ни подданства, у них не было родины...
Врангель вынужден был лавировать: англичане и французы начинали двойную игру. Боясь за Индию, англичане покровительствовали «независимой» Грузии, держали под наблюдением Баку, подозрительно относились к присутствию русских у Дарданелл и... готовились к торговле с Советской Россией. Франция поддерживала идею создания могущественной и независимой Польши, видя полную несостоятельность Юденича, поддержала образование самостоятельных Латвии и Эстонии, заявляла, что склонна разрешать торговые соглашения с большевиками. Греция и Италия боялись крупных контингентов русских войск вблизи своих границ: кто знает, кому они будут проданы, против кого повернут свое оружие? Врангель неустанно повторял всем и вся: среди того бессилия, которым поражена Европа, глупо сводить на нети уничтожать такую силу, которую представляют русские войска, отмобилизованные, закаленные в двух войнах, умеющие легко переносить невзгоды, всегда готовые идти в бой с любым врагом. Врангелю приходилось вступать в борьбу с левым и с правым крылом русской эмиграции. Струве пытался вести в Париже дипломатические переговоры, но его одинокий и непопулярный голос глушила многочисленная пресса в Париже и Берлине, Праге, Софии и Белграде. Усилились самостийные настроения среди казачества. Беспокоил и генерал Кутепов: он распоряжался реальной силой. Незаметно, но верно вырастал он в вождя, способного в любой момент заслонить его, Врангеля. И тут уж никакие климовичи и перлофы не помогут... А еще этот душевнобольной, этот Слащев! Говорили, поселился не то где-то в Галате, не то в Скутари, решил уйти от дел и занялся огородничеством. Деградировал окончательно. Перлоф доносил: генерал зачастил в загородный сад «Стелла», принадлежащий русскому негру Федору Федоровичу Томасу — хозяину известного московского варьете «Максим», ведет непристойные разговоры, порочащие Врангеля, критикует приказы главнокомандующего, в результате которых армии пришлось бежать из Крыма, упрекает в сокрытии каких-то денег.
Врангель терпел, делал вид, что не обращает внимания: кто же принимает всерьез бред кокаиниста, сумасшедшего! Но когда в начале января Слащев, требующий открытого суда, ухитрился выпустить брошюру «Требую суда общества и гласности», где весь этот бред — его рапорты Врангелю, вырезки из газет и тому подобная чепуха — был напечатан и стал достоянием широких кругов, Врангель решил действовать быстро и безжалостно. Приказом главнокомандующего генерал Слащев был предан суду чести при штабе. Суд постановил (и это несомненно заслуга Шатилова!): лишить Слащева воинского звания без права ношения формы, исключить из списков армии и выслать из Константинополя. Слащев не признал решения суда и раструбил об этом на всех константинопольских перекрестках. У него, несомненно, есть и сторонники. И их немало...
Трудно. Да, очень трудно. Главнокомандующего хотят оттеснить от армии, дискредитировать перед лицом союзников, поставить над ним контролеров, следящих, на что расходуются получаемые им субсидии, спорят о том, кто имеет право и может говорить с миром от имени русского народа. Так называемые «общественные организации» только тем и заняты, что вбивают клинья между ним и союзниками, каждый хочет подчинить Врангеля своему влиянию, требует «прекращения великодержавной, шовинистической политики», демократизации армии, нападают на Климовича, Шатилова и Кутепова. Нет! Нельзя допустить, чтобы его армия была низведена на положение отрядов Балаховича при партийном комитете эсера Савинкова! Армия и ее командование не будут поставлены в зависимость от какой-либо политической организации. Об этом Врангель не раз предупреждал свое окружение, телеграфировал в Париж Струве. Вновь пришлось вступать в переписку с французами, будь они прокляты!.. Ни к чертовой матери! Нужно действовать активно. Нужен новый стратегический план атаки Советской России и большевиков. Без этого никто не даст денег. А без денег перестанет существовать армия. А без армии?.. Что он — Врангель?.. Нет, ждать нельзя! Нужно точное выяснение позиции Франции. Если она не подтвердит свое признание армии как ядра борьбы с мировым большевизмом, надо немедля искать новые пути. В конце концов есть еще великий князь Николай Николаевич, пропадающий в безвестности, особа царской фамилии, имеющий хоть какие-то права на пустующий русский престол. Почему бы не поменять знамена? Не склонить их к его ногам и не повернуть армию? За ним Мария Федоровна — вдовствующая императрица. А у нее миллионы. Они необходимы для поддержания национального движения... Политический объединенный комитет в Константинополе, заявивший в конце ноября, что в лице Врангеля они видят главу русского правительства и носителя власти, объединяющей все русские силы, сменил курс неясно под влиянием каких сил, каких персон. Они стремятся подчинить главнокомандующего, признают его власть лишь при условии общественного контроля и принятия демократической программы. Усиливают нападки — требуют отказа от крымской психологии, отказа от великодержавной политики... В Париже милюковствующие элементы плюс эсеры и еще бог знает кто готовят сбор Учредительного собрания. И они надеются представить просвещенному миру новую, «демократическую» Россию. Врангель и его армия — им как кость в горле. Они далеко и не очень страшны ему. Но в Париже собираются и бывшие русские послы, еще недавно представлявшие в разных странах могучую державу. В их распоряжении до сих пор довольно крупные суммы. Отдадут ли они их ему, Врангелю, и армии? Или деньги попадут в руки Милюковых, черновых, керенских?.. Хорошо, он послушался Шатилова, Струве и Бернацкого и не стал препятствовать образованию в Константинополе парламентского комитета. Кого там только нет! Точно Ноев ковчег! Октябристы, кадеты, народные социалисты, даже два члена Учредительного собрания, а всего тридцать шесть человек. Пока что они являют собой хорошую опору в борьбе с Милюковым. Но надолго ли?.. Что можно ждать от штафирок, если и армия разлагается на глазах. Посещения галлиполийских лагерей говорят об этом: разложение, неподчинение, нарушение дисциплины. И даже старшие офицеры — ни к чертовой матери!.. Мрачные мысли овладевали Петром Врангелем...
В ЦЕНТР ЧЕРЕЗ «ДОКТОРА». ИЗ ГАЛЛИПОЛИ ОТ «БАЯЗЕТА»
«В кругах, близких Врангелю, проявляются рост активности, оптимистические настроения, связанные с кулацкими выступлениями в ряде мест Тамбовской губернии, Украины, Дона, Сибири, Упорно муссируются слухи о готовящемся восстании Красной Армии районе Москвы, англо-франко-американском десанте Крыму, Одессе или Кавказе. Особое внимание считаю необходимым обратить на весьма крупный заговор, зреющий где-то на Севере. Не исключаю — Петрограде или ближайших районах. Главным командованием готовятся летучие отряды из наиболее проверенных офицерских добровольческих частей для переброски морем в Россию. Усилились поиски новых путей сближения Врангель — союзники, Врангель — Савинков — Булак-Балахович — генерал Перемыкин. Посланы новые инструкции Париж — Струве и Бернацкому по обеспечению дипломатического прикрытия, активизации финансовой помощи, активизации борьбы против лагеря Милюкова. Устанавливаются контакты с монархическими кругами. В первую очередь — с Николаем Николаевичем. В то же время усиливается расслоение военного окружения главнокомандующего. рост наполеоновских настроений Кутепова и стремление Слащева противопоставить себя Врангелю. Широкой гласности предаются его рапорты командующему, в которых отмечается: «Слащев голодает; офицеры и солдаты — голодают, обращаются к Слащеву с вопросом «за что». Врангель прямо называется «виновником потери нашей земли». Потасовка генералов широко комментируется союзниками и во всех слоях эмиграции. Начало разработки линии «Слащев» считаю своевременной.
Баязет»
Глава четвертая. ГАЛЛИПОЛИ. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ АНДРЕЯ БЕЛОПОЛЬСКОГО
Все происшедшее с ним в последнее время представлялось князю Андрею как тяжелая болезнь. Ему казалось, он катится с высокой горы — все падает, падает, не в силах управлять собой, протянуть руку, чтобы ухватиться за что-нибудь, задержать это гибельное падение, остановить его хоть на миг.
Где-то в далеком далеке осталась юность в особняке на Малой Морской, культ деда — генерал-майора, героя войн конца прошлого века. И Андрей стал офицером, а военная служба — его профессией. Он поднимал солдат в наступление, сам не раз с винтовкой наперевес и с папиросой в зубах ходил в атаки, стрелял, рубил саблей, колол штыком. Ненависть к революции руководила им. Куда она девалась теперь? Где он ее растерял? Что пришло ей на смену? Другая ненависть? К самому себе, ко всем тем, кто его окружает сегодня?..
Андрей очнулся и недоумевающе посмотрел по сторонам. Был яркий полдень. Солнечные лучи били из всех щелей в стенах и потолке. В лучах плавали золотистые пылинки. Он находился в каменной клети, где все было из серого камня: стены, камни-кровати, камни — стол, стулья, камни-печи, камни-полки. Над головой крестообразно натянутая проволока. Поверх нее навалены тростник, сухая морская трава, земля и глина. Крыша протекала при малейшем дожде. Сейчас сквозь дыры сияла голубая синь. Он находился в Галлиполи... Все вставало на свои места. Соседний топчан пустовал. Капитан Калентьев удрал пораньше. Тем лучше: никто не станет приставать с разговорами.
Досаждали клопы. Огромные, ленивые от сытости, они казались вездесущими: падали с «крыши, гнездились в каждой расщелине, кишели в кровати, вперемешку с мухами ползали по столу и по полу. Клопы были какие-то особые — крупные, удлиненные, с веретенообразным туловищем. Андрей испытывал физическую боль и отвращение. Он попытался вступить в борьбу с клопами, но тут же отступился, признав свое бессилие. К тому же раздавленные клопы испускали такой стойкий и отвратительный запах, что Андрей готов был ежеминутно мыть лицо и руки. Так он оставил борьбу. Смирился. Единственное, чего он не мог вынести, — когда клопы ползали по его лицу. Но, словно сговорившись или направляемые кем-то, клопы старались начать свое путешествие именно с его головы. Андрей, не в силах подавить чувство гадливости, просыпался и вскакивал, отряхиваясь, точно пес, вылезший из воды. Каждая ночь превращалась в кошмар. Ему казалось, он сходит с ума. Капитан Калентьев раздобыл — а скорее всего, украл где-то в штабе карту Европы и отдал ее Белопольскому, утверждая, что турецких клопов притягивает чистая бумага. Андрей укрепил карту над головой. Клопы с удовольствием ползали по ней табунами... и по лицу Андрея тоже. Лучше о них не думать. А о чем думать?.. Он один уцелел и остался в этом страшном, враждебном ему мире...
Идти было некуда. В городе жарко, душно, пыльно. Думать ни о чем не хотелось. Медленно кренился потолок. Следовало заснуть или немедля напиться. Но спать далее казалось немыслимым, а пить было не на что. И даже лепешку черную купить не на что — ни одной драхмы, ни одной лиры, черт бы их взял, ни одного пиастра... Все, что оставила ему перед смертью Мария Федоровна Кульчицкая и что он продал, исчезло, улетучилось, испарилось... Он вспомнил, как спокойно и достойно умирала на полу константинопольской лачуги старая генеральша, а он молил бога, чтобы бог смилостивился и спас ее — сохранил жизнь единственному существу, связывающему его с этим подлым миром. Андрей приносил богу клятвы, одну страшнее другой, но бог не услышал его и не принял ни одной из обещанных им жертв. Тем хуже для бога, допустившего все, что переживают здесь, на чужой земле, русские беженцы. Ведь все тяжкие испытания, выпавшие на долю белой армии, делят с ней и невинные женщины, дети, старики!..
Огромный клоп упал с потолка и проворно побежал по лбу. Андрей сбил его щелчком, но на пальцах остался зловонный, тошнотворный запах... Мысли путались... Чувство позора, захватившее его целиком, пришло тогда, когда наконец началась выгрузка и конвойные офицеры у трапов самолично определяли: кто — чины армии, кто — беженцы и кого куда надлежит отправить. В сумасшедшей, осатаневшей от всего пережитого человеческой каше разыгрывались трагедии, разрушались семьи, и люди теряли друг друга навсегда. Военных уводили на другие причалы — для перегрузки на суда. Был оглашен приказ главного командования: чинами русской армии остаются солдаты и офицеры. Все иные считаются беженцами. Представители французских оккупационных властей быстро и споро сбивали группами беженцев, объявляли: лишь те эмигранты, которые не претендуют на помощь властей, обязуются жить на свои средства и готовы дать в этом подписку, могут располагать свободой передвижения (в рамках города, разумеется), все иные отправляются в специальные лагеря. Андрей стоял точно в столбняке. Безжалостные серые глаза его стекленели, губы нервически дергались. Левая рука, ограниченная в движениях после ранения, непроизвольно оглаживала грудь, чтобы успокоить боль от десятков длинных игл, которые кололи его сердце. Если б не Мария Федоровна, бессильно повисшая на нем, вероятно, он сделал бы что-то непоправимое, открыл огонь из револьвера — в своих, во французов, в себя. Или в генералов — Кутепова, Туркула, Скоблина, безучастно стоящих неподалеку.
Его состояние стало понятно старой генеральше. Она лепетала еле слышно:
— Андрюшенька... Успокойся, Андрюшенька!.. Ради всего святого!..
Она вторично спасла его. А сама тихо угасла.
Похоронив старую генеральшу, Андрей Белопольский больше недели не возвращался «домой» — в каморку, что им, по счастью, удалось снять после высадки. Продав найденную в чемодане нитку жемчуга, колечко с небольшим бриллиантом и меховой палантин, Андрей, не находя себе места, бродил по городу. Чувство одиночества, боль от потерь принимали теперь гипертрофированные формы. Он много пил, почернел лицом, оплыл, запыленный мундир болтался на его плечах, как на распялке. Всегда презрительная улыбка превратилась в жалкую, опустошенную, просительную. Повсюду он встречал объявления о розыске родных. Объявления были самые разные — трогательно-наивные, полные трагизма, страшные, как крик. Объявления преследовали Андрея повсюду. Ими пестрели страницы всех тридцати восьми константинопольских газет. Ими были плотно заклеены и стены забора бывшего царского посольства.
...Огромный двор посольства всегда был переполнен беженцами. Суматошная толпа, в которой смешались вчерашние превосходительства и сиятельства, губернаторы и генералы, фрейлины и мелкопоместные дворянки, испуганные путейцы и спесивые генштабисты, крупные помещики и биржевые дельцы, бежавшие из Одессы, из Новороссийска и теперь — из Крыма, олицетворяла, казалось, всю вчерашнюю белую Россию, унесенную из своих поместий, кабинетов, штабов могучим ураганным вихрем... Тут, как казалось им, оставался маленький кусочек их родины, близкий тихий островок среди огромного бурного моря, к которому все они инстинктивно плыли, стараясь найти защиту от вселенских бурь, несчастий, невзгод. Тут назначали друг другу встречи, заключали всевозможные сделки, предлагали свои руки и головы (а иногда — тело и душу!) — мечтали найти работу — и прежде всего, конечно, безуспешно искали своих родных и близких.
Андрей Белопольский приходил сюда чуть не ежедневно, а иногда и по нескольку раз: чувствовал себя своим среди оборванных, нечистых, отчаявшихся, мрачно-циничных или бесшабашно-веселых людей без будущего, тешащих себя иллюзорными мечтами о том, что в один прекрасный день (он уже близок, надо иметь лишь терпение дождаться его!) все переменится чудесным образом, все встанет на свои места и воссияет солнце!.. Андрей подолгу читал объявления: «Всех знающих что-либо о судьбе штаб-ротмистра 37 полка Вифлиемского...»; «Разыскиваю жену Скуйдину, урожденную Себеровекую, эвакуированную из Феодосии...»; «Знающих о местонахождении Евгении и Александры Анахимовских умоляют немедля сообщить...»; «Друзей и сотоварищей по нижнему трюму парохода «Вера» прошу откликнуться по адресу...»; «Петушок, отзовись! Я и мама уезжаем в Бизерту...». Сколько слез, надежд, отчаяния скрывалось за наспех написанными листочками, сколько жизней и смертей стояло за ними!
Обойдя заборы с объявлениями, Андрей некоторое время оставался на посольском дворе, переходя от одной группы людей к другой, всматриваясь в лица и невольно прислушиваясь к разговорам, но никогда не вступая в них, даже в том случае, когда его вызывали на разговор. Делал вид, что не слышит. Тем более что беженцы говорили об одном и том же. Андрею казалось, вещают одни и те же люди, их двое, не более. У них одно лицо широко разверстый рот, выпученные, бесцветные глаза, небритые, серые щеки. И говорят торопливо, перебивая друг друга, не слушая, каждый сам по себе. Их разговоры состояли только из трех тем. Первая — самая приятная и благостная — начиналась обычно словом «помните»: «Помните, господа, развод караулов в Зимнем?». «А вы помните у Донона? Соус кумберленд, устрицы, бутылочка шабли?». «А ранняя весна в Подмосковье? Или сказочно прекрасные белые ночи в Петербурге, лихачи на дутиках, катание на Островах?». «Божественный Невский зимой! Снежок скрипит. А вокруг собольи, бобровые, шиншилловые, обезьяньи, котиковые шубки. Помните? Хлебнешь несравненной рябиновой Шустова, и никакой мороз не страшен!..»
Вторая тема разговоров — поиски виновных в революции, в поражениях на войне, в бегстве под ударами большевиков. Тут уж интонации менялись, происходило решительное размежевание. Что ни оратор — собственная партия, своя философия и политика. В ход пускались все козыри: шли ссылки на историю, Священное писание, пророческие предсказания святых отцов. Виноватыми оказывались все поочередно: от государя императора, проявившего слабоволие; бездарных генералов, проигравших сражения и распустивших солдат; масонов, продавших империю, до слюнявых интеллигентов, которых следовало бы перестрелять скопом и перевешать во главе с Керенским, — тогда бы ничего не случилось и все «спокойно сидели бы в Питерс, Москве и своих поместьях, забот не зная, как их отцы и деды...».
Последней темой были предсказания.
Тут не спорили, тут изощрялись. Тон разговора вновь становился мирным и благожелательным. Слухи выдавались за секретную информацию. Началом каждой сенсации становилось обычно слово «слыхали»: «Слыхали, господа, союзники начинают переброску армии на Балтику? Не пройдет месяца, и Петроград наш. Там — Москва, пройдет еще два-три месяца, и с большевизмом будет решительно покончено». «Слыхали новость? Англия согласилась на военный диктат. Диктатором Кутепова — самый способный и решительный генерал. Он добьется, нас признают во всем мире». «Слыхали, союзники готовят десант на Черном море? Где — разумеется, тайна. Ударят так, большевички и опомниться не успеют, — наши, как в девятнадцатом, на подступах к златопрестольной. Галлиполийская армия готовится к погрузке...» Белопольский скрипел зубами от ярости. С каким удовольствием избил бы он каждого из этих доморощенных стратегов, от которых пахнет могилой. Могилой и помойкой. И все же Андрей продолжал ходить на посольский двор, сохраняя остатки надежды найти своих. Иногда он поднимался в «царские апартаменты», где все было обито красным штофом, а на спинках стульев и диванов нагло выпячивались романовские гербы. Гулкие красные комнаты неудержимо тянули Андрея: напоминали об ушедшей жизни, особняке на Малой Морской, где гостиная тоже была обтянута штофом, темно-вишневым правда... На него косились офицеры охраны. Однажды он услышал, как кто-то громко сказал: «Подозрительный. Один из таких молодцов генерала Романовского здесь хлопнул. Что ходит, высматривает?» Андрей злобно осклабился и так гаркнул: «Какое ваше дело собачье?!» — что офицериков точно ветром сдуло...
Здесь же, в здании посольства, Белопольский встретил своего однополчанина Митьку Дорофеева, с которым никогда не был особенно близок: презирал за трусость. А тут обрадовался, как родному, и расчувствовался неизвестно почему. Митька не преминул воспользоваться этим. Они напились (за счет Андрея, разумеется) в первом же ресторане, продолжали пить и потом, в каких-то кабаках, в публичных домах самого низкого пошиба, и пьянствовали до тех пор, пока не кончились деньги.
И тогда Митька сразу же исчез, оставив Андрея одного, — подонок. Белопольский очнулся, не понимая, где он, как оказался в полутемном пенале. Потолок и стены находились на расстоянии вытянутой руки и давили на него, точно он находился в карцере. Рассеянный свет розовато сочился откуда-то из-за его голых ног, казавшихся матово-желтыми, стеариновыми, как у покойника. Когда глаза привыкли к полумраку, он разглядел кровать, на которой находился, — она занимала все пространство между стенами, — и огромную женщину, что распласталась с ним рядом. Ее дряблое тело возвышалось точно взбитая перина. Женщина спокойно и безмятежно похрапывала, посвистывала тихо, постанывала.
Сквозь, провалы в памяти всплывали какие-то разрозненные детали, какие-то лица, бессмысленные фразы, ничего не значащие слова. Улица, мощенная не то булыжником, не то каменными плитами, круто сбегающая с холма... Какая-то дикая драка, разъяренные матросы, и среди них один — бьющий ногой под дых...
Откуда-то сверху вдруг брызнула на Андрея теплая, едко пахнущая струя. Да, кто-то мочился на него. Он с омерзением оттолкнул женщину и откатился на самый край кровати, к стене. Но и там его нашла нескончаемая струя. Андрей вскочил, закричал хрипло, плохо подчиняющимся голосом:
— Эй, там!.. Вы! Вашу мать! — Будь у него револьвер, он разрядил бы весь барабан в потолок. Но револьвера не было. И бриджей не было. И френча. Выкрикивая ругательства и проклятья, он зашагал к спинке кровати по пружинящему матрацу, наступая на спящую женщину. И как был, в одном белье, выбежал, чтобы наказать обидчика... Если б он знал, что в той пустой клетушке, куда он вбежал разъяренный, желающий сокрушить все на своем пути, жила его сестра!.. Если б он застал ее в ту минуту! Или увидел нечто такое, что смогло напомнить о ней!.. Кто знает, как повернулась бы жизнь их? Но, увы, встреча Белопольских не произошла. Бог, вероятно, хотел, чтобы каждый из них испил свою чашу страданий — порознь и полностью... Андрей и не подумал о сестре: он думал о своей мести.
Вернувшись, Андрей неуверенными и суетливыми движениями стал нашаривать на полу свои вещи. Первым попался сапог, потом — рубаха, фуражка. Постепенно он собрал почти все, и только второй сапог долго не находился — он упал за высокую спинку. Схватив все в охапку, Белопольский толкнулся в дверь. Дверь распахнулась. Солнечный свет снова резко ударил в глаза — Андрей в одном белье оказался на улице, к счастью, в таком месте ее, где подобное появление человека никого не удивляло. На него никто просто не обратил внимания. Заскрипев зубами от гадливости и презрения к самому себе (эта привычка стала все чаще и чаще проявляться у него в моменты отрезвления), Андрей натянул бриджи, а потом — совершенно раздавленный — уселся на теплые уже от солнца плиты узкого тротуара и начал медленно и трудно натягивать сапоги, обливаясь потом и почему-то испытывая приступы тошноты и резкой колющей боли в низу живота.
Тут его и нашел Митька, появившийся невесть откуда, — свежий, напористый, улыбающийся.
— Жив, князька? — спросил он подобострастно. — Недурно мы гульнули! Есть ли планы на дальнейшую жизнь? — нарочно не замечая хмурого вида Белопольского, спросил Митька.
— Ни планов, ни денег, — сухо ответил Андрей. — Придется тебе другого компаньона искать.
— Зачем же?! Мы — боевые соратники, князька! Теперь моя очередь о тебе позаботиться и к денежному делу пристроить.
— К какому же? — вяло поинтересовался Андрей.
— Познакомлю с интересными людьми, расскажут, — загадочно ухмыльнулся Митька. И, уловив презрительную улыбку Андрея, добавил: — Нашего круга люди, князька. А пойдем мы с тобой в баню.
— В баню — это можно. Это хорошо, — повеселел Андрей. — Готов, кажется, кожу с себя содрать!
— И кожу сдерешь — не отмоешься, — многозначительно ухмыльнулся Митька. — Тут особая банька!
— Не говори загадками, скотина! — вспыхнул Андрей.
— Оставь свои манеры, князька. — Митькин голос прозвучал неожиданно твердо, трезво и с некоторой даже угрозой. — Ты не в Петербурге, ваше сиятельство.
— Ладно, веди, не обижайся. Устал я, — примирительно заметил Белопольский.
...Митька, к удивлению Андрея, нанял извозчика, и они, переехав Галатский мост, долго кружили по улицам. Потом шли пешком, и Андрей понял, что приятель его нарочно «водит», стараясь почему-то не дать запомнить дорогу к таинственной бане.
Они оказались в большом банном зале. Зал был почти пуст, лишь несколько человек спало на лавках, в углу четверо играли в карты, да офицер с револьвером и шашкой сидел возле широкой двери, ведущей в другое помещение, похоже — охранял дверь. Странно, в этой бане никто не мылся! Андрей с удивлением посмотрел на Митьку.
— Посиди, князька. Я — минуту! — и он исчез за дверью, не вызвав даже движения со стороны охранявшего ее офицера.
Происходящее все более занимало Андрея. Он двинулся следом за Митькой, приблизился и хотел было открыть дверь, но на пути воздвигся охранник. Лицо его отвердело, челюсть треугольником выдвинулась вперед. Прошу остановиться, — проговорил он с угрозой.
— Говорите: ваше сиятельство, — Андрей издевался и подчеркивал это.
— Я не могу пропустить вас, — охранник был тверд.
Неизвестно, чем кончилась бы их перепалка, — хмель еще бродил в голове Андрея, он был зол, издерган, опустошен, — но тут дверь распахнулась. Быстро вышел... тот полковник, по приказу которого избили Андрея на пароходе, и, отстранив плечом Белопольского, быстро двинулся через банный зал. За ним спешили еще двое. Секунду Андрей глядел им вслед оторопело, думая, что обознался. Но нет, это был именно тот полковник: могучий торс, лысый, блестящий череп. Андрей развернулся, точно лопнувшая пружина.
— А-аа! — крикнул он яростно. — Вы?! Вы толкнули меня, милостивый государь... Что? Не узнаете?
Лысый остановился, посмотрел с прищуром.
— Не имею чести-сс, — сказал равнодушно.
— Мы плыли на одном пароходе! По вашему приказу меня вышвырнули из каюты. Ну!
— Видимо, за дело, — пробасил Лысый на ходу.
— Подлец! — Андрей кинулся следом.
— Белопольский! Стой! — испуганно прокричал сзади Митька.
Андрей выскочил на улицу, и тут с двух сторон на его голову обрушились два страшных удара. Он рухнул, потеряв сознание.
— Нам не подходит, — сказал Лысый Митьке. — Кого вы приводите, Дорофеев?.. Оттащите подальше.
Придя в себя, Андрей вернулся в дом, где он жил вместе с генеральшей. Здесь его уже давно не ждали: клетушка была пересдана, кое-какие оставшиеся вещи покойной бесследно исчезли. Андрей сгоряча съездил по уху хозяину — иссушенному солнцем, точно вяленому, турку. Тот выдержал сильный удар на ногах и схватился за нож. Пришлось Белопольскому ретироваться: не хватало в его положении попасть в полицию!
Без цели и денег бродил он по огромному чужому и жестокому городу. Ночевал, где придется. Хорошо хоть потеплело и ночи не были холодными. Крепло желание убить Лысого. В этой скотине воплотилось все ненавистное Белопольскому: животная, тупая сила, жандармское хамство, ощущение своей власти над другими людьми. Желание становилось навязчивой идеей. Андрей е раз видел, как встречает Лысого, как останавливает его, дает пощечину и предлагает стреляться на любых условиях, как убивает его (Белопольский считался лучшим стрелком в полку и потом, в свите Слащева; он одинаково отлично стрелял из любого оружия, и мысль о том, что он может промахнуться и будет убит или ранен, не приходила ему). Но ни Лысого, ни Митьки Андрей не встречал. Разве это просто — найти человека в таком городе, как Константинополь?!
Однако надо было как-то жить. Позорное чувство голода стало постоянным. Однажды, обратив внимание на афишные призывы, Андрей чуть не стал солдатом Иностранного легиона — Legiones etranges, — пушечным мясом для войны в Тунисе или Марокко. Он направился даже к ближайшему вербовочному пункту. Верзила — французский сержант с бульдожьей челюстью, оглядев его тощую ширококостную фигуру весьма скептически, хотел было сострить или сказать обидное, но что-то, видно, остановило его. Злые серые глаза Андрея или поседевшая голова, быть может. А когда Белопольский представился, назвал себя капитаном и обратился к сержанту на превосходном французском языке, тот внезапно проникся почтительным уважением и, встав, протянул бланк контракта. Контракт заключался на пять лет. Завербованный получал сто франков на руки ежемесячно, и еще сто переводилось в фонд, обладателем которого солдат становился в конце службы. Если оставался в живых, разумеется. Андрей заколебался. Манили деньги. Подписать эту бумажку и смыться? Пусть они ищут, разве найдут? А найдут? Поедет в Африку служить Франции. Подумаешь, еще пять лет войны!.. С другой стороны, Иностранный легион — это дикие нравы, жесточайшая дисциплина, изощренная система наказаний — палки, карцер, подвешивание. Сержант уловил его колебание.
— Не думай шутить с нами, парень, — мрачно предупредил он. — Иностранный легион — не школа для девочек. Почеши как следует затылок и приходи завтра.
— Я без гроша, честное слово.
— La fortuno est une tranche courtisane![3] — сержант попытался выкроить некое подобие улыбки. — До завтра. Надеюсь, не умрешь.
— Надеюсь, — и Андрей вышел с твердым решением никогда больше не возвращаться...
И действительно не вернулся: на следующий день он выиграл две сотни лир на тараканьих бегах. Андрей выигрывал еще несколько раз и зачастил на кафародромы. Но фортуна повернулась к нему спиной. Он вновь обезденежел. И тогда, проклиная себя за слабость, казнясь и мучаясь, он продал последнее, что имел, — платиновую ладанку, повешенную ему на шею генеральшей Кульчицкой. Это была подлость. По отношению к умершей, к памяти ее. Ладанка, сверкнув в руках менялы, исчезла безвозвратно. И деньги, полученные за нее, он проиграл за два заезда. Единственным утешением была нежданная встреча с Митькой Дорофеевым. Андрей, пригрозив, узнал: фамилия лысого полковника Бадейкин, он — бывший жандармский офицер из Вильно, а ныне — доверенное лицо высоких кругов. В настоящее время ведет вербовку монархически настроенных офицеров в лигу, куда он, Митька, и хотел привести Андрея. Ничего больше. Он не виноват в том, что там произошло: это недоразумение. Андрей с удовольствием ударил Дорофеева по щеке, но Митька стерпел и это, смолчал. Боялся Белопольского: за ним всегда ходила слава офицера, которому человека убить — просто, как высморкаться.
На следующее утро Андрей упросил взять его на борт французского пароходика, возившего продовольствие для корпуса Кутепова, и отплыл в Галлиполи.
Город произвел на Белопольского ужасающее впечатление. Но первый офицер, встреченный на пристани, окликнул его. Это оказался старый приятель и сослуживец, капитан Калентьев. Андрею показалась неприятной и ненужной их встреча, и он сделал вид, что не расслышал обращение к нему. И Калентьеву показалось, он обознался, а Белопольский с горечью подумал о том, как он изменился, что даже приятели с трудом узнают его. И действительно, что осталось в сегодняшнем оборванном и голодном бродяге от прежнего блистательного боевого офицера.
Дул норд-ост, нес дождевую пыль. Андрей замерз, на душе было мерзко, тоскливо. Хотелось спать, но, пересилив себя, он пошел по городу в надежде найти Лысого и быстро решить дело, ради которого нелегкая принесла его сюда. Улица, поднимающаяся от каменистого морского берега, привела Белопольского к двухэтажному зданию с деревянным верхом и черепичной крышей, где, как он догадался по флагу, часовым и снующим офицерам, размещался штаб Кутеповского корпуса. Почему-то явственно представилось: сейчас выйдет Лысый... Андрей, подняв ворот шинели и надвинув поглубже фуражку, присел поодаль на камень, не спуская взгляда с дверей, калитки в заборе и одновременно — с трехоконного эркера, выступающего на втором этаже. Приходили и уходили офицеры, носились посыльные. Подъехал старенький, чадящий автомобиль, из которого солидно и торжественно вылез генерал-майор Штейфон. Белопольский сразу узнал его, а часовые взяли «на караул». Андрей просидел более часа, Лысый не показывался, да и глупо было надеяться, что он — тут как тут, словно черт, выскочит из коробочки. Андрея колотила дрожь — не то от холода, не то от волнения. Необходимость согреться вновь погнала его по городу, по кривым турецким улочкам без названий и переулкам с нависшими над разбитой мостовой деревянными мансардами, точно наспех сшитыми из тонких досок. Он миновал несколько грязных кофеен и мелочных лавчонок, думая, что ничего еще не ел и не хочется будто, — и вышел на бойкую торговую улицу. Здесь казалось довольно людно. Сновали тяжело груженные ослики. Слышалась турецкая речь, преобладали красные фески. Улица вела к рынку. Толпа густела. Мелькали в ней пестрые сенегальцы, с красными помпонами на синих беретах французские моряки, русские солдатики, несущие на продажу дрова, юркие перекупщики, говорящие шепотом.
Согревшись чуть-чуть, Белопольский пришел к управлению русского коменданта города. Ведомство генерала Штейфона размещалось в бывшей турецкой крепости, в «белой башне», где когда-то содержались пленные запорожские казаки. В нижнем этаже — гарнизонная гауптвахта и караульное помещение, наверху — комендатура. Полоскался по ветру русский флаг. Томился часовой. Все, как положено. «Завоевали Галлиполи, — подумал Белопольский. — Взяли штурмом такой город!» Он покрутился вокруг комендатуры с полчаса, пока не закоченел, но, конечно, и тут не увидел Лысого. Незаметно серело, день кончался, я Андрей решил, что пора наконец подумать и о ночлеге, крыше над головой и хоть куске хлеба, который каким-либо образом предстояло добыть. Он опять побрел по улицам, разглядывая все, что могло послужить хоть каким-нибудь пристанищем. Но в Галлиполи, казалось, каждая щель была уже занята людьми. В полуразрушенной мечети размещалось целое военное училище. Сараи, пакгаузы, склады и караван-сарай на базарной площади были забиты солдатами и офицерами технических полков. Брошенные полуразрушенные дома кое-как переоборудованы под общежития — окна заложены камнями, щели заткнуты морскими водорослями, вместо дверей — одеяла или мешковина. Развалины кишели людьми. На одном из «домов», состоящем всего из двух стен, словно в насмешку было написано белой краской: «Вилла «Надежда», мест для курящих 53, для некурящих 112...» Да, и в городских развалинах не находилось места для князя Белопольского! Долгие блуждания привели его на берег моря. Он набрел на пещеру, в которой рыбаки прятали сети, забрался туда и, найдя себе местечко среди десятка таких же, как он, бездомных, блаженно вытянулся на чуть влажных, пахнущих морем сетях.
Несколько дней Белопольский выслеживал Лысого. У него даже появилась на миг мысль, что Митька обманул его, но он решительно отогнал ее: Дорофеев был испуган, их встреча оказалась внезапной, он не посмел бы соврать — Лысый в Галлиполи.
Чтобы не ослабеть окончательно, Андрей продал последнее, что имел, — револьвер. Теперь сама месть Лысому становилась проблематичной: он был безоружным перед сильным и опасным противником, но Андрей, сохраняя прежний свой план, упрямо продолжал поиски.
И на шестой день увидел его. Полковник Бадейкин в сопровождении двух корниловских офицеров выезжал из города на штейфоновском автомобиле. Андрей, сдержав крик, устремился за ним. Автомобиль направился в сторону военного лагеря. Андрей зашагал следом...
Автомобиль коменданта сломался в долине, и Андрей догнал его. Подойдя, он окликнул Бадейкина и, когда тот недоуменно обернулся, узнал Белопольского. Лысый несомненно узнал его и вроде бы удивился или даже испугался. Андрей дважды хлестко ударил его по щекам, назвал хамом, подлецом, трусом и опричником.
Полковник выхватил пистолет. Андрей сказал, что он безоружен, но жандармам ведь пристало расправляться с безоружными или уничтожать неугодных чужими руками — пусть Бадейкин стреляет.
— Кто вы? — спросил Андрея один из корниловцев.
— Я капитан и князь Белопольский.
— Как вы можете доказать это? Кто подтвердит? — сказали оба офицера.
— Капитан Калентьев. Он здесь, при штабе.
Лысый, дотоле молчавший и относившийся ко всему с видимым (показным, конечно) безразличием, сказал весомо и убежденно:
— Я не знаю этого господина. Но тут пахнет провокацией.
— Постойте, господа! — вскричал один из корниловцев. — У нас в дивизии был князь Белопольский. Перед «Крымской бутылкой» он командовал полком. Выдающийся офицер!
— Это мой брат, — сказал Андрей.
— А что вы хотите, господин капитан? — спросил корниловец.
— Я гонялся по Константинополю за этой... за этим человеком, чтобы убить его. Он оскорбил меня и должен ответить. Я согласен драться — на любых условиях! — пылко воскликнул Андрей.
У нас в Галлиполи разрешены и возрождены дуэли. Генерал Кутепов, правда, не очень поощряет, но и не запрещает их. Однако, согласно утвержденному им кодексу дуэлей здесь, в Галлиполи...
— Прежде я должен во всем разобраться, — непреклонно вставил полковник. — Он большевистский агент.
— Трус! — крикнул Андрей.
— Господа, господа! — требовательно сказал корниловец. — Удержите себя от взаимных оскорблений...
По приезде в лагерь Белопольский ознакомился с приказом Кутепова, утвержденным Врангелем: «Признавая воспитательное значение поединков, — отмечалось в приказе, — укрепляющих в офицерах сознание высокого достоинства носимого ими звания, для поддержания воинской дисциплины и укрепления моральных основ, приказываю всем судам чести для генералов и офицеров прибегать к поединкам во всех случаях, когда это окажется необходимо...» Прибыл вызванный им капитан Калентьев. Блистательный офицер, который и в окопах войны, во времена наступлений и отступлений добровольчества, всегда сохранял и выправку, и форму, был неизменно гладко, до синевы выбрит и надушен, поблек несколько, но и теперь мог служить примером для других. Выслушав историю отношений Андрея с Бадейкиным, он согласился быть секундантом. Право выбора оружия оставалось за бывшим жандармом. Бадейкин выбрал... винтовки, но предложил не очень жесткие условия: сто метров и до первой крови. Дуэль на винтовках уже входила в моду среди русских офицеров в Галлиполи. Андрей выдвинул свои условия: пятьдесят метров и по три патрона. Бадейкин согласился и, видно учтя ранение и сложение Белопольского, предложил после обмена выстрелами штыковой бой. Одного не учли дуэлянты, назначая встречу на раннее утро. Погода переменилась. Стих норд-ост, резко потеплело. Солнце, встающее из-за Мраморного моря, быстро прогревало воздух, высвечивало сиреневые склоны гор. Над долиной поднимался густой туман. Фигуры Белопольского и Бадейкина, разведенных секундантами по местам, казались размытыми.
Андрей отверг предложение о мире. Бросили жребий — Андрею выпало сделать свой выстрел первым. Он вскинул винтовку и нажал скобу. Пуля попала Бадейкину в левое плечо. Он достал носовой платок, засунул его под френч и стал целиться. Бадейкин, откровенно издеваясь, целился долго и тщательно.
«Надо было оговорить и ограничить время, — мелькнула мысль у Андрея, и в ту же секунду раздался выстрел и пуля, цвикнув правее уха, ушла в степь. — В голову целил, скотина». Андрей выстрелил вторично. Полковник упал, но тут же вскочил и, прихрамывая, заходил по кругу, разминаясь, видно. «Сейчас он положит меня. — Андрей переступил с ноги на ногу, поворачиваясь боком к противнику и инстинктивно ощупывая клапан левого нагрудного кармана френча, точно прикрывая рукой сердце. — Черт с ним! Скорее бы!»
Бухнул второй выстрел. И снова Бадейкин промазал. Может быть, солнечный луч ослепил его.
Вперед вышел Калентьев.
— Господа! — провозгласил он. — Не достаточно ли? Разойдитесь с миром. Просим вас!
— Я убью его! — азартно крикнул Белопольский. — Отойди, Калентьев!
Они обменялись выстрелами, и оба промазали. Секунданты снова предложили окончить дело миром, и противники вновь отказались. Андрей казался невменяемым — таким он становился всегда в бою. Бадейкин несколько ослабел от потери крови (особо кровоточила сквозная рана в предплечье), но выглядел бодрым и самоуверенным («Меня и бомбы социалистов не взяли!»).
Противники сошлись в штыковом бою. Полковник рассчитывал на свою массу, на силу удара, Андрей — на изворотливость и особые фехтовальные приемы, которым его научил еще во времена «ледяного похода» поручик Яваров, — они не раз ходили в атаки рядом, в одной цепи, плечом к плечу.
Белопольский, покружив вокруг жандарма и отбив несколько ударов, сделал ложный выпад, нанес удар затылком приклада в грудь и, скользнув под ружье противника, всадил ему трехгранный штык в сердце. Бадейкин, ойкнув, осел, как копна. Все было кончено.
Когда о случившемся доложили Кутепову, он приказал вызвать Белопольского и Калентьева, чтобы допросить с пристрастием. Командир корпуса был недоволен происшедшим: смерть полковника Бадейкина, не являвшегося офицером вверенных ему частей, прибывшего в Галлиполи с непонятной миссией от генерала Климовича, могла доставить ему неприятности. Наверняка донесут Врангелю: не охранили, не оберегли. Как это неприятно, как некстати... С другой стороны, Бадейкин был послан в военные лагеря без согласования с командованием корпуса; он не счел нужным даже представиться, имел лишь какие-то дела со Штейфоном. Поделом этим политиканам! В другой раз станут осмотрительней. У нас боевые офицеры, господа! И они не привыкли, чтоб какие-то судейские оскорбляли их без повода. Пусть учтут все, окопавшиеся в Константинополе, пытающиеся оттуда управлять им и русской армией... Нет, все правильно. Все очень даже кстати — решил Кутепов. А когда он узнал, что капитан — родной брат Виктора Николаевича Белопольского, его сослуживца, командира полка, которого он всегда уважал, Кутепов, окончательно сменив гнев на милость, распорядился о прикомандировании к штабу корпуса капитана князя Белопольского Андрея Николаевича на должность офицера для поручений, с окладом согласно штатному расписанию...
Так Андрей вновь вернулся в армию — «нести свой крест» вместе со всеми, хотя и оклад его, и должность очень скоро стали фикцией, ибо союзники русской армии — французы — стали отказывать ей в помощи...
Глеб Калентьев оказался в столь трудное время верным другом и добрым товарищем. Он не только поручился за Белопольского перед командиром корпуса, но разделил с ним, как говорится, и стол и кров. Он поделился с Андреем маленькой каморкой, куда они втиснули сооруженное из плоских камней еще одно ложе.
Азиатская весна скоротечна. Уже в конце февраля пришло стойкое тепло. А с ним — клопы, подлинная клопиная эпидемия, не сравнимая ни с чем, даже с атаками вшей на фронте. Тошнотворный запах преследовал Андрея. А он-то думал, что испытал все! Андрей ощущал: его ждет срыв, и он будет страшен. Апатия овладела им.
Со злобным удовольствием узнал Андрей о борьбе Врангеля со Слащевым, с удовольствием впитывал слухи, позорящие и Кутепова. Упорно говорили, что генерал вместе со своим братом-офицером будто бы увез из России на пароходе «Крым» 16 тысяч пудов табака, продал их в Константинополе за 50 тысяч лир, на которые открыл ресторан и кинотеатр... Врангель, Слащев, Кутепов — это был закат командования. Оставшись без родины, без армии, оно теряло честь.
Возрождение иллюзий и надежд у галлиполийцев, и у Белопольского в их числе, принес конец февраля и первые дни марта. Союзническая и эмигрантская пресса ежедневно сообщала самые радужные и будоражащие известия из Советской России: «Под руководством генерала Брусилова (вот, наконец, подлинная причина его «измены»!) произошел государственный переворот. Ленин бежал. Антонов во главе армии восставших крестьян идет к Москве, где образовалось новое правительство...» Известия о Кронштадтском мятеже еще более усилили эти настроения. Городок бурлил.
После шести вечера, свободный от дежурств по штабу, Андрей, приведя себя в порядок (и это желание на короткий период возродилось в нем), отправлялся на площадку к маяку, ставшую вместе с набережной излюбленным местом гуляний русской галлиполийской публики. «Невским проспектом Туретчины» окрестил эти места какой-то мрачный остряк.
Особенно оживлялся город в воскресенье, когда приходили транспорты, привозили продовольствие войскам, газеты, почту. Однако и в будние вечера набережная была полна праздной публики. Где, в каком далеке осталось позорное бегство из Крыма, тифозные трюмы, голодная и холодная зима! Под теплыми и ласковыми лучами солнца зазеленела серая, неприветливая земля Галлиполийского полуострова. Бурно полез плющ, задрапировывая развалины и мрачные фасады. И, словно первые подснежники, появились в толпе беженцев умытые, просветленные и красивые женские лица. Белопольский с любопытством вглядывался в эти лица, отыскивая следы всех тех невзгод и страданий, которые перенесли и продолжали переносить жены и дочери офицеров, полностью разделившие судьбу своих близких... Боже! Как и во что они были одеты! Но если смотреть только на лица, действительно вспоминалось прошлое, представлялся петербургский Каменноостровский проспект, поездки на Острова.
По галлиполийской набережной прогуливались беженцы, стараясь показной беспечностью прикрыть растерянность и опустошенность. Мартовские надежды целиком были связаны с мятежом в Кронштадте, с самыми фантастическими слухами. Но даже осторожные и во всем сомневающиеся люди не могли не признать: восстание моряков «под сердцем» большевистского Петрограда означало очень многое! Назывались с восторгом имена героев: царский генерал Козловский, командир линейного корабля «Севастополь» Вильнен. Штаб Кутеповского корпуса тоже был во власти слухов, которые по достоверности мало чем отличались от тех, что муссировались возле маяка и на набережной.
В разгар событий пришло известие: из Кронштадта вышел миноносец с депутацией восставших к Врангелю. Считанные дни остались до торжественной встречи в Константинополе. В штабе корпуса говорили о готовящемся приказе главнокомандующего русскому флоту — покинуть немедля Бизерту и идти в Галлиполи и на остров Лемнос для приема войск. Напряжение в городе и в лагерях достигло, казалось, предела.
И вдруг наступила тишина. Газеты словно по команде замолчали. Андрей понял: плохой признак. 20 марта Калентьев принес известие — два дня назад большевики штурмом по льду захватили неприступную крепость. Кронштадт пал. Еще через два дня газета «Общее дело» подтвердила это сообщение. Надежды, расцветшие яркими огнями в черном ночном галлиполийском небе, погасли. Андрей, не очень-то и веривший в силу мятежа, чувствовал себя в очередной раз обманутым и переживал новое разочарование.
В среде военной и гражданской эмиграции усиливались раздоры. Союзники с опаской следили за тем, что происходит в лагерях. Участились стычки с французскими патрулями. Один из солдат технического полка по неустановленной причине напал на врача. Около тридцати офицеров решили с оружием в руках пробиваться в славянские страны. Они тайно покинули лагерь, но уже в местечке Булаир — недалеко ушли! — их атаковали греческие жандармы. Офицеры приняли бой и рассеяли греков. Те, однако, сообщили по телефону в Галлиполи своему префекту. Тот — Кутепову. И пока офицеры праздновали победу в местном кабачке, патрульный отряд, посланный командующим корпуса, арестовал всех. Ведется следствие. Бедняг ждет военно-полевой суд и строгое наказание.
Французский генерал Шарпи вновь отдал приказ: русским частям сдать оружие. Кутепов, ознакомившись с этим приказом, заявил во всеуслышание: пусть приходят и отнимают силой. Французы твердо заявили о непосильности расходов по содержанию русской армии. Кутепов провел ряд смотров и парадов. Французы забеспокоились — не хотят ли русские атаковать Константинополь? Кутепов заявил: это очередные занятия на тот случай, если армии придется идти в Сербию походным порядком. Французы сократили паек, устроили маневры пехоты и флота. К Галлиполи подошла эскадра — два броненосца, три крейсера, несколько миноносцев и транспортных судов. Французский комендант, отвечая на недоуменный вопрос Кутепова, заявил нагло: «Завтра будет высажен десант, который начнет операцию с целью овладения городом». Кутепов не дрогнул. Он был абсолютно чужд дипломатии. «По странному совпадению завтра назначены и маневры всех частей моего корпуса по овладению перешейком», — сказал он.
Ночью эскадра ушла от Галлиполи...
Врангель метался по Константинополю, чувствуя полное бессилие и понимая, что Кутепов выходит из-под его контроля. Русские колонии и военные лагеря переполнялись слухами: французы вот-вот откажут в помощи армии и беженцам, интересы их подлой политики требуют этого, и им ничего не стоит предать своих вчерашних союзников. Русские эмигранты уже чувствовали себя брошенными на произвол судьбы, обманутыми.
Был яркий солнечный полдень. Белопольский окончательно очнулся от воспоминаний. Стены каменной клети, где он жил вместе с Калентьевым, полыхали жаром. Потолок медленно кренился. «Будьте вы прокляты!» — шептал Андрей. Мысли путались. Лицо горело. На лбу выступил холодный пот. Сердце глухо и медленно било в грудь. Андрей достал револьвер, крутанул барабан.
Он не хотел больше жить. Он принял решение, и ничто не удерживало его. Андрей сунул дуло револьвера в рот, ощущая приятный холод железа, и, инстинктивно закрыв глаза, нажал на спусковую скобу... Выстрела не последовало. Андрей еще раз крутанул барабан и вновь нажал на скобу. Он не услышал сухой щелчок новой осечки: кто-то цепко схватил его за руку н отвел ее в сторону.
Андрей вскочил, взбешенный. Рядом стоял Калентьев.
— Послушайте, капитан! — начал Андрей срывающимся голосом. — Кто дал право?.. Вы входите, не сказавши, не предупредив! Это недостойно! Не принято среди порядочных людей! Да!
— Ты рехнулся, князь? Ты пьян? Что с тобой?
— Не ваше дело! Отдайте револьвер!
— И не подумаю. Если припомните, он принадлежит мне.
— Да-да! Ангел-хранитель! Ты уже спасал меня! — У него начиналась истерика. — И что?! Какие права?! Но пойми — это, в конце концов, пошло и подло! Уйди, пожалуйста! — упав на топчан, Андрей зарыдал.
Калентьев вышел, пожав плечами.
Сон мгновенно сморил Андрея. Сон был, как потеря сознания, короткий, дурной, не излечивающий. Он прошел быстро: Андрей очнулся, точно от толчка, и сел, страшно озираясь. Все так же светило голубое небо, били изо всех щелей палящие солнечные лучи. На желто-зеленой, уже порядком выгоревшей карте Европы неторопливо ползали жирные клопы. Андрей вскочил на топчан и, схватив сапог, ударил им по карте — кровавое пятно осталось в районе Черного моря. Андрей рассмеялся: странная идея пришла ему в голову. Сухой веткой, вырванной из крыши, он касался клопа и осторожно, но настойчиво подталкивал его, гнал на юг, где распласталась на карте бывшая Турция. Подогнав клопа к столице, Андрей точным, резким и мстительным ударом сапога бил по клопам — так, что кровь брызгала в стороны. Скоро весь район от Константинополя до Галлиполи был окрашен кровью...
В ЦЕНТР ЧЕРЕЗ «ДОКТОРА» ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ОТ «БАЯЗЕТА»
«На борту яхты «Лукулл» по поручению Пелле Врангеля посетил адмирал де Бон. Дважды начштаба французского оккупационного корпуса полковник Депре, минуя главкома, пытался распоряжаться армией. В лагерях учреждена должность «командующего» из числа французских офицеров, которому подчинен русский комендант. Командир французского отряда в Галлиполи потребовал сдать оружие. Врангель обратился с угрозами к Шарпи, который отступил. Де Бон предложил Врангелю сложить звание главнокомандующего, дабы успокоить общественное мнение. Врангель отказался, заявив: «Я буду оставаться на своем посту до той поры, пока не удалят меня силой, и буду употреблять все свое влияние для того, чтобы задержать русских от гибельного шага — переселения в Бразилию или возвращения в совдепию».
Врангелю приходится вести борьбу и с русскими общественными организациями. «Из поддерживающих меня общественных и политических организаций и деятелей одни всецело предоставляют себя в наше распоряжение, без всяких оговорок. — заявил он. — Другие хотят разделить со мною власть. Я за власть не цепляюсь. Но, пройдя через горнило бедствий, потоки крови, через Временное правительство, комитеты, всякие «особые совещания», придя к единоличной власти, без которой невозможно вести борьбу, они хотят теперь снова повторить тяжелые ошибки прошлого. Я не могу легкомысленно отнестись к этому факту. Передавать армию в руки каких-то комитетов я не имею нравственного права, и на это я никогда не пойду. Мы должны всемерно охранять то знамя, которое вынесли. Разве может даже идти речь о том, чтобы армия находилась в зависимости от комитетов, выдвинутых совещанием учредиловцев, в рядах которых находятся Милюков, Керенский, Минор и присные, именно те, которые уничтожили, опозорили армию, кто, несмотря на все уроки, до сего времени продолжает вести против нее борьбу...»
Продолжается усиление разногласий Врангель — М. Гире. Старшина дипкорпуса утверждает: французы будут сокращать помощь армии, единственная возможность — рассматривать всех эвакуированных как беженцев, — только при этом условии можно рассчитывать на получение значительных средств, выделяемых на счет общественных организаций. Цель: устранение Врангеля от денег и армии. Широкая кампания защиты армии, оказавшаяся на руку французам, позволила им, дезавуируя общественное мнение, заявить, что довольствие беженцам они вынуждены продлить еще на месяц.
Положение в лагерях отчаянное.
Остров Лемнос. Кубанцы почти без воды. Лагерь посещал Врангель. После парада встречался с губернатором острова Буссо. Тот жаловался на Винникова: кляузничает на всех начальников, назойлив, позорит звание офицера. Винников просил Врангеля убрать Фостикова. Врангель пригрозил снять с Винникова погоны, предать суду Винников покинул остров. Донцы размещены тремя группами. В турецкой деревушке Чилингир, в овчарнях и землянках. Имеются случаи холеры, бегства из лагеря. Лучшие строевые части — в деревушке Санджак-Тепе, в бараках и землянках. Организованы театр, обучение ремеслам, курсы для офицеров, охота. Третья группа — в имении Кабаджа, в десяти километрах от Чаталджи. Около трехсот землянок в лесистой местности. Штаб корпуса на станции Хадем-Киой. Приемная генерала Абрамова — в кофейне. Среди казаков усиливаются возвращенческие настроения.
Штаб Кутепова разрабатывает планы операций, имеющих провокационный характер: движение в славянские страны походным порядком (если союзники с оружием встречают части на перешейке, не исключается и прорыв силой); высадка совместно с английскими войсками на Кавказском побережье (условия: участие англичан в боевых действиях, снабжение продовольствием и всем необходимым по мере продвижения десанта); переброска наиболее боеспособных частей на Дальний Восток, к японцам. Соединение с атаманом Семеновым без японцев маловероятно. Эмиссар последнего полковник А. А. Стахович, прибывший в Константинополь, доложил о положении 15-тысячной армии во главе с генералами Лохвицким и Дидерихсом. Семенов получил от японцев 50 миллионов золотом. Отправка к нему врангелевцев маловероятна ввиду дороговизны проезда.
Представители общественности дискредитируют друг друга перед союзниками. Усилились нападки на Кривошеина, Климовича, продолжающих вести крымскую политику. С неограниченными полномочиями при ведении переговоров должен выехать на Балканы Шатилов. Возможны посещения Венгрии и Чехословакии. В группу сопровождения, вероятно, будет допущен «Приятель». Прошу «почтовые ящики» на Балканах, в Чехословакии.
Обострились и личные отношения Врангеля с Шарпи.
В день полкового праздника конной гвардии конвой главкома устроил демонстративный развод караулов в посольстве и консульстве. Юнкера с оркестром прошли по улице Пера, вызвав тревогу полиции. Врангель получил приказ Пелле разоружить конвой, но отказался. Пелле приказал очистить здание посольства от всех учреждений, за исключением канцелярии по делам беженцев, предписал Врангелю уехать из Константинополя. Врангель захотел попрощаться с войсками в Галлиполи и на Лемносе. Пелле ответил, что не находит возможности удовлетворить просьбу, опасаясь, что подобная акция вызовет нежелательные настроения в войсках, но разрешил обратиться к войскам с письменным посланием, текст которого должен подлежать предварительному просмотру французов. Врангель демонстративно подчинился. Он тянет время, делает противоречивые заявления и угрожает несогласованными действиями: «если французское правительство настаивает на уничтожении русской армии, то единственный выход — перевести всю армию с оружием в руках на побережье Черного моря, чтобы она могла погибнуть с честью». Заявления эти не сопровождаются работой штабов.
Недавнее решение Шарпи о переводе донцов из Чаталджи на Лемнос вызвало инсценированное возмущение. Казаки лопатами и кольями разогнали сенегальских стрелков. Имеются раненые. После распоряжения Врангеля перевод состоялся. Распространяются слуха об аресте его союзниками, о требовании армии идти с оружием в Константинополь защищать Врангеля. Издан успокоительный приказ главкома: «Ныне новые тучи нависли над нами. С неизменной неколебимой верой я обещаю вам с честью выйти из новых испытаний. Все силы ума и воли я отдаю на службу армии... Я призываю вас крепко сплотиться вокруг меня, памятуя, что в нашем единении — наша сила!»
Контакты с «Доктором» временно ограничиваю: меры, принятые Перлофом, внушают опасения, новая связная еще не натурализовалась.
Баязет».
Глава пятая. ПЕРА И ГАЛАТА. «ВНУТРЕННЯЯ ЛИНИЯ»
1
Фон Перлоф раздраженно позвонил в колокольчик. В номер вошел ротмистр Издетский, в штатском.
— Займитесь, ротмистр, — приказал Перлоф. — Поручик валяет дурака, а я тороплюсь. Может, у вас он поумнеет.
Фон Перлоф вышел в смежную комнату, прикрыл дверь, задернул красную бархатную портьеру. Ротмистр приблизился к Дузику, пытливо всматриваясь в его небритое, испуганное лицо, и вдруг коротким ударом в. челюсть кинул его на пол. Падая, Дузик ударился головой об угол стола и потерял сознание. Заняв место в кресле, где только что сидел генерал, ротмистр ждал, пока поручик очнется, и обрезал сигару перламутровым ножичком.
Наконец Дузик поднял голову, обвел непонимающим взглядом гостиничный номер. Из угла его рта сочилась кровь. Он выплюнул выбитый зуб, выругался, спросил:
— Что вы от меня хотите?
— Спрашивать буду я, запомни, — зло ответил Издетский. — А сейчас садись и слушай. Ты — паскуда, поручик. Ты дезертировал из армии в Крыму, стал членом шайки бандита Орлова. На кого ты теперь работаешь? По чьему заданию оказался в Константинополе? Что связывает тебя с... э... с лигой? Какое задание... э... тебе поручили? Убить главнокомандующего? Говори! Ну!
— Я не связан. У меня нет заданий.
— Ты большевик? — у Издетского дергалась щека. — На кого работаешь?
— Да ни на кого. Я — безработный.
— Будешь работать на нас?
— На кого?
— Не спрашивая, на кого, ясно? — ротмистр вновь приблизился, но не ударил — поднял Дузика и толкнул его в кресло. — Хочешь сигару, ты, сифилитик?
Дузик был сломлен и готов ко всему. Издетский, как ни в чем не бывало, водрузил на нос пенсне и дал Дузику прикурить. Он чувствовал радость.
Так Дузик стал сотрудником «Внутренней линии» — врангелевской личной контрразведки, руководимой генералом фон Перлофом. С тех пор прошло несколько недель. Дузик был даже доволен: появились деньги. Поручик подчинялся только Издетскому. Он и не знал никого больше, лишь чувствовал: незримые лица все время сопровождают его, прислушиваются к его разговорам, оценивающе приглядываются и запоминают всех, с кем он сталкивался на улицах, в чайной «Медведь», открывшейся у Галатского моста, куда он ежедневно ходил обедать. Однажды возник на его пути штабс-капитан из «Лиги мстителей», но те же невидимые руки остановили его, отвели, убрали с дороги.
На первых порах заданий у Дузика не было. Видно, проверяли. А неделю назад Издетский поручил Дузику первое дело — познакомиться с неким Венделовским, прикомандированным к штабу главнокомандующего, и войти к нему в доверие. Встреча их была подстроена сотрудниками «Внутренней линии».
На углу улиц Пера и Брусса, в доме сорок открылся под эгидой неведомой американской организации фешенебельный «Русский маяк» — прекрасный вестибюль с колоннами и мраморной лестницей, просторные апартаменты, сад, обеды, как у хлебосольных помещиков, избранная публика. Прислуживают вчерашние офицеры, в бриджах и белых куртках с поясом, и молодые, в ярких платьях, накрашенные кельнерши, представляющие аристократию. Двигаются медленно, высокомерно, под наблюдением метра — бывшего придворного. Клиенты с удовольствием целуют ручки той, что прислуживает. Здесь собираются те, чья сегодняшняя репутация не внушает никаких сомнений. В дни концертов тут появлялся Венделовский. Внешнее наблюдение за ним не выявило ничего заслуживающего внимания: держится скромно, ни женщинами, ни вином не увлекается, любит музыку. Это и настораживало фон Перлофа, который дал распоряжение «подсадить» к нему Дузика. Они «случайно» встретились на концерте, их места оказались рядом. Сегодня здесь пела несравненная Надежда Васильевна Плевицкая, многолетний кумир России. На маленькой эстраде появилась по-крестьянски мощная, черноглазая, широкоскулая женщина. Пианист взял первые аккорды, разминая руку, пробежал по клавишам. Плевицкая в тот же миг чудесно преобразилась: глаза заблестели, лицо стало вдохновенно-красивым. Сцепив кисти рук, она грациозно сделала несколько коротких шагов и запела гибким и сочным меццо-сопрано:
Дунай-речка. Дунай быстрая.
Бережочки сносит.
Размолодснький солдатик
Полковника просит.
Отпусти меня, полковник.
Из полка до дому...
Рад бы я, рад бы отнустити.
Да ты не скоро будешь.
Ты напейся воды холодной
Про службу забудешь...
Собравшиеся истово аплодировали. У многих на глазах показались слезы, которых никто не стеснялся. Плевидкая была частью родины, частью России, для каждого она стала уже частью прекрасной, прожитой давно жизни. «По старой Калужской дороге», «Умер бедняга в больнице», «Ухарь купец»! — послышались умоляющие голоса. — Браво! Просим! Просим!..» Низко поклонившись, Плевицкая запела вновь. Ее долго не отпускали. Дузик, забыв про дело, приведшее его в «Русский маяк», перебрасывался восторженными репликами, с Венделовским. Песни Плевицкой сблизили их. Соседи по столику, представившись друг другу, разговорились. Альберт Николаевич производил приятное впечатление. Его удлиненное лицо, светлые глаза, ровный голос нравились Дузику. Он то и дело заставлял себя вспоминать о задании и с тоской поглядывал на дверь, откуда с минуты на минуту должны были появиться двое, изображающие пьяных, которым надлежало затеять ссору с Венделовским. Ссоре по плану надлежало перерасти на улице в потасовку, во время которой поручику и следовало исполнить роль спасителя. Дузик не знал, что фон Перлоф в последний момент посоветовал ротмистру «переиграть спектакль» — избиению должен был подвергнуться сам Дузик, сотрудникам «Внутренней линии» оставалось лишь установить, как поведет себя их поднадзорный и кинется ли он защищать «большевика».
Люди Издетского почему-то задерживались, и это нервировало Дузика. Он не мог скрыть волнения, что не укрылось от внимания его нового знакомого. Сославшись на то, что после выступления Плевицкой здесь их уже ничего не ждет, он расплатился (за себя) и поднялся. Растерянному поручику ничего не оставалось, как последовать его примеру. Они вышли на улицу Пера. Альберт Николаевич, заметив, что время раннее, предложил сходить на тараканьи бега, испытать счастья, и Дузик согласился, содрогаясь от мысли, что он, вероятно, нарушил инструкции Издетского и его не минует жестокая кара.
Один из наиболее известных и посещаемых в Константинополе кафародромов находился неподалеку, на той же Пера. С трудом пробились они к столу, ярко освещенному мощными лампами.
«Мишель!», «Гони, драгун!», «Ля-ля-ля!». «Давай!», «Не губи, милый!», «У-уууу!» — неслось отовсюду. Ошалевшие от света, жары и шума тараканы, запряженные в проволочные коляски, метались по столу, но, направляемые длинной указкой крупье, сбрасывались каждый раз в желобки. Колокол возвещал о финале заезда. Счастливцы кидались к кассе тотализатора.
Дузик раз за разом проигрывал, но это лишь подзадоривало и взвинчивало его. Он осатанел, забыл, где и почему находится. Потное лицо его горело пятнами, руки беспорядочно двигались, из горла вырывались хриплые звуки. Вендсловский, не стараясь остановить, приглядывался к нему все с большим интересом.
— Все! — наконец сказал жалко Дузик. — Я пуст. Идемте, Альберт Николаевич.
И тут чья-то рука крепко сжала его плечо. Квадратное лицо, возвышающееся над ним, показалось виденным где-то недавно — тупой подбородок, тонкие, точно мышиные хвосты, усики, косящий взгляд, — и тотчас другие руки легко понесли Дузика от стола. Азарт игры мигом слетел с него, ибо он сразу вспомнил приказы ротмистра. Страх перед неминуемой расплатой обуял поручика. Его куда-то быстро тащили двое. Он зыркнул глазами в стороны, но Альберта Николаевича не увидел. Дузик хотел крикнуть — огромная ладонь, пахнущая чесноком, грубо зажала ему рот. Дузик сник, подчинился, понимая, что обречен, что он целиком во власти этих людей.
Его проволокли по вестибюлю, полному людей, некоторые смотрели презрительно, откровенно враждебно, иные — равнодушно, а вслед, передаваемое точно эстафета, неслось: «Большевик! Шпион! Комиссара поймали!..» И Дузик догадался: Издетский изменил ход спектакля, не сочтя нужным предупредить своего актера. Нападению подвергался он, Дузик, а режиссер задавался целью лишь определить, как поведет себя поднадзорный, когда на его глазах станут уничтожать «большевика». Бесчестно! Они не предупредили его. Ярость охватывала Дузика, заглушала даже страх, что владел им постоянно.
Несчастного поручика притащили в полутемный угол под лестницей и бросили на пол.
— Паскуда, сволочь! — угрожающе пробасил один. — Сейчас я с тобой разделаюсь, большевистская морда!
— Кричи же! — приказал другой, с квадратной физиономией. — Какого беса?! Где твой приятель? Зови его!
— И он несильно, но звонко мазнул Дузика по щеке.
— Связались с идиотом, — резюмировал первый. — Хлопот не оберешься. Шеф такого не любит.
— А-ааа, — послышалось сверху. Дузик увидел Венделовского с револьвером в руке. — Оставьте его и вон — быстро! Стрелять мне не хочется.
— Это красный, — оправился от внезапности вмешательства первый, и в его тоне зазвучали угрожающие интонации. — Не вмешивайтесь, господин. Это повредит вам.
— Дайте нам уйти, — примирительно добавил второй.
— Не смею задерживать, — усмехнулся Венделовскнй. — И передайте хозяевам: они ошиблись, их «большевик» — вполне лояльный монархист. Все, милейшие!
— Между прочим, мы офицеры. Никто не давал вам права говорить в подобном тоне, — не выдержал вдруг тот, с усиками.
— И выполняем приказ, — добавил второй.
— Прошу прощения, господа. Как это я не догадался. Конечно, вы офицеры... — Вендсловский сделал вид, что сожалеет о происшедшем, и вдруг резко переменил тон:
— Вероятно, жандармские. Для вас дело привычное двоим избивать безоружного. Не знаю, кому вы служите... Идите прочь, хамы! — он вновь угрожающе качнул пистолетом. — И ни слова больше: буду стрелять.
— Вы покрываете большевика! Вы ответите! — сказали оба вместе. И ретировались.
— Ну-с, поручик! Пойдем и мы, как бы ваши друзья не вернулись вчетвером.
— Спасибо, Альберт Николаевич. Я вам обязан.
— Ну, так просто вы не отделаетесь, Дузик. Вам придется рассказать мне обо всем самым подробнейшим образом. Но тут простое любопытство, поэтому предлагаю поужинать. И не дрожите: я приглашаю...
2
— Итак, подведем итоги, Издетский. Венделовский заступился за него несмотря на кличку «большевик», которой столь неумно наградили его ваши бездарные люди, — сказал Перлоф.
— Но почему бездарные, ваше превосходительство? — возразил нервно ротмистр. — Дузика «вели» лучшие наши агенты. Я готов поручиться.
— Я не поручусь и за себя, — обрезал его фон Перлоф. — И вам за меня ручаться не рекомендую. — Он изобразил на лице нечто вроде улыбки. — Неудачи не должны обескураживать вас, мой дорогой.
— Позволю себе не расценивать акцию как неудачу. Цель достигнута — они познакомились и, смею думать, понравились друг другу. Дузик у меня на коротком поводке. Никуда не денется.
— Напрасно, напрасно, Издетский. Никакой самоуверенности. Давайте проанализируем: я ведь должен сделать из вас разведчика, который прежде мыслит, а потом выхватывает из кобуры револьвер. Задумайтесь — иначе мне придется отказаться от ваших услуг.
— Я обещаю. Постараюсь, ваше превосходительство.
— Хорошо, хорошо, ротмистр. Конец словам! Итак — факты для анализа. Венделовский показал, что нас он не боится. Так человек поступает в двух случаях: когда чист и ему действительно нет причины бояться либо он отлично подготовлен и законспирирован. И самоуверен к тому же... Мне очень не понравилось его первое появление в штабе — в панике отступления.
— Но ведь он привез письмо, не вызывающее сомнений. Главнокомандующий узнал руку сестры, она просила за Венделовского.
— Именно, именно! — воскликнул фон Перлоф. — Все гладко. Все подозрительно. И я бессилен что-то перепроверить. А этот Дузик?! Он малонадежен, туп, — отошлите его, ликвидируйте. Он станет служить каждому, кто его напугает.
— Соблаговолите выслушать, ваше превосходительство. Покорнейше прошу заметить: контакт Венделовского с Дузиком прошел хорошо. Зачем же нам торопиться ликвидировать его? Подождем.
— Да поймите, вы! — фон Перлоф резко встал, посмотрел на ротмистра с презрением и зашагал, чеканя каждое слово: — Я не могу больше противиться главкому. Он доверяет Венделовскому. Более того! Он готовятся послать его с Шатиловым с исключительно секретной миссией. Вы понимаете, что это, ротмистр?..
— Мы пошлем с ним Дузика.
— Что? — фон Перлоф от неожиданности остановился, его чуть рыжеватые брови поползли вверх. — Дузика? Чем вы его удержите, где гарантии, что он не удерет от вас в Европу, черт возьми?! Что его не перекупят?
— Есть одна зацепка, ваше превосходительство. Его пассия по шайке Орлова, некая Кэт...
— Это что — любовь, страсть, денежные расчеты? Что? И кто эта Кэт? Актрисочка? Как ее фамилия?
— Мы выясняем, ваше превосходительство. Она несомненно дворянка, из высших петербургских домов. Трагедия... Возможно, любовь.
— Вы — дитя, Издетский. И у вас кругозор рядового жандарма, — опять рассердился Перлоф. — Боже, с кем приходится работать! Не думаете ли вы, что большевики подсовывают нам еще одного агента? А? Не думаете?! Почему? Идите и разберитесь с дамой. А Дузика надо серьезно готовить к поездке. Серьезно! И никакой самодеятельности! Каждый свой шаг согласовывать со мной.
Глава шестая. БОСФОР. БОРТ ЯХТЫ «ЛУКУЛЛ»
1
Петр Николаевич Врангель, полюбивший в последнее время одиночество, разработку планов в полной секретности, жил и работал на яхте «Лукулл», облюбованной им по праву главнокомандующего, — пока, слава всевышнему, он еще удерживал этот пост за собой. Бывшая яхта русского посла в Турции водоизмещением 600 тонн, называвшаяся «Колхида», являла собой вполне комфортабельное жилище, спасительный остров, изолированный и от единомышленников, и от недругов, и от союзников, надоевших до крайности потому, что святое дело борьбы с большевизмом они открыто заменяли торгашеством, стремлением продать Врангеля подороже, с выгодой. Яхта стояла на Босфоре, далеко от фарватера. Ее экипаж был многократно проверен фон Перлофом, доложившим, что «в каждом он уверен, как в самом себе». На яхте Врангель вел секретные совещания и принимал особо доверенных лиц. Здесь же, в верхней палубной каюте, хранился личный архив главнокомандующего, секретные документы и переписка с союзным командованием и русскими дипломатическими представителями.
Временами Врангелю начинало казаться — он устает, делает что-то неправильно, что-то не учитывает, ошибается, опирается не на того, на кого следует. Особо усилилось это настроение после поражения Кронштадтского мятежа. Он, правда, с самого начала не верил в серьезность этого антисоветского выступления и гордился своим предвидением и политическим чутьем. Восстание матросни лопнуло как мыльный пузырь, английские корабли и носа не сунули к Петрограду: эти болтуны, следуя своей традиции, помогали восставшим лишь советами. А сердобольные нищие эмигранты пускали подписные листы, по грошику на святую борьбу собирали! Неисправимый идеализм — конца ему нет! Скольких болванов принять пришлось: «Когда, когда? Когда выдадут оружие? Сколько дней уйдет на переброску экспедиционного корпуса к Петрограду?..» И как все они легко расстаются с иллюзиями, забыв поздравления, восклицания, поцелуи, чтобы тут же придумать новые иллюзии, веру в божественную силу, которая обязана немедля покарать большевиков. Между тем армия, которую он, главнокомандующий, вопреки всем и всему, еще сохраняет, — накануне краха. Настало время принимать самые срочные меры...
Врангель ждал Шатилова. Пунктуальный Павел Николаевич чуть опаздывал, и это бесило главнокомандующего. Он нетерпеливо расхаживал по каюте, не желая выходить на палубу, чтобы не выказать всем своего беспокойства. Черт бы побрал это турецкое гнездо, каждую минуту жди неожиданностей: арестуют, возьмут заложником, убьют, не приведи господь! Хлопнули же генерала Романовского — и ищи ветра в поле!.. Наконец через приоткрытый иллюминатор Врангель услышал близкий шум винта — к борту приставал катер с парохода «Александр Михайлович». Прозвучал уставной окрик, громкие и отрывистые слова команд («Слава богу, хоть на флоте порядок остался», — подумал, успокаиваясь, Врангель), четкие шаги дежурного офицера, сопровождающего гостя, и в каюту вошел генерал Шатилов. Время, казалось, не властвовало над ним, и неприятности его не касались: полное привлекательное лицо с круглым подбородком и мягкими щеками казалось безмятежно спокойным и довольным, усы тщательно расчесаны. И только в узких глазах застыл настороженный вопрос. Шатилов был в простой гимнастерке, в полевых погонах, фуражке с высокой тульей. «Опрощается сподвижничек, — мелькнула мысль. — По виду штабс-капитан, не выше. Не случайно опрощается. Не рано ли?»
Шатилов козырнул, протянул холодную руку с тонкими слабыми пальцами. Они обнялись. Врангель, подчеркивая весьма конфиденциальный характер их встречи, сам достал из шкафчика коньяк, фрукты, халву и еще какие-то турецкие сласти. Сказал приветливо:
— Прости, Павлуша. Может, лучше смирновской под балычок, а?
— Не извиняйся. Не на обед же ты меня позвал.
— Все же рюмку коньяка? За успешную поездку.
— Благодарю, — они чокнулись, сделали по глотку.
— Итак, — Врангель откинулся на спинку кресла, посмотрел пристально в пустоту, думая о чем-то, подняв правую бровь, — подведем итоги. Ох, невеселые, Павлуша, невеселые! Ни к чертовой матери! — употребил он свое любимое выражение. — Мы не имеем права сидеть сложа руки. История не простит нам этого!
«Опять фразы, фразы, — устало подумал начальник штаба. — Он неисправим. Слова мешают ему и теперь стать реальным политиком, трезвым дипломатом. Пока шли бои и он сидел «на коне», можно было еще на что-то рассчитывать. Теперь он погубит всех». Шатилов отметил, что главком сдал: его глаза утратили блеск, смотрят недоверчиво, подглазья потемнели, лицо осунулось, он похудел, мундир стал широк, и вся его долговязая фигура выглядит достаточно нелепо — в ее всегдашней театральности появилось нечто опереточное, дикое и смешное одновременно. Шатилов изобразил предельное внимание и почтительность, хотя знал, о чем пойдет разговор, и не имел ни малейшего желания вступать в споры. Он заставил себя сосредоточиться и стал прислушиваться к тому, о чем говорил Врангель, не замечая обычных фраз, служащих лишь «для украшения боевых приказов», и цепко фиксируя внимание на фактах и их оценке.
— Мы окружены врагами, — витийствовал Врангель. — Они слева и справа. На кого ставить? На кого опираться, Павлуша? Русские торгово-промышленные круги в Париже не дадут нам и су. Французы? Англичане? Американцы? Они запуганы, их правительства вынуждены заигрывать с чернью. — Походив по небольшой каюте, вскидывая тонкие ноги и тренькая шпорами, Врангель неожиданно присел на край кресла — прямой, точно аршин проглотил, — потянулся к ящичку с сигарами.
Шатилов, сдерживая растущее раздражение, прятал глаза, стараясь сохранить улыбку. Зачем говорить о том, что ему известно не хуже, чем главнокомандующему? Есть новости? К чему начинать издалека, они ведь люди военные, знающие друг друга.
— Еще миг бездействия, и мы банкроты, Павлуша, — повысил голос Врангель: может, почувствовал рассеянность сподвижника, кто знает — у него было поразительное чутье. — Я принял ряд мер, о которых считаю необходимым тебя информировать.
«Информировать... Не посоветоваться! — отметил Шатилов, обижаясь еще более. — «Пипер» на закате решил продемонстрировать волю вождя. Ну, ну...»
— Слушаю, Петр Николаевич, — и голос выдал его обиду.
— Возможно, я не точно выразился, Павлуша, — поспешно поправил себя Врангель. — Я еще не принял меры... Мы должны их обсудить сегодня, сейчас же, als ein Soldat.[4] Итак, три статьи: дипломатия, армия, финансы. Прости, я буду ходить, это успокаивает.
«Боже, что с ним? Неужели этот человек «съел» Деникина и выигрывал сражения? Он стал неврастеником».
— Параграф первый — дипломатия. — Врангель наткнулся на угол стола и, чертыхнувшись, сел. Сказал безнадежно: — На этом участке фронта — ни к чертовой матери! Как тебе известно, совещание с членами «Русского совета» на «Лукулле» позволяло надеяться, что эта организация станет блюстителем единого фронта русской государственности и возвысит голос в защиту армии. Печальный финал кронштадтских событий сыграл роковую роль и тут: совет стремится выйти из-под моего контроля. Деятельность Струве в Париже и все его воззвания к французскому правительству нейтрализуются «Совещанием послов» Гирса. А эти умники заявляют: армия Врангеля потеряла международное значение. Не считаются с нами. Завоевывают уважение европейского общественного мнения. Левого, конечно! И тут нам рассчитывать не на что, Павлуша.
— Позволь, перебью, Петр Николаевич. По моей информации, у нас появляется возможность подействовать на земско-городской комитет.
— Что?.. Какая информация? — Врангель остановился, недовольный тем, что его перебили. — Я слушаю.
— Еще в конце января русский агент в Токио перевел через Гирса миллион франков на нужды армии. В феврале финансовый совет передал их князю Львову с рекомендацией израсходовать, по усмотрению главнокомандующего, на улучшение материального и санитарного состояния войск. Мы эти деньги не получили.
— От кого сведения? — Врангель взглянул пытливо-подозрительно.
— Так... Приехал мой родственник из Парижа, — ушел от прямого ответа начальник штаба. — Коммерческий человек, но сведения полностью соответствуют действительности. Можно верить.
— Миллион?! — Врангель рассмеялся. — Князинька решил словчить? Князинька у нас в руках! Я у него из горла эти франки вытащу! Спасибо за добрую весть, Павлуша! Все же легче.
— Так просто они не отдадут миллион.
— О-оо! Уж я позабочусь! — к Врангелю мгновенно вернулась его самоуверенность. — Однако продолжим. Хотя мне еще придется вернуться к дипломатическим проблемам... Вторая статья — армия. С горечью вынужден констатировать, что нас отсекают от нашего детища, рожденного и выпестованного в боях. Я не говорю о спившемся Секретеве, полковнике Брагине, взявшемся продавать беженцев, точно негров, в Бразилию. Меня мало беспокоит и полностью деградировавший Слащев-Крымский. Пусть он обвиняет меня не только в том, что я проиграл борьбу за Крым из-за того, что не принял его плана обороны, но и в утаивании каких-то сумм, предназначавшихся в помощь офицерскому корпусу. Говорят, боевой генерал выращивает цветную капусту. Ему это подходит!.. Меня беспокоит Кутепов: авторитет его растет. Пора принимать меры к его сдерживанию, иначе он выйдет из подчинения, — я имею на этот счет точные донесения. Вокруг него группируются Туркул, Скоблин и другие башибузуки, готовые на любую авантюру, ежедневно обостряющие и без того напряженные отношения с французским командованием. Тут я бессилен. Надо что-то придумывать. И весьма срочно. Александр Павлович — крепкий орешек. Не случайно его зовут «Кутеп-паша», «царь Галлиполийский, наследник Лемносский». Тут намек и нам урок. Железная дисциплина, которой он добился, достойна восхищения и... опасений.
— Он не политик, — пожал плечами Шатилов. — Не переоценивай. А для сдерживания пошли к нему... хотя бы Кусонского.
Врангель промолчал: Кусонский был отличный штабист, а Павлуша просто боялся конкуренции. Вот и обращайся за советом к близким и доверенным людям, верь им! Каждый заботится о себе.
— Кутепов может выкинуть бог знает что — именно потому, что он не политик. Пойти походным маршем в Польшу, поступить на службу к Ксмалго, — мало ли что взбредет на ум солдафону! Его и французы боятся. — Врангель достал из стола сафьяновую папку, резко хлопнул ящиком. — Разреши, ознакомлю тебя с посланием французских союзников? Изволь! — вытащив из папки несколько листков, Врангель протянул их Шатилову. — Взгляни! Каковы канальи?! А вот телеграмма, свежая: «Ввиду образа действий, принятых генералом Врангелем и его штабом, наши международные взаимоотношения заставляют нас вывести эвакуированных из Крыма из подчинения власти, не одобряемой, впрочем, всеми серьезными и здравомыслящими кругами...» Прими к сведению и добавление Верховного комиссара: «Позвольте мне прибавить, что телеграмма эта в точности отражает мысли и намерения правительства республики, касающиеся решения... — Врангель сделал многозначительную паузу, — ... в ближайшее время, — и еще раз подчеркнул, — в ближайшее время уничтожить существующую организацию беженцев, расселенных в окрестностях Константинополя». Беженцев! Они нас уже и армией не считают!
— Думается, французы узнали о совещании представителей армии и казачества, созванном нами в русском посольстве. Именно вслед за тем они стали запрещать рассылку твоих приказов по лагерям и наши выезды из Константинополя. И разослали офицеров для опроса чинов армии, желающих выйти на положение беженцев.
— Да, совещание мы провели без достаточных мер предосторожности, ты прав. Вероятно, проникли посторонние. Возможно, и большевистские агенты. Они заметно активизировались в Константинополе и Галлиполи. Через час Перлоф будет у меня с докладом. До его прихода мы должны согласовать ряд моих ответных мер.
— Каких, позволю себе спросить? — Шатилов с некоторым злорадством отметил: Врангель далеко не во всем может обходиться без него, дипломатические способности штабиста он не в силах отринуть. — Если ты считаешь нужным посвятить меня в них, разумеется.
— Неужели ты подумал, Павлуша?! — с пафосом воскликнул главнокомандующий, скрывая неуверенность в целесообразности подобного акта, возникшую в последнюю минуту: Шатилов ведь соратник генерала Доставалова, тот — начштаба у Кутепова. Кто знает, какие у них сложились нынче отношения? Кто может поручиться? Но слова были произнесены. Следовало кончать фразу. Врангель протянул Шатилову несколько черновых листов, стал пояснять — чуть торопливей и нервней, чем следовало бы: — Надо реагировать. Это проект моего обращения к правительству Американских Соединенных Штатов с просьбой не допустить ликвидации армии.
Шатилов в один взгляд пробежал текст, сказал:
— У меня только частные замечания.
— Хорошо, хорошо! Возьми, отредактируй, — поспешно согласился Врангель. — А тут проекты, наброски, естественно... Протест французскому правительству, воззвание к маршалам Франции, к сербскому и болгарскому народам с просьбой об убежище.
«Интересно, кто участвовал во всех этих сочинениях? Не сам же он писал», — думал Шатилов, быстро перебирая возможных кандидатов, могущих подменить его. Не придя к выводу, сказал небрежно и наставительно:
— С этим не следует торопиться, Петруша. Каждое слово стреляет.
Он впервые при сегодняшней встрече назвал Врангеля по имени — как когда-то, во времена расцвета их дружбы, — и тем еще раз не отказал себе в удовольствии подчеркнуть свою независимость не только в делах армейских, но и гражданских. Он и сегодня преподал хороший урок Врангелю. Он не позволит, никому не позволит относиться к себе как к адъютанту, которого вызывают для того, чтобы отгонять мух от лица высокого начальства. Он, генерал-лейтенант Шатилов, не таков! Он не допустит похлопывания по плечу, учтите это все! Все! Он в строю, он готов сражаться. За себя, господин командующий, — не за вас!
— Я возьму эти документы, Петруша, — как о решенном и само собой разумеющемся сказал Шатилов, забирая бумаги. — Завтра поутру верну в готовом виде, на подпись. Хотел бы в свою очередь информировать тебя о недавней беседе с генералом Фостиковым.
— Опять Фостиков! — брезгливо сморщился главнокомандующий.
— Ты слишком строг к нему. Он не поддерживает самостийников. И за это спасибо. Он предан нам.
— Но ко мне предпочитает не обращаться. Впрочем, бог ему судья. В чем дело?
На Лемносе среди казачков усилились возвращенчсские настроения. Их не только подогревают пробольшевистские элементы, но поддерживают и французы: никак не могут разобраться в наших делах. Фостиков, естественно, вынужден был принять чрезвычайные меры. В ответ французы навели на лагерь пушки миноносца и под их прикрытием высадили отряд для контроля за грубой вербовкой. Казаков окружили, как стадо баранов, офицеров прикладами отделяли от солдат. Некоторых насильно гнали на корабль, многие истинные патриоты прыгали за борт, чтобы вернуться в лагерь.
— Французы не посмели бы обращаться так с греками, даже с румынами! — глаза Врангеля гневно блеснули. — Почему не доложили?
— Я распорядился, Петруша. Я... Ну, еще эпизод беспардонного хамства союзничков — что он прибавляет?
Шатилов вновь сознательно обманул главнокомандующего: случай, происшедший с донцами генерала Фостикова, в действительности имел противоположный смысл — заградительный отряд, выставленный командованием у причала, получил приказ стрелять в каждого, желающего вернуться на родину. Именно поэтому некоторым и пришлось кидаться в холодную воду, а французам — выступать на защиту прав русских беженцев... Шатилов, как он любил говорить, лишь несколько «перетасовал факты», не в его интересах было раздражать главнокомандующего. Однако по лицу Врангеля, на котором он научился отлично читать все, начальник штаба понял, что Врангелю известно происшествие, — он почему-то принял предложенную ему игру и умно повел свою партию, — и это озадачило Шатилова. Они обменялись понимающими взглядами и, по молчаливому, одновременно возникшему решению, оставили эту тему.
— Ну, прекрасно, Павлуша. — Врангель вновь нахмурился, словно открыто показывая границу, разделяющую их. — Я рад. Наши позиции совпадают, мы едины, как всегда, — он сцепил пальцы рук и неприятно хрустнул суставами. — И только тебе, испытанному боевому другу, я могу доверить миссию, значение которой трудно переоценить. Настало время ехать на Балканы, к братьям-славянам, жизнью своей обязанным святой Руси. Стучись в их сердца, требуй, проси, умоляй: они должны принять армию, помочь нам сохранить ее для дальнейшей борьбы. Верю, русские посланники, оставшиеся на своих местах и служащие родине верой и правдой, помогут тебе. Опирайся на них. Сегодня не время для разногласий: решается главный вопрос — быть или не быть армии! При переговорах неукоснительно придерживайся следующих положений. — Он встал. Его глаза обрели всегдашнюю самоуверенность. Подбоченясь — правая рука на рукоятке длинного кинжала, — он зашагал по тесноватой каюте, говоря, точно диктуя: — Первое. Час-ти армии принимаются при обязательном условии сохранения их военной организации. Второе. При предоставлении государствами общественных или частных работ подразделениям армии принимать решительные меры к направлению их на места крупными воинскими организациями — дивизия, полк. И, наконец, третье, друг мой: ежели подходящих и не позорящих нас работ на весь состав армии не окажется, добиваться временного расселения воинских подразделений по пустующим казармам крупными контингентами. Все!.. Есть ли у тебя замечания? — И, не дав времени на ответ, словно боясь шатиловских поправок и дополнений, продолжил: — Вот мои личные обращения к царю Борису и Александру, вручи их в собственные руки. Озаботься, пожалуйста: совершенно секретно. Я не скрываю от тебя ни слова, ни буквы, Павлуша. Обращаясь к монархам, я прошу их принять русских патриотов, взоры и сердца которых направлены на братские народы и их державных вождей. И указываю на тебя как на мое доверенное лицо, способное по первому требованию сообщить любые сведения, касающиеся армии.
— Разве я делегируюсь не один?
Врангель замялся. Потоптавшись на месте, как цапля на болоте, он сел рядом, положил руку на руку Шатилова, заглянул в лицо:
— Я счел нужным уступить Струве, — сказал он извиняющимся тоном. — Общественное мнение Европы... Ты же знаешь — нужно прикрытие и слева и справа.
— Кто? — Шатилова не на шутку начал бесить Врангель. Злил и в то же время беспокоил. Следовало держать себя в руках и прятать лицо: оно могло его выдать, и тогда главнокомандующий без колебаний переступит через него и выберет себе нового советчика.
— Представителем правого крыла будет Львов. Левого — Хрипунов. Но не беспокойся: у них свои задачи — обработка общества. Они не посягнут на твои прерогативы. Ни в косм случае, я обещаю!
Шатилов был вынужден проглотить и эту «пилюлю».
— Петряеву и Вязьмитинову в Белграде и нашим друзьям в Болгарии уже даны соответствующие указания. Тебя ждут, тебя достойно встретят, Павлуша. Твоя миссия — армия, армия и только армия! В тот час, когда наши воинские формирования могут оказаться всего нужнее Европе, безмозглые профаны политики взялись безжалостно разрушать армию — разрушать, несмотря на то что на чужой земле, в изгнании, она дает высшее доказательство патриотизма, твердости духа и безусловного повиновения начальникам. Случай с донцами Фостикова, несколько, впрочем, смягченный, может стать лучшим вступлением ко всем твоим докладам на Балканах.
— Ты, действительно, возлагаешь надежды на мою миссию? Я спрашиваю не главнокомандующего...
— Я никогда не отделяю себя как человека от должности, на которую меня поставили отчизна и общество. — Врангель посмотрел сурово, с вызовом. — Ты, кажется, достаточно знаешь меня. А почему ты говоришь об этом?
— У меня мелькнула мысль, — нашелся Шатилов. — Мы должны пытаться наводить мосты и с другими странами, с Венгрией, например.
— Ты прав, — величественно кивнул, смилостивившись, Врангель. — Это я поручаю полковнику фон Лампе. И генералу Леонтьеву в Чехословакии.
— Леонтьев — малоактивен и осторожен, — начал было Шатилов, но оборвал себя: — Впрочем... Да! Да! Вполне подходящая кандидатура!
— Забыл заметить, Павлуша. Я посылаю с тобой — в качестве адъютанта, порученца, как пожелаешь! — моего протеже Венделовского. Он не вызывает больше сомнений и у самого Перлофа.
— Венделовский — приятный и образованный молодой человек, — с полным безразличием отозвался Шатилов, думая о другом.
— К тому же, заметь, у него и кое-какой опыт дипломатической работы. Я обещал за него кузине. Я в долгу перед Татьяной Георгиевной... Почему ты хмуришься?
— Отнюдь, Петруша. Просто вокруг тебя непрерывно стали мелькать какие-то ловкие люди. Помнится, в большом фаворе оказался этот... ставленник Кривошеина... Как его?.. Финансовый воротила Шабеко, сулящий нам златые горы. Где он? Небось давным-давно в сиропах, вместе со своими проектами?
— И тут ты ошибаешься, Павлуша, — с видом превосходства заметил главнокомандующий, к которому окончательно вернулись спокойствие и самоуверенность. — Он курсирует между Парижем и Каттаро. Вокруг ссудной казны. За него я спокоен: он добудет нам золото. Продувная бестия, ты прав. Но он верен нам.
— Нам?! — вырвалось у Шатилова. И, уже не сдерживая обиды, сказал: — Не кажется ли тебе, Петр Николаевич, между нами происходит нечто, способное перечеркнуть старые доверительные отношения, боюсь думать — и старую дружбу? Есть ощущение, меня старательно отстраняют и от армии, и от дел гражданских.
— Да что с тобой сегодня, мой друг! — Врангель театрально вскинул брови. Подойдя, он поднял начштаба с кресла, обнял за плечи, повел по каюте, приспосабливая свои широкие шаги к коротким, мелким шагам «Павлуши» и с возбужденной в себе, почти искренней горечью думая о том, что Шатилов постарел, сдал и, к сожалению, уже не сможет выполнять свои обязанности так, как этого требует сложная обстановка. Гибкость он утратил, что ли? И потом эта ежеминутная способность обижаться — откуда она, почему он должен терпеть ее от подчиненного? С какой стати он вынужден лавировать, выражаться иносказательно?.. Павлуша — премилый человек, конечно, но политику приходится пренебрегать личными симпатиями и не делать ничего из благодарности и сентиментальных воспоминаний. Ты вождь. Имей силы отвергать все, что требует отвержения. Павлуша, кажется, и сам понимает несоответствие занимаемому посту — это облегчает задачу. Надо уже сейчас думать о замене... Хотя правильно, что с такой ответственной миссией на Балканы едет он: его знают, уважают в военных кругах. Достойный род, боевое прошлое, — он справится с возложенной на него задачей... Должен!.. А там посмотрим. Теперь не приходится загадывать, ситуация меняется каждую неделю... — Ты уходишь? — притворно удивился он, доставая брегет. — Через десять минут прибудет Перлоф. Разве тебе не интересны его сообщения?
— Уволь, — сухо отозвался Шатилов. — Надо собраться.
— Как угодно, Павлуша! — сказал Врангель с облегчением, которое и скрыть не сумел. — Придется одному покопаться в деле, которое Перлоф представит мне по «Внутренней линии». Мы увидимся завтра?
— Я надеюсь. — Шатилов ловким жестом кинул на голову — набекрень — фуражку, козырнул и вышел.
Настроение у Врангеля испортилось: в последний момент ему все же стало жаль Шатилова — тот уходил такой одинокий, обиженный, маленький, — и он думал уже не о самом Павле Николаевиче, которого решил заменить, а о впечатлении, которое произведет эта акция на русское общество и союзников, о том, как он запишет об этом в дневнике и даже как станет оправдывать себя перед баронессой Врангель...
Не обрадовал его и доклад. Фон Перлоф не сообщил ничего нового: недовольство французских оккупационных сил; рост протестов в лагерях и в Бизе рте; усиливающееся стремление солдат и казаков к возвращению в Россию, активно подогреваемое большевиками, сулящими прощение советской власти; афера, которой обернулось приглашение Бразилии принять десять тысяч будущих землевладельцев — им сулили средства на переезд, авансы и земельные участки в штате Сан-Паоло, — все это оказалось аферой группы потерявших честь и совесть офицеров, заключивших сделку с пароходной компанией и готовых за тридцать сребреников превратить своих соотечественников в рабов кофейных плантаторов. Врангель отметил необходимость строгого разбора этого дела и примерного наказания главарей (через несколько дней он забыл об этом) и, нетерпеливо постучав пальцами по столу, что являлось признаком недовольства, попросил Перлофа доложить, что нового в Галлиполи, у Кутепова.
Генерал позволил себе слегка улыбнуться:
— Кутепов занят строительством соборов на песке. Дроздовцы и марковцы выкладывают из камешков надписи: «Помни, что ты принадлежишь России» и «Только смерть избавит тебя от выполнения долга». Корниловцы сооружают двуглавого орла. Воздвигнута церковь.
— Напрасно, генерал! — строго оборвал его Врангель. — Кутепов спаял армию. Он создал суд, государственность. Микрокосм России!
— Простите, я хотел несколько развеять ваше превосходительство. Я внимательно слежу за Кутеповым.
— Думаете, я забыл прием, оказанный Кутепову в конце марта, когда он был вызван в мой штаб? Его встретили на пристани громовым «ура», подхватили на руки и несли по улицам. Это была демонстрация, предупреждение нам с вами, Перлоф...
— Вы преподали мне урок, господин главнокомандующий. — Перлоф стоял, как юнкер перед начальником дивизии. — Мои шутки непозволительны. Однако покорнейше прошу принять к сведению: они не могут перечеркнуть той агентурной работы, которой ваш покорный слуга занимается. Кроме того человека, что «ведет» Кутепова, у меня есть другой, ему вменена в обязанность работа с генералом Туркулом.
— О! — оживился Врангель. — Это хорошо.
— Я ставлю на Туркула, ваше высокопревосходительство. Он молод, двадцать восемь лет, честолюбив, неразборчив в средствах, пользуется особой популярностью у дроздовцев. Беден, жесток, не отягощен предрассудками, картежник. Следует подогревать его честолюбие и выдвигать в противовес Кутепову.
— Принято, Христиан Иванович. Тут вам карт-бланш, действуйте! Я вас больше не задерживаю. Хотя, постойте. Генерал Шатилов и сопровождающий его Венделовский выезжают завтра.
— Дузик включен в группу. Он дал обязательство «освещать» каждый шаг группы генерала Шатилова.
— О донесениях прошу докладывать незамедлительно. Как часто, думаете, они начнут поступать?
— Надеюсь, раз в четыре дня. Стюард на «Ориент-экспрессе» проверен и вполне надежен, ваше высокопревос ходительство.
— Хорошо, хорошо, Христиан Иванович! Будем ждать. До встречи. — Врангель встал, шагнул ко все еще стоящему контрразведчику — они оказались одного роста и милостиво протянул руку...
Спрыгнув в шлюпку, фон Перлоф оглянулся, когда шестеро матросов взялись за весла. Яхта «Лукулл» удалялась — острый нос, две стремительно-косые мачты и скошенная между ними назад труба. Главнокомандующий стоял на корме в любимой своей позе — подбоченясь и, казалось, настороженно смотрел ему вслед. «Мечется, — подумал Перлоф. — Мечется, не знает, на кого опереться. Поэтому и остерегается всех и каждого, видит в каждом генерале соперника. Тут может начаться дворцовый переворот. Пух-перо полетят, мундиры — в клочья. Кому это выгодно? Союзникам, туркам? Мне? А кто пройдет на место Врангеля? И примет ли он мои услуги, или у него уже будет свой «фон Перлоф»? Врангеля я знаю. Знаю и его слабости, и слабости его окружения. В этом моя сила. Но если главнокомандующим станет Кутепов? (Слащев — вряд ли!) Или какой-нибудь Скоблин, Туркул, которого я сам взялся «выдвигать»? Ведь придется начинать все заново. А как оно начнется? Важно действовать без промаха». Перлоф вдруг почувствовал успокоение: он вновь пришел к твердому выводу, что связан с Врангелем тугой веревочкой, обязан служить ему верой и правдой до тех пор, пока, разумеется, не появятся перед ним более заманчивые и широкие перспективы. Контрразведчик успокоился — он всегда приходил к душевному равновесию, сделав выбор, от которого ни за что не отказывался потом, до изменения реальной ситуации. Пока никаких проверенных данных, говорящих о близком изменении этой ситуации, он не имел. Следовательно, пока фон Перлофу ничего не грозило.
Генерал-лейтенант барон Петр Врангель, который всегда считал себя серьезным политиком, в чем убеждала его борьба и смещение Деникина, делал в последнее время одну ошибку за другой. За весьма короткий срок он донельзя обострил отношения с казачеством; он восстанавливал против главного штаба генерала Кутепова и его окружение; демонстративно валил в одну кучу и представителей «либерализма», обвиняя их в большевизме, и монархистов, старающихся отобрать у него армию и поставить во главе нее кого-нибудь из великих князей. Однако самой опасной в настоящий момент оказалась позиция, которую Врангель позволил себе занять по отношению к французскому командованию в Константинополе. Каждый его новый конфликт с Пелле или Шарли мгновенно отзывался в Париже и ставил в еще более трудные условия Струве, вынужденного тратить все дипломатические ухищрения не на то, чтобы добиваться каких-то льгот, уступок, обещаний поддержки, а на урегулирование вчерашних или позавчерашних промахов Врангеля, необъяснимых там, в Европе, даже в среде единоверцев.
К отношениям государственным прибавлялась личная неприязнь. Врангель даже не считал нужным скрывать ее. Его письмо, направленное против союзников, было опубликовано константинопольской газетой «Стамбул». Создавалось впечатление: Врангель идет на открытый разрыв, имея в кармане не известный никому крупный козырь. Дипломаты, военные, представители прессы, обыватели гадали: что это? Секретный договор с немцами? Миллиардные долларовые займы Америки? Перевод армии в Сербию? Десант в Грузию? Новый план атаки большевиков, выработанный в союзе с Савинковым и совместно с его «западной армией»? Никто и предположить не мог, что Врангель рассчитывал лишь на бога, судьбу и свое везение. И еще на миссию Шатилова.
Вскоре после отъезда начальника штаба (фон Перлоф доложил: французской разведке уже известно о поездке Шатилова) парижские газеты опубликовали сообщение агентства ГАВАС о враждебной позиции, занимаемой Врангелем по отношению к Франции. Меры же французских оккупационных властей объяснялись гуманностью.
— Я принимаю вызов, господа! — кричал Врангель, не сдерживая ярости. — Я буду бороться! Боже, сохрани армию! Я буду бороться, даже если останусь один. И только смерть может освободить меня от служения делу и армии, только смерть!
2
«Генерал Врангель — генералу Пелле.
Армия, проливающая в течение шести лет потоки крови за общее с Францией дело, есть не армия генерала Врангеля, а русская армия... Желание французского правительства, чтобы армия генерала Врангеля не существовала и чтоб русские в лагерях не выполняли приказы своих начальников, не может быть обязательно для русских в лагерях; и пока лагери существуют — русские офицеры и солдаты едва ли согласятся в угоду французскому правительству изменять своим знаменам и своим начальникам».
«Генерал Шарли — генералу Врангелю.
Имею честь переслать Вам здесь экземпляр сообщения французского командования, которое я предписываю раздать и расклеить во всех лагерях русских беженцев. Честь имею просить Вас пригласить русских комендантов лагерей следить за тем, чтобы их подчиненные не мешали распространению этих документов... Согласно предписанию французского правительства паек, выдаваемый русским, будет уменьшен... Франция не в состоянии продолжать без конца приносить жертвы, налагаемые на нас содержанием русских беженцев...»
«Генерал Врангель — Верховному французскому комиссару генералу Пелле.
...Решение французского командования, хотя, я надеюсь, было продиктовано исключительно финансовыми соображениями, может быть истолковано и как намерение воздействовать на моральное состояние войск... Убежденный в необходимости сохранить порядок, который особенно обязателен в тяжелые минуты, лишенный возможности выявлять мой личный авторитет в войсках, я вынужден отклонить от себя всякую ответственность за дальнейшее...»
Врангель приказывает Кутепову: все оружие собрать и хранить под усиленными караулами; в каждой дивизии сформировать ударный батальон в 600 штыков, придав ему пулеметную команду и 60 пулеметов. Задачей фон Перлофа было сделать этот «тайный» приказ известным французам.
— Они испугаются! Вы все увидите: они струсят! Они нас боятся! — восклицал Врангель. — Пелле не отказал армии в пайке, а лишь срезал его. Почему? Испугался волнений в лагерях! Озлобленный несправедливостью русский солдат — они знают это! — способен за час разогнать всех их сенегальцев, новозеландцев, австралийцев и прочих — к чертовой матери! Мы должны продержаться до возвращения Шатилова, господа! Я верю: армия с честью выйдет из создавшегося положения...
«От штаба главнокомандующего русской армией.
В ряде статей газеты «Последние новости» (издающейся в Париже г. Милюковым) помещены сведения, якобы полученные из министерства иностранных дел Франции, о сложении ген. Врангелем с себя обязанностей главнокомандующего. В № 312 указано, что генерал Врангель будто бы согласился подчиниться требованию французского правительства о прекращении контакта с его войсками и якобы предложил сам повлиять на войска, дабы убедить подчиниться требованиям французского правительства. Штаб главнокомандующего считает необходимым официально заявить, что эти сообщения являются сплошным вымыслом... Главнокомандующий остается на своем посту и разделит до конца участь армии, которая при содействии братских народов, нужно надеяться, будет спасена...»
«Французское командование в Константинополе заявляет, что въезд в русские военные лагеря запрещен. Все выданные ранее пропуска аннулируются. Возвращение в свои части уволенных в отпуск ранее разрешается в пределах особого списка...»
Врангель долго ругался, получив это известие. Он накричал на дежурного генерала и прогнал адъютанта.
— Мне остается надеяться теперь лишь на смену правительства во Франции! — бросил он пришедшему с докладом фон Перлофу. — Я приму вас через час, генерал. Надо написать им ответ немедля.
— У меня известия о генерале Шатилове.
— Аааа! Наконец-то!.. Ваш агент отнюдь не проявил оперативности, — съязвил он. — Подождите в таком случае. Присядьте. — Врангель, точно оперный певец держа прямой спину, сел на кончик кресла и начал писать, с трудом подбирая слова: «Отбрасывая все личное, я готов в интересах русского дела продолжать совместную с французскими властями работу...», думая над тем, что ответ Пелле он не отправит до тех пор, пока не проанализирует информацию о миссии Шатилова. — Ну-с, говорите, — отложив бумагу, Врангель в упор посмотрел на контрразведчика. — Общий вывод? Он благоприятен?
— Можно сказать — да.
— Слава богу! Шатилов провозился там год.
— Отнюдь: две недели. Вот почтотелеграмма агента. Здесь отчет о поездке, расшифрованный.
— Так читайте, читайте, Христиан Иванович. — Настроение у Врангеля заметно поднималось. — А что о Венделовском?
— Эти сообщения шли по другим каналам, ваше высокопревосходительство. Венделовский ничем не скомпрометировал себя в поездке. Никаких контактов не имел, стремлений уйти от наблюдений тоже. Игорные и прочие дома не посещал, вином не увлекался. Генерал Шатилов остался весьма доволен: Венделовский характеризуется им как исполнительный, хотя и несколько безынициативный подчиненный.
— Ну, инициативу должен был проявлять сам Павел Николаевич. Он у нас привык всю жизнь в исполнителях ходить, отсюда и критика. — Врангель повел холодно блеснувшими глазами и сказал совсем несвойственным ему доверительным тоном: — Послушайте, Христиан Иванович, не сочтите за труд, не удивляйтесь и, если затруднительно, не отвечайте. Как вы живете?
— Не понял, господин главнокомандующий.
— Мы с вами трудимся бок о бок не один год. Вы — преданный делу и мне человек, проверенный в тяжелых испытаниях. Я доверяю вам абсолютно! Как себе! Вы — потрясающий специалист. Но я вас совершенно не знаю. Вы женаты? У вас семья? Как вы живете, нет ли в чем нужды? Особенно сейчас, в условиях, в которых мы оказались... Вы молчите?
— У меня нет семьи, ваше высокопревосходительство, — твердо, со спокойным безразличием сказал разведчик, но кивок головы и дернувшаяся нога выдали его волнение. — Жениться я не успел: служба. Родители расстреляны большевиками в Петрограде, младшие братья сложили голову за веру, царя и отечество.
— Сочувствую вашему горю, поверьте. Крепитесь, солнце еще заблестит над нами. Придет светлый праздник, и мы — закаленные в борьбе! — достойно встретим его! Простите, если затронул кровоточащие раны. Благодарю за службу, генерал!
Врангель хотел было сказать еще что-то ободряющее, чтобы поднять дух разведчика, но по привычке сдержал себя и лишь милостиво кивнул, точно клюнул, выкроив на лице нечто вроде улыбки.
А фон Перлоф, покидая главнокомандующего, думал уже о том, что необходимо сделать немедля, какие распоряжения отдать подчиненным, среди которых было много «заплечных дел мастеров» и очень мало профессионалов... Какая-то тревожная мысль беспокоила фон Перлофа. Генерал шаг за шагом заставил себя вспомнить утро и весь день, все встречи, разговоры, допросы — вплоть до визита к главнокомандующему. Нет, опасность шла откуда-то извне, не от тех, с кем ой встречался сегодня. И вдруг все стало на свои места: он слово в слово вспомнил текст донесения Дузика, касающийся Венделовского. Особенно отчетливо встало перед ним слово БЕЗЫНИЦИАТИВНЫЙ, — оно подсознательно беспокоило его все это время. Безынициативен тот, кто нарочно не хочет проявлять инициативы, всячески подчеркивает это так, чтобы все видели. Да и сама хорошая аттестация, безоговорочно хорошая — это тоже плохо. Либо этот болван поручик ничего не заметил, Венделовский ловко провел его, либо Венделовский купил этого Дузика, даже перевербовал, чего доброго... Нет, проблема врангелевского протеже не закрывалась. Фон Перлоф чувствовал, что обязан вновь пройти по всей цепочке фактов, связанных с поздним появлением Венделовского в Крыму, и перепроверить каждый его шаг.
Глава седьмая. «ВНУТРЕННЯЯ ЛИНИЯ». (Окончание)
Фон Перлоф нюхом опытного контрразведчика чувствовал близкого противника. Он еще не был уверен, что это Венделовский, но убеждал себя, что именно «этот господин» выведет его на всю «сеть», которую резидент умело раскидывал вокруг белой армии, се главного командования и, пожалуй, пошире — вокруг эмиграции. Перлоф понимал, охота будет трудной прежде всего потому, что почти нет у него достойных помощников, способных к анализу и самостоятельным действиям. Можно было, конечно, обратиться к Климовичу и его людям. Перлоф не хотел обращаться к бывшему начальнику департамента полиции, начальнику разведки белой «армии. И не только потому, что хотел свершить все сам, но и потому, что, вовлекая в предстоящую операцию большое количество лично им не проверенных лиц, он боялся утечки оперативных данных, информации и появления «агентов-двойников», «перевертышей», работающих направо и налево. Нет, несмотря на малые силы, Перлоф решил начать операцию лишь при помощи сотрудников своей «Внутренней линии». Да и то так, чтобы никто из них, не знал о размерах всей операции.
Вызванный к генералу Издетский докладывал о событиях, происшедших за сутки. Среди руководства монархической Лиги усиливается раскол, судя по результатам последнего совещания, побеждает пронемецкая ориентация; решено послать представителя в Германию с верноподданическим меморандумом к великому князю Кириллу Владимировичу... В одном из переулков Галаты найден союзнической полицией труп члена советской торговой делегации некоего кооператора Бойко, убитого тремя пулями в упор. Случай приписан ограблению, хотя налицо несомненный факт благородной мести. Стрелявшего он нашел. Человек достойный, может пригодиться.
Второй случай заинтересовал генерала. Известный в Константинополе советский торговец Прокудиш встретился в кафе отеля «Токатлиан» с французским коммерсантом Ролланом Шабролем.
— Как? — поднял брови генерал. — Сидели за одним столом?
— Нет. Прокудиш, проходя, поинтересовался, свободно ли место. Француз засмеялся и ответил, что, к сожалению, ждет дам.
— Они ничего не передали друг другу?
— Нет. Я лично «вел» Прокудиша. Случилось непредвиденное, господин генерал. К Прокудишу внезапно подошел косоплечий рыжеватый офицер в черной кубанской форме, поинтересовался, является ли его собеседник советским представителем, и, получив утвердительный ответ, ударил Прокудиша в лицо. Возникла драка. Офицера задержала английская полиция. Им оказался некий есаул Баранов. Оружия при нем не нашли и отпустили, заявив торговцу, что покушения на его жизнь не было, имело место лишь оскорбление чести, которую каждому человеку следует защищать самому.
— А что француз?
— Когда инцидент был исчерпан, Шаброль исчез.
— И Баранов исчез?
— Так точно.
— Ну, вы бездарь, Издетский! Сколько наших людей было в ресторане?
— Всего трое — со мной, господин генерал.
— Ну, конечно, Прокудиш видел «хвоста». Никаких сомнений! Грубо «вели», ротмистр. «Засветились». А так называемый Баранов — его человек, факт. Но почему в ресторане оказался француз? Случайно ли это? Хм... Он там живет?.. Необходимо по-настоящему организовать внешнее наблюдение за Шабролем, выявить все его контакты. И срочно найти Баранова. И «вести» — ни в коем случае не брать, не спугнуть! Вам все ясно? И докладывать мне ежедневно. А если случится что-либо экстраординарное — немедленно! В любой час! Я начинаю предполагать законспирированную опытную группу. Упаси вас бог, ротмистр, вести теперь это дело как прежде, спустя рукава. Я вам не завидую. И себе, впрочем, тоже.
— В качестве самооправдания позволю себе донести о некоторых успехах, имевших место по разработке линии активного проникновения, возможных связей, пропагандистов, денег и агитационной литературы. Разрешите?
— Прошу, — отозвался фон Перлоф, думая о французе, Прокудише и самозванном есауле. Он, конечно, сразу вспомнил встречу с французом в «Жокей-клубе». Тогда француз не возбудил подозрений. Был излишне развязен, неприятен, пожалуй, нарывался на дерзость, лез напористо на конфликт, но не переигрывал: торговец, такому в Константинополе все можно. И поэтому Перлоф не обратил на него внимания... А вот теперь они столкнулись с Прокудишем. Столкнулись или встретились? А если встретились? Это необходимо проверить.
— Покорнейше докладываю: мною внедрены в среду портовых грузчиков два верных человека из унтер-офицеров, знающих дело сыска. Они прошли акклиматизацию и работают по наблюдению за пароходами, прибывающими из Одессы и Батума. Сегодня должен стать под срочную разгрузку «Франц Фердинанд». На нем ожидается прибытие крупных сумм, которые везут подозрительные личности. Каковы будут распоряжения?
— Передайте данные на них нашим доблестным союзникам, — Перлофа все еще не оставляла мысль о французе и его связях. Он с трудом заставил себя переключиться и добавил, загораясь новой идеей: — Хотя нет! Возьмем сами. Я, правда, сомневаюсь, что эти спекулянты везут деньги в саквояжах и так просто отдадут их вам, но если удастся захватить хоть одного из них — это уже достижение. Возможно, он и приведет нас куда-нибудь... Кстати, Прокудиша с сегодняшнего дня вы будете охранять лично. И чтоб, не дай бог, его опять никто не ударил. Договорились? — Перлоф встал.
— Так точно! — встал и Издетский.
— Садитесь, ротмистр. Остается еще линия: Венделовский — Дузик. По-прежнему весьма темная, но перспективная. Где эта девка-заложница? Кто она? Где вы ее прячете и можно ли с ее помощью перепроверить поручика после поездки? Что их связывает?
— Некая Кэт. Тертая девочка... Я, можно сказать, ее с панели взял. Она проговорилась, что из военной семьи. Я сказал, что служил в Корниловской дивизии.
— В ОСВАГе, ротмистр, в ОСВАГе. Зачем обманывать девочек.
— Но я действительно служил в строю, — обиделся Издетский.
— Да оставьте! Какое значение это имеет?
— В Корниловской дивизии, как оказалось, служил и ее старший брат. Девочка раскололась.
— А кто брат?
— О-ооо! Высокого рода! Его я знал лично. Командовал полком. Я проверял — его тяжело ранило при отступлении. Наверное, умер. Маловероятно — попал в плен.
— Фамилия его, фамилия?!
— Князь Белопольский, господин генерал.
— Виктор Николаевич?
— Так точно.
Фон Перлоф в замешательстве потер высокий с залысинами лоб. Задумался. Сказал тоном, безжалостно унижающим Издетского:
— Выводите Белопольскую из игры. Немедленно! И чтоб не позднее чем через час она была здесь. Я сам займусь ею. Вам, надеюсь, ясно? — И милостивее закончил: — У нас главное — Баранов и француз. И круглосуточное наружное наблюдение за ними, круглосуточное, ротмистр.
Фон Перлоф был дядей Ксении — сводным братом ее матери. И он почувствовал вдруг, что обязан вмешаться в судьбу бедной девушки, заверченной, судя по всему, потоком страшных событий.
«Господину ротмистру Издетскому.
Докладываю, что человек, именующий себя есаулом Барановым, он же Хольц, коренастый, рыжеватый, одно плечо выше другого, лет под 30, вышел в 9.12 из здания посольства в направлении улицы Пера. Часто проверяя, нет ли «хвоста», останавливался у витрин, переходил со стороны на сторону, купил утреннюю газету у турчонка, но читать не стал, засунув в правый карман сложенную вчетверо. В 10.20 нанял извозчика, доехал до Галатского моста, старался затеряться в толпе. В 11.50 обедал в русском ресторане «Уголок». Поспешно выйдя из «Уголка», вскочил на извозчика, поехал на городской базар, где вышел из-под наблюдения в 12.27».
То, что вы неделю не можете найти этого Баранова, убеждает меня в том, что встреча в «Токатлиаие» не была случайной, — сказал фон Перлоф, вытирая платком лицо и невыносимо страдая от жары.
— Мы найдем его! — горячо воскликнул Издетский.
— Нет, ротмистр. Оставьте: его уже нет в Константинополе. Они поняли, он на грани провала, может «засветить» других, и убрали его подальше. А что дает наблюдение за французом?
— Этот все время на виду, ведет роскошную жизнь: лучшие рестораны, высокие знакомства, «Жокей-клуб».
— Знаю, — буднично сказал фон Перлоф. — Вчера мы играли в преферанс. Он и проигрывает легко. А где его контора?
— У него нет конторы. Он представляет какой-то торговый дом или известную фирму, но не афиширует это. Коммерсант и коммерсант!
— А помощники у него есть? Сотрудники? Секретарь? Ах, Издетский! Мне надоело за вас работать. Когда же вы наконец станете контрразведчиком? И что я могу требовать от ваших сотрудников? Неужели мне придется брать в наше дело людей Климовича? Роллан Шаброль — да будет вам известно! — представляет фирму «Клермон и сыновья» — оптовая торговля коврами. Разумеется, он занимается и валютными операциями, довольно широко. Весьма вероятно, связан и с Дезьем бюро, а может, и не только с французской контрразведкой. Будем и дальше держать его в поле зрения, ротмистр. И докладывайте, докладывайте ежедневно. А то я порой забываю, как вы выглядите!..
Глава восьмая. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ПАНСИОН КНЯГИНЬ ТРУБЕЦКОЙ И ЧАВЧАВАДЗЕ
Стараниями фон Псрлофа Ксения Белопольская (она же Кэт из офицерской банды капитана Орлова; она же Вероника Нечаева, медицинская сестра Корниловского полка; она же Анастасия Мартыновна Мещерская) была помещена в небольшой пансион, открытый для аристократических русских беженцев не стесненными в средствах княгинями Трубецкой и Чавчавадзе.
Под пансион была снята некогда богатая, теперь запущенная вилла турецкого генерала, перешедшего на сторону Кемаля-паши. Вилла врезалась в склон холма, а поэтому двор представлял собой три террасы, мощенные крупными каменными плитами, окруженные фиговыми и айвовыми деревьями и проволочной твердости кустами с острыми колючками. Широкие, белого камня лестницы вели к вилле, пересекая террасы. На верхней стояли длинные обеденные столы под твердо-крахмальными льняными скатертями. Тут трижды в день собирались обитатели пансионата — люди разного возраста, по большей части старики и старухи, которых объединяла принадлежность к аристократическим родам.
Особенно разговорчивыми и шумными становились они за обедом, когда начиналось обсуждение политических новостей, при этом вели себя так, словно не было в России войны и революции, существует царствующий дом и самодержец, а все происшедшее с ними за последнее время — случайное и нелепое недоразумение, которому не сегодня завтра будет положен конец.
Монархическое движение раскалывалось. В нем определились три основные группы, не желающие блокироваться друг с другом: крайне правые — «непримиримые» — абсолютисты; умеренные — «народные» — и конституционные монархисты, проповедующие либеральный национализм в духе Столыпина. Словесные баталии, что, не щадя себя, вели Марков-второй, князь Волконский, сенатор Римский-Корсаков. Трепов, Коковцев и другие представители разных направлений монархизма, были ничуть не сильнее тех споров, что проходили в константинопольском пансионе. Особенно бурными были дебаты по поводу престолонаследия. У каждого из претендентов имелись свои горячие и убежденные сторонники.
«... Николай Николаевич?! — восклицали «Кирилловцы». — Он погубит Россию, как в Великую войну погубил армию!» — «А Кирилл Владимирович, ваш хваленый демократ? Едва в петербургской подворотне заиграли «Марсельезу», он вывел свой гвардейский экипаж присягать Думе, погубившей государя», — возражали «николаевцы»... Поднимался общий шум, все яростно кричали разом, забывая правила этикета и хорошего тона: «А ваш?!» — «Но и ваш-то!..» Случалось, начинали топать ногами друг на друга, стучать по столу, били посуду. Бывший сенатор вызвал на дуэль отставного генерала, они стрелялись в двадцати шагах «до первой крови», но оба мазали до тех пор, пока не израсходовали обоймы... Как это случается, появился знаток закона о престолонаследии. Он без устали объяснял всем спорящим: воспрещается лицам, имеющим право на престол, вступать в браки с иноверующими. А поскольку мать Кирилла Владимировича приняла православие, когда великому князю было уже за тридцать, его потомство не имеет права занять трон российский. Следовательно, ближайшие наследники «убиенного императора» — это великие князья Дмитрий Павлович, а за ним и Николай Николаевич. «Николаевцы» стали брать верх — до тех пор, пока не явился второй законник. Толкуя статьи 28-ю и 30-ю закона, он столь же безапелляционно заявлял: «Права на престол за фактическим отсутствием мужского потомства последних двух императоров переходят не к потомкам младших сыновей Александра Второго, а к дочери Александра Третьего Ксении Александровне, великой княгине...»
Они были смешны и жалки, эти старики и старухи, в своей глупой и бессильной непримиримости, в раздорах, неизменно кончающихся устраивающим всех выводом: «Господь не даст погибнуть России» и общей истовой молитвой.
Кэт находилась в пансионе на особом положении «больной», «девушки в расстройстве», и к ней не приставали с вопросами даже наиболее любопытные. Живя особняком, Кэт мучительно страдала: и за всех этих бывших людей, и за свою причастность к ним. Стыдно было перед слугами, перед двумя помощниками повара, молодыми людьми приказчичьего вида и кавалерийской выправки, краснощекими, с одинаковыми нитевидными усиками. Из случайно услышанного разговора Кэт узнала, что молодые люди — врангелевцы, призванные охранять жильцов, но не поверила: скорей всего, офицеры, продающие себя каким-нибудь старухам за крышу над головой и похлебку...
В маленьком дортуаре, где Кэт жила, одуряюще пахло нагретым сандаловым деревом, цветами и ладаном. Раньше, до внезапной смерти, здесь жила вдова не то министра, не то сенатора. Запах чадящих свечей, горелого лампадного масла, всевозможных лекарств казался Кэт неистребимым. Голова болела постоянно. Она плохо спала. Проснувшись среди душной ночи, Кэт какое-то время никак не могла представить, где она находится. И только волшебные превращения последнего месяца помнились отчетливо. Кэт помнила, как она убежала от поручика Дузика, потому что не могла больше видеть его мучений и его беспомощности.
Весь день она бродила по улицам — без мыслей, без цели, с одной лишь надеждой встретить какого-нибудь знакомого человека, который чудесным образом переменит ее жизнь. Она томилась во дворе русского посольства, дважды переходила Новый мост через Босфор, лавируя в густой толпе, стараясь держаться поближе к перилам, чтобы не попасть под непрерывный караван моторов, извозчиков, верблюдов, движущийся в обоих направлениях. С надрывом кричали ослы. Внизу притягательно-зовуще светилась малахитовая гладь Золотого Рога. Кэт остановилась внезапно, чувствуя растущее желание кинуться через перила в теплую, ласковую воду. Она свесилась и вдруг испугалась: представила, как вытаскивают ее мертвую — бело-зеленую, распухшую, изъеденную какими-то рыбами. Людской поток понес ее дальше, незаметно для себя она оказалась сначала на пропахшем чесноком Египетском базаре, затем на зловонной улице Хаджи-паша. Здесь Кэт словно очнулась от забытья: к ней пристал низенький и толстый турок с тыквообразной головой и непомерно длинными усами. Турок бубнил что-то просительное, не отставал, обещающе помахивал кошельком. При мысли о близости с этим животным Кэт от ненависти и отвращения содрогнулась. Она побежала. Турок куда-то исчез, отстал. А может, и не преследовал ее: женщин, готовых продавать себя, на улицах Константинополя было сколько угодно.
Постранствовав по лабиринту улиц и переулков, она наконец нашла свой квартал, а потом и дом мадам Клейн. Здесь она могла вновь почувствовать себя в относительной безопасности.
Кэт поднялась на второй этаж, удивляясь необычной тишине. На условном месте ключа не оказалось — и это озадачило ее. Дверь отворилась от ее слабого прикосновения. Первое, что бросилось в глаза, — пустой стол, на котором лежала ее записка. И запоздало Кэт увидела в углу каморки поджарого, коротко остриженного человека с. запекшимися, дергающимися губами. Приготовив пистолет, казалось, он ждал именно ее. Это был Издетский...
Теперь, два месяца спустя, все стало таким далеким, чужим. Словно она, Анастасия Мартыновна Мещерская, не имела никакого отношения к авантюристке Кэт, сестре милосердия Веронике Нечаевой, а та — к княжне Ксении Белопольской. Словно она прожила уже две жизни и живет третью, полную тихого покоя, лишенную страхов и забот. Часто навещал Кэт фон Перлоф. Был нежен, даже сентиментален, что совершенно не вязалось с его холодной внешностью, ласково поглаживал руки, интересовался, не нуждается ли она в чем-нибудь, готов был удовлетворить любой каприз, обещал медицинский консилиум и скорое выздоровление. О себе не говорил. Замыкался, когда она задавала вопросы, уходил от ответов. Она так и не поняла, чем он занимается. Генерал в штабе Врангеля — вот и все, что она знала о нем...
Два с лишним месяца назад, когда злобный и безжалостный Издетский силой увел ее из дома мадам Клейн и доставил в какой-то темный, сырой и душный подвал, Кэт была на грани сумасшествия — ослабевшая от голода и ночных блужданий, безвольная, равнодушная. Вероятно, ее приняли за кого-то другого, важного и нужного этому экающему негодяю, который пока еще не мучил ее, даже не спрашивал ни о чем, но от прицеливающегося взгляда которого становилось тоскливо и страшно.
Про нее словно забыли. Сколько она просидела так на полу, подтянув колени к подбородку, испытывая все растущую жажду, которая становилась уже невыносимой? Кэт заставила себя подняться и, вытянув руки, двинулась в темноту. И тут же наткнулась на теплую стену и, не отпуская ее, делая короткие шаги, пошла вдоль нее и вскоре остановилась, упершись в угол. Кирпич здесь оказался выкрошившимся и, как ощутила Кэт, слегка влажным. Принявшись медленно ощупывать его, она обнаружила, что сверху, за старой кладкой, по-видимому, сочится откуда-то влага. Неужели подвал, куда ее загнали, был столь глубок? И ее решили похоронить заживо, зная, что она не сможет закричать, позвать на помощь?.. Вдруг луч яркого света ударил в лицо Кэт, и она поднялась, стараясь разглядеть человека, державшего фонарь.
— Извольте... э... следовать за мной, — сказал вошедший, и по знакомому «э-э» Кэт узнала своего тюремщика.
Издетский вывел Кэт из подвала. Они сели в коляску, и он повез ее куда-то. Ехали, впрочем, недолго, минут пятнадцать, не более. Издетский молчал. Из переулка они выбрались на довольно широкую улицу.
Извозчик остановился возле гостиницы. Издетский, взяв Кэт под руку, повел ее внутрь — мимо конторки портье по лестнице, крытой истертой ковровой дорожкой, по узкому, кидающемуся налево и направо коридору, к двери под номером 21. Здесь, потоптавшись, Издетский хмыкнул, произнес свое обычное «э-э» и постучал.
— Прошу! — раздался повелительный голос.
Издетский подтолкнул Кэт. Она увидела стоящего у окна очень высокого человека, показавшегося ей необычайно худым, с маленькой змеиной головкой, с редеющими набриолиненными волосами, зачесанными на пробор. Долговязый обернулся и, сделав предостерегающий жест, шагнул навстречу Кэт.
— Боже! — сказал он. — Вылитая мать!.. Какое порзаительное сходство! — Он приблизился, раскинув руки, но не обнял Кэт, заметив, в каком она виде, и лишь спросил быстро и обеспокоенно: — Что с вами, девочка?
Губы ее шевельнулись...
— Воды, ротмистр! Живо!.. Кресло! Ну!
Издетский с трудом поволок было кресло, но бросил, кинулся за графином и стаканом: он взволновался, увидев генерала в столь необычном состоянии, и, уже понимая, что перегнул с девчонкой, совсем испугался последствий: людей, впавших в немилость начальников, редко просто отстраняют от дел и оставляют в живых.
— Давайте! — приказал генерал, выхватывая у него стакан. — Поддержите голову, наконец. Болван!
Мешая друг другу, они напоили Кэт. Перлоф, подавив брезгливость, ободряюще улыбаясь, гладил ее по волосам, участливо приговаривал, что все будет хорошо, испытания остались позади, все устроится, потому что он рядом и позаботится о ней.
— Я твой дядя, дядя, бедная моя девочка, — заговорил фон Перлоф. — Я — кузен твоей матери, мир ее праху. Ты в безопасности, в полной безопасности. Все осталось позади. Тебе надо отдохнуть, прийти в себя... Ротмистр! — вспомнил он про Издетского. — Какого черта? Да помогите же! Надо уложить ее.
Издетский проворно, в один прыжок оказался возле кресла. Осторожно держа под локоть, стал помогать Кэт подняться. Он бормотал что-то в свое оправдание, но Кэт не разбирала, что он говорит, слышала лишь ненавистное «э-э» и видела рядом мерзкое лицо — узкие губы, дергающуюся щеку, желваки на скулах, коротко стриженный седоватый ежик. Собрав всю силу, Кэт хлестко ударила его по лицу — правой, затем левой рукой...
На следующий день дядя принес Ксении сафьяновый блокнот, который при помощи специального зажима на черном шелковом шнурке укреплялся на поясе. И, как обычно, поинтересовался, не нуждается ли она в чем-нибудь. Ксения написала, что ей ничего не нужно, а потом спросила: не знает ли дядя о судьбе ее братьев, отца и деда? Фон Перлоф скорбно покачал головой. Он не стал говорить о Викторе и обо всем, что узнал от Издетского: зачем волновать девочку, ее брат исчез и следы его затерялись...
Ксения с благодарностью принимала помощь дяди, понимала, что обязана ему жизнью, но не могла никак избавиться от своей настороженности, непреодолимого недоверия — непонятно к чему. Ее нежный дядя точно холод излучал, а его внимательные, немигающие глаза скрывали, казалось, нечто страшное — чью-то тайну, преступление, убийство, быть может... Ксения ужасно уставала после его визитов еще и оттого, что вынуждена была скрывать свои ощущения. Ее не покидала мысль, что она для чего-то нужна дяде. Да и дядя ли он ей?
Прошло два месяца. Цчера Перлоф сообщил Ксении, что придет с известным профессором-психологом, просил подготовиться к визиту. Ксения ждала их с нетерпением, не могла найти себе места, словно этот профессор собирался уличить ее в симуляции или проделать с ней страшные эксперименты.
Профессор-психолог оказался средних лет важным господином, плотно сбитым и обильно украшенным золотом. Отослав генерала и приказав Ксении снять блузку и лиф, он долго и с удовольствием осматривал ее, колол похожими на спицы иголками, заставляя водить глазами за блестящим молоточком, коротко и резко стучал им по колену, осматривал ногти, ступни, заставлял шевелить пальцами — сопел от усердия и своей значительности. Достав золотые часы и посмотрев на циферблат очень внимательно, даже подозрительно, он сказал медленно, тяжело роняя слова, как будто каждое его слово тоже ценилось на вес золота:
— Питание... Сон... Покой... — Он решительно щелкнул крышкой, безапелляционно подводя итог визиту: — Будем лечиться, барышня. — И пригласил генерала.
Фон Перлоф произнес успокаивающие слова, а затем, поцеловав Ксению в лоб, пошел следом за врачом. Она же кинулась к окну над террасой и, спрятавшись за портьерой, услышала их разговор. Собственно, не разговор, ибо говорил профессор:
— Данный случай нельзя считать необычным, подобные случаи описаны, они не считаются тяжелыми, хотя, бывает, не поддаются лечению и имеют в медицине название «мутизм»... Красивая девушка, из семьи, где она неизменно в центре внимания и все ее желания предупреждаются. В то же время сырой петербургский климат, слабая грудь, склонность к капризам и истерии. И, естественно, влияние событий: война, революция. Вероятно, барышня попала в острокритическую ситуацию. Страх, испуг дали взрыв истерии. Налицо психоневрический итог. Органических поражений нет, голосовые связки лишь сомкнулись. Да, так! Именно!
— Но сколько это может продолжаться, профессор? — перебил его фон Перлоф, сдерживая нетерпение.
— Ну, — развел руками профессор, — все мы ходим под богом. Это может продолжаться долго. Может, впрочем, она заговорит уже и завтра. Есть сторонники создания искусственно критической ситуации. Внешний нервный толчок будто бы может заставить закричать, а затем заговорить. Ваш покорный слуга не является поклонником варварских методов лечения.
— Но... — опять попытался вставить фон Перлоф.
— Простите, — строго перебил его профессор. — Еще минуту. Имеют место сеансы гипнотического внушения — курс! — спокойные собеседования, покой, глубокий сон. «Перенос», по Фрейду, отношения к врачу как к желаемому мужчине, когда подсознательное желание больной как бы реализуется...
— Может быть, консилиум, профессор?
— Как вам будет угодно, — обиделся психолог. — Я считаю, мутизм не лечится в обычном понимании. Лучшее лекарство — время...
Голоса смолкли. Ксения, выглянув из-за портьеры, увидела мужчин, спускающихся по лестнице. Услышанное не взволновало ее, она вздохнула с облегчением: жизнь казалась ей райской.
Но прошлое не исчезло. И так же, как жила в сегодняшней Кэт наивная и беспомощная княжна Белопольская, так осталась в ней и участница орловских набегов, способная часами скакать в седле, танцевать, лить и веселиться, без стеснения взирать на выходки пьяных офицеров.
Однажды ночью, вскоре после визита доктора, взломав дверной замок, к ней в комнату проник один из служащих — молодой человек с выправкой кавалериста. Немая не могла позвать на помощь. Он действовал наверняка... Ксения проснулась, когда он присел на край кровати. Но, сорвав одеяло, он получил такой толчок ногой в грудь, что отлетел и ударился о спинку кровати. Еще более удивило его то, что немая не сделала даже попытки вскочить или прикрыть себя. Это ободрило его.
Ксения ждала. Закинув руку за голову, нашаривала на тумбочке тяжелый подсвечник. И в тот момент, когда его голова оказалась у нее на груди, Ксения нанесла короткий и сильный удар. Молодой человек беззвучно скатился на пол. Кровь залила его лицо. В лунном свете она казалась черной. «Неужели убила? — подумала Ксения со страхом. — Вошь, гадина, подлец!.. Опять полиция, тут и дядя не поможет». Торопясь, она кое-как оделась, и, обойдя недвижимо лежавшего, побежала из комнаты вниз, к выходу, прочь из пансионата.
Привратника на обычном месте у ворот почему-то не оказалось, и Кэт, скользнув в калитку, под лампочку, в желтый круг на дорожке, оказалась среди полной темноты... И тотчас кто-то настиг се — возможно, другой — и схватил за локоть, Кэт ударила его ногой в пах, он вскрикнул от боли, — и вновь побежала, охваченная ужасом, не зная куда — в кривые щели-переулки...
Вконец измученная, обессиленная, она остановилась на перекрестке под фонарем, где находилось еще несколько женщин разного возраста, пестрая и крикливая одежда которых не оставляла сомнений в их занятиях. Женщины уходили и возвращались. Они безостановочно прогуливались парами и в одиночку, задирая случайных прохожих, стараясь обратить на себя внимание. В какой-то момент Кэт показалось, что она осталась одна.
Прошел союзнический патруль, цокая подкованными башмаками и громко разговаривая. Затем, качаясь и ругаясь, появился на перекрестке французский матрос. Следующим оказался мальчик, который вез на осле пустые бидоны. Потом прохожие исчезли. Голоса проституток смолкли. Похоже, она действительно осталась одна на перекрестке. И тут, неслышно приблизившись, кто-то внезапно крепко схватил ее за руку. Кэт услышала зловонное дыхание — смесь винного перегара, чеснока и крепкого одеколона — и требовательный голос:
— Ты свободна, курочка? — Человек был высок. Он спросил по-французски. Лица его Кэт не увидела и испугалась. Показалось, лицо изуродованное. — . Возьми меня под руку. — Железными пальцами он ухватил ее за плечо. — Я заплачу, ты не пожалеешь, если будешь ласкова.
Повинуясь его твердой направляющей руке, Кэт двинулась полутемной улицей. «Кто он? — думала она с возрастающим беспокойством. — Почему я пошла? Куда он ведет меня? Почему молчит?» Мучаясь тягостными предчувствиями, она остановилась.
— Идем, идем! — сказал он и захохотал. — Тут недалеко. Извозчик не потребуется. — Вторая его рука быстро и бесцеремонно пробежала по ее лицу, груди, спине, бедру. — А ты еще крепенькая!
Кэт, противясь, снова остановилась.
— Нет уж! — его пальцы еще крепче вцепились ей в локоть. — Договорились, идем! Может, ты не вполне здорова?.. Ха! ха! ха!.. Ты нездорова!.. Так и я не вполне. Мы поладим, моя курочка, не беспокойся. Что ты рвешься? Хочешь бежать? Тебе это не удастся, курва!.. Не следует обижать меня, милая, не следует...
Они подошли к перекрестку. Желтый свет фонаря упал на лицо ее спутника, и Кэт, подняв глаза, содрогнулась: словно компрачикосы изувечили его — лицо спутника походило на страшную маску. Вздувшиеся рубцы стягивали желтую мертвую кожу. Слюдяно блеснули бельмами глаза. Вздернутая шрамом верхняя губа открывала беззубый черный провал рта. Казалось, человек улыбается. Но человеком ли был он — упырь, вурдалак, химера!.. Закричав, Кэт рванулась и, почувствовав свободу, бросилась со всех ног прочь. Она бежала по одной улице, потом по другой — все вниз, вниз, выворачивая ноги на неровной булыжной мостовой, падая и вскакивая, не чувствуя ни боли, ни усталости, ей все слышался топот башмаков за спиной, — пока не упала на что-то мягкое и не провалилась в мгновенно охвативший ее сон.
Рассвет застал Кэт в сарае. Сквозь щели в стене косыми лучами пробивалось солнце. Кэт лежала на охапке невысохшей еще травы — это она пахла одуряюще и ласково: нагретым лугом, водорослями, свежим морским ветром. Рядом стоял ослик, понуро опустив большую голову и глядя на непрошеную гостью с тревожной печалью. Кэт осторожно приподнялась на локте и осмотрелась. В сарае никого не было.
— Ослик, милый ос... — сказала Кэт и замолчала: она говорила! Она снова могла произносить слова. Она могла! — Ослик, ослик! — потрясенно воскликнула она громче. — Боже праведный, я здорова. Благодарю тебя, боже, благодарю! — Кэт встала на колени и начала молиться.
Встав, очистившись и кое-как приведя себя в порядок, Кэт выбралась на улицу, плоско, без теней, высвеченную солнцем. Представила, как странно выглядит она в ранний час, в порванном и запачканном платье, и сразу же приняла три решения: взять извозчика, возвратиться в пансионат и никому (пока!) не признаваться в своем чудесном излечении. Никому, даже дяде.
А в обед краснощекий молодой человек с перевязанной головой, как ни в чем не бывало, прислуживал ей за столом. На лице его стыло вежливо-предупредительное выражение. Однако Кэт чувствовала: он и теперь ей страшен, он не забудет.
В ЦЕНТР ИЗ БЕЛГРАДА ОТ «0135»
«4 апреля Шатилов выехал в Белград. На вокзале в Софии его встречали посланник Н. М. Петряев и военный представитель Врангеля генерал Вязьмитинов. Шатилов сообщал о целях миссии, просил через десять дней, когда он вернется, подготовить болгарские правительственные и общественные круги. Петряев заметил, успех переговоров в Софии будет зависеть от переговоров в Белграде: правительство следит за позицией Белграда и, желая установления с Сербией возможно близких отношений, будет следовать позиции победившего ее соседа. Вязьмитинов заверил, что имел переговоры с начальником штаба Болгарской армии полковником Топалджиковым и надеется на успех.
6 апреля Шатилов прибыл в Белград. На совещании посланником В. Н. Штрандтманом и военным агентом Д. Н. Потоцким был намечен план визита: встреча с председателем правительства Пашичем; представление с его помощью королевичу Александру; визиты министрам и наиболее влиятельным политическим деятелям. Штрандтман заявил: все дело в Пашиче. Военное министерство предполагает использовать чинов армии на службе в пограничных войсках. Прибывшие с миссией Львов и Хрипунов выступали с докладами о бедственном положении армии и беженцев в лагерях с целью воздействовать на общественное мнение и печать. Одновременно в Белград прибыли генералы Богаевский и Науменко. Они сделали ряд публичных сообщений о состоянии казачества, о долге сербского народа помочь русскому, как некогда Россия помогла Сербии в ее беде.
10 апреля председатель Скупщины принял русскую делегацию: Шатилова, Львова, Хрипунова и обоих генералов. Шатилов передал обращение к Скупщине, охарактеризовал неблагоприятную обстановку в Константинополе, просил содействия, оказания давления на Пашича. Председатель Скупщины, заверив в полном сочувствии, ответил уклончиво распорядительные функции власти в Королевстве принадлежат исключительно правительству, а посему его участие в переговорах почти исключается...
Из беседы Шатилова и Штрандтмана:
Посланник заявил, что вопрос о русской армии целиком не зависит от Пашича, он-де не самостоятелен, ему мешают министры-демократы, которых он должен обработать до обсуждения дела в Совете министров. Поэтому Пашич не может пока принять Шатилова. Шатилов обратил внимание Штрамдтмана на то, что прошло 5 дней после подачи через Пашича письма Врангеля Александру, на которое нет ответа, просил обратиться с просьбой о срочном приеме. С целью ускорения событий на следующий день он нанес визит в секретариат в сопровождении «необычайно осторожного Василия Николаевича» (как он называет посланника), однако еще два дня не дали ответа. Шатилов предложил обратиться к Пашичу от своего имени с письмом: его ожидание затянулось, он обязан вернуться к армии, которая встретит его без положительного ответа не лучшим образом — он опасается взрыва негодования. Штрандтман уступил, взяв обещание, что тон обращения не будет «очень горячим». Шатилов обещал дать письмо на просмотр. Утром письмо было отправлено, вечером получен ответ: 14 апреля Шатилов будет принят Пашичем. Была заготовлена справка о военных лагерях, решено просить принять 15 тысяч на работы и 10 в пограничную стражу. Встреча состоялась в министерстве иностранных дел, где помещается кабинет председателя правительства. Шатилов казался растерянным. («Мне стало страшно, — сказал он позже. — Как грубый старик сможет понять нас, нашу идеологию, стремление сохранить армию и понять ее значение? Как управление государством в сложный период поручено такому старику?») Беседа продолжалась час. Пашич достаточно хорошо говорил по-русски. Шатилов просил скорейшего ответа на вопросы главнокомандующего — Пашич таких ответов давать не хотел. Шатилов настаивал. После долгах споров Пашич обещал на ближайшем заседании Совета министров провести вопрос о принятии на работы первой партии русских в количестве 5 тысяч человек и еще нескольких тысяч — в пограничную стражу. Что касается дальнейших контингентов, Пашич считает необходимым приискать в будущем соответствующие работы, каковые в настоящее время еще не производятся». Шатилов спросил; даст ли правительство приют армии и ее командованию на территории Королевства, если мы изыщем средства для ее содержания? Пашин ответил «да».
15 апреля Шатилов и Потоцкий посетили военного министра Иоваповича, чтобы обсудить детали пограничной службы. Шатилов, заверив, что для заполнения представленных вакансий будут выбраны наиболее боеспособные, дисциплинированные и приспособленные для этого части, стал интересоваться, какое количество людей примет стража. Министр ответил: примерно 5 — 7 тысяч. Ряд вопросов о положении офицерства, предоставлении командных должностей Шатиловым не был поднят умышленно, из-за опасения «провалить дело до того, как принятие войск не выльется в реальные формы».
15-го Штрандтман известил Шатилова о том, что 16-го в пять часов вечера его примет королевич Александр.
Шатилов был принят в гостиной. Александр начал разговор по-русски, переходя на французский, извиняясь, что стал забывать язык. Шатилов согласился говорить по-французски. Александр предложил ему прочесть памятную записку. Шатилов прочел по-русски, дабы сохранить идентичность текста. Я служил переводчиком.
Из дальнейшего разговора с сербским королевичем:
Александр сказал, что Пашич посвятил его в содержание переговоров с Шатиловым. Шатилов просил дать скорейший толчок к увеличению числа войск, принимаемых в первую очередь. Александр обещал, спросил, как понял генерал ответы Пашича на его запросы? Шатилов так сформулировал итог беседы с Пашичем: 1) Председатель правительства дал согласие на принятие русской армии на территории Королевства сербов-хорватов-словенцев — с тем чтобы содержание контингентов, не принятых на работы или в пограничную стражу, не легло бы на средства страны. 2) К переезду в Королевство вместе с армией ее командования препятствий не возникает. 5) В самое ближайшее время будет перевезено около 5 тысяч человек. 4) Дальнейший прием на работу будет возможен по мере приискания подходящих массовых работ. 5) На службу в пограничную стражу будет принято несколько тысяч человек, точное количество и сроки принятия которых будут определены военным министерством.
Александр подтвердил: это именно то, о чем информировал его Пашич. Шатилов поинтересовался: сможет ли он передать ответ командующему русской армией? Королевич дал согласие.
По совету Штрандтмана Шатилов написал письмо послу в Вашингтоне Бахметьеву, которое посланник обещал отправить через Париж первой оказией. Констатируя тяжелое положение армии в Константинополе и сообщая о согласии Королевства принять воинские контингенты, если на их содержание будут изысканы средства, Шатилов просил Бахметьева выполнить патриотический долг и обеспечить имеющимися в его распоряжении средствами части, переброшенные в Сербию.
17 апреля миссия выезжает в Софию.
Генерал Вязьмитинов, встретивший миссию в Софии, доложил: из-за болезни председателя болгарского правительства Стамболийского ничего не сделано. Шатилов начал переговоры со второстепенными правительственными деятелями. При содействии посланника Петряева ему удалось добиться помощи французского посланника в Болгарии русофила Жоржа Пико и епископа Стефана. По их информации царь Борис — слепое орудие в руках грубого мужика премьера Стамболийского. Опору решено делать на начальника армии Топалджикова, по существу управляющего военным министерством, во главе которого стоят сменяющие друг друга политические деятели, ничего не смыслящие в военном деле
Через два дня Шатилова и Вязьмитинова принял царь Борис. Встречал секретарь царя Груев, представил адъютанту, с которым осматривали знамена болгарских полков, портреты царей, картины эпохи Освободительной войны. «Здесь все отдает русским духом. — заметил Шатилов. — И всюду важно русское влияние, несмотря на старания царя Фердинанда выколотить из болгар симпатии к России».
Беседа с Борисом продолжалась 30 минут. Царь интересовался положением армии, осуждал решение французских властей, обещал помощь. Однако дважды подчеркнул: его участие возможно лишь в пределах его конституционных прав. Выйдя из дворца, Шатилов сказал: «Я понимаю, этот визит не подвинет нашего дела»,
На переговорах с Топалджиковым и министром общественных работ установлена возможность принять несколько тысяч человек на строительство и ремонт шоссейных дорог. Переговоры свернуты из-за настойчивых вызовов Врангеля. 23-го выезжаем в Константинополь. Причина срочности отъезда неизвестна. На имя Стамболийского Шатиловым оставлено письмо с просьбой о приеме Болгарией частей русской армии. Переговоры в Греции» Чехословакии поручены Врангелем генералу Кусонскому, в Венгрии — полковнику фон Лампе.
0135».
ИЗ ЦЕНТРА «БАЯЗЕТУ»
«Чем вызван срочный вызов Шатилова?»
В ЦЕНТР ЧЕРЕЗ «ДОКТОРА» ИЗ ГАЛЛИПОЛИ ОТ «БАЯЗЕТА»
«Шатилов отозван ожидаемой нотой правительства Франции, предполагаемым полным роспуском армии.
Баязет».
Приложение 1 к информации «0135»:
«18 апреля 1921 года. Нота французского правительства.
...Генерал Врангель образовал в Константинополе нечто вроде русского правительства и претендует сохранить войска, вывезенные им из Крыма, как организованную армию... Генерал Врангель не только не понимает, что все меры были приняты нами исключительно ради забот о действительных интересах эвакуированных, но постоянно в своих личных интересах оказывает давление на своих прежних солдат, стремясь удержать их от выполнения даваемых им Францией советов... Франция уже потратила 200 миллионов, из которых едва ли не одна четверть покрыта стоимостью судов и товаров, принадлежащих бывшему Правительству Юга России и переданных им Франции в виде залога... Не предусмотрено никаких кредитов для удовлетворения какой бы то ни было русской армии, находящейся на территории Константинополя. Существование на турецкой территории подобной армии было бы противно международному праву. Оно опасно для мира и спокойствия Константинополя и его окрестностей, где порядок с трудом обеспечивается союзнической оккупацией...
Ввиду поведения генерала Врангеля и его штаба наша международная ответственность заставляет нас освободить эвакуированных из Крыма от воздействия генерала Врангеля — воздействия, осужденного всеми серьезными русскими группами. Не оказывая никакого давления на самого генерала Врангеля и его офицеров, необходимо разорвать их связь с солдатами.
Все русские, находящиеся в лагерях, должны знать, что не существует больше армии Врангеля, что бывшие их начальники не могут ими больше распоряжаться и что впредь они совершенно свободны в своих решениях. Франция, более пяти месяцев помогавшая им ценой больших затруднений и тяжелых жертв, достигла пределов своих возможностей и не в состоянии далее заботиться об их довольствии и лагерях. Франция, спасшая их жизнь, со спокойной совестью предоставляет им самим заботиться о себе...»
Приложение 2 к информации «0135»:
«Согласно сообщения генерала Миллера из Парижа посол Бахметьев ассигнует 400 000 долларов на нужды армии при условии расходования денег через земско-городское объединение, распоряжением его председателя князя Львова. Врангель уведомил Миллера телеграммой о необходимости добиться отмены субсидирования армии через Львова, изыскать иные пути. Миллер доносит: деньги из Америки будут поступать в распоряжение дипломатических представителей России в Париже.
Генерал Вязьмитинов, завершивший переговоры после отъезда Шатилова, доносит: можно немедля отправлять в Болгарию тысячу человек на разные работы. По общему мнению миссия Шатилова на Балканы в скором времени будет иметь продолжение»
ИЗ ЦЕНТРА «0135»
«Дузик Владимир Иванович, русский, не женат. родился в Воронеже. Из мещан. Мать — Анна Ивановна. Отец — Иван Петрович, банковский чиновник. Окончил коммерческое училище, школу прапорщиков. В подпоручики произведен на турецком фронте.
Издетский Станислав Игнатьевич, русский польского происхождения, не женат, родился в Вильно. Отец — Игнат Сигизмундович — из разорившихся дворян, убит крестьянами в феврале, мать — Анастасия Михайловна — из дворян, и две сестры проживают в Пскове. Окончил кадетский корпус, юнкерское училище. Служил виленском отделении отдельного жандармского корпуса, деникинской контрразведке, кутеповской контрразведке. Жесток, циничен, корыстолюбив. Во время службы в Вильно замешан в шулерстве, предупрежден офицерским судом чести. В Крыму принимал участие расстрелах пленных. Исполнитель. Как оперативник, способный на самостоятельные действия, ценности не представляет. Опасен связями с контрразведчиками, крайним фанатизмом.
Центр».
Глава девятая «ГОЛОЕ ПОЛЕ». (Окончание)
1
Фон Перлоф ехал в Галлиполи с двойным заданием. Нужно было встретиться с Кутеловым и «прощупать» его, передав «секретные», а на деле ничего не значащие распоряжения главнокомандующего. После беседы с Кутеповым он собирался повидать своего агента при штабе корпуса, чтобы перепроверить сведения о Кутепове.
Было очень жаркое утро. Фон Перлоф плохо переносил турецкую влажную жару и, приближаясь к полуразрушенному городку, с тоской и раздражением думал о том, какие адовы муки ждут его в полдень: и физические и нравственные, когда зной станет невыносимым, ноги ватными, а тело покроется липким потом и он вынужден будет один за другим менять носовые платки. Перлоф был крайне брезглив: случалось, дважды в день менял белье, обтирался одеколоном или спиртом, при первой возможности мыл руки, хотя при выходе обязательно надевал перчатки тончайшей лайки.
Как только Перлоф сошел на пристань, плотная, густая духота охватила его. По выжженной солнцем, высвеченной и оттого казавшейся совершенно плоской и белой улице он двинулся к штабу армейского корпуса, высоко и осторожно поднимая ноги в щегольских сапогах и брезгливо опуская их в клубы легкой воздушной пыли, невесомыми облачками вздымающейся вокруг него. Белая пыль поднималась над Галлиполи к густо-синему бездонному небу. Вокруг города спокойно лежала сине-зеленая пустыня моря. Казалось, горячая, душная дрема погубила здесь все живое.
Навстречу, ритмично перебирая копытцами, двигались два библейских ослика. Между ними на жердях в гамаке лежал офицер, в беспамятстве. Вероятно, тифозный или малярийный. Пожилая сестра милосердия с исступленными глазами шла сзади.
Возле запыленного, забитого ящиками и жестянками сарая, на котором бессильно обвисал выгоревший звездный американский флаг, встретился ему огромный, костлявый, плечистый офицер. Заложив руки в карманы штанов цвета хаки и заметно приволакивая правую ногу, он двинулся навстречу генералу, ослепительно улыбаясь.
— Хаю ду ю ду? — сказал он и, протянув длинную, как оглобля, руку, в мгновение ока оторвал от генеральского мундира пуговицу.
Фон Перлоф оторопел.
Американец, продолжая ослепительно улыбаться, оторвал с нагрудного кармана френча свою пуговицу и протянул ее генералу на большой, точно сковородка, ладони.
— Я — ты!.. Ты — я! Мена — карашо! — американец доброжелательно рассмеялся и, вытащив из глубокого кармана штанов несколько орденов и тускло блеснувших медалей, добавил их к пуговице: — Давай, давай! Ты — я! Какао? Клэб? А?.. Лира? Уан, ту? Давай, давай!
Фон Перлоф пожал плечами. Связываться не хотелось: знал, через склад Американской ассоциации помощи поступают в Галлиполийский лагерь одеяла (из которых шьют галифе), бумазейные пижамы, шарфы, молоко, игральные карты и даже бритвенные помазки. Торгаши! Все они торгаши — союзники! А еще говорят, кормим русскую армию, скоты!.. Но американец, похоже, все еще надеялся на совершение сделки. Он цепко схватил повернувшегося было Перлофа за руку — сила его клещей была нечеловеческая — и принялся выкрикивать с упорством и уже явным недовольством:
Клэб! Ту! Ту клэб! Лира! Какао, раша! А? О!
Перлоф четко, презрительно сказал по-английски:
— Я генерал, сударь. Дайте пройти, черт вас побери!
Американец вытянулся и щелкнул каблуками высоких шнурованных сапог. «Good luck»!»[5] — крикнул фамильярно, отдал честь и вроде бы подмигнул, улыбаясь, каналья! И беспокойная мысль мелькнула у Перлофа: «За буханку хлеба здесь любого офицера — на выбор! — в большевика превратить ничего не стоит!»
...Кутепов принимал посланника Врангеля в штабе корпуса, в своем кабинете, приказав никого не пускать, не мешать беседе. Александр Павлович ничуть не изменился и, как всегда, поражал выправкой. Его смуглое лицо тронул загар, густая холеная бородка расчесана надвое, усы с загнутыми вверх концами воинственно топорщились. В то же время Кутепов точно выставлял напоказ то новое, что появилось в нем, — спокойствие, самоуверенность и реальную силу предводителя, вождя армии. Слушая распоряжения главнокомандующего, Кутепов характерным лихим жестом то и дело подкручивал ус, принимал позы, долженствующие изображать величие, занятость, усталость, нетерпение оттого, что ему навязывают сущую безделицу и отрывают от дел подлинных, неотложных. Он картинно подпирал голову, откидывался в кресле, смотрел через окно вдаль, и только его запрятанные подо лбом, медвежьи, с монгольским, раскосом глаза оставались прежними, кутеповскими. В них таилась офицерская привычка к выполнению приказов, данных старшими, к беспрекословному подчинению. Уверовав в это, фон Перлоф успокоился: Кутепов еще не вырвался на самостоятельную дорогу. Однако не следует успокаивать главнокомандующего. Кутепов «на подъеме», его мечта — стать командующим русской армией, оставив Врангелю политические функции. На этом следует поиграть, лавируя между обоими и стараясь выяснить, к кому станет склоняться Александр Павлович — к великому князю Николаю Николаевичу во Франции или к великому князю Кириллу Владимировичу в Германии. До этого дело дойдет: вот-вот появится человек, который предъявит права на русский престол.
Фон Перлоф расспрашивал о положении в городе и лагере. Кутепов отвечал: количество беженцев увеличилось, но он имеет силы справиться с ними, несмотря на агитацию французов и их приказы, на помощь американцев чинам армии, переходящим на положение гражданских лиц. Перлоф заметил, что газеты пишут о росте возвращенческих настроений в частях — в ответ на меры по укреплению дисциплины. Кутепов сказал жестко;
— Все чины корпуса с нетерпением ждут часа, когда приказом будет объявлено движение в Россию. Лучшим ответом на выдумки враждебных писак о палочной дисциплине и прочих мерах стал смех, с которым корпус читает их дерьмовые бредни.
— А письма офицеров? Как вы допустили публикацию их, генерал?
— Они не боевые офицеры! Дрянцо!
— Это уж неважно, простите, Александр Павлович. Письма прозвучали громко, на весь мир.
— Повторяю, они уже не офицеры, генерал, — сказал Кутепов грозно. — Мы метлой вымели их из наших рядов! Скоро у нас торжество — производство в офицеры юнкеров старшего класса. Приглашаю и вас.
— Благодарю, — небрежно отозвался Перлоф. — ...Позвольте вернуться к прежней теме, — сказал он. — Считаю, и дело полковника Щеглова было произведено с излишней поспешностью и гласностью, которой, естественно, не преминули воспользоваться враги армии и левая пресса.
— Тут выхода не было, — по-прежнему жестко и безапелляционно возразил Кутепов. — Щеглов агитировал против главного командования. Я получил ряд рапортов. Это и побудило меня организовать дознание.
— Простите, — вежливо, но сухо и твердо перебил фон Перлоф. — Полковник, известный в русской армии, пере ходит в разряд беженцев, собирается уезжать — бог ему судья! Пускай! Проявите терпимость, на нас нацелены тысячи биноклей Европы! И вдруг становится известным: полковник арестован, внезапно помещен в госпиталь. Действия ваших людей лишены гибкости.
— Военно-полевой суд вынес приговор, — проговорил Кутепов угрюмо. — А я утвердил смертную казнь. Чтоб другим наука!
— Командующий не против ваших действий, господин генерал. Вероятно, следовало изолировать Щеглова. Командующий обращает внимание на осуществление методов без должной гибкости, дипломатической.
— Что у вас еще, простите? — Кутепов спросил мрачно и принял позу, долженствующую обозначать крайнюю занятость. И тут же поинтересовался, понимая, что переиграл: — Какие новости в Константинополе? Как происходит устройство армии на Балканах?
— Ничего, слава богу. «Рашид-паша» вышел в море. Следом «Карасунд» повез отделы штаба.
— Прекрасно! — .с аффектацией воскликнул Кутепов. — Начало есть!
— Не обошлось, впрочем, и без инцидентов. Французы потребовали разоружения конвоя. Мы, разумеется, отказались. Назревал конфликт. Генерал Шатилов проявил чудеса дипломатической изворотливости. — Перлоф осклабился презрительно: — У него опыт в подобных делах. Он приказал сдать оружие — неисправное, конечно, а остальное тайно перенести на пароход. Французские офицеры, к счастью, вели себя достойно: сделали вид, что не замечают наших пулеметов и винтовок.
— Браво! — Кутепов засмеялся. — Они боятся нас!
— Плохое впечатление на греков в Салониках произвело то, что оба наших парохода шли под турецким флагом. Когда «Рашид» стал швартоваться, к пристани были стянуты войска. Хорошо, кто-то скомандовал: «Салют грекам!» — и трубачи сыграли греческий гимн. По прибытии «Карасунда» выяснилось: на обоих пароходах более пяти тысяч солдат и офицеров. Говорят, с генералом Шарпи был обморок, не ждал и трех тысяч, приказал «лишних» на берег не пускать. Чуть не силой пришлось нашим пробиваться к железной дороге.
— Все же дерьмо этот Шарпи! У нас же весьма пристойные отношения с греками.
— Не спорю, генерал, — контрразведчик улыбнулся. — Это компетенция политиков. Мы — люди военные.
— Не согласен, — покровительственно заметил Кутепов. — Если мы не станем политиками, нас сомнут. Мы обязаны сохранить честь и традиции русской армии. Теперь — это политика. Прежде всего!
«И он поучает меня, солдафон! — подумал фон Перлоф презрительно. — Он — политик! Поэтому и ломаем дрова. Поэтому и орут на нас со всех сторон: все считают себя политиками».
— Насколько мне известно, — сказал Перлоф как бы между прочим, — среди беженцев есть и корниловцы, и дроздовцы, и даже первопоходники. Чем вы объясняете это, господин генерал?
— Пестротой наших частей в Галлиполи. Голодом, неудобствами, отсутствием средств. Слабостью духа одиночек! Приходится смотреть в глаза правде. Я, как командир корпуса, естественно, принимаю всевозможные меры. Считаю, выход — один: усиление дисциплины.
Выслушав тираду командира корпуса с видимым сочувствием, фон Перлоф начал разговор, ради которого он и посетил Кутепова. Немалое значение в его миссии отводилось сообщению вчерашних константинопольских газет, которые Перлоф захватил. Они наверняка не дошли до Галлиполи, и никто не знает о сенсационном заговоре, в раскрытии которого и он, Перлоф, сыграл определенную роль при помощи своих людей.
Началось с арестов на пароходе «Франц Фердинанд», пришедшем из Батума. Союзническая полиция и пехота с помощью турецкой полиции произвели облавы и одновременный удар по нескольким очагам большевизма в разных частях города. Обыски и аресты с двух часов ночи до утра происходили в здании советской торговой миссии, в Центросоюзе, в гостиницах, ресторанах, частных домах и даже трамваях. Взламывались сейфы, увозились документы. Арестованные в наручниках препровождались во французскую казарму «Виктор» и на военные суда, на английский адмиральский дредноут «Аякс». Газеты полагают, попалась вся красная сеть, списки турецких коммунистов, план восстания.
— И что же? — Кутепов играл заинтересованность.
— Идет следствие. Большевистский муравейник разорен, во всяком случае. Красные заявили протест.
— У меня несколько иные данные, — Кутепов уже не скрывал торжества. — Ваши друзья-союзники извалялись в собственном дерьме и попросили пардону у Советов.
— Но я четыре часа как из Константинополя!
— За эти часы ваши данные устарели. Советская торговая миссия освобождена. Полностью! Английские власти запретили печатать в газетах информацию об арестованных, заявив, что репрессиям подвергались не большевики, а преступники, готовившие восстание в пользу Кемаля. И тут же поспешили заверить: досадный инцидент исчерпан, торговля с Советской Россией будет продолжаться. Греческое корыто, идущее в Керчь, грузится как ни в чем не бывало. Вот так!
— Да, да, — развел руками Перлоф. — События! И честь вам: вы оказались куда как более сведущи.
— Вам могу сказать больше, Христиан Иванович. По моим данным, часть красных сочла необходимым после освобождения уехать из Константинополя. Удрали на парусно-моторном судне «Аспазия». Почему? Как вы думаете? — Кутепов хмыкнул.
Справившись с удивлением («Кутеп-паша» оказался не таким уж простаком и солдафоном, он цепко следил за событиями, происходящими вокруг, и пытался влиять на них), фон Перлоф все же начал задуманный зондаж. Он ответил, что на «Аспазии» удрали, вероятно, скомпрометированные, которые могли «засветить» кого-то из хорошо законспирированных агентов. Тут не может быть иного мнения. По его данным, главное направление большевистской сети — работа против армии и разложение эмиграции. Главнокомандующий не вполне согласен с ним, и это рождает в последнее время некоторые разногласия. Кутепов «клюнул». Подобная постановка вопроса позволила Перлофу перейти к развитию мысли о том, что Врангель, оторванный от армии и «задавленный» делами дипломатическими, государственными, финансовыми, все более перестает быть подлинным командующим, вождем, и сотрудничать с ним становится все труднее» Он, Перлоф, всегда со вниманием относился к боевым делам Александра Павловича, с восхищением следил за его карьерой и теперь преклоняется перед его умением сплачивать людей и авторитетом, ибо он, и только он, сохраняет армию, ее костяк здесь, в Галлиполи.
Да, Кутепов клюнул на грубую лесть. Или сделал вид, что клюнул, и фон Перлоф добавил: он с удовольствием послужил бы под командованием прославленного полководца. Кутепов не оценил откровенного предложения и, поблагодарив за добрые слова, заметил: счастье, что в лихую годину во главе армии за рубежом стоит Врангель. Ныне он — знамя не только воинских частей, но и русской государственности. Перлоф согласился, но пояснил: сейчас один человек, каков бы он ни был — хоть семи пядей во лбу, — не в силах одновременно руководить и армией и эмиграцией, при столь разрозненном ее характере и политических интересах. Он считает, Кутепов обязан возглавить русское воинство.
Кутепов и с этим согласился, хотя отметил, что идея разделения власти в настоящий момент представляется ему несвоевременной и нуждается в обдумывании. И лишь в самый последний момент Александр Павлович позволил себе приоткрыться: сказал, что с благодарностью принял бы службу такого опытного разведчика, каким является фон Перлоф, но, вероятно, услуги его оказались бы более необходимы в случае, если бы Христиан Иванович оставался при штабе главного командования, поддерживая при этом контакты и с признательными ему галлиполийцами. Это можно было считать уже успехом! Фон Перлоф решил, что ему следует остаться на некоторое время при Кутелове, чтобы спокойно и внимательно во всем разобраться, все увидеть и проанализировать. Кутепов без энтузиазма принял это заявление, понимая, что врангелевский соглядатай свяжет его по рукам и ногам, усилит свою доносительскую деятельность. Он служит не ему, а Врангелю, все сегодняшние разговоры — сотрясение воздуха, контрразведчик приехал инспектировать его, усиливать деятельность своей агентуры. «Кто тут возле меня работает на этого прощелыгу?» — подумал Кутепов и вдруг обиделся и оскорбился: — Сучьи дети! Вместо того чтобы стать в строй и бороться за единство, они шпионят друг за другом, вербуют и перевербовывают одних и тех же людей. Дерьмо!»
— К сожалению, генерал, я не смогу уделить вам много времени: дела насущные, и несть им числа, — сказал он сухо.
Фон Перлоф, решившись, бросил «Кутеп-паше» последний козырь, идею, которую он вынашивал:
— Разрешите, ваше превосходительство, задержать ваше внимание еще несколько минут? Не могу уйти, не поделившись с вами перспективной идеей.
— Слушаю, генерал, — Кутепов хмуро крутанул ус и с видимым сожалением отодвинул бумаги: — Видите, чем меньше войск, тем более документов. Так что за идея?
— В двух фразах, ваше превосходительство. Раз люди все равно бегут в совдепию, надо засылать с ними своих агентов.
— Мои люди не бегут, — не скрывая раздражения, отчеканил Кутепов и встал. — Бежит дерьмо собачье! А ваших людей вы и посылайте. Хоть в совдепию, хоть к господам союзничкам, хоть прямиком в ад. Честь имею. Простите. Надеюсь увидеть вас перед отъездом.
Дневной зной изматывал фон Перлофа. Серая пыль покрывала разгоряченное, точно натертое кирпичом лицо. Липкий обильный пот, пропитавший одежду, связывал движения. Фон Перлоф с тоской отметил, что стареет и сдает. Как всегда, четко оценивая ситуацию, Христиан Иванович вынужден был констатировать: да, сегодня, на чужой земле, но среди своих он чувствовал себя хуже, чем тогда, в любой из заграничных разведывательных командировок. Почему? Трезвый, натренированный ум фон Перлофа выдавал ему ответ, состоящий из одного слова «обреченность», но все его естество восставало против подобного определения, лишающего смысла все его действия. С этим невозможно было смириться, и, продолжая анализировать положение, в котором ныне оказался он, Христиан Иванович начал приходить к иному выводу: дело не в старости, не в убивающей галлиполийской жаре, дело в том, что он теряет ориентиры. Сегодня он не знал точно, какому хозяину служит и — что было более важно! — какому хозяину должен служить...
Приходили к Перлофу беспокойные мысли и о Ксении. В последние дни она переменилась — возбуждена, нервна, резка. Надо увезти ее. В Белград? На Адриатическое побережье? Подальше от Константинополя, во всяком случае. Хотя здесь он может оберечь ее, сделать все для ее лечения — употребить свое влияние, деньги, силу, наконец. А когда они расстанутся, их разделит тысяча километров и она вновь останется одна — слабая, растерявшаяся, одинокая девочка — единственное родное существо, которое так внезапно вошло в его жизнь. Скорее бы завершились переговоры и штаб переехал на Балканы. Но сколько еще ждать этого? И вправе ли он рисковать здоровьем Ксении, ее безопасностью? Не эгоизм ли это — желание не расставаться с ней?
Обдумывая эти проблемы, фон Перлоф занимался, разумеется, обыденными делами. Он посетил штаб корпуса и разведотдел, где беседовал со старшими офицерами и получил возможность ознакомиться с документами, из которых самыми интересными для него оказались донесения осведомителей о положении частей, находящихся в «Голом поле». Кутепов уповал на устав и железную дисциплину, однако настроения солдат и части офицерства внушали серьезные опасения. Не дай бог какой-нибудь искры! Лагерь, точно пороховая бочка, в секунду взлетит в воздух. Самоуверенному Александру Павловичу следует дать своевременный совет — пусть он выпускает пар потихоньку и не препятствует наиболее ретивым вернуться в совдепию.
Фон Перлоф столкнулся в штабе и с человеком, которого после Крыма заставил работать на себя. Они сумели обменяться несколькими фразами, договориться о встрече. На эту встречу фон Перлоф и направлялся, проклиная и не ослабевавшую даже к вечеру жару, и «белые рубахи», и всех этих одинаково черномордых турков, греков, евреев, армян — и бог знает кого еще! — что, гомоня и толкаясь, заполняли улицы без названий и дома без номеров, собирались в очередях за водой у пересыхающих фонтанов, орали друг на друга, ссорились и мирились, совершая свои копеечные сделки возле мелочных лавок и шинкарен, кофеен, — один аллах ведает, как называются эти жалкие, крысиные норы! Впрочем, и соотечественники не отставали — как же без трактира на берегах Мраморного моря! Извольте посетить — корчма «Пронеси, господи!», только для господ офицеров. Точно: гульба, выкрики, нестройные голоса корниловцев горланят свой марш: «За Россию и свободу если в бой зовут, то корниловцы и в воду, и в огонь пойдут!» Боже, кто может спасти, сохранить армию?!
Фон Перлоф выбрался из лабиринта кривых улочек — Галлиполи кончился — и пошел к западу. Здесь, примерно в полуверсте от города, на склоне холма, обращенного к проливу, на кладбище находили последний приют многие жители «Голого поля». Здесь, миновав три кипарисовых креста, у креста железного, изготовленного в мастерских технического полка и водруженного на могиле неизвестного Перлофу генерал-майора Орлова, и должен был ждать Христиана Ивановича «его человек», освещавший всю галлиполийскую ситуацию и прежде всего деятельность Кутепова... Могил было предостаточно, многие — совсем свежие. Вид их окончательно испортил настроение генерала. Вырытые как попало, без плана и порядка, наспех, они затрудняли ориентировку. Наконец, фон Перлоф заметил три кипарисовых креста и направился к ним. Из-за могилы шагнул ему навстречу человек. Это был капитан Калентьев.
— Здравствуйте, капитан.
— Здравия желаю, господин генерал!
— Не лучшее место для беседы, а? Отведете меня к себе. Есть что-либо новое на этой адовой сковородке?
— Я не знал о вашем приезде и вчера отправил донесение по обычному каналу.
— Меня интересует Кутепов.
— Александр Павлович озабочен. Основная его задача — сдержать генерала Туркула, претендующего на особую роль в командовании корпусом. Туркул беспринципен. Он атакует Кутепова слева. В его палатке вечерами собираются дроздовцы. Перехвачено письмо в Париж к лидерам республиканских кругов. Смысл прост, как дважды два: довольно монархий, даешь республику! Имела место и открытая демонстрация. Перед палаткой командира Дроздовского полка на лагерной линейке у двуглавого орла на клумбе была снята корона. Кутепов пришел в ярость. Туркул принес публичное извинение. Кутепов обнял его, но...
— Понятно, — перебил фон Перлоф. — Развитие этих отношений перспективно для нас. Туркул свяжет руки Кутепову. Надо узнать, кто за кем стоит и из каких источников они кормятся. Особо — этот Туркул.
— Пока он кормится за счет своей популярности.
— Поверьте: времена батьки Махно прошли. Главнокомандующий поддержит Туркула и его офицерский кружок. А как происходит депортация с точки зрения Александра Павловича?
— Он понял, что не в силах удержать желающих. Издаются новые приказы. Воинские чины, перешедшие в трехдневный срок в беженцы, изолируются в специальном лагере. Они обязаны до отъезда неукоснительно соблюдать требования воинской дисциплины. В случае ее подрыва «свободные граждане» будут преданы суду за дезертирство с захватом казенного имущества. Военно-полевой суд уже рассмотрел несколько подобных дел. О случаях расстрелов за разложение частей я сообщил. Как и о случае самовольного отъезда в Болгарию тысячи человек, инспирированном французами. Да, девятьсот пятьдесят солдат, пятьдесят офицеров. Врангель крайне расстроен. Учтите, в Галлиполи отправлен приказ — в связи с начинающейся передислокацией частей это особенно важно — командирам эшелонов под их личную ответственность вменяется в обязанность не принимать на посадку беженцев, а если таковые и будут посажены французами — докладывать о них немедля русским представителям в пункте высадки. И все же мы, капитан, опоздали. Опоздали! Из Софии получена телеграмма, имеющая отношение к той тысяче, что поплыла в Болгарию. Нам сообщают: допущение в страну элементов, за которых главное командование не способно поручиться, нежелательно, ибо может заставить болгар взять обратно с таким трудом полученное согласие принять наши контингенты. Что ж. Темнеет. Пойдем, пожалуй. У нас еще долгий разговор, а тут это... грязное кладбище. — Перлоф брезгливо поморщился.
— Заранее прошу прощения за свою берлогу, — сказал Калентьев.
Они спустились с холма и вышли на берег. Багровое огромное солнце скрывалось за кромку моря. Скрипел под ногами влажный песок.
— Что в общественной жизни? Есть ли настораживающие моменты?
Калентьев ответил меланхолически:
— Храмов — семь, всевозможных союзов, рукописных листков, газеток и журналов — раз в десять больше. Наиболее представительный — «Союз кавалеров ордена святого Георгия Победоносца», включающий триста восемьдесят пять членов, и медицинское общество из ста восемнадцати членов; самые малочисленные — кружок шахматистов и любителей фотографирования. Местный юмор получает развитие в журнале с веселым наименованием «Эшафот». Театр репетирует Арцыбашева. Кутеповский официоз, газетка «Огни», названа офицерами — прошу прошения, господин генерал, — «Паршивкой». Недавно был показательный, театрализованный суд над Максимом Горьким за измену русской культуре. Дважды выступала с концертами Плевицкая. Ее солирование в баре Корниловского полка вызвало бурю восторга.
— Устали? — спросил вдруг участливо фон Перлоф. — Хотите, отправим вас в Болгарию первым транспортом?
— Никак нет! — Калентьев внутренне подобрался, поняв, что генерал, проверяя его, лишь кидает ему приманку. — Я готов и дальше выполнять порученное мне.
— Вы будете поощрены по службе, капитан. Я думал про облегчение вашей работы. Для сдерживания Кутепова главнокомандующий направляет сюда Кусонского. Мы позаботились о том, чтобы он забрал вас к себе. Будет проще со связью: сможете использовать официальные штабные каналы. Сегодня мы поменяем шифр.
— Благодарю вас... Мы пришли. Прошу извинить.
Пригнув голову, фон Перлоф шагнул в темную каменную клеть. Судорожно дернул влево-вправо головой:
— Как вы живете здесь, Калентьев?
— Многие живут хуже, — равнодушно пожал плечами тот.
— Отдаю дань вашему повседневному мужеству и вашему безукоризненному виду, капитан. — И вдруг фон Перлоф нахмурился: — Позвольте, позвольте! Вы не один здесь?! Как это понять?
— Никто сюда не войдет, мы сможем спокойно работать.
— Но это... это ложе, — Перлоф с трудом подобрал слово. — У вас женщина?
— Так точно!.. Бывает. Иногда.
— Кто? Кто? — перебил Перлоф. — Уверены, что ее не подсунули?
— Абсолютно... Беженка, совершенно далекая от политики. Несчастная вдова. Я проверял каждый факт ее биографии. Не сомневайтесь. Прошу прощения, добрые чувства, сострадание, и... физиология. — Калентьев, скрывавший присутствие здесь Белопольского, вынужден был сочинять и дальше, чтобы не вызвать подозрений у внезапно нагрянувшего в Галлиполи генерала.
— Ну прекрасно! — Фон Перлоф надел пенсне, лицо его приняло замкнутое, хорошо знакомое Калентьеву выражение: — Вернемся к делам. Скоро начнется переброска армейского корпуса, и мы должны к ней подготовиться: задания, каналы связи, шифры.
— Слушаю вас, — сказал Калентьев, думая о том, чтобы сейчас, не дай бог, не появился Белопольский...
Фон Перлоф застрял в Галлиполи. «Попал под нескончаемые праздники», — доносил он главнокомандующему. В немалой степени задержке способствовал и Кутепов. Командир армейского корпуса всячески демонстрировал свое дружеское расположение, словно жалел о первом холодном приеме. Перлоф понимал — Кутепов удерживал его для того, чтобы проверить все контакты, перевербовать его и получить информацию о действиях Врангеля. Фон Перлоф был настороже, хотя ни от каких приглашений не отказывался, давал ни к чему не обязывающие обещания «Кутеп-паше» — и во время конфиденциальных бесед, и во время шумных застолий, где самым трезвым всегда оказывался командир корпуса.
2
Первое торжество проходило 12 июля — по случаю производства юнкеров в офицеры. На 16-е было назначено освящение памятника русским воинам.
Идея создания галлиполийского символа родилась в окружении Кутепова и пришлась ему весьма по вкусу «как демонстрация веры армии в ее неколебимые идеалы». Был объявлен конкурс на создание памятника (первая премия — пять лир, вторая — три). Победил подпоручик технического полка Акатьев. Ему же, во главе специальной команды из 35 человек, поручили строительство. Девятого мая памятник был заложен на вершине одного из холмов. Приказом объявлялось: каждый обязан возложить на братскую могилу камень весом не менее десяти килограммов. За несколько дней на холм было привезено двадцать четыре тысячи камней. И вот — 16 июля. Выстроены войска. Замерли трубачи и оркестры. Памятник напоминал шапку Мономаха, увенчанную мраморным крестом. Спереди — российский герб с двуглавым орлом, под ним — мраморная доска с текстом на русском, французском, турецком и греческом языках. «Первый корпус русской армии своим братьям-воинам, в борьбе за честь родины нашедшим вечный покой на чужбине в 1920 — 1921 годах и в 1845 — 1855 годах и памяти своих предков-запорожцев, умерших в турецком плену».
Воинские торжества Кутепов умел устраивать: богослужение, парад, депутации с венками из колючей проволоки и обрезков жести («Терновый венок — отличная деталь, подчеркивающая трагизм положения и мученичество русского воинства»), торжественная передача командующим коменданту Галлиполи акта, который давал городу право охраны русской святыни.
С речью выступил корпусной священник Миляновский — седой, с благообразным лицом, с глазами, полными слез, — заговорил, точно запел;
— Вы, воины-христолюбцы, дайте братский поцелуй умершим соратникам вашим! Вы, дети, помните... здесь заложены корни будущей молодой России...
Фон Перлоф следил за Кутеповым, стоящим рядом. Лицо командира корпуса светилось. Он не скрывал счастливой улыбки. Кутепов упивался зрелищем: он его создавал, он им командовал. «Боже правый, как мало нужно этому солдафону, чтоб он чувствовал себя вождем! — подумал Христиан Иванович. — Врангель может держать его за фельдфебеля. Кутепов совсем не страшен политику, ему лишь бы поиграть оловянными солдатиками».
— Вы — крепкие! Вы — сильные! Вы — мудрые! — продолжал выкрикивать как заклинания отец Миляновский дрожащим от старческих усилий голосом. — Вы сделаете так, чтобы этот клочок земли стал русским, чтобы здесь со временем красовалась надпись: земля государства Российского — и реял бы наш русский флаг!
«Ну и ну! — забеспокоился фон Перлоф. — И эти речи звучат на берегах Босфора и Дарданелл! Вот «обрадуются» союзники! Ведь он говорит словами Милюкова?! Черт бы побрал этого Кутепова со всеми его идеями!» Почувствовав чей-то пристальный взгляд, Христиан Иванович оглянулся. Сзади стоял Шаброль. Как некстати, однако. А он, Перлоф, в генеральской форме. Тогда, в «Жокей-клубе», за преферансом, он представился фон Граасом. Правда, с тех пор много воды утекло. Как ему стало известно, и у м’сье Шаброля есть основания опасаться, чтобы кто-либо не стал проверять его фамилию. Перлоф, отступив, придвинулся к французу.
— Рад видеть, — тихо сказал он. — Какими судьбами?
— Вы хотите добавить — в ваших краях? Я имею в виду иное, м’сье фон Граас. Вашу форму. Помнится, я был недалек от истины, когда говорил о немцах на русской военной службе.
— Считайте, я пойман на месте преступления. И прошу о снисхождении: виноват, люблю аристократические клубы, как вы коммерцию, вероятно. Но откровенность за откровенность. Что привело вас сюда?
— Коммерция, дорогой фон Граас, коммерция! За несколько сот лир приходится лезть и в пасть к дьяволу.
Каждый в душе не радовался этой случайной встрече, хотя Шаброль имел преимущество — он знал точно, кто такой фон Перлоф, и теперь думал, каким образом постараться использовать это. Христиан Иванович с трудом скрывал раздражение. «Знает ли француз, кто я? — думал он поспешно и мучительно. — Или ему, действительно, и дела нет?» Он успокаивал себя, но чутье разведчика приказывало ему держаться настороже.
— Может, я смогу быть вам полезен, раз судьба свела нас? — спросил Перлоф. — Генералы, как вы знаете, нынче не в моде, и каждому не худо бы обзавестись коммерческим делом: пушки замолчали надолго.
— Вы предлагаете мне сотрудничество? — заулыбался Шаброль, темные глаза его уперлись в собеседника испытующе, проницательно и холодно, точно два пистолетных дула. — Каковы будут наши вклады, генерал? Полагаю, с моей стороны — капиталы. А с вашей?
— И я могу быть вам полезен.
— Где? — живо повернулся всем корпусом француз. — Здесь? В будущей России? Это необыкновенно важно.
— Мне представляется важным иное, м’сье, — Перлоф «находил» наконец себя и чувствовал растущую уверенность. — Дело не в том, где. Дело в группе людей, которых — скажем так! — я представляю. Вот мой капитал.
— Это чрезвычайно интересно, — француз взял генерала под руку. — Полагаю, разговор предстоит весьма конфиденциальный, но не здесь же? У вас еще дела?
— Смею думать, нет. А у вас?
— Как только погрузят партию ковров, зафрахтованная мною яхта пойдет в Константинополь. Приглашаю и вас, генерал.
— Принимаю предложение с благодарностью.
— В таком случае обещаю и обед, с некоторыми неожиданностями. Гастрономическими, — Шаброль заразительно засмеялся. — Я взял с собой отличного повара, клянется, что работал у Донона, каналья!
Фон Перлоф исключил мысль о ловушке («Зачем французу убирать меня, если он и работает на французскую разведку? — подумал он. — Если он знает обо мне все, то ограничится перевербовкой...») и ответил спокойно, что поедет один, и с величайшей признательностью, ибо, пока он добирался сюда на военном баркасе, намучился достаточно, лишенный не только знаменитого повара, но и приятного попутчика.
— Ну, а что вы скажете по поводу воинственной речи русских на берегах Дарданелл? — спросил Шаброль.
— К счастью, тут не оказалось корреспондентов.
— Ошибаетесь, мой генерал! — Шаброль дернул коротко стриженной головой, и смоляные, набриолиненные волосы его как зеркало блеснули, отразив солнечный луч. — Я представляю «Пресс дю суар», — сегодня вечером Константинополь узнает о погромных речах русских!
— Вы не сделаете этого, м’сье Шаброль!
— А почему, собственно? — вскинулся француз.
— Это повредит нашему общему делу.
— Так мы уже в одном деле? Разве? Интересно! Вы отличный партнер, генерал! Нам, действительно, предстоит увлекательная морская прогулка!..
Фон Перлофа провожали чины штаба корпуса. Шаброля не провожал никто, и, когда партия похожих на мумии, свернутых трубками ковров оказалась Погруженной, он скомандовал белокурому капитану — не то немцу, не то скандинаву — отдать швартовы.
Спокойное море, отсвечивало перламутром. Неподвижная вода казалась оплывшим под палящими лучами солнца стеклом. Фон Перлоф оглядывался с удивлением: коммерческая яхта напоминала военное судно — четкостью команд капитана и быстротой их выполнения.
Они сидели на корме под полосатым тентом, за столом, уставленным сластями и фруктами. Крепчайший обжигающий кофе подавал им вышколенный матрос в кремовой щегольской чесучовой курточке поверх тельняшки. Задний карман голубых выутюженных брюк его слегка оттопыривался. «Наверняка вооружен, бестия, — отметил фон Перлоф. — Хорошее осиное гнездышко! Интересно, что ему от меня надо?» Он уже не сомневался: их встреча подстроена, чего-то от него потребуют, прямо тут, на яхте. Оставалось определить: чего — жизни, денег, услуг? Купят? Возьмут заложником? «Кому служит этот француз? Наверняка он такой же Шаброль, как я фон Граас. Однако не поддается сомнению — он француз, разведчик, следовательно, как-никак союзник... Вероятно, имеет данные о моих связях. Пусть покупают...» И тут же фон Перлоф заметил пулемет «гочкис» на треноге, укрытый куском парусины — торчал лишь кончик ствола, он-то и взблеснул на миг, освещенный лучом заходящего солнца, обратив на себя внимание разведчика.
— Вас это удивляет, милейший фон Граас? — поинтересовался Шаброль, проследив за его взглядом. — Коммерция во все времена удавалась лишь тому, кто умел защитить себя. Приходится принимать меры: случается, нападают кемалисты, большевики, бог знает кто!
— Будем надеяться, наше путешествие пройдет без происшествий.
— Я обещаю, — улыбнулся Шаброль.
— И говорить о политике?
— Пожалуй, — согласился француз. — Когда вы говорили о своем участии в нашем деле, — Шаброль подчеркнул последние слова интонационно, — вы, вероятно, имели в виду общность интересов. Что-то связывает нас, генерал?
— Может связывать, — поправил фон Перлофа — Если разрешите, я вернусь к этому после выяснения вопросов, сближающих или, напротив, разделяющих нас.
— Разрешаю! — беспечно отозвался француз, откидываясь в плетеном кресле. — Не желаете коньяка?
— Жарко, — поморщился фон Перлоф. — Хочу вызвать вас на откровенный разговор. Что вы думаете о перспективах белого движения?
— Откровенно? Никаких перспектив! — и Шаброль принялся объяснять свою позицию, основанную, как отметил Перлоф, на точной и обширной информации, о чем тут же не преминул сказать. Француз, многозначительно подмигнув, ответил, что торговец, как и военный, должен располагать большим кругом друзей, дающих разнообразные и обширные сведения.
Это, как показалось Перлофу, был уже вызов. Хотя надежда оставалась: француз переигрывал именно в силу своей военной неосведомленности. Просто зарвавшийся нувориш, раздувшийся от торговых удач, и все! Шаброль же вел разговор наверняка. У него и у врангелевского разведчика было разное положение. Фон Перлоф шел на контакт вслепую, без определенных целей. Твердых за дач не ставил перед собой и тот, кто назывался Шабролем. У него было преимущество, и, если бы даже оно не дало ему сразу никаких реальных результатов, он не имел права не воспользоваться им. И еще одно ощущение росло у Шаброля: фон Перлоф не верил, что его собеседник коммерсант, он подозревал его в принадлежности к союзнической разведке, скорее всего — к французской. Дай бог утвердить его в подобной мысли! Тут следовало поиграть, постараться привязать к себе врангелевца чем угодно: обещаниями, деньгами, знакомствами в высоких командных и дипломатических кругах. Но на что можно было подцепить такого разведчика, каким являлся фон Перлоф? Данных о сегодняшнем фон Перлофе у Шаброля почти не было. Он оставался верным своему благодетелю, но, как человек трезвый и умный, несомненно, готов был продаться («Если еще не продался!») новому хозяину, стараясь, пока возможно, продолжить службу Врангелю. Какой же «капитал» станет предлагать фон Перлоф? Знания («А знает он, увы, немало!»), свои связи, агентуру?.. «Против кого работал фон Перлоф? Против врангелевских соперников. Это первое. Достаточно обширные досье имеются у него и на Кутепова, на Туркула, Шатилова, Витковского. Еще в свое время «Баязет» сообщал: Перлоф сыграл не последнюю скрипку в замене Деникина Врангелем... Итак, генералы, монархисты. И конечно, все «левые политики». Это — второе. Но главное — левые элементы и плюс наши, работающие в белой армии и в Константинополе. Что он знает о нас? Что им известно через Дузика о Венделовском? Вряд ли Перлоф снял с него наблюдение и после того, как Дузик стал передавать нужные нам сведения о поведении Альберта Николаевича, сопровождающего генерала Шатилова. Что еще?.. Издетский и его люди? И тут как будто все достаточно чисто. Что же?..» Подспудная, непроясненная еще мысль беспокоила Шаброля. Какая-то неосторожность, опрометчивый шаг, случайная встреча, могущая родить нежелательные последствия... «Стоп! Ведь была такая встреча, была! Они оказались на грани провала... Кафе, тридцатисекундное свидание для передачи сверхсрочного приказания «Баязету». Связная не пришла на условленное место, выбора не оставалось, и он обязан был рискнуть, уповая на счастливый случай и на то, что Прокудиш сумеет освободиться от филеров, сопровождавших его повсюду. Единственное, что он успел тогда сделать — обеспечил страховку на случай любого непредвиденного обстоятельства. «Ротмистр кубанец Баранов» отлично выполнил свою роль и помог им разбежаться вовремя. Но вовремя ли? Заметил ли их контакт кто-либо из людей Издетского? Доложено ли об этом фон Перлофу? Если бы Перлоф знал нечто определенное о «Шаброле», он не доверился ему и не отправился бы в Константинополь на его яхте. Перлоф не полагал, что его могут убить. Он надеялся на деловой и конфиденциальный разговор. Но входить в тесный контакт пока нельзя: слишком мало известно о нем. Пусть он берет всю инициативу на себя и предлагает свою игру. Тем более что «ротмистр Баранов-Иванцов-Хольц» исчез и укрыт. «Шаброль» останется для врангелевца преуспевающим коммерсантом, не чуждым и валютных операций. Вот об этом и стоит поговорить с господином Граасом, осторожно намекая на некоторые грешки, заставляющие, скажем, и его прибегать к разным фамилиям. Да, он, Шаброль, будет продолжать играть роль коммерсанта».
Фон Перлоф рассуждал иначе. Француз прикидывается торговцем, все мысли которого направлены на увеличение капитала. Он не идет на контакты. Боится? Не доверяет? Набивает себе цену? Хочет уточнить, какие круги стоят за мной?.. Это должно настораживать. И эта яхта с вооруженным экипажем — все достаточно странно и требует внимания. Мы мало знаем о нем. Лишь его встреча в кафе с Прокудишем. А может, и встречи никакой не было, она показалась Издетскому? Он просто выдумал ее, чтобы выслужиться, показать свое рвение, прикрыть бездеятельность?.. Надо изучить Шаброля, все его связи, все контакты. А пока что же? Пока будем играть в игру, предложенную французом.
— Разрешите предложить еще кофе, генерал? — как ни в чем не бывало спросил Шаброль. — И коньяк отменный, можете поверить.
— Кофе, пожалуй, — согласился фон Перлоф.
Шаброль свистнул особым образом, и тотчас за его спиной воздвигся тот же широкоплечий квадратный матрос в белой куртке, посмотрел выразительно. Шаброль показал ему два пальца. Матрос проворно нырнул под палубу и через миг поставил на столик поднос с коньяком, джезве, кофейными чашечками и горкой сандвичей.
— Выпьем за дело, которое объединит нас! Я — весь ннимание. Мы будем друзьями, увидите!
— Всю жизнь, м’сье Шаброль, я служил России. Простите романтическое вступление. Революция лишила меня всего. Ныне я — нищий. Согласитесь, не лучшее ощущение. Но я — трезвый человек, посему и хлопочу, пока являюсь обладателем совершенно иного.
— Чего же? — с наивностью перебил француз.
— У меня в руках реальная власть и... группа преданных людей.
— Охотно верю. Вы говорили о нашем общем деле. Хотите, чтоб я возглавил ваших людей?
— Понимаете ли вы, м’сье, о каких людях я говорю?
— Естественно, — буднично кивнул Шаброль. — Ведь вы возглавляете разведку Врангеля.
— Оказывается, вы информированы лучше, чем хотели показать, м'сье Шаброль. («Французик наверняка сотрудник разведки и показывает, что пойдет на контакт...») Это облегчает мою задачу. Я руковожу добросовестными, знающими и весьма преданными мне людьми. Для их характеристики приведу лишь один факт. Ваша встреча в кафе «Токатлиан»...
— А вы храбрый человек, генерал. — Шаброль недобро усмехнулся.
Из-за его плеча высунулся коренастый, принялся ловко и неслышно убирать посуду.
— Вам невыгодно убирать меня — завтра вы поймете, что мы нужны вам, а через полгода вы без нас и шагу не сделаете.
— А кто это вы? И кто — мы?
— Когда наши армии окончательно развалятся, превратятся в толпу эмигрантов — большевики хлынут в Европу, находя в любой стране питательную среду. Надо их знать. Чем раньше; тем лучше, поименно и в лицо.
— Логично. Но при чем тут я?
— На этом вы и я хорошо заработаем. («Повстречался бы ты мне в Крыму, мы поговорили бы по-другому!») Наши досье, м'сье Шаброль, пойдут на вес золота — и в долларах, и в фунтах, и во франках.
— Неплохо. Но зачем вам именно я? Давайте, если уж бог делает нас компаньонами, играть в открытую.
— Полностью. Хочу лишь оговорить одно условие. — Перлоф посмотрел внимательно. — Если мое предложение вас не устраивает, оно навсегда забывается. Будем считать, его и не было. Так?
— Даю слово, мой генерал!
— Я удовлетворен этим, сударь. Итак, я объясняю. Под вашей вывеской мм открываем в Константинополе — потом, вероятно, мы поменяем адрес на парижский, софийский, белградский — частное агентство. Помощь беженцам в поисках родных. Частный сыск — что-нибудь в этом роде... Кроме того, сведения о конкурентах вам всегда помогут, не так ли? И последнее — то, о чем я вам уже докладывал, ради этого, собственно, и вся затея.
— Так, — Шаброль задумался, делая вид, что восторженно потирает подбородок. Предложение врангелсвского разведчика открывало новые, необыкновенные перспективы, но и таило много неожиданностей. Возможно, являлось ловушкой. Следовало прежде всего хорошенько подумать, взвесить, уточнить. А для этого необходимо было выиграть время. — Очень заманчиво, мой генерал! Но каково наше сотрудничество? На каких условиях?
— Ваш капитал, на первых порах — это безусловно. А мои люди — десяток из самых проверенных, под моим руководством. И обоюдный обмен любой информацией.
— Идея требует детального обсуждения. Каждую мелочь мы должны взвесить. Вот, например, первое: ни меня, ни вас в этом агентстве никто не должен знать. Действовать лишь через посредников. Тайна так тайна! Но разве мне учить вас, мастера разведки? Простите ради всего святого! («Ага, клюнул на лесть, сволочь!») Я не так выразился... Вам, конечно, известно, что я представляю дом «Клерман и сыновья»? Сам я беден, как церковная крыса, генерал. Следовательно, мне придется — увы! — согласовывать свои шаги, в самом общем плане разумеется, с папашей Клермоном. Или... Как вы полагаете? Или — «L’etaf e'est moi...» «Государство — это я...» А вам не потребуются консультации?
— Мне не потребуются.
«Не пережать бы, — подумал Шаброль. — Он не хочет вовлечения ни одного человека с моей стороны. Пойдем ему навстречу».
— Опять я не так выразился, мой бог! Когда я говорю о своей фирме, генерал, я имею в виду лишь сбор торговой информации нашим будущим агентством. Только об этом я и буду вести разговор с фирмой для получения кредитов. Основная функция агентства, разумеется, и для них останется тайной. Но без фирмы наше агентство останется без копейки и не просуществует и недели.
— Согласен с вами, м’сье Шаброль. Деньги — все! Будь у меня капитал, я и к вам бы не обратился.
— О-ля-ля! — с чисто галльской беспечностью воскликнул Шаброль, а про себя заметил: «Он жаден. За хорошие деньги мы его и купим. — И вдруг его осенило: — Он же меня за агента французской спецслужбы принял. Поэтому и в сотрудники набивается. И капитал хочет приобрести, и невинность соблюсти. Требует размышлений и необходимость прикрытия: игра пойдет по крупной. Потребуется и много денег. И прежде всего — согласие Центра. Но по-моему, эта игра стоит свеч...»
Глава десятая. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «ЖОКЕЙ-КЛУБ» И «ВЫСОКАЯ ПОЛИТИКА»
Опять Перлоф покидал пансионат в дурном настроении. Ксения просила, чтобы он поскорее увез ее из Константинополя... Он надеялся, что рекомендованный ему профессор действительно светило: придет, поставит диагноз, пропишет лекарства и вылечит. Оказалось, болтун! Фон-Перлоф стал думать о последней встрече с Шабролем. Правильно ли он вел себя в «Жокей-клубе», не сделал ложного или неперспективного хода? Что-то беспокоило Перлофа. Слишком уж откровенно шел француз на контакты. Какова его цель? Действительно хочет получить сотрудника для борьбы с международным большевизмом, сделать подарок Дезьем бюро и нажить на вербовке политический капитал? Или только играет: ему стали известны мои связи, и, пользуясь ими, он хочет получить канал для выхода на Врангеля. Какой в этом смысл сейчас? А если иметь в виду будущее, — дает ли это реальные перспективы? Даст, без сомнения... В то же время он, Перлоф, по-прежнему не знает своего партнера: наружное наблюдение не дало ничего компрометирующего — скупает ковры, «грешит» на валюте, ведет беззаботный образ жизни, щедро оплачивает свои удовольствия. Может, он «законсервирован»? С какой целью станут французы держать в Константинополе бездействующего агента? Сомнительно... «Факт сам по себе глуп, умна только система фактов», — сказал Бальзак. Но где она, система фактов, касающихся м’сье Шаброля?.. Ее нет... Может, он с моей помощью будет стараться войти в контакт с советской разведывательной службой — продаст им меня со всеми досье? И такая возможность не исключена. Надо быть крайне осторожным, ведь оба первых раунда он выиграл. Первый — на яхте, когда уезжал из Галлиполи. Второй — в «Жокей-клубе», когда согласился на организацию конторы.
...М’сье Роллан Шаброль пришел с небольшим опозданием. Изящный, поджарый, ослепительно улыбаясь, не делая даже попытки принести извинения за задержку, сказал лишь, что виновата дама: имея дела с женщинами невозможно определить хотя бы примерно, когда освободишься... И, пригласив Перлофа к своему столику, начал сразу о деле: нужна контора, уже теперь, немедля, служащая достаточным прикрытием. Он согласен — такой «крышей» будет частное розыскное бюро, русское, разумеется. Он дает деньги на организацию, он снимает помещение. От господина фон Грааса требуется лишь пять-шесть дельных работников во главе с достаточно известным в России жандармом.
— Где я возьму этого жандарма?! — возразил фон Перлоф. — Известные люди на улице не валяются.
— Именно, именно на улицах Константинополя, мой дорогой генерал, — возразил Шаброль. — Я осмеливаюсь даже подсказать вам фамилию: Кошко. Кажется, он служил в российском... как это?.. уголовном розыске.
— Невозможно! — вырвалось у Перлофа. Раскуривая сигару, он лихорадочно думал о том, что француз знает слишком многое и привлечение в их бюро человека Климовича крайне нежелательно. — Эта кандидатура весьма сомнительна, м’сье Шаброль.
— Отчего же? — француз, казалось, откровенно издевается. — Вы же в Крыму работали вместе?
— У господина Кошко после эвакуации изменились взгляды. Кроме того, он человек из другого ведомства, и... мне не хотелось бы опираться на работника, в котором я не уверен.
— О-ля-ля! — беспечно всплеснул руками француз. — Не уверены — и не надо! Это ваша компетенция. Деловые разговоры отныне мы будем вести на улице Пти-Шан.
— Почему на улице? — Француз решительно ставил Перлофа в тупик.
— Разрешите, я прочту вам объявление, которое мы дадим сегодня в газеты? — Роллан Шаброль начал читать: — «Частное розыскное бюро. Дирекция бывшего института уголовного розыска в России». Кошко или кого-то другого, вы назовете фамилию... «Розыски по всем делам уголовного характера, имущества и лиц без вести пропавших — независимо от территории. Справки о кредитоспособности, наблюдение по делам гражданских и личных отношений. Агенты всюду. Все поручения в строжайшей тайне...» Ну, и адрес. Константинополь, Пти-Шан, Пассаж, Дандрия, четыре.
— Однако ловко! — воскликнул Перлоф. — Это бюро развязывает нам руки, м’сье Шаброль!.. Я восхищен.
— Благодарю, генерал. Вот вам ключи от офиса. А вот, в конверте, триста фунтов — на первое время.
— Я должен дать расписку?
— Ну что вы, что вы, мой дорогой?! — решительно запротестовал француз. — Ведь мы компаньоны.
— А если я скроюсь? Вернусь в Россию? Уеду в Бразилию? Мало ли что! — настаивал фон Перлоф.
— Будем считать, Роллан Шаброль потерял еще триста фунтов. Это, конечно, немало, но, надеюсь, я верну их на другой операции.
— Я хотел бы... План работы... задачи... разделение функций, — уже сдавался Перлоф.
— Открывайте контору, мой друг, — француз оставался беспечным. — Потом мы договоримся. А если вас что-то не устроит в нашей совместной фирме, мы без сожаления разойдемся. Это вас устраивает?
— Да. Мы не должны встречаться на людях.
— Разумно, мой генерал! Мы оговорим и это. А пока выпьем за нашу коммерческую сделку.
Вспоминая вчерашнюю беседу — реплику за репликой, фон Перлоф, окончательно убедившись в том, что имеет дело с опытным разведчиком, и не находя своих явных промахов, упрекал себя лишь в том, что инициатива целиком исходила от француза, он же был стороной обороняющейся, как бы пассивным спаринг-партнером.
Фон Перлоф нервничал: ехал на встречу с главнокомандующим и опаздывал. Автомобиль еле тащился, зажатый плотной толпой. Никогда не знаешь в этом Константинополе, сколько уйдет времени на дорогу, рассчитать невозможно: на каждой улице то базар, то скандал или драка. Шофер-поручик беспрерывно жал на клаксон, но скорость не увеличивалась. Врангель, пунктуальный до фанатизма, требовал точности от подчиненных. Человек, опоздавший к нему лишь раз, вызывал неудержимый гнев, дважды — просто переставал существовать. К счастью, «паккард» подъехал к мрачному, как саркофаг, отелю «Крокер», где размещался штаб оккупационных войск, в момент, когда из дверей показался главнокомандующий в сопровождении офицера-порученца. Врангель был взбешен и, всегда сдержанный, сегодня не скрывал своего состояния — на виду у офицеров разных армий. Шофер, проворно обежав мотор, открыл переднюю дверцу. Врангель, однако, сел рядом с Перлофом, отпустил офицера и казака-конвойца, приказал ехать, сказал:
— Харингтон — наместник английского бога в Константинополе! — ни к чертовой матери! Торгаш! Все разваливается, Перлоф! Мы одни! Вокруг только враги русской армии. Они хотят уничтожить ее, развеять!
— Случилось что-либо, ваше высокопревосходительство? — спросил фон Перлоф. Таким несдержанным, в истерике, он не видел Врангеля даже при бегстве из Крыма. — Плохие новости от генерала Шатилова?
— Э, — отмахнулся Врангель. — Павлуша, как всегда, не спеша поспешает. Затянул переговоры на Балканах — дальше некуда! С величайшей почтительностью обивает пороги Софии и Белграда, не гнушаясь и кабинетов этого социалиста Стамболийского. Забрасывает нас клерными[6] телеграммами. Потрясающе! — длинный и тонкий рот его с чуть отвислой нижней губой презрительно скривился. — Не говорите ничего, генерал! И не защищайте его: Павлуша — милый и благородный человек, мой старый друг и сподвижник, но он слишком интеллигентен для военного и никудышный дипломат.
Фон Перлоф молчал. Думал, куда целит Врангель.
— А у меня армия! Армия, Перлоф! Солдаты держатся наготове ценою величайших усилий. Армия — как пушка без смазки: застоится — не выстрелит. Положение в лагерях ни к чертовой матери! Даже такой тип, как Кутепов, не справляется, а крепче генерала, чем он, у меня нет. — Врангель хлопнул себя по колену. Удлиненное лицо его оставалось расстроенным, резче обозначились складки между бровями.
«Интересно, чем его так вывел из себя сэр Герберт Харингтон? — думал фон Перлоф. — И вообще, зачем, изменив крымским убеждениям, он опять полез к англичанам? И почему сделал это втайне от меня?
— Опять один я в ответе за все, — с трагическими нотами в голосе продолжал Врангель. — Недальновидные штафирки — что им русская армия! На запад нас не пускают? Нет! Италия, Греция, Франция — клубок змей, где все боятся друг друга. Может, нас пустят на восток господа союзнички?! Наплевав на собственную гордость, забыв обиды, я иду с поклоном к англичанам. Дорогой, многоуважаемый, досточтимый сэр Харингтон! Господа! Союзники! Друзья! Пропустите армию на Кавказ. Там нужная вам нефть, там хлопок. Мы пройдем туда, как нож через масло. Большевистские силы слабы и разрозненны, армяне, грузины, горцы — все стремятся к самостоятельности, тянут каждый в свою сторону. Я уверен, мы поднимем и Дон, и Кубань! Армия начнет расти, как снежный ком! А сэр Герберт Харингтон?! Он спокоен и величествен, словно бог Саваоф: «К сожалению, мы не можем пропустить вас на Кавказ, барон. Вы забываете про Мустафу Кемаля, что сидит в Ангоре и запер всю Восточную Анатолию». — «Уберите этого Кемаля, черт возьми! Вокруг него, как я слышал, много «друзей»-генералов, каждый из которых готов к перевороту». — «Но союзники поддерживают султана». — «Кто именно?» — «Мы и французы, барон».
— Французы уже начали игру с Кемалсм, — вставил фон Перлоф. — Франклен-Буйон ездил в Ангору, зондировал почву о франко-турецком договоре. В противовес турецко-московскому.
— Вот видите! Почему же вы не дали мне в руки такой козырь?
— Вашему высокопревосходительству не угодно было предупредить меня о визите к сэру Харингтону.
— Да, да, — рассеянно проговорил Врангель. — Я вас искал с утра. — И, переводя разговор, спросил: — А что такое Кемаль?
— Извольте, ваше высокопревосходительство. Мустафа Кемаль — сын таможенного чиновника. Получил хорошее военное образование — в Салониках, Монастыре, в Константинополе, где закончил Академию Генерального штаба. Был связан с младотурками, состоял в тайной антисултанской организации, затем порвал с нею. Энергичен, способен зажигать массы. Участвовал в реорганизации армии. Командует отрядом в Триполи — разбивает итальянцев. В Балканской войне одерживает несколько убедительных побед. После мира — атташе в Софии. В мировой войне — герой обороны Дарданелл, но выступает против диктата немецкого генерала фон Сандерса.
— Ого! — уважительно воскликнул Врангель. — Это занятно. Надо знать.
— В группе генерала Фалькенгейна Кемаль командовал армией. Ведя свою армию из Палестины домой, приказывал раздавать оружие населению. Затем, получив назначение на пост генерал-инспектора Анатолийской армии и объединив генералов, возглавил борьбу с султаном, отказавшись от титула паши и подав в отставку. И тут же он создает в Ангоре национальное правительство и национальную армию. Назначен верховным главнокомандующим, а после разгрома греков на Сакарье — маршалом с присвоением титула «гази», что значит «победитель». Храбр, самолюбив, властен. Опытный, дальновидный политик. Его конкуренты — Карабекир-паша, командующий армией в Восточной Анатолии, у большевистских границ; Энверпаша, бывший зять султана, авантюрист без армии; Хюсейн Рауф — морской офицер и министр, проанглийской ориентации.
— Не тот ли, что подписывал перемирие?
— Точно так, ваше высокопревосходительство. В Мудросской бухте острова Лемнос, на борту британского линкора «Агамемнон», сданного затем на слом.
— Надо же — на Лемносе?! — Врангель отходил после беседы с Харингтоном. — Все, о чем вы говорите, очень полезно и имеет определенное значение. Продолжайте.
— Рауф и начал продавать Турцию Великобритании. Он отдавал победителям флот, форты, аравийские и персидские территории, контроль над радио- и телеграфными станциями и многое другое.
— Да, великие бритты своего не упустят.
— Рауф был удержан англичанами в Константинополе, доставлен в Мальту. Вернулся в Ангору другом и сподвижником Кемаля. Однако раскол между ними усиливается. Рауф не одобряет ставку Мустафы на народ и народную армию, осуждает его связь с Москвой, стремление выгнать из Турции не только западные армии, но и представителей деловых западных держав. Наиболее опытный и опасный противник турецкого диктата. Не считая Энвера, — этот готов с нами блокироваться.
— Да, да, — поморщился Врангель. — Мне докладывали. Он хотел аудиенции, но мне посоветовали избежать ее: союзники не простили ему визит в Берлин, в красную Россию и панисламистскую пропаганду.
— Он собирается пробраться в восточную Бухару, чтобы создать султанат, объединяющий мусульман Средней Азии и Кавказа. Если Энвер начнет хорошо, не сомневаюсь: англичане поддержат его оружием и золотом.
— Ваша осведомленность, фон Перлоф, как всегда, поразительна. Но что делать мне? Франция заигрывает с Кемалем. Кемаль — с Лениным, англичане хранят «мудрый» нейтралитет, итальянцы тоже косят в сторону Советов, их суда из «Ллойда» шныряют с грузами из Батума в Константинополь, из Трапезунда в Одессу. Черт знает что! «Мы не можем не считаться с английским общественным мнением, — заявил мне сэр Харингтон. — А ваши покровители продолжают трубить на всех перекрестках о Единой и Неделимой». Ох уж эти «покровители!» Что берлинские, что белградские! Раскудрявый буян Марков, белобородый мудрец Корсаков, этот карлик Трепов! — разве они лучше господ Милюковых? Мы снова между двух жерновов.
— Прошу прощения, — сумел вставить Перлоф. — Имеется еще новость: приказ генерала Кутепова за номером шестьсот восемьдесят семь. Разрешите?
— Читайте, — отмахнулся командующий.
— «Сегодня корпусной суд вверенного мне корпуса, — начал контрразведчик на память, доставая и разворачивая бумагу, — разобрав дело о подпоручике Корниловского артиллерийского дивизиона Василии Успенском, признал его виновным в том, что он вступил в тайное сообщество, с агентами иностранных держав, поставивши себе цель — распыление русской армии. Во исполнение сего он агитировал среди воинских чинов, содействуя самовольному отъезду их из Галлиполи, собирал и доставлял в пользование сообщества требуемые им для вышеуказанной цели сведения об армии и о составе и вооружении органа борьбы с политическими преступлениями, направленными против армии, сознавая, что своей деятельностью он способствует враждебным против армии действиям, потому и на основании статей двадцать четвертой Уголовного уложения приговорил: подпоручика Василия Успенского лишить всех прав состояния, чина, дворянства, звания, исключить с военной службы и подвергнуть смертной казни через расстреляние...»
— Действительно продался?
— Нет. Возражал против порядков в лагерях.
— Но каков наш генерал от инфантерии! Сколько раз ему говорить: поменьше приказов, Кутепов, поменьше! Захотел повесить подпоручика — повесь, но зачем же трубить об этом «во всех ротах»! Идиот!..
В ЦЕНТР ИЗ СОФИИ ОТ «0135»
«Посетил Софию, Белград, Париж. Сремски Карловцы. Приближающийся правительственный кризис тормозит решение о принятии русских контингентов. На позицию Болгарии влияют: стремление загладить свое участие в войне на стороне Германии и угодить Франции в ликвидации врангелевских лагерей; желание повторить жест Сербии, заявившей о принятии части русской армии; надежда поправить финансовое положение, обменивая левы на иностранную валюту, получаемую за счет содержания принятых контингентов.
Вязьмитинов, получивший полномочия от Шатилова, через Топалджикова добился решения, не проведенного через Совет министров, о немедленном приеме Болгарией бригады Гусельщикова, получившей право сохранить воинскую организацию, форму, дисциплинарную власть и суд чести. Офицерскому составу разрешено сохранить оружие. Шатилов подтвердил согласие Врангеля на неукоснительное соблюдение обязательных условий болгарского правительства. Первое — русские будут прибывать в организованном виде со своим командным составом. Второе — верховное командование дает поручительство в их благонадежности.
В Белграде никаких сдвигов: на письма Пашину ответов нет. Штрандтман осторожничает. Шатилов уехал в Сремски Карловцы. Здесь будет располагаться штаб Врангеля, и уже прибыла группа офицеров во главе с генералом Архангельским.
Развиваются сношения с генералом Миллером в Париже по ассигнованию армии. Ускорению решения вопросов о принятии воинских частей способствует генерал Хаджич, вставший во главе военного министерства. Обещано не только расселение частей, но и решение правительства о сохранении воинской организации.
В течение десяти дней сопровождал Шатилова в поездке в Париж. Цель — активизация действий Миллера.
Шатилов высоко оценил представителя Врангеля во Франции: эрудит, скромен, спокоен, владеет языками. С его помощью были приняты генералом Вейганом. Тот сочувственно выслушал просьбу о сохранении в конcmaнmинопольских лагерях прежнего порядка и пайка; о прекращении давления на главное командование; о твердых рекомендациях французским оккупационным властям не препятствовать перевозкам русских воинских частей в Болгарию и Сербию. С подчеркнутой откровенностью Вейган изложил позицию основных сил на международной арене. В обоих государствах весьма сильны левые элементы, с которыми правительства обязаны считаться. Вейган обещал содействие, хотя подчеркнул: ныне военные власти отошли на второй план, посему и вопросы, поднятые Шатиловым, выходят за компетенцию его штаба и обязывают к согласованию с рядом министерств, что потребует времени и значительных усилий. Врангелю посланы обнадеживающие отчеты о визите во Францию.
В Сремски Карловцах получена телеграмма Вязьмитинова: болгарское правительство согласилось принять значительную часть армии. Из Парижа Миллер сообщил о получении еще 200 тысяч долларов и полутора миллионов франков, ассигнованных на нужды армии.
Преимущественный курс Врангеля на Болгарию объясняется и низким курсом лева: содержание одного человека в Сербии равняется содержанию четырех в Болгарии. Главком пытается заинтересовать болгар предложением открыть в Софии военную академию для русских и болгарских офицеров под командованием генерала Юзефовича, ибо Болгария по мирному договору не может иметь академию. Предложение встречает сопротивление: сербский представитель Врангеля боится осложнений с правительством. Вероятно, вопрос будет снят. В Болгарии и Сербии гражданская русская эмиграция представлена правым крылом — монархисты старого типа, рейхенгальцы. Активизируется ряд их авторитетных представителей. Открыто высказывается недовольство Врангелем, которого называют чуть ли не милюковцем. Послезавтра возвращаемся в Константинополь.
0 13 5».
В ЦЕНТР ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ОТ «БАЯЗЕТА»
«Миссия Шатилова на Балканах завершена. В Болгарии предписанием Врангеля будут сосредоточены: бригада Гусельщикова — 4573 человека, группа Витковского из числа Первого корпуса — 8336 человек. В Королевстве СХС[7]: кавдивизия Барбовича для несения пограничной стражи — 4103 человека, отряд Фостикова (примерно 3000) и технический полк — 1500 человек — на общие работы, строительство железных и шоссейных дорог. Следом на Балканы предполагается перевести три кадетских корпуса, кавалерийское училище, галлиполийскую гимназию, лазареты, семьи. В лагерях остается более десяти тысяч. Французы объявили о снятии с пайка еще 2500 человек, которые будут питаться из средств главкома, Лиги наций и АРА[8].
Распространен приказ командирам частей по переброске в Сербию и Болгарию: «... Части армии, перевозимые в первую голову, будут устроены на различного рода работы... Остальные же (1-й армейский корпус) за отсутствием пока аналогичных предложений сохранят порядок жизни войсковых организаций и будут расположены казарменно... Армия должна существовать в полускрытом виде, но армия должна быть сохранена во что бы то ни стало». Переброска началась. Французы во избежание эксцессов стараются не пускать главкома в лагеря. Врангель посылает эмиссаров приглядывать за Кутеповым. Несмотря на обнадеживающие приказы вывезти всех, в Галлиполи отдан приказ рыть землянки, готовиться к зиме.
«Лукулл» — водоизмещением 1600 тонн — находится на рейде Босфора, недалеко от фарватера. Шесть офицеров, 33 человека команды, 18 конвойцев, два адъютанта. Охрана круглосуточная — парные часовые, дежурный офицер. Главком живет на яхте без семьи. Возвращается после семнадцати. Вечерами — переписка, дневники, разбор архивов. Настроение подавленное.
Баязет».
Надпись на информации:
«Передать «Баязету»: предпринять все возможное для перебазирования с Кутеповым в Болгарию. Любые контакты с «Доктором» до особого указания исключаются».
Еще надпись на информации:
«Ознакомить «Бая зет а» с докладом К. Е. Ворошилова и С. М. Буденного «О предполагаемом десанте Врангеля в 1921 году»: запросить информацию».
Приложение 1 к информации «О предполагаемом десанте Врангеля»:
«Возможно, высадка десанта врангелевцев вместе с казаками на Черноморском побережье, наиболее вероятная — в районе Анапа — Джобгская. Поставленная задача — удержать (в случае невозможности сбросить десант в море) до подхода подкреплений Новороссийск и перевалы на путях к Краснодару с линии Анапа — Тенгинская и запереть при содействии курсантов перевал Гойтх. Для активной борьбы с десантом предполагается сосредоточить:
а) в районе Краснодар не менее 2-х дивизий 1-й Конармии (не считая особой бригады) — походным порядком;
б) в районе Новогитаровская по железной дороге 1 — 2 бригады 2-й Донской стрелковой дивизии.
Задача 1-й Конармии в случае десанта — быстрым выдвижением небольших (в соответствии с местными условиями) частей с пулеметами закупорить перевалы Тубинский, Белореченский, Марух, Клухорский. Нахарский, дабы не дать противнику возможности просачиваться с побережья в Майкопский, Лабинский, Баталпашинский отделы с целью поднять восстание или добиться усиления бандитизма. В качестве резерва и для обслуживания ныне занимаемого района оставить в Майкопском, Лабинсюом, Баталпашинском отделах кавдивизию. Две кавдивизии походным порядком и срочно сосредоточить в районе Краснодар — Васюринская.
Август 1921 года.
Комвойск Ворошилов.
Член РВС — Буденный».
Приложение 2 к информации:
«Согласно сообщения «Баязета» вероятность десантирования врангелевского отряда представляется ничтожной. Около трехсот штабистов Врангеля прибыло в Сербию».
Глава одиннадцатая. СКУТАРИ И СТАМБУЛ В КОНЦЕ 1921 ГОДА
1
Константинопольские газеты сообщали: 15 октября в пять часов пополудни итальянский торгово-пассажирский пароход «Адрия», шедший из Батума, наскочил на яхту «Лукулл», стоящую на Босфоре, и протаранил ее. Через две минуты яхта затонула. Ведется расследование...
Обстоятельства аварии представлялись весьма загадочными. По свидетельству очевидцев, море в тот час походило на стекло. Видимость была отличная. На небе ни тучки. Около 4.30 на яхте обратили внимание на большой пароход, быстро приближающийся от Леандровой башни. На полном ходу, пройдя у борта дредноута «Кайо Дуильо», «Адрия» внезапно повернула. У экипажа яхты возникла даже мысль: не испортилась ли на пароходе рулевая тяга, так как при скорости и инерции он не сможет свернуть и столкновение неизбежно. Тревожных гудков пароход тоже почему-то не давал. Метрах в двухстах от яхты «Адрия» отдала якорь и застопорила машину, однако стало ясно — удар неотвратим. Дежурный офицер «Лукулла» мичман Сапунов крикнул, чтобы бросали кранцы, и побежал на бак, вызывая команду. На «Адрии» отдали второй якорь, но она продолжала двигаться. Через десять секунд раздался оглушительный удар и брызнули щепки, обломки фальшборта и верхней палубы. «Лукулл» сильно накренился на правый борт и подался в сторону движения, удерживаясь кормовым и швартовым якорными канатами. Удар пришелся на левый борт, над помещением, занимаемым Врангелем. Форштевень «Адрии» застрял в борту «Лукулла». Пароход стал отваливать задним ходом. В широкую пробоину стремительно хлынула вода, и яхта мгновенно затонула.
Дежурный офицер, оставаясь на своем посту, пошел ко дну. Погиб также повар. Сам же генерал Врангель, его жена и адъютант Ляхов незадолго до аварии съехали на берег и направились в одно из посольств. Утонуло имущество лиц, документы и архив командующего.
Не спустив шлюпок, не бросив даже спасательных кругов, «Адрия» отошла от места происшествия, что противоречит морским законам. Следствие ведется специальной комиссией, в составе которой итальянский, французский и русский морские офицеры. Допрошенный комиссией капитан «Адрии» Симич и лоцман Самурский обвинили во всем сильное течение «форс-мажор», лишившее пароход возможности маневрирования. Выяснено, что Симич предпринимал меры, чтобы задержаться в карантине и пройти мимо яхты «Лукулл» ночью. Высказывались предположения о причастности к диверсии большевиков. Был обнародован приказ Врангеля:
«Не стало последнего русского корабля, над коим развевался у Царьграда родной Андреевский флаг. Геройская смерть дежурного офицера мичмана Сапунова, который, не пожелав оставить родного корабля, пошел с ним ко дну, и беззаветная доблесть, проявленная в минуту гибели всеми членами судовой команды, показывают, что дух и заветы русского флота остались живы в сердцах русских моряков. Да укрепит подвиг мичмана Сапунова сердце колеблющихся, да вселит он в них веру, что, пройдя через все испытания, воскреснет русский флот и с ним воскреснет Россия...»
После работ водолаза на месте гибели яхты «Лукулл» были подняты с морского дна все документы Врангеля, за исключением двух тетрадей, содержащих дневниковые записи. Все личные вещи живущих на яхте считают пропавшими... Врангель намерен предъявить иск компании «Ллойд-Триест», которой принадлежал пароход «Адрия», с целью возмещения убытков. Учреждается специальный воинский крест, право ношения которого получают лишь шесть офицеров, члены врангелевского конвоя и члены команды затонувшей яхты «Лукулл»...»
2
Слащев не находил себе места. Он словно только что очнулся от долгого похмельного сна и с удивлением оглядывался по сторонам.
После жаркого, засушливого лета и неустойчивой осени наступило дождливое предзимье. Дули над Константинополем северные ветры, гнали рваные, несущиеся низко, дождевые облака. С моря наползал густой туман. Он окутывал низкий берег Скутари, закрывал Стамбул, и все вокруг становилось ирреальным. Начало декабря оказалось необычно суровым для этих мест — дождь часто сменялся мокрым, косо летящим снегом. Утром все окрест было белым-бело, как в России, но уже к полудню снег таял, бежали верткие ручейки, раскисала земля, ползла к берегу густая грязь.
Слащев еще больше осунулся и побледнел. Мертвящая усталость ни на миг не оставляла его. Он плохо спал, раздражительность его, казалось, не знала пределов: слащевское окружение таяло, словно ночной снег, он не мог остановить этот процесс — ни приказать, ни устрашить, ни поддержать людей деньгами. И от сознания полного бессилия сатанел еще больше. Только его «юнкер», его «Лида Ничволдов», по-прежнему беззаветно была предана ему. Часто «генерал Яша» целыми днями лежал на тахте, закинув руки за голову, бессмысленно уставившись в потолок, отказываясь от еды и вставая лишь для того, чтобы выпить чашку кофе с рюмкой коньяку. Иногда — напротив! — просыпался нездорово деятельный, возбужденный, захваченный тайными идеями. Он поспешно оставлял дом и отправлялся «в город». Его видели, казалось, сразу в нескольких местах одновременно: и на Пера, и на пристани, и возле стамбульских мечетей. Он был всегда один — замкнутый, сосредоточенный, точно обдумывающий что-то крайне важное, — в длинной кавалерийской шинели и полевой фуражке. «Генерал Яша» перестал одеваться пестро, перестал дискутировать на улицах, и это тоже удивляло всех, рождало острое любопытство. О странном поведении Слащева не раз доносили Врангелю. Он отмахивался: «Как всегда, оригинальничает! Пусть его — маньяк. Каждый тут сходит с ума по-своему. Что может этот генерал без армии?» Однако в беженской массе поведение Слащева вызывало иную реакцию. И все уверяли друг друга: «Яша» непременно что-то придумал, что-то вот-вот выкинет.
Полдня Слащев валялся на тахте, ожидая, пока потеплеет. «Юнкер Лида» была убеждена, что он не выйдет сегодня. Часа в три ветер внезапно разогнал тучи, выглянуло солнце. Слащев вскочил — не позавтракал и даже не побрился — и в распахнутой шинели выскочил на улицу, не ответив на вопросы удивленной Лиды...
Весь во власти необъяснимых предчувствий, он направился к огороженному стеной кладбищу Скутари. Это был целый город, с улицами и переулками, среди высоких кипарисов. Временами Слащеву начинало казаться, что он теряет направление и кружит по замкнутому кольцу, не понимая, как следует выбраться из этого лабиринта. Ему было зябко, но не от холода, а от странных предчувствий. Кладбище представлялось бесконечным, и дорога по нему была точно путь на Голгофу. Слащеву казалось, что он поднимается на пологую гору и тяжесть, которую несет на плечах, очень велика... Внезапно Слащев оказался неподалеку от кладбищенской стены и, почувствовав облегчение, точно от встречи с добрым знакомым, двинулся вдоль нее и вскоре выбрался к пристани.
Здесь била жизнь. У причала толпились шумные люди. Жандармы и контролеры проверяли документы. Гудели пароходные сирены. «Иа-иа-иа!» — душераздирающим гортанным криком, точно их режут, ревели ослы. Оборванные мальчишки вторили им, продавая двуязычную русско-французскую «Пресс дю суар», прозванную «Пресс дю писуар». Слащева не узнавали. Некоторые — демонстративно. Его, привыкшего к постоянному поклонению толпы, это раздражало сегодня особенно сильно. Захотелось сесть на паромчик, потеряться в одном из галатских портовых кабаков и напиться до выключения сознания. Но при мысли, что придется стать в общую очередь на пирсе, показывать красномордым жандармам документ, удостоверяющий, что он, русский генерал, имеет право пересечь лужу без дела и чьего-то приказания оказаться на людных улицах, — его захватила такая ненависть и ярость, что он, выругавшись, пошел прочь от пристани, проклиная и этот Константинополь, и всю Турцию, в которой турки сражаются против турок, и себя самого. Не заметил, как оказался возле четырехэтажных казарм, возвышающихся крепостью над берегом Скутари. Когда-то тут размещались янычары. Теперь — беженский лагерь Селим. Массивный квадрат здания, входом обращенный к Босфору, занимал огромную территорию, где, как представилось Слащеву, можно было бы разместить и дивизию...
Он прошел вдоль зарешеченных окон первого этажа к воротам, окованным железом. Ворота оказались неприкрытыми, и Слащев увидел большой двор, мощенный щербатыми каменными плитами, и группы беженцев. Парные часовые охраняли вход. Генерал приблизился безотчетно, не имея еще никакой цели, но часовые проворно закрыли ворота.
— Вы что?! — закричал, мгновенно сорвавшись, Слащев. — Мерзавцы! Скоты! Не узнали?! Я — Слащев! И это армия! Махновцы! Мародеры! Дерьмо! — голос Слащева задрожал от гнева. Круто повернувшись, генерал зашагал к пристани...
Слащев, словно в полусне, ходил по улицам. Он наталкивался на людей, не заметив, задел лоток торговца фруктами, едва не угодил под колеса экипажа. От офицера, отдавшего ему честь, он шарахнулся, точно от прокаженного. Изрядно устав, Слащев зашел в кафе и заказал рюмку водки. Официант-турок, не поняв, принес ему коньяк и кофе. Слащев залпом выпил одно за другим, сказал: «Ну и дерьмо же ты, братец» — и задремал. А может, и не задремал — задумался, ушел в себя, чутко фиксируя все, что происходит вокруг. Он слышал голоса, звон посуды, шум улицы, ощущал запахи кухни, сигарного дыма, и потом на какое-то время забылся коротким сном. Очнувшись, «генерал Яша» недоуменно огляделся. За соседним столиком с аппетитом поедал мясо бородатый старичок. Перед ним стоял малый графинчик с водкой. Слащев, озлившись, подозвал официанта и приказал принести ему все, что находилось на соседнем столе. Официант поклонился и исчез. Старичок участливо сказал;
— Да, в Петербурге нас обслуживали получше, господин генерал.
— Не имею чести, — буркнул Слащев.
— Конечно, конечно, — миролюбиво сказал сосед. — Вы меня не запомнили — естественно. А я бывал у вас на приеме, в штабном вагоне, Яков Александрович.
— В качестве?.. С протестом? — язвительно воскликнул Слащев. — От думской общественности небось?
— Не угадали. От себя лично — по поводу сохранения памятников народа.
— Памятников — каких? Не помню!
— Ну, неважно, — заметил старик. И добавил: — Но грозны вы были, генерал, ох, грозны! Хотя, кто старое помянет... Не сочтите неудобным, пересаживайтесь, — сказал вдруг старик. От него исходила какая-то магическая сила. — Поговорим, если не возражаете.
Появился наконец официант.
— А что же? — неожиданно для себя, с вызовом ответил Слащев. — Перенеси все, рожа! — приказал он турку и пересел за соседний столик. — Слушаю вас... э...
— Челышев, Михаил Павлович, — сосед приподнялся. — Статский советник. Бывший.
— По какому ведомству изволили служить?
— По министерству финансов, Яков Александрович. Но — давно! Уволен в отставку-с за характер. Главное же мое призвание — коллекционирование раритетов.
— И где ныне коллекции ваши?
— Они в России, на родине. В отличие от нас с вами.
— Вон как, — усмехнулся Слащев. — Окажись вы там, вас бы уничтожили, а коллекции отобрали.
— Знаете, не уверен. Комиссары не так уж и кровожадны. Да и война кончилась. Теперь слово музам.
— В последнее время, представьте, я иногда думаю над случившимся в России с позиции «а если бы», — признался Слащев.
— Поясните.
— Вот... если бы, скажем, государь император Александр Второй обнародовал свои конституционные реформы на неделю раньше, Россия стала бы иной, — убивать его не имело бы смысла. Или: если бы армии Самсонова, скажем, овладели Пруссией, — не было бы революции, братоубийственной войны. И так далее.
— Я не историк, генерал. Однако теории ваши представляются мне субъективными. По-видимому, миром правят иные законы. Большевики постигли их лучше нас с вами.
— В чем же вы видите подтверждение атому? Есть ли у вас факты?
— Да сколько угодно! И сам факт существования России — прежде всего. Они не только держатся у власти, но держат власть. На этот феномен, если признаться, мы не рассчитывали.
— Я уж точно, — буркнул Слащев. — Многое мне непонятно. И главное — откровенность за откровенность! — что при этом должен делать я, генерал? И патриот России! Идти в ландскнехты к французам и воевать для них новые колонии? Поступать в банды Булак-Балаховича и пополнять состояние грабежом соплеменников?
— А не кажется ли вам, что навоевались вы предостаточно? Это не праздное любопытство — уж коли возник разговор, полагаю.
— Понимаю вас, — Слащев уже хмурился. — И хотя вопрос представляется мне не таким простым, отвечу. Ибо и Слащев-Крымский, под влиянием ряда исторических событий, трансформировался в Слащева-Константинопольского, господин Челышев. Эти два Слащева различны. О том Слащеве могу сказать: совесть моя чиста. Перед богом, людьми и самим собой. Я ведал, что творил, ибо творил во имя родины и ее блага.
— Но так говорят и Махно, Врангель и Клемансо.
— Не говорите мне о Врангеле! — сорвался Слащев. — И извольте не перебивать: я теряю мысль. Итак, — сказал он и замолчал: забыл, о чем собирался говорить далее. — Врангель! Этому «патриоту» всюду неплохо: где он ночует — там его родина. Баловень судьбы! Деньги, почет, положение — полководец, дипломат. Паркетный шаркун!.. Да, — вспомнил он, — я говорил о патриотизме. Что бы там ни вещали обо мне, я патриот России, сударь! Готовый умереть, если потребуется для блага родины.
— Простите старику, генерал. И выслушайте. Пусть вам не покажется кощунственным мое заявление: я многое продумал и многое пережил, поверьте, и революция лишила меня всего — имущества, положения, дома, родины... Большевики большие патриоты, чем мы с вами.
— Почему так, милостивый государь? Я — солдат и плохой философ. Я не ослышался? Патриоты? Объясните!
— Извольте. Три года идет война с Россией... С Советской Россией, — поправился он. — Война экономическая, политическая, братоубийственная. Кому служат русские генералы? Французам, англичанам, полякам! Японцам и немцам. А русские промышленники, финансисты? Им же, им же! За деньги, за кровь русскую. А что продастся с аукциона? Земли русские! Богатства их недр. Кто их защищает? Увы, большевики.
— Почему же вы здесь, господин Челышев? Почему не вернулись?
— Я только и думаю о том, как это сделать, генерал. Тут меня ничто не держит. А ждет — нищета.
— И вы не боитесь, что вас, как дворянина и статского советника, вздернут на первом же фонаре?
— А вы не боитесь, что умрете здесь, под забором? Или в вас выстрелит тот, кого в свое время вы приказали пороть шомполами, гнали в атаку?
— Я ничего не боюсь, — мрачно сказал Слащев. — Я — солдат, и моя профессия — смерть. — Он помолчал и добавил: — Хотя нищеты боюсь. Не навоевал я ничего, господин Челышев. Все имущество — в походном ранце. Не в пример многим нашим высоким генералам, которые и повсюду проживут безбедно... Хотите правду? Еще одного боюсь — как на исповеди. Боюсь умереть на чужбине и быть брошенным на свалку! На помойку!
— Подобные мысли рождаются у многих, уверяю вас.
— Почему же вы здесь?
— Обстоятельства, семья... Сам я не выдержу вторично морского путешествия, однако ради дочери и внуков считаю себя обязанным стать блудным сыном, возвращающимся на родину. Что касается большевиков... мне нечего их бояться. Абсолютно. — И Челышев начал рассказывать о постановлениях советской власти, как финансист напирая на новую экономическую политику, направленную к возрождению государства.
Слащев слушал молча, внимательно, прикрыв глаза. Апатия овладевала им. В какой-то момент он ужаснулся происходящему тут, за столиком кафе. Он, белый генерал, один из предводителей армии, сидит и с интересом слушает речи в защиту большевиков. И нет у него былой непреклонной ярости, нет желания выстрелить в агитатора, стукнуть кулаком по столу. Что случилось с ним? Или со статским советником — не комиссарский же агитатор этот бессильный старик, одной ногой стоящий в могиле?
— Да, мир перевернулся, — сказал он задумчиво и, достав кошелек, крикнул официанту: — Человек! Счет!
— Не смею задерживать, Яков Александрович.
— Откуда вы взяли себе право называть меня по имени-отчеству, милостивый с-сударь?! — взъярился Слащев. — Я генерал-лейтенант! И впредь я па-пра-шу! Не сметь!
— Прошу прощения, господин генерал, — спокойно сказал Челышев, не глядя на собеседника. — Хотя и уверен: вряд ли мы снова увидимся. Так что «впредь» не будет.
Слащев сунул деньги официанту и с острым чувством своей неправоты, так редко приходившим к нему, выбежал на улицу... И опять он шел сквозь чужую ему толпу, не замечая людей, видя лишь движущуюся массу, и ненависть, нараставшая в нем, гнала его вперед и вперед, неизвестно куда. Он все ускорял шаги, но это совсем не утомляло его, не мешало размышлять, а, наоборот, как-то успокаивало, отвлекало от мрачной безысходности, представлявшейся ему черной ямой, в которую его загнали многочисленные враги России. Возможно, именно тогда в его разгоряченном сознании и возникла впервые робкая еще мысль о возвращении на родину. Возникла и погасла, — он тут же прогнал ее, испугавшись. Но вскоре эта мысль вернулась, и тогда Слащев стал размышлять. Сначала он попытался убить, уничтожить ее твердыми и ясными логическими построениями. Одно дело Челышев — кто его помнит в России, что сделал он во вред новой власти? У него и теории, неприемлемые для генерал-лейтенанта, занимавшего столь высокий пост в Добровольческой армии. Он готов держать ответ перед богом и людьми. Готов умереть, уверен, не дрогнет под дулами взвода караульных ружей хоть на площади при стечении народа, хоть безвестно. Но какая и кому польза от его смерти? Кто узнает о ней? Чем станет его смерть для. России?.. Но чем, собственно, стала для России смерть Корнилова, Май-Маевского, Романовского? И тут Слащев подумал о том, как многократно ошибался он, свято веря в свое назначение бороться с революцией и возвращать Россию к прежней жизни. К той прежней жизни, которая обеспечивала порядок, дающий, как всегда казалось ему, силу и крепость государству. Разве слащевская вина в том, что под знамена русской Добровольческой армии, созданной как союз героев-мстителей, становились и проходимцы, и жулики, что святые знамена борьбы были сданы в обоз, где царили грабители и спекулянты, безбожно наживающиеся за счет тех, кто держал в руках оружие и ежесекундно рисковал жизнью. Непонятно уж и во имя чего и кого... Но — хватит! Это ведет его к мыслям о самоубийстве или возвращении в Россию. И вдруг возник и с силой зазвучал иной голос: «Вернись, вернись! Ты — один здесь. Ты не нужен никому — все забыли тебя, отреклись. Тебя ждет безвестная смерть под забором. Да, да! Не от пули, не от сабли вражеской — под забором. Повинную голову меч не сечет. А если суждено умереть, умрешь, и тебя зароют в русскую землю...» Да, да!.. И может быть, кто-нибудь придет помолиться на могилу... А если предположить иной вариант? Может, большевики захотят использовать его военные знания, боевой опыт? Что, если они предложат ему службу? Защищать Россию. Согласится ли он? Сможет ли он поднять оружие против своих? Но кто свой? Врангель, выгнавший его из армии? Павлуша Шатилов? Генералы в штабах союзников? В этом мире у него нет своих. Увы... Он как волк, как загнанный, одинокий, голодный волк...
Слащев почувствовал, что холодные струи дождя секут лицо и он промок, промерз и устал. Он остановился, огляделся, не понимая, куда забрел, где оказался. Улица была пуста. И только в дальнем конце ее, возле поворота, виднелся навес, где можно было переждать ливень. Он побежал, чувствуя, что согревается, но силы оставляют его и рождается резкая боль в левой, раненой ноге.
Под дырявым навесом летней кофейни, давно брошенной хозяином, тоскливо жались друг к другу люди. Слащев не захотел находиться сейчас среди людей и побрел дальше. Дождь усиливался. Под первым же козырьком над парадным входом трехэтажного особняка Слащев остановился, прислонившись спиной к стене, которая, казалось, хранила еще тепло ушедших солнечных дней. Он вынул платок и вытер лицо. Задумался. Прошлое казалось мутным и бесцельным. Опять пришел на память молодой князь Белопольский. Жаль, что в такое трудное время они не вместе: Андрей всегда был преданным товарищем и хорошим офицером... Жаль, что он сам оттолкнул его во время бегства из Севастополя — не захотел привязывать к себе, предоставляя свободу выбора.
Недавняя случайная встреча доказала это. Как-то под вечер, перекидывая пласты тяжелой, намокшей от дождя земли в огороде, генерал почувствовал чей-то взгляд, выпрямился. У дороги стоял князь Андрей и смотрел в его сторону. Но боже! В каком он был виде! Френч на голом теле, порванные бриджи, немыслимые опорки вместо сапог. И тут же возникла четкая картина: Слащев во главе отряда конвойцев атакует лавой эскадрон красных; рядом, бешено крутя над головой саблей, скачет Белопольский — блестящий офицер, гордость полка.
— Белопольский! Князь! — крикнул Слащев.
Андрей не шевельнулся. «Вероятно, я обознался, — успокаивая себя, подумал Слащев. — Это не он. Или он не узнал меня? — И впервые посмотрел на себя как бы со стороны: — Ничего удивительного! Халат, чувяки. И эти турецкие шаровары. Генерал!»… Слащев кинул лопату и, не оглядываясь, направился к дому. Конечно же, это был Белопольский: он не простил. Был, конечно, уверен: его генерал бежал на том пароходе. Откуда он мог знать, что Слащев в последнюю минуту кинулся на берег наводить порядок и спасся лишь в последний миг, подобранный офицерами ледокола «Илья Муромец»...
Лихорадочные и тоскливые мысли Слащева были внезапно прерваны глухим шумом чего-то тяжелого, упавшего рядом. Солдат в гимнастерке, от которой шел пар, сбросил со спины огромный мешок с древесным углем, хекнув, уселся на него и, не обращая внимания на генерала, принялся сворачивать цигарку. Мгновенная ярость овладела Слашевым. Но — поразительно! — вспыхнула и тут же пропала. Он спросил:
— Ты что же, не узнаешь меня?
— Узнаю, ваше высок-бла-родь.
— Кто же я, по-твоему?
— Так что генерал Слашев, ваше бла-родь, — солдат нехотя поднялся и вытянулся, держа в левой руке незажженную самокрутку.
— Ну, вольно, вольно. Давай отдохнем, служба. — Они сели на мешок с углем, заскрипевший под ними многоголосо и тоскливо. — Так... Кури, братец, кури.
— Слушаюсь, — тот зажег самокрутку и глубоко затянулся. Едко запахло плохим табаком и горелой газетой.
— А давай-ка, братец, поговорим. А?
— Как прикажете, — ответил солдат без интереса.
— Думаешь, в России лучше сейчас, чем здесь?
— Беспримерно лучше, не сумневайтесь.
— Чего ж там лучше?
— Там — Россия, — сказал солдат. И, подумав, добавил: — Завезли вы нас на край света. Все чужое. И мы неизвестно кто — не то гости незваные, не то пленные.
— Да... Ты, братец, философ. — Слащев усмехнулся. — Не боишься.
— А чего бояться? Вы не генерал, я не слуга вам.
— Вот, вот... Думаешь, вернусь, повесят меня?
— Беспримерно. И сомнениев никаких.
— А тебя не повесят?
— Меня не повесят.
— Почему ж так? Ты красных убивал? Говори!
— Приходилось — не скрою... Только по вашему приказу.
— Ловко! — нервически засмеялся Слашев. — Значит, виноваты генералы?
— Уж так точно, ваш выс-бродь! Без вашего приказу кто б по своей охоте под пули встал да вшей три года кормил? Вы виноваты. Вы эту войну задумали. И нас сюда по своему приказу загнали. Так? Так... Вот и спрашивайте у себя: казнить вас надо али миловать. Простите на грубом слове. Или что не так сказал. — Он плюнул на самокрутку, погасив ее, бросил под ноги, раздавил каблуком и, подняв на плечо мешок с углем, шагнул под дождь и скрылся за серой пеленой...
Поздно вечером обеспокоенная «юнкер Лида» нашла Слащева в загородном саду «Стелла». Против ожиданий, Слащев был трезв, тих и грустен. И ел сладкую гурьевскую кашу. Перед ним стояла непочатая бутылка водки «Тройка». Появление Лиды, казалось, его ничуть и не удивило.
— Мы ошиблись, дружок, — сказал он задумчиво.
3
По сообщениям константинопольских газет генерал Слащев на паровой яхте «Жанна» покинул Турцию. Направление и цель его поездки остаются невыясненными.
...«Пресс дю суар» писала, что известный генерал выехал в... РСФСР. Вместе с ним в Россию направился ряд его ближайших соратников: генерал Мальковский, полковники Гильбих и Мизерницкий — начальник охраны Слащева, жена Слащева и ее брат — капитан артиллерии. Утверждают, переговоры со Слащевым-Крымским вел некий большевистский эмиссар, вручивший генералу письмо Кремля с гарантиями. Накануне отъезда Слащев — по свидетельству очевидцев — кутил в «Эрмитаже», где заявлял окружавшим его, что вынужден уехать «с целью борьбы с политикой Запада, который распродаст Россию». Уволенный от военной службы, Слащев в последнее время занимался огородничеством.
По приезде в Севастополь Слащев будто заявил: «Я снова в дорогом мне Крыму. Я опять в милой России! Я — не коммунист, но просто русский человек и явился по зову ныне существующего правительства для защиты чести России. И я заявляю, что беспрекословно исполню все его распоряжения, так как уверен, что они направлены на защиту чести и для блага моей Родины!..»
Вскоре им было сделано новое заявление:
«Я, генерал Слащев-Крымский, приглашаю всех русских офицеров и солдат, находящихся еще за границей, подчиниться советской власти и вернуться на родину. В противном случае вас будут рассматривать как наемников иностранного капитала, как предателей родины и русского народа, потому что вас каждую минуту могут направить для завоевания русской земли... Русский народ проклянет вас. Я вернулся в Россию и убедился, что прошлое предано забвению. И теперь в качестве одного из бывших начальников Добровольческой армии командую вам: «Последуйте моему примеру!..»
Слушатели большевистской Военной академии, коим был представлен генерал, устроили ему обструкцию...
По данным представителя штаба Главного командования русской армии, который предпочел не называть своей фамилии, дабы не раскрывать источников информации за рубежом, оказывается:
Генерал Слащев-Крымский получил назначение командующим Южным фронтом: у него в подчинении пять армий; на узком военном совещании, проходившем в здании бывшего Александровского военного училища на Арбате в Москве, Слащев доложил о положении армий Врангеля, сообщил большевикам ряд важных сведений о замыслах главного командования, о возможности десантирования и продолжения борьбы с большевизмом.
Из Риги газеты сообщают, что Слащев доставил в Советскую Россию именные списки всего командного состава врангелевской армии...
«Союз георгиевских кавалеров» исключил генерал-лейтенанта Я. А. Слащева-Крымского из числа членов союза ввиду позорного перехода к большевикам...
Генерал Врангель заявил: «...Несомненно, большевики еще не раз используют Слащева как рекламную фигуру. Своим возвращением он нанес ощутимый удар русской армии и всему белому движению».
Глава двенадцатая. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВОЕННЫЕ ИГРЫ
Врангель был расстроен, разгневан. В том, как он нервно ходил по посольскому кабинету, проглядывала растерянность. Врангель не мог скрыть своей озабоченности и неуверенности. А уж раздражение он всячески разжигал в себе, чтобы выплеснуть на подчиненных. Фон Перлоф, который отлично угадывал настроение «хозяина», был обеспокоен: впервые главнокомандующий приглашал его на узкое совещание через адъютанта и — а это было симптоматичнее всего! — совместно с Климовичем. Врангель демонстрировал Перлофу свое недовольство, демонстрировал перед всеми, и это усиливало настороженность контрразведчика.
Здание русского посольства в Константинополе мало изменилось за прошедший год. Все так же бесцельно толпились во дворе с утра до вечера беженцы. Сотня конвойцев, оцепив ближние и дальние подступы к посольским апартаментам, охраняла главнокомандующего.
Фон Перлоф и Климович знали: проблема переброски войск на Балканы занимает Врангеля лишь постольку, поскольку он должен еще раз показать и своим и союзникам, что остается вождем русской армии, которая сохранялась лишь его умом и дипломатическим тактом. События последних недель — потопление яхты «Лукулл» и бегство «генерала Яши» — занимали его сильнее. Врангель объявил, что должен выслушать доклады с мест. Первое слово было предоставлено Кутепову. Александр Павлович, более чем обычно спокойный и самоуверенный, огладив рукой бородку, сказал напористо:
— Господин главнокомандующий! Господа! Я прошел три школы: строевую — когда служил в лейб-гвардии Преображенском полку, на полях войны с большевиками и в Галлиполи. В последней, самой трудной школе учился более всего, памятуя, что мы должны стать в будущем основными кадрами армии. И потому я беспощаден к тем, кто роняет честь мундира — солдатского или офицерского, безразлично. — Кутепов замолчал и исподлобья оглядел собравшихся монгольскими глазами.
— Продолжайте, господин генерал, — нетерпеливо передернул плечами Врангель и пошел к столу, но в кресло не сел, а встал за высокой спинкой, как бы показывая, что времени у него мало, а потому надо говорить по делу. Раньше Врангель непременно сказал бы об этом, а теперь не посмел, не решился, вероятно. И это обстоятельство конечно же отметил каждый. — Слушаем вас, Александр Павлович, — повторил Врангель.
— Эвакуация идет по плану. — Кутепов решил не зарываться, держаться так, чтобы в его сдержанности чувствовалась сила. — Еще в последних числах августа закончилась переброска кавдивизии в Сербию на транспортах «Карасунд» и «Четыреста десятый». С сентября «Карасунд» и «Рашид-паша» эвакуировали в Варну: Дроздовский полк, штаб пехотной дивизии, Алексеевский. полк. Эвакуация сопровождалась торжественным молебном на площадке у набережной. Оркестры на берегу и судах исполняли Преображенский марш. Настроение во вверенных мне частях бодрое...
«Боже, какой дурак! — подумал Врангель и тут же оборвал себя: — Нет! Притворяется, хочет усыпить мою бдительность».
— Некоторая пауза в движении судов с войсковыми контингентами, вызванная норд-остами и штормами, слава богу, окончилась. Двадцать пятого ноября на «Карасунде» мною отправлен полк марковцев, части штаба и артиллерийский дивизион. Двадцать седьмого на пароходе «Ак-Дениз» — Александровское и Корниловское военные училища, Корниловский полк и артдивизион, на «Рашид-паше» — инженерное училище, четвертый и пятый артдивизионы, артшкола и госпиталя. Седьмого декабря «Карасунд» взял в Сербию Николаевское кавалерийское училище, технический полк, отряды Красного Креста. Сам с чинами вверенного мне штаба, Константиновским и Сергиевским училищами полагаю выехать на «Ак-Денизе» в середине декабря. Оставшиеся части будут перевезены в город Галлиполи. У меня все!
— Благодарю, Александр Павлович, за распорядительность. Ваши части всегда являли примеры доблести, коей, к моему сожалению, не хватает многим другим, особо донцам генерала Богаевского. По моим данным, весьма значительная часть их косит в сторону совдепии. И даже среди тех, кто еще летом был доставлен с Лемноса в Сербию, имеются нездоровые настроения. Это нетерпимо, господа генералы! Это дискредитирует армию! Создает дополнительные трудности даже в среде сочувствующих нам политических сил. Знаете ли, господа генералы, в чем начинают упрекать врангелевские войска, прибывшие на Балканы? В том, что они, зараженные революцией, сеют большевизм! И это о нас, господа, которые грудью встали на пути большевизма!
Потом выступил Шатилов. Коротко, безразлично рассказал о дипломатической миссии, об обстановке, в которой окажется армия на Балканах, призывал отрешиться от иллюзий: и в Болгарии, и в Сербии, по его убеждению, армии придется не легче, чем в Галлиполи. Шатилов казался чрезмерно уставшим, подавленным. Он обрюзг, горбился, под глазами набухли мешки. Казалось, он уже знает многое из того, о чем никто из присутствующих и не догадывается. «Пьет он, что ли? — неприязненно думал Кутепов. — Или раздоры с командующим?»
Врангель тоже заметил перемену, происшедшую по возвращении в Константинополь с его любимцем, и терялся в догадках. Он попытался вызвать Шатилова на доверительный разговор, но тот уклонился, сославшись на усталость и нездоровье. Врангель, обидевшись, сделал вид, что не замечает перемен, происшедших с начальником штаба, поручив, однако, Перлофу узнать, в чем причина столь разительных метаморфоз...
Фон Перлоф не очень внимательно прислушивался к происходящему, раздумывая о предстоящей встрече с Шабролем. Встреча должна была произойти вечером на конспиративной квартире, снятой предприимчивым французом. Фон Перлоф чувствовал: еще немного, и он превратится в простого исполнителя. Это его не устраивало, хотя в разведке, как в любом деле, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. А француз платил — непрерывно и щедро. И — странно! — ничего не требовал взамен. Пока... Дезьем бюро — богатая организация, но она филантропией не занимается. Для чего-то его готовят — ясно. Возможно, хотят прибрать к рукам «Внутреннюю линию»? Или их, как не раз утверждал Шаброль, интересуют лишь большевики и их тайная агентура?.. Фон Перлоф. успокаивал себя: об их контактах знает только Шаброль. Слово Издетскому — и очаровательный м’сье исчезнет навсегда.. И все же надо отдать ему должное. Профессионал. Конспиративная квартира организована по всем правилам — бойкий магазинчик готового платья, народу толчется много, ход в заднюю комнату через одну из примерочных. Встречает и провожает всегда один и тот же продавец. На вопрос Перлофа Шаброль рассмеялся: какой продавец? Он — сторож. Мелкий вор. Случайно убил человека. Его ищет союзническая полиция — вот и молчит, прячется... Интересно, что предложит ему Шаброль сегодня? Все как будто решено, оговорено, продумано: шифр, явки — контакты после переезда в Сербию. И основное, непременное условие: никаких третьих лиц, они знают лишь друг друга. В случае невыхода на встречу любой из сторон, по независящим обстоятельствам, договор о сотрудничестве прекращает свое существование немедля, ибо каждому запрещалось привлекать к делу третьих лиц. Француз терял деньги. Русский — частное бюро и надежное легальное прикрытие. Но поскольку времена благородных мушкетеров прошли, рассуждал фон Перлоф, созданная контора не прекратит существования. Уцелеет француз — станет полной собственностью Дезьем бюро; повезет мне — придется искать нового Шаброля или перепродать контору англичанам. Пока профессионал жив, он не сможет выйти из игры.
Тем временем Врангель закончил совещание и отпустил всех, попросив задержаться лишь Шатилова, Климовича и Перлофа. Некоторое время главнокомандующий мерил по диагонали посольский кабинет, стараясь не то успокоиться, не то нагнетая в себе злость и ярость. Положение становилось смешным, ибо никто уже не боялся своего начальника.
— Вы ждете еще кого-то, Петр Николаевич? — спросил Шатилов.
— Нет, нет! — Врангеля словно прорвало. — Я никого не жду! И ничего! Что ждать?! От кого?! От французов? От сподвижников? Когда обо мне писали что угодно, оскорбляли — меня и армию, — я молчал. Когда было совершено покушение, пошел ко дну «Лукулл» и только божье вмешательство спасло меня, — я тоже молчал. Генерал Слащев — подумать только! — переметнулся к большевикам. Что?! Опять молчать прикажете?! Доколе?! Эти страшные удары мы не вправе недооценивать. Надо принимать ответные меры! Надо действовать! Или демобилизоваться, разоружиться, разбежаться по городам и странам? Что вы скажете, господин Климович? Где наша хваленая разведка, где, черт возьми, ваши люди? Почему они не работают? Мы проигрываем противникам по всем статьям, господа. По дипломатической, военной, разведывательной. Ни к чертовой матери! Обстоятельства чрезвычайные. Прошу простить: отсюда и моя несдержанность. — Он прошел к столу и сел. — Я считаю ее допустимой. Павел Николаевич долго отсутствовал, — милостиво продолжил Врангель, еще более усмиряя себя. Он не кричал уже и не бегал. — Так что вам речь держать, Евгений Константинович.
— Обстановка напряженная, ваше высокопревосходительство, — начал Климович, придав лицу значительность и озабоченность. — Севрский договор, поставивший на колени Турцию и родивший Кемаля-пашу; четкая позиция Великобритании и колебания Франции, ищущей контактов с кемалистами, — с одной стороны. С другой — интересы Греции, Италии, Болгарии; происки России, открыто поддерживающей Кемаля, заключившей по указанию Ленина мирный договор с Ангорой и...
— Увольте, Евгений Константинович! Переходите к делу, если это вас не затруднит, — оборвал Врангель.
— Я уже перешел к делу, ваше высокопревосходительство, — спокойно парировал Климович. — И я прошу дать мне возможность.
— Много разговоров! — перебил Врангель. — Говорим, говорим, говорим! А дело? Где дело, Климович?
— И все же я прошу, — твердо продолжил Климович, — дать мне возможность подвести некоторые итоги деятельности своего отдела. Весьма затрудненного в средствах. Однако несомненно...
— Несомненно одно: вы проморгали Слащева. Вы!
— Должен отметить, генерал Слащев перед отъездом беседовал с капитаном Уокером — офицером контрразведки английского генштаба. По сообщению Уокера ничто не предвещало этот отъезд.
— Отъезд предвещало его знакомство с неким матросом, большевистским эмиссаром, одним из тех, кто действует у вас под носом.
— Отряд французской полиции оцепил дачу Слащева, там всю ночь шел обыск, также не давший никаких разъяснений поступку...
— К черту французов! Пора жить своим умом.
— Я просил бы, ваше высокопревосходительство...
— Простите, генерал! — Врангель поднялся. — Не считаю возможным вас задерживать. Соображения по поводу деятельности вашего отдела, которую я приравниваю к нулю, прошу представить мне. Честь имею! — Это был прямой вызов. Пожалуй, несколько преждевременный: бывший начальник департамента российской полиции обладал еще реальной силой и не прощал таких обид.
Климович, поклонившись, вышел. Врангель, проводив его бешеным взглядом, прошелся вдоль кабинета. Странно, теперь он испытывал облегчение. Опрометчиво выгнав полицейского и сознавая, что поторопился, он почувствовал вдруг освобождение от страха, связанного с Климовичем еще со времен Крыма, точно теперь, против всякой логики, Климович становился неопасен.
— Ну зачем же так, Петр Николаевич? — спросил Шатилов.
— Я обязан крепко держать вожжи, Павлуша. — Врангель прошел за стол, добавил: — Знаю, что творю, поверь. — Сел, сурово спросил фон Перлофа: — Можете передать суть информации Климовича?
— Деятельность отдела шла в нескольких направлениях. Первое — эмигрантские группы. Тут определенный успех: Климовичу удалось внедриться, он может оказывать косвенное влияние на некоторые круги...
Какие?! — живо поинтересовался Врангель. Нервы у него сдавали, не выдерживали напряжения последнего месяца — начавшейся эвакуации воинских частей, торговли с болгарами за каждого солдата, уговоров царя Александра, находившегося под влиянием и французов, и греков, и итальянцев, и собственного окружения, колеблющегося, слабого, легко отказывающегося от своих обещаний.
— Монархические, — ответил фон Перлоф. — Местные, белградские и берлинские. Вторая линия — союзники. Тут успехи невелики. Установлена связь с Интеллиджснс сервис — скорее дипломатическая, нежели рабочая. Да и в том заслуга англичан. Они ищут человека около Климовича, сам он для них фигура одиозная и очень заметная. С французами лишь официальные связи и обязательство сотрудничать, никого ни к чему не обязывающее (Перлофу захотелось козырнуть своей игрой с французами, но он сдержал себя).
— Ясно, союзники не берут его в игру! — воскликнул Врангель. — Ну, а большевики, большевики?!
— Здесь Евгений Константинович по-прежнему разрабатывает ложные версии. Он не на правильном пути — кинул все силы на торговцев, которых считает агентурой красных.
— И пока он гоняется за призраками, их диверсанты гонятся за мной и топят «Лукулл»! А ведь этот жандарм стоит мне денег — и немалых. Полк можно содержать! У вас точные сведения?
— Абсолютно точные, ваше высокопревосходительство.
— Через этого, бывшего осведомителя из Парижа? Как его?
— Именно, — подхватил контрразведчик, не желающий произносить фамилию перевербованного им человека. — Считаю возможным поощрить его.
— Поощряйте, поощряйте, генерал! Надо повсюду иметь нужных людей. Ну, а о своей деятельности что вы скажете? Что Кутепов?
— Ждет отплытия в Болгарию, военной и политической самостоятельности. Мой человек «освещает» каждый его шаг. Я знаю даже, что было вчера на ужин у Александра Павловича.
— Браво! — Врангель с торжеством посмотрел на Шатилова.
Начальник штаба, откровенно скучая, не то рассматривал какой-то документ, не то подремывал. Врангель, негодуя, отвернулся, но от замечаний воздержался: мало того, что он отослал Климовича, не хватало еще поругаться с «Павлушей». Врангель сделал знак Перлофу: «продолжайте», но опять взглянул на Шатилова.
— Хочу добавить, ваше высокопревосходительство, — вкрадчиво произнес фон Перлоф и от нетерпения дзенькнул шпорой. Врангель милостиво кивнул, и контрразведчик, приберегший важное для себя сообщение напоследок, сказал: — «Внутренняя линия» начала действовать в двух направлениях: в местном, так сказать, и зарубежном. В Константинополе организовано частное розыскное бюро. По роду своих обязанностей оно призвано открыто следить за всеми и за каждым русским — при необходимости. В нашу сеть обязательно попадет либо красный агент, либо лицо, с ним связанное. Оно и даст возможность ухватить нитку. И — второе. Ленин затрачивает много сил, дабы поддержать Мустафу Кемаля. Большевики, придавая этому огромное значение, называют свои действия «помощь турецкой революции». Заключен Московский договор. В Ангору вот-вот должна отправиться миссия во главе с Фрунзе.
— Ого! — не в силах сдержаться, воскликнул Врангель. — Сам Фрунзе! Их цель?
— Они везут миллион золотом: хотят привязать Кемаля, обезопасить кавказскую границу. Возникла идея...
— Фрунзе не должен попасть в Ангору. Этим вы должны озаботиться!
— Я уверен, этого не допустят и сами турки. Противники Кемаля — не только в Константинополе, но в Ангоре и — особо! — в восточных областях. По меньшей мере десяток генералов претендует на его место и на титул «гази». Большевики, конечно, понимают это. Они будут оберегать миссию Фрунзе. Если я подсуну человека в группу турок, сопровождающих красного генерала, он выведет нас и на их константинопольское подполье.
— Выведет, — подхватил Врангель. — Вы отлично все затеваете. Но! Наша главная задача — уничтожить делегацию большевиков. Их много?
— Думаю, их будут охранять значительные отряды Кемаля. Да и чекистов'они пошлют достаточно.
— И все-таки! Задача уничтожения Фрунзе, фон Перлоф! Может быть, послать в Восточную Анатолию летучий отряд?
— Полагаю, лучше одного-двух человек. Был вариант, но он, к сожалению, не получил реализации. Пока — во всяком случае. Поэтому и не докладывал вам, чтоб не отнимать зря время, — контрразведчик хитрил, набивал себе цену.
— Докладывайте, фон Перлоф. Я приказывал вам — в любое время, днем, ночью — когда угодно! Я вот и про Фрунзе не знал, Безобразие! Ну! Так в чем дело?
— Энвер-паша. Я установил с ним контакт, но боюсь, поздно. Он — человек Англии. И теперь его послали в Туркестан. Я внушал ему: сблокировавшись с нашими войсками, захватить Константинополь, а затем, пока союзники не опомнились, ударить по Кемалю. Энвер готов.
— Видите, — упрекнул Врангель. — Если б вы поставили меня в известность, все повернулось бы иначе.
— Идея еще в зародыше. Эти восточные политики и военные ведут переговоры сразу на все стороны.
— Делаю вам выговор. И вы ошибались в последнее время.
«Неужели знает о контактах с Шабролем? — внутренне напрягся контрразведчик. — Хотя откуда? Не от Климовича же?»
— Отныне будете являться с докладом ежедневно, — сухо проговорил Врангель и, понимая, что зря теряет нужную, доверительную интонацию, добавил благосклонно: — Благодарю за службу, Христиан Иванович. Можете идти, если у вас все. — Поднявшись из-за стола, Врангель с подлинным чувством признательности протянул руку, которую с таким же горячим чувством пожал фон Перлоф, и, обняв контрразведчика за плечи, проводил его к дверям. Вернувшись, Врангель сел, вскинув полы черкески, и сказал: — Распустились! Холуйская черта — расслабились вожжи, опустился кнут — и понеслись кто куда.
Шатилов молчал, думал. Тонкие пальцы выколачивали по столу нервическую дробь. Видно было, как он устал. Во всей его начинающей полнеть фигуре ощущалось нечто трагическое, внутренний слом, обреченность.
— Что с тобой, Павлуша? — спросил Врангель, оценив состояние своего сподвижника. — Здоров ли ты?
— Предадут... Как есть предадут, — отозвался начштаба. — Эти разведчики, контрразведчики — перлофы, климовичи... Предадут и нас с тобой, как в свое время Романовского, Деникина. Так и будет. Вот увидишь!
— Рано ты хоронишь нас. Мы еще повоюем. Выше голову, Павлуша!
— Я, пожалуй, подам в отставку?
— Не сделаешь этого. Не имеешь права. Мы обязаны передислоцировать армию. И сохранить ее для будущего.
— Ты веришь, что у этой армии есть будущее?..
Глава тринадцатая. ЧЕРНОЕ МОРЕ. ДЕСАНТ В БОЛГАРИЮ
1
И вновь «плавучая Россия» — обнищавшая, поредевшая, изверившаяся — выходила в море. Одним судьба выбрала путь на юг, через Мраморное и Эгейское моря, к берегам Адриатики. Другим жребий выпал в Болгарию, суда шли на северо-запад, в порт Варну. Цвет врангелевского воинства размещался на севере страны, под командованием испытанных соратников Кутепова — Витковского, Скоблина, Туркула. Занимали пустующие казармы болгарской армии, уничтоженной Антантой по договору в Нейи: в Свиштове, Севлиеве, Никополе, Белоградчике. Донские части генерала Абрамова располагались в южной Болгарии, штаб — в Старой Загоре. Штаб командующего 1-м корпусом — в Велико-Тырнове. В Софии — лишь центральные учреждения.
Генерал Кутепов сохранял неколебимую уверенность, с трудом сдерживал рвущуюся радость. Сбывалась его давняя мечта, он становился начальником самой боеспособной части русской армии! Их было трое, после того как Деникин решил оставить пост главнокомандующего, и шансы каждого были равны: все молоды, все генерал-лейтенанты, имели заслуги перед белым движением — Врангель, Слащев, Кутепов... Слащев выбыл из игры и удрал к большевикам. Врангель без армии отправляется куда-то в Сербию. Он еще главнокомандующий, но популярность его падает, он оторвался от частей. Что он сможет сделать из своего далека? Издавать громоподобные приказы? Теперь он, Кутепов, вождь. Он поведет армию. Он сплотит. Армия отдохнет и окрепнет, будет, как кулак, постоянно готовой к бою. Антибольшевистских сил много в Европе. Он, Кутепов, им нужен.
Пока «Ак-Дениз» стоял на погрузке, Александр Павлович, расположив в лучшей каюте немногочисленное свое имущество, принимал начальника контрразведывательного отдела полковника Самохвалова, вернувшегося из Болгарии. Стоя навытяжку и втягивая несколько ожиревший живот (Кутепов не терпел малейшего несоблюдения формы и расхлябанности), полковник докладывал, стараясь быть кратким. За Самохваловым еще из Крыма тянулись кое-какие грешки. Он боялся Кутепова, скорого на расправу, и старался скрыть страх велеречивостью. Прикрываясь почтительными, выражающими безграничное преклонение словами, Самохвалов, посланный с частями и штабом начальника 1-й пехотной дивизии генерала Витковского, говорил:
— В силу вашего предписания, я плыл в Варну на «Рашид-паше». Все надеялись на торжественную встречу. Господин генерал приказали офицерам и солдатам разучивать с полным усердием национальный болгарский гимн «Шуми, Марица...».
— И вы разучивали, полковник? — бросил Кутепов с ухмылкой. — И что там? Ну, слова какие?
— «Шуми, Марица, окровавлена; плаче вдовица люто ранена; марш-марш с генерала наш; в бой да летим, враг да победим».
— Хорошие слова, — Кутепов подкрутил ус. — Надо приказать, чтоб все знали. Полезно! Продолжайте.
— В виду гавани генерал Витковский расставил чинов штаба на палубе, позволил и мне принять участие в церемонии, ожидая прибытия встречающей делегации и подношения цветов. Однако на причале никого. Ни благодарной толпы, ни хлеба с солью. Один лишь санитарный врач — объявляет о карантине. Что, естественно, вызывает общий упадок духа.
— Скоты! — спокойно резюмировал Кутепов. — Ну-с!
— Дальнейшее убеждает всех в худшем. Армию не признают, солдат и офицеров считают беженцами.
— Это у генерала Витковского так получается. Беженцы?! Дерьмо! Я им покажу беженцев! Будет им Марица окровавлена!..
— Осмелюсь добавить. И прошу благосклонно выслушать. Генерал Витковский защищал честь мундира с благородством и смелостью. Сняв нумера в гостинице на главной улице — для себя и штаба, — он поставил у входа часовых и приказал вывесить российский флаг. Немедля появился городской комендант с приказом спустить флаг. Генерал Витковский протестовал со всей настойчивостью, заявив в присутствии группы граждан: «Болгария, которую Россия спасла от турецкого ига, не может предъявлять подобных ультиматумов!» Заявление находит тзвук в сердцах горожан. Они аплодируют. Однако флаг приходится спустить.
— Я понимаю, полковник. — Кутепов смотрел спокойно и строго. — Мы ударим в колокола, обратимся через голову правительства к общественным кругам. Я уверен: болгары знают, русский воин — брат. Нет города, в котором не нашлось бы места русским солдатам, чьи отцы и деды проливали кровь за освобождение Болгарии от поработителей. Надо будет — напомним! Придется — научим. За нами — сила! Выводы я, конечно, сделаю. Но это эмоции. Говорите о размещении частей.
— Ввиду кратковременности пребывания, однако, в силу предписания, — поспешно заговорил, часто-часто моргая, Самохвалов, — посетил Свиштов и Белоградчик. А также Велико-Тырново.
— Докладывайте о Тырново. Там нам служить, полковник!..
Возле пирса, где грузился «Ак-Дениз», все время стояла пестрая толпа — галлиполийские турки, греки, армяне, русские беженцы с острова Халки и других мест. Галлиполийцы глазели от безделья, в надежде украсть, купить или продать что-то отъезжающим; русские — встретить знакомого, попытать счастья, которое может и улыбнуться когда-нибудь.
Несколько дней Андрей Белопольский бродил по городу, по морскому берегу, с кем-то говорил, что-то делал, пил. Под вечер он забирался под дырявую шлюпку и проваливался в тяжкий сон.
Однажды на рассвете Андрей очнулся разбитый, с дикой головной болью. Над Галлиполи низко стояла полная желтая луна. Зеленая дорожка, дробясь на волнах, уходила от нее в море. Ритмично поскрипывали и постанывали трущиеся бортами суденышки у причала. Им вторили шаткие и худые доски сходен и обросшие тиной, расшатанные временем сваи... Он приподнял голову и вновь уронил ее, закрыв глаза, поняв, что еще спит.
Помотав по-собачьи головой, Андрей сел, стараясь сбросить с себя страшную тяжесть. Он заставил себя выползти из-под шлюпки. Город спал. Море спало. Весь мир, казалось, еще спал. Белопольский пошел по берегу. Утренняя прохлада отрезвила его. А когда «Ак-Дениз» вошел в порт, пришвартовался и Андрей снова увидел гимнастерки, френчи, мундиры, он с необычайной силой ощутил свою непричастность к русскому военному братству. Андрей все поглядывал на «Ак-Дениз», а затем подошел к трапу и смешался с толпой. Он не надеялся встретить кого-либо из знакомых. Да никто и не узнал бы в загорелом до черноты, высушенном морскими ветрами, бритоголовом, неаккуратно одетом босяке георгиевского кавалера князя Белопольского. Он и сам не признался, если бы кто-то окликнул его. Просто ему приятно было услышать четкие слова команд, увидеть скуластые, курносые и светлоглазые лица. Андрей смотрел, как грузились офицеры штаба, а следом медленно и величественно поднялся по трапу сам Кутепов, без шинели, в парадном мундире, на котором все сверкало — ордена, пуговицы, золотые погоны.
И тут Андрей вспомнил о капитане Калентьеве. А в следующий миг он уже бежал к их совместному жилищу — будь оно проклято!
Калентьев, сидя спиной ко входу, поспешно рвал и жег какие-то бумаги. Собранный чемодан с брошенной на него шинелью стоял поодаль. Едва под ногой Андрея скрипнул камешек, капитан вскочил.
— Руки! — приказал он, взмахнув пистолетом. — А, это ты!
— Уезжаешь, Калентьев?
— Точно так, — спокойно, но с долей не оставившего его сомнения отозвался Калентьев. — Но почему такой вид, князь? И где ты пропадал?
— Я крестик на себе поставил.
Калентьев подумал, пошевелил палкой пепел в костерке, сказал:
— Ну, а если дадут оружие и снова в Россию — поедешь?
— Под командованием «генерала Яши»?
— О, дружище! — удивился Калентьев. — Так ты ничего не знаешь? Командир твой по Москве ходит.
— Не понял. — Андрей взглянул гневно, и Калентьев сразу увидел в нем прежнего вспыльчивого забияку.
— Слащев добровольно вернулся в Россию.
— И его не повесили? Не поставили к стенке?
— Судя по газетам — нет.
— Так... — Андрей опустился на каменный топчан. — Этого можно было ждать. Сейчас всего можно ждать. От каждого из нас... Все попрано, поругано... Спрашиваешь, пошел бы я, как когда-то, с винтовкой — в рост, под красные пулеметы? Нет! Не пошел бы, даже под угрозой расстрела. Капитана Белопольского не существует. Его утопили на Дону! Распял на Георгиевском кресте Слащев в Севастополе! Сбросили в море большевики! — он беззвучно заплакал.
— Что же ты будешь делать тут? — спросил участливо Калентьев.
— Э! Какая разница! — Андрей устало провел ладонью по лицу. — Жизнь подскажет, бог укажет.
— Послушай. Есть у меня идейка. Надо подумать. Но думать, князь, некогда. Через час «Ак-Дениз» уходит... Предлагаю Болгарию.
— Зачем? — изумился Андрей. — Хочешь, чтоб я вернулся к прежней службе? Но кто меня возьмет?
— В армию — вряд ли. Я ведь уже просил за тебя Кутепова. А когда ты запил и перестал исполнять служебные обязанности...
— Какую же должность ты предлагаешь мне? Прихлебателя?! Почему ты такой добренький, Калентьев? Всегда ты отличался от нас... Когда ты появился? — дай вспомнить. Ты появился во время «ледяного похода». Или раньше?
— Ты едешь? Решай! — ушел от ответа Калентьев.
— Разумеется, нет. Не представляю, что я стану делать в Болгарии. Заставите воевать? Против кого? Даже против красных не буду. Надоело. Устал!
— Тогда давай попрощаемся.
— Низко кланяюсь. За все. Провожу тебя. И чемодан поднесу.
— Он пуст, как мой кошелек. — Калентьев отставил чемодан.
— Да, не очень мы нажились. И в званиях не продвинулись, — сказал Андрей. — Иные уже генералы, а мы все капитаны.
— Не в этом счастье. Ну, пошли.
Они одновременно потянулись к чемодану, однако Белопольский первым взялся за ручку. «Пустой» чемодан оказался тяжелым. Офицеры двинулись к берегу. Серая невесомая дымка стлалась над водой. Под ногами скрипела галька и мелкие ракушки.
— Объясни, Калентьев, — навязчивая, беспокойная мысль поянилась у Андрея. — Ты ведь чего-то добиваешься? Я зачем-то нужен тебе, зачем?
— Здесь ты пропадешь, князь. Сопьешься, убьют, заболеешь лихорадкой, умрешь в нищете. А из Софии в Париж или Берлин доберешься. Ты ведь бывший студент? Врангель посылает офицеров в Прагу — учиться. Разумеется, нужны рекомендации. Мы их добудем.
— Мои университеты закончены... Но что у тебя в чемодане? Камни?
— Несколько книг. А ты, видно, изрядно ослабел... Есть еще одно обстоятельство, князь. Как на духу, — Калентьев достал портсигар, вынул папиросу.
— Вистую, — сказал Белопольский, опуская чемодан. — Так что — напоследок? Я чувствовал, оно будет, обстоятельство.
— Человеку нельзя без родины.
— Думаешь, большевики не продержатся долго? Ошибаешься, Калентьев. Это надолго.
— Я говорю о родине, князь.
— У меня нет родины.
— Твой дед рассудил иначе. Он остался в Крыму.
— Как остался?! Врешь!
— Слово офицера. Многие возвращаются в Россию — не сотни, а уже тысячи, князь. Можно их проклинать, но от фактов не уйдешь. За их подлинность я ручаюсь.
— А об отце, брате, сестре тебе что-нибудь известно? — Андрей все более настораживался, инстинктивно ожидая приближения беды.
— К сожалению, нет. Множество русских уже в Европе. В Болгарии ты, возможно, нападешь на их след. Говорю тебе — едем!
— Нет, — Андрей поднял чемодан. Его подозрения крепли. Вспомнилось их галлиполийское житье, постоянная таинственность, что окружала Глеба, его отлучки, иногда — ночные гости, с ними Калентьев всегда разговаривал на улице.
— Послушай, что ты все темнишь? Все туманишь, врешь, юлишь?.. Кому вы служите, капитан?
— Родине, князь.
— Какой родине? Врангелевцам? Большевикам? Монархистам из Лиги? Извольте объясниться.
— Не считаю возможным. И не могу, поверь, — машинально он расстегнул кобуру.
— Ну, стреляй! Моя жизнь — твоя. Ты же мой спаситель! — Андрей засмеялся, увидев нерешительность Калентьсва. — Иди. К дьяволу! Ты не друг мне более. — и Белопольский повернул обратно, сделал несколько шагов и бессильно опустился на камень...
Калентьев поднял чемодан и двинулся вперед. Не оборачиваясь, он медленно уходил в серое туманное облако. Контуры его фигуры расплывались, тускнели. Еще миг — и он скроется, исчезнет. Навсегда. А если он — последняя соломинка, переброшенная через пропасть, и Андрей не воспользуется ею, не побежит с закрытыми глазами, даже рискуя сорваться и полететь вниз, разбить голову... И тут Белопольский испугался. Впервые в полной мере он испытал страх. Он — офицер, «не подтягивавший голенища» под германскими «чемоданами», ходивший в атаки, поплевывая семечки (выдуманный Слащевым способ показного пренебрежения к смерти быстро прижился в среде первопоходников), перенесший позор отступления от Курска и бегства из Крыма, нищету Константинополя и клопов Галлиполи, отчаяние, безразличие и злобу, — испугался. Он испытывал не просто испуг, а ужас... Белопольский вскочил и с криком: «Глеб! Глеб, постой!» — побежал по берегу, оскользаясь на мокрых камнях и чувствуя, что силы оставляют его. Калентьева не было видно. Он словно в воду канул. Может, действительно, его ждала лодка или катер? Кем же был его комбатант и друг Калентьев? На кого он работал? На Врангеля? Союзников? На большевиков? Тогда — он враг и долг Белопольского сообщить об этом Климовичу или Кутепову. Но кому служит теперь сам Климович?.. Голова разламывалась. «Будь все проклято, — бормотал Андрей. — Разбирайтесь сами... Мне нет дела до вашей политики, жрите друг друга, боритесь за власть, продавайте ее за тридцать сребреников. Я не стану валяться во всем этом дерьме».
2
22 декабря, утром, «Ак-Дениз» прибывал в болгарский порт Варну. Черноморский берег Болгарии был здесь сух, сер и напоминал крымский: широкая полоса серо-желтого песка, чахлые кусты... Шумел на холодном ветру ковыль. Земля твердая, каменистая. На пологих склонах холмов — проплешинами — пожухлая зелень. Выше — сады, виноградники, низкая, стелющаяся лоза, яблони, орешины. На север уходила полоса холмов. Горизонт пуст, безжизнен. Из-за кормы «Ак-Дсниза» поднималось бледно-желтое, холодное солнце.
Кутепову здесь не понравилось. Хуже Турции, хуже Галлиполи, — напоминало Крым. Ехали, ехали и опять туда же приехали. Кутепов, мрачный, стоял на мостике, в группе офицеров, и всезнающий глуповатый полковник Шацкий, упиваясь собственным голосом, рассказывал о городе Варна, что, беспорядочно разбросавшись, приближался к кораблю: основан греческими колонистами, был под властью македонцев, римлян, византийцев, турок. Около реки Девня — город Марцианополис. Правее — скалистый выступ в устье Варненского залива, а где маяк, мыс Галата...
— Хватит! — резко перебил Шацкого Кутепов. Мало того, что эта земля напоминала ему Крым. Она станет напоминать ему Константинополь, напоминать турецкую Галату. Кутепов думал о том, как встретят его болгарские власти. Будут вести себя непочтительно, он может приказать навести здесь должный порядок! И полетят эти как их? — «братушки» к чертовой матери. Он пройдет Болгарию с востока на запад («Сколько там? Километров пятьсот — шестьсот?») за двадцать дней.
— Что вы замолчали, полковник? — спросил Кутепов.
«Ак-Дениз» миновал канал, ведущий в Варненское озеро, мол и вошел в порт. За набережной виднелось приземистое здание вокзала — купол, башня с часами, широкие окна по фасаду, — таможня и больница, железнодорожные пути, составы, портовые краны. Набережная была пуста — ни знамен, ни оркестров. Небольшие разрозненные группки встречающих (а может, просто случайных людей) были лишь на площади позади вокзала и в скверике, у фонтана.
— ... Скифы называли это место — Акшаена, — продолжал звучать вдохновенной голос Шацкого. — Древние греки — Евксинос, что значит — «негостеприимное море».
«Ак-Дениз» швартовался. На набережной появилась группа людей. Все же встречают. Кутепов сказал:
— Хочу предостеречь, господа. Я не дам превратить армию в стадо. Выгрузка должна пройти образцово. И быстро — по-фронтовому. Пусть видят: армия цела! Оркестрантов — вперед! Преображенский марш играть до тех пор, пока последний солдат не сойдет на пристань! Я надеюсь, эшелоны не заставят ждать. Генерал Витковский и посланник Петряев обязаны были распорядиться, Всем нижним чинам стоять в ожидании погрузки в строю при команде «вольно». Офицеры отвечают за образцовый порядок. Объявить: при недисциплинированности буду карать со всей строгостью. Офицерам, кроме дежурных, разрешается отсутствие на полтора часа. Но никаких ресторанов, господа! Мы в дружественной стране. И это накладывает на нас определенные правила поведения. Я буду у болгарского коменданта.
Швартовка наконец закончилась. Спустили два трапа. К ним заспешила группа людей в форме русской и болгарской армий. Кутепов приосанился: все-таки его встречали не так, как Витковского, хотя и не так, конечно, как подобало встречать командующего русскими войсками. Но — все равно! Встреча состоялась, и он решил изменить ее ритуал, придать ему большую торжественность.
— Господа офицеры! — воскликнул он воодушевленно. — Нас встречают болгарские друзья! Во главе с генералом Топалджиковым! Приготовить знамена к выносу! Штаб-трубачу играть «Под знамя»! После встречи — молебен. — И, форсируя голос, крикнул: — Верному нашему другу и союзнику — Болгарии — ура!
И вся палуба грохнула троекратно «ура! ура! ура!». Оркестр на «Ак-Денизе» дружно ударил болгарский гимн, и несколько десятков тренированных голосов затянули с неподдельным чувством: «Шуми, Марица, окровавена...» Получилось недурственно.
После свершения воинских церемоний и дипломатических объятий с троекратным целованием говорили речи. Топалджиков — о великой радости и чести принять на болгарской земле русских воинов. Кутепов определенней: Россия-де в скором времени воскреснет, как могучий дуб прикроет зеленым шатром младшую сестру, поведет се в бой за идеалы славянства. Болгарину не понравилась «младшая сестра», насторожило упоминание о предстоящих боях за неизвестно как понимаемые — и какие! — идеалы славянства. Стараясь закончить незапланированную процедуру встречи (которая благодаря этому параду — построениям, оркестру, звукам труб, знаменам — превратилась в демонстрацию силы самоуверенного генерала, приведшего войска в Болгарию), он сказал: положение сложное, страна разорена, но, увидев, как недобрым блеском вспыхнули косого разреза глаза Кутелова, поспешил закончить фразой, не обязывающей его абсолютно ни к чему: мы с вами рука об руку будем идти вперед. Куда это вперед, осталось невыясненным. Как и более важное обстоятельство. Кутепов был информирован, что главнокомандующий депонировал в болгарском банке сумму, обеспечивающую проживание и пропитание его корпуса в течение года — из расчета по десять левов на человека в день. Теперь Топалджиков заметил, что сумма вряд ли окажется достаточной. Кутепов, не переносивший недомолвок, неясностей, недоговоренности, заявил, что свяжется с главнокомандующим и посланником в Софии и все немедля выяснит. Топалджиков, не ожидавший столь резкой реакции, еле успокоил его: нет нужды выяснять это немедля, главное — рассредоточить войска, перебраться в Велико-Тырново, где разворачивался штаб корпуса. Начал рассказывать о древней столице Болгарии. Кутепов слушал вполуха, внимательно смотрел за тем, как идет разгрузка. А потом, озлясь, сказал, что русские, прибывшие в Болгарию, окажут стране в борьбе с большевизмом помощь не меньшую, чем .во времена сражений с янычарами, однако встреча их оставляет желать лучшего, ибо вместо оркестров они слышат торгашеские разговоры.
Топалджиков обиделся. Ему решительно не понравился уверенный в себе генерал, лишенный дипломатического такта и нарочито подчёркивающий, что он не гость, а спаситель болгар. С ним надо держать ухо востро: может натворить такого, что дипломаты в год не уладят. Топалджиков обязан доложить о своих впечатлениях военному министру. Он считал, что никогда не ошибается в людях. Но, как человек светский и достаточно потершийся в дипломатических и в придворных кругах, сделал вид, что досадного поворота в разговоре не было, и пригласил генерала отобедать. Кутепов от приглашения отказался: не привык, мол, обедать в торжественные дни без боевых соратников, с которыми делил радость побед и горечь поражений.
Коллективный обед не был предусмотрен, дабы не привлекать к факту прибытия Кутепова внимания левой общественности. Недаром Стамболийский, постоянно ищущий поддержки у Земледельческой партии, под нажимом военных согласившийся принять ограниченные русские контингенты, приказывал строго пресекать бонапартистские попытки генералов. Инструктируя Топалджикова, он несколько раз повторил: встреча должна происходить как можно незаметнее, тише, без всяких эксцессов, могущих попасть на страницы прессы... Начальник штаба болгарской армии пылко заговорил об инструкциях, которые он обязан строго выполнять. Кутепов, которому уже надоел этот испуганный болгарин («Дрянцо, — любимым своим словом охарактеризовал он его. — Вся грудь в орденах, где только добытых?! В штабах, небось, на паркетах во дворцах? Дрянцо»), перебил его нетерпеливо и даже грубо: ему некогда, ибо он привык лично руководить выгрузкой. Что же касается вопроса о суммах, депонированных Врангелем на содержание корпуса, он займется ими, для чего тотчас командирует в Софию офицера. Кутепов сухо кивнул, взял под козырек и тут же приказал адъютанту разыскать капитана Калентьева. Топалджиков отошел к группе встречающих, которые, не желая мешать разговору, держались в стороне. Торопливо подошел Калентьев. Как всегда, он был тщательно одет, все на нем сверкало. Кутепов посмотрел милостиво, сказал громко, чтобы слышали все:
— Поедете в Софию, капитан. К Петряеву. И возьмете его за горло. Надо выяснить финансовое положение корпуса... А то тут... — он хотел сказать грубое слово, но сдержался и закончил с озабоченностью: — ...уже возникают недоразумения. Возвращайтесь в Тырново: здесь я не останусь ни минуты, — это прозвучало, как вызов...
3
Заканчивался трудный для мира 1921 год...
В разгаре была южная турецкая зима, оказавшаяся суровой. Годовщина пребывания русских беженцев на чужой, неприютной земле вызывала всеобщее отчаяние, тоску по родине, рост самоубийств. Вечерами из многочисленных кабаков Константинополя неслись рвущие душу слова популярной в те дни эмигрантской песни: «Занесло тебя снегом, Россия, не пробиться к родным святыням, не услышать родных голосов...»
Шли на родину — в Одессу и Новороссийск — корабли с прозревшими беженцами. Шли на Балканы, перегруженные воинскими частями, транспорты. Голодные солдаты проклинали судьбу. Офицеры ссорились, играли в карты, пели, не таясь, веселые частушки:
Кутепова мы знаем по ухватке.
С говном он всех нас хочет съесть!
Среди командного состава
И гастрономы у нас есть...
Ах, штабики, все это штабики!
Всему виной! Погибло все...
Зло, матерно ругали союзников: бросили на произвол судьбы, кормят впроголодь — старыми и тухлыми консервами, похоже, из конины. Даже женщины, казалось, пропахли этими консервами...
В конце декабря над Константинополем разразился небывалой силы снежный ураган. Всю ночь бушевал ветер, грохотали падающие вывески, перевернутые будки и ларьки, сорванное железо крыш, звенели разбитые стекла витрин. На Галате были сметены десятки домов. На Таксиме вырван с корнями знаменитый вековой дуб, разрушена столовая для беженцев. На Нишангаше снесены палатки, развалено общежитие. В Кадыкое выбросило на берег английский корабль и сильно повредило транспорт «Саратов». У входа в Босфор затонуло два десятка парусников. Многие суда снимались с якорей и уходили в открытое море. В небе сквозь быстро несущиеся облака проглядывало мутноватое черное солнце...
Где-то на севере, совсем рядом, за морем, которое всем русским казалось маленьким, была родина. Она не забывалась. Несчастных людей по-прежнему соединяло с ней все: воспоминания, надежды, мечты о будущем. Каждый из беженцев — гражданских и военных — с трепетом ждал, что принесет 1922 год. Военных ждал... новогодний приказ Врангеля:
«Еще один год отошел в вечность. Русская армия отбила новые удары судьбы. Она осталась на посту. Она на страже государственности. Ее пароль — отечество. Одни клевещут на нее, другие зовут за собой. Она выполнит .свой долг. Его укажет народ. Мы ждем призыва родины. Да принесет его грядущий год!»
Главнокомандующий и остатки его штаба готовились к переезду в Сербию. Врангель был озабочен, нервозен, зол: понимал, и там ждет его борьба за армию, за белое дело, за себя. Он должен самоутверждаться в новых условиях. Кто признавал его? Кутепов? Нет! И ведь повсюду свои кутеповы. Им полк дай, они наполеонами себя чувствуют. А он — главнокомандующий, — у него нет даже роты!.. Надо прежде всего трезво и всесторонне оценить положение! Не утыкаться лбом в эмигрантские дела, в бесчисленные партии и группки, в сиятельных претендентов на царский престол — далека цель! — смотреть глубже. Интересы союзников — в первую голову... И противоречия, противоречия. Сыграть на них умело, как тогда, когда дредноут «Император Индии» вез его в Крым. Тогда он был, как и теперь, генералом без армии, но точно знал: кто чего стоит — англичане, французы, поляки, румыны. Да, да! Нужна точная оценка момента — прежде всего...
Врангель прошелся по большому гостиничному номеру, отражаясь сразу в нескольких зеркалах. Он заметно похудел. Бритая голова усиливала сходство с гусаком. Шея казалась чрезвычайно длинной, уши — большими, прижатыми к черепу, как у лошади, готовой лягнуть или укусить. И даже выпуклые глаза потеряли обычно суровое, безжалостное выражение, стали неяркими, растерянными... «И топят, подлецы, мало, — с ненавистью подумал он. — Сволочи. Ни к чертовой матери...» Идея проведения оперативно-политического совещания накануне отъезда в отеле «Токатлиан», принятая им, казалась теперь напрасной. Потрачены деньги, а удобств никаких, секретность утрачена. Газетчики со вчерашнего дня окружили отель, только что в суп не лезут! Совещание следовало проводить в здании «русского двора». Там и охрану организовали бы получше, понадежней!.. Врангеля разъедали сомнения. С одной стороны, боязнь покушения и уверенность в том, что оно последует, приняла после гибели «Лукулла» гипертрофированные размеры; с другой — велико было стремление показать всем, что он не боится, он боевой генерал, для которого понятие «смерть» не более чем любая другая уставная команда, подобная приказу «в цепь!» или «стой!». К заботам о важных делах прибавлялись теперь постоянные мысли о том, как скрыть свое состояние от окружающих. Главнокомандующий подошел к окну и, открыв штору, взялся за тяжелый бронзовый запор мудреной конструкции. Запор не поддавался. На улице оказалось еще светло. Дул порывами сильный ветер, нес дождевую пыль. Прохожих не было, попрятались турки проклятые! Не нравится: им тепло подавай!
От могучего ствола древнего платана отделилась фигура в темно-зеленом офицерском плаще. Человек, промокший и замерзший донельзя, сделал еще шаг и поднял лицо к окнам второго этажа. Врангелю показалось, их взгляды встретились. «Наставили филеров на каждом метре, — с неудовольствием подумал Врангель, оставив неподдающийся оконный замок. — Всему Константинополю ясно: русский главнокомандующий собирает важное совещание. Теперь вокруг «Токатлиана» разведки всех стран вьются. И конечно, большевички. Может, и этот, в офицерском плаще, их представитель... Черт знает что! Что за мысли?! Я же приказывал выставить оцепление из самых надежных, чтоб и мышь не пролезла. Нервы — никуда! Следует скорее покинуть эту клоаку, где на грязном пятачке земли сплелось столько противоборствующих и взаимоуничтожающих сил. В Белграде будет спокойнее. Среди своих. Своих?.. Только ли свои будут окружать меня там? А союзники? Хватает забот у англичан и французов. Правителям Англии, Франции приходится лавировать. Каждый как на льдине, подхваченной весенним половодьем. А с берегов орут дикие толпы: «Руки прочь от Советской России! Да здравствуют Советы!..» И на самой маленькой и хрупкой льдинке я, один. Куда плыть? За кем? Кому протягивать руку за помощью?.. И кто, совещание каких мудрецов сможет ответить на все эти вопросы?..» Врангель посмотрел на угловые напольные часы, сверил со своим брегетом и вновь зашагал по гостиной: через пятнадцать минут должны собраться приглашенные.
В ЦЕНТР ЧЕРЕЗ «ДОКТОРА» ИЗ ГАЛЛИПОЛИ ОТ «БАЯЗЕТА»
«Врангель утвердил знак «В память пребываний русской армии в военных лагерях на чужбине» (черные самодельные кресты, даты: 1920 — 1921 годы, надписи: Галлиполи, Лемнос, Кабакджа, Чаталджи, Бизерта), энтузиазма не вызвавший. Энтузиазм вызвало сообщение о трех пароходах, посланных ликвидировать Галлиполи.
Проведен последний парад и богослужение. Кутепов обратился к войскам с речью: необходимо объединение вокруг русского знамени, ибо только военная организация, армия может спасти каждого русского и всех вместе. «Сидение на сквозняке» заканчивается. Впрочем, из-за недостатка пароходов оставлено более тысячи человек под командованием генерала Мартынова[9].
Настроение в штабе главкома упадочническое. Опубликован приказ Врангеля, родивший тревогу: «...Ко мне и в мой штаб обращаются отдельные офицеры и целые группы, как находящиеся в Балканских государствах, так и в других странах, с просьбой о зачислении их в ряды Армии. Большинство служило в армии Юга России или на иных антибольшевистских фронтах... Подобные явления особо ценны, свидетельствуют, что обращающимися руководят не материальные интересы, так как большинству из них хорошо известны тяжелые условия жизни Армии в изгнании, а искреннее желание быть полезным России, объединиться вокруг ее последнего оплота... Приказываю произвести самую подробную регистрацию всех членов офицерских обществ и союзов, внушив им, что производимая регистрация отнюдь не носит характера мобилизационных списков...»
Никаких офицерских писем в штаб не существует. Регистрация кадров имеет целью не уступить реальную власть над армией Кутепову. Очередной ошибкой главкома считаю приказ, способный вызвать противодействие не только Кутепова, но и Высшего монархического совета, начало конфликта с ним на почве «чистоты знамени русской армии», на котором должен быть один девиз — «За веру, царя и отечество».
Оставлен при штабе для особых поручений. Ухожу на «Ак-Денизе». Связи невозможностью контакта «Доктором» прошу усилить каналы связи в Болгарии. Нуждаюсь в средствах.
Баязет».
Надпись на информации:
«Принять меры незамедлительного усиления прикрытия, обеспечения «почтовыми ящиками» в Варне, Софии».
ИЗ ЦЕНТРА В КОНСТАНТИНОПОЛЬ «ДОКТОРУ»
«На встрече с Фрунзе в Харькове вернувшийся с повинной Слащев сообщил: ему известно о поездке Фрунзе к Кемалю в Ангору. Врангелевцы и союзники всеми силами будут срывать эту встречу. Важна срочная информация. При необходимости — крайние меры. Координируйте усилия с «Баязетом».
Глава четырнадцатая. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВОЕННЫЕ ИГРЫ. (Продолжение)
1
Шаброль нервничал: Мадлен Лepya не пришла на встречу. Акклиматизация ее прошла хорошо, она изучила город, аккуратно работала, выходила на связь с человеком «Баязета». И вдруг осечка! В такой неподходящий момент — «Баязет» отплывает. Не ехать же, в нарушение всех правил и инструкций, на встречу самому, чтобы передать последнее распоряжение Центра? Ждать вечернего телеграфного вызова Мадлен в одиннадцать — нет времени. Дать объявление в «Пресс дю суар» — вызов на новую встречу — поздно. Что могло произойти? Случай или начало провала?!! Ехать к ней в гостиницу? Ехать в «Жокей-клуб» и посылать к ней Мориса? Нет, Морис исключается: они незнакомы. Это подозрительно. Лучше договориться с портье, предложить деньги. Любовница, мол, исчезла: есть опасения, путается с другим, надо проверить... Нет, и этот вариант опасен. А Перлоф и его люди?.. Нет, категорически!.. Придется ехать самому — все же это иаилучший вариант. И все же накладка.
Шаброль лежал на тахте, закинув руки за голову. Думал. Рассчитывал весь свой маршрут и каждый шаг. «Делал лицо», с которым он выйдет в холл, прикажет, чтоб подали такси, откажется от первого, придравшись к чему-либо (лучше всего — старая машина, грязь в салоне, неприветливость шофера), возьмет второе, а то и третье. Не забыть перекинуться обычной шуткой о девочках с портье, дать чаевые мальчишке-посыльному. И не показать, что торопится, взволнован. Обязательно кто-то увяжется, сядет «на хвост» — Этот усатый, что работает на Дезьем бюро, или милый толстячок из Интеллидженс сервис... Мало ли кто? Холл «Токатлиана» всегда полон агентами наружного наблюдения, потерявшими квалификацию сыщиками, газетчиками и просто любителями подзаработать на любой информации.
Шаброль сделал все как задумал. Он нарочно задержался возле портье, завел разговор о том, что овдовел: «курочка» ему надоела — возросшие требования, просьбы, слезы, — психология любви его совершенно не интересует, ему нужна просто любовь. Пусть друг позаботится: он хорошо знает его вкусы, а гонорар за «срочность» будет, естественно, повышен вдвое. Это тем более необходимо, что торговые дела идут прилично, он устает, а хлопанье картами в «Жокей-клубе» ему тоже надоело... Разговаривая, Шаброль зорко оглядывал холл. Не заметив ничего подозрительного, он все же отказался от такси и, оборвав болтовню чуть не на полуслове (экзальтированному и богатому французу это прощается), бросился навстречу извозчику и приказал ехать как можно быстрее к вокзалу. Там, расплатившись, он попросил обождать его минут десять, а сам, смешавшись с толпой и оглядываясь, не ведет ли за собой «хвоста», проскользнул через другой вход и сел в такси. Шофер со страхом смотрел на пассажира: господин держался за сердце, дышал с трудом, завалившись в неудобной позе на заднем сиденье. Шаброль же просто «тянул» время, поглядывая через заднее оконце автомобиля на вокзальные выходы — не появится кто-либо их тех, кого он заприметил в холле отеля «Токатлиан». Но все было чисто. Он махнул рукой — «поехали» — и, глубоко вздохнув, демонстративно улыбнулся и даже похлопал по плечу шофера, сообщая адрес. Теперь, после некоторых мер предосторожности, можно было ехать в гостиницу. Особенно осторожным следовало быть именно там. Ни на минуту Шаброль не переставал думать о случившемся. Почему связная не пришла? Что ей помешало? Арест? (Кто мог заинтересоваться ею?) Спешка? Боялась привести за собой ненужного свидетеля и «засветить» Шаброля?.. Но ведь у них простые и открытые отношения: беспечный нувориш посещает дважды в неделю свою любовницу... Неужели «засветился» «Баязет» и опасность потянулась с другого конца нитки, не от него?.. Это самое худшее — это провал... Но почему так сразу и провал? «Баязет» — опытный конспиратор. И он сумел бы предупредить через Мориса... Может быть, просто заболела, простудилась... Вот и рассчитывай на женщин. И тут же оборвал себя: женщина всегда вызывает меньше подозрений, частые контакты с ней вполне естественны. К тому же Мадлен Лepya не давала ни малейшего повода к недовольству: быстро акклиматизировалась в Константинополе, хорошо пользовалась легендой, успешно совершенствовалась в турецком языке... Почему же она не пришла к фонтану Кайзера Вильгельма, где они иногда по уговору встречались — неподалеку от мечети, в беседке, огороженной низким заборчиком и кустами. И это в самый нужный момент, когда он обязан был передать инструкции Центра для «Баязета»!
Шаброль не остановил такси возле второсортной гостинички, где на втором этаже, окнами на тихий переулок, жила Лepya. Проезжая мимо, он не заметил ничего подозрительного. Впрочем, если с ней работают профессионалы, разве можно заметить что-нибудь?.. Такси, развернувшись, вновь проехало мимо гостиницы, и, вновь ничего не заметив, Шаброль остановил машину метрах в ста, возле перекрестка. Приходилось рисковать — ничего не поделаешь! Он сказал шоферу, что чувствует себя все же недостаточно хорошо и хочет размять ноги и подышать свежим воздухом. Не нужно и глушить мотор: две-три минуты он походит здесь, не более, а если почувствует себя хуже, сделает знак, и тогда пусть шофер не зевает — подаст машину, придется, видимо, быстро ехать к врачу. Шофер с готовностью согласился, ему нравились богатые и приветливые господа.
Шаброль медленно вылез из такси и, надвинув шляпу на глаза, изменив походку, шаркая ногами, двинулся мимо входа — жалкой одностворчатой двери с матовым стеклом и затертыми, начавшими крошиться ступеньками. Он смотрел перед собой и видел не только вход, но и весь фасад. Окна второго этажа закрыты. Большинство зашторено. Кто и откуда наблюдает сейчас за ним? Каких его действий ждут? Не лучше ли, пока не поздно, повернуть назад?.. Он заставил себя дойти до угла и свернул в переулок. И сразу же заметил: в первом окне номера Мадлен три цветка стояли в обычной композиции: розовый, зеленый, желтый, обе форточки были закрыты неплотно. Ничто не предвещало опасности... А если это ловушка?.. Шаброль пошел обратно. И резко остановился. Переулок был пуст. Он вернулся на улицу, и тут — вот счастье! — на него налетел босоногий мальчишка, дитя Константинополя: верткий, готовый на все.
— Стой! — схватил его за руку Шаброль. — Хочешь заработать лиру? — и повлек его в переулок.
— Что я должен исделать, эфенди? — на замурзанной физиономии светились, точно два уголька, нестерпимо черные глаза.
— Отнесешь письмо.
— Иншаллах![10] — обрадовался мальчишка. — Готов служить!
Шаброль написал измененным почерком на листочке из блокнота: «Не медля спускайтесь. Я в такси». Сказал:
— Пойдешь на второй этаж. Там, где коридор поворачивает, — первая дверь. Входи. Если дама одна — отдай письмо. Если с мужчиной — уходи. Я буду ждать. Вот тебе. Вернешься быстро — получишь еще лиру. Все понял?
— Да, эфенди. Чок позель, эфенди![11]
— Я жду в такси. Беги!
Шаброль вернулся, опустился на переднее сиденье, оставив дверцу открытой. Приказал, стремясь предупредить вопрос таксиста:
— Как только выйдет женщина, подъезжай быстро к подъезду. Я хорошо заплачу.
И тут выскочил мальчишка.
— Лира! Лира давай! — орал он, сияя.
Шаброль сунул ему лиру, и такси, неловко пятясь, подползло к гостинице.
Мадлен спокойно села на заднее сиденье.
— К вокзалу! — повысил голос Шаброль. — Двойная плата! — и посмотрел назад.
Улица оставалась пустой. Ни машин, ни извозчика.
Из гостиницы никто нс вышел. Шаброль посмотрел на Мадлен. Она пожала плечами. Ехали молча. У вокзала пересели в другое такси, и тут Шаброль сказал:
— Почему задержались, мадам? Что-то серьезное?
— По-моему, ничего. Простуда, не более.
— Тогда едем ко мне?
— Я готова, м'сье...
Мадлен рассказывала. Из кранов в ванной била вода. Из комнаты доносились звуки граммофона.
— Три дня назад появился неприятный господин: седой ежик, правая щека дергается. Часто произносит «э... э...»
— Издетский, — определил Шаброль. — Фигура малоприятная: жандарм, фанатик, не разведчик. Ну, и?..
— Стал ухаживать — чрезмерно, не давал прохода. Приглашал ужинать, приносил цветы. А вообще следил, чередуясь с другим типом. Я все дни никуда не выходила. Вечером еле отделалась: вам, мол, следует совершенствовать французский, произношение ужасное. Позанимайтесь. «С кем же? Может, поможете?» — «Нет, я занята». — «Чем же?» — «Не чем, а кем. Мужчиной». — «Интересен?» — «И богат. Я вам его покажу при случае». Ну и дальше в таком тоне. Утром он подкараулил меня в буфете. «Разрешите, подсяду?» Что делать? «Садитесь». Он мне в кофе и насыпал что-то, видно.
— Не забывайте мелочей, деталей.
— Я отчетливо все помню. И как проветриться вышла, и как по магазинам и улицам водила его. Он — опытный. Я все время чувствовала его за спиной, но не видела, и только раз он вынужден был «раскрыться» — я зашла в магазин женского белья, ему пришлось ждать в меняльной конторе, через улицу. А второго выхода не оказалось. Мы и столкнулись. Я — в гневе. Он извинился, прикрывшись ревностью и страстной любовью, исчез и передал меня своему подчиненному — все в нем крупное.
— Этого не знаю. — сухо констатировал Шаброль.
— Чувствую, начинаю опаздывать. Нервничаю. И какая-то слабость подкатывает, тошнота. И не уйти.
— Что было у вас с собой? — перебил Шаброль.
— Сумочка, — потерянно ответила Мадлен.
— А там? Перечисляйте! Все! Подробно!
— Немного косметики. Деньги — тоже немного. Два платка: я немного простужена. Газета... и пистолет.
— Как! — ахнул Шаброль. — Я же предупреждал! — Но я боялась, особенно вечерами. Это так страшно быть все время одной. И ночью, Шаброль.
— Дальше?
— Я все же ушла. Услышала рожок конки. И в последний момент вскочила, на повороте. Дорога пошла под гору. Он не успел догнать. Бежал и отстал.
— Хорошо.
— Нет, — сказала девушка. И повторила: — Нет, нет, Шаброль. Набралось очень много народа, меня сжали. Мне стало совсем плохо. Чувствую, теряю сознание, вот-вот упаду. А вдруг в конке тоже их человек? Держусь: только бы не упасть. В глазах мутится. Давят, дышать нечем. И я поползла вниз: чувствую — все. Но не упала некуда.
— Сколько продолжался обморок?
— Думаю, не более двух-трех минут. Но сумочку все время чувствовала. Отчетливо.
— Заметили ли обморок окружающие?
— Не знаю. Вероятно, кто-то поддержал.
— Его вид — турок, русский, англичанин — кто?
— Не знаю. Пришла в себя, кругом равнодушные лица. Сумочка при мне. Приоткрыла, все на месте. На первой же остановке сошла. «Хвоста» не было — точно. Но на встречу опоздала более чем на двадцать минут.
— Почему не поехали ко мне?
— Все же боялась — нарушение инструкции.
— А я должен был — в нарушение всех инструкций отправить вас на встречу с человеком «Баязета». «Ак-Дениз» уходит сегодня в Варну. Если уже не ушел.
— Что делать? — воскликнула в отчаянии Мадлен.
— Думать... Думать о запасных вариантах... Рассуждать... Значит, мой друг Перлоф решил меня перепроверить и пустил по вашему следу своего преторианца? Может быть, это личная инициатива Издетского? Результат его рвения? Ну ничего! Он у меня поедет в Турцию! Срочно! Но и вам, Мадлен, лучше пока скрыться.
Мадлен слушала молча.
— Не расстраивайся, — ободрил ее Шаброль. — Осечки бывают и у опытных людей. Ты хорошо начала. И если за «Внутренней линией» никто не стоит в данном деле, мы вывернемся. Я посоветуюсь с Центром... Но это не решает проблемы — как связаться с «Баязетом»? Я не имею права подвергать его даже минимальному риску.
— А его человек? — робко спросила девушка. — Он уходит на «Ак-Денизе»? Может быть, я поеду в Галлиполи, постараюсь найти его?.
— Исключается! — отрезал Шаброль. — Ты сейчас — яркий огонь, на который летят все мотыльки. Ты должна скрыться... Морис тоже отпадает: фигура известная многим по клубу... Ну, а если эта ниточка в руках у французов? Или у Герберта Харингтона? Опасно... Нет! Нет! Придется ехать на рынок в неурочное время. Вдруг удастся использовать компаньона по торговле коврами?.. Тут что-то есть, что-то есть... Скажем, небольшая партия, которую хорошо бы срочно отправить с верным человеком... Разумеется, минуя контрольный пункт и откупаясь от таможенников. Ковры в Париж... Через Болгарию. А тут кстати, говорят, «Ак-Дениз» идет? — Шаброль загорался. Он сидел в глубоком кресле, закрыв глаза, замерев, опустив голову и сцепив пальцы, как бывало всегда, когда он видел даже самый слабый лучик, освещающий тупиковую ситуацию и помогающий найти выход. — Но кто может быть этим человеком? Как он сумеет войти в контакт с «Баязетом» и передать ему шифровку? В море, на корабле это не так уж и невозможно. — Подумав, Шаброль пришел к твердому выводу: передать распоряжение и деньги «Баязету» имеет право лишь один человек — его связной. Значит, надо выходить на связного. Его знает Мадлен. Да, тут один, и весьма рискованный, ход — Мадлен должна найти его в Галлиполи. А Шаброль должен ее прикрыть. И чём открытее, тем правдоподобнее. Да! Вместе с турком они приезжают в Галлиполи: он должен проводить свои ковры и убедиться в том, что не зря будет платить деньги за их беспошлинный провоз. К тому ж это в какой-то мере и увеселительная поездка — прихоть капризной любовницы. Сочетание приятного с полезным. Это можно объяснить. Это надо объяснять всем и каждому... Ну что ж, как версия, над которой стоит думать, годится. Но сначала встреча с Перлофом. Надо прижать его — твердо. Заодно узнать и время отхода «Ак-Дениза».
— Я уезжаю на полтора часа, Мадлен, — сказал он обычным своим, не терпящим возражений, напористым тоном. — Приведи себя в порядок. Через сорок пять минут ты берешь такси и, если нет «хвоста» — будь предельно внимательна! — едешь в Бебек. Помнишь, маленькая кондитерская на берегу? Мы ели там мороженое. И прекрасно! Ешь мороженое и жди. Постараюсь не задержать тебя. Да! Купи себе теплый плащ: нам, вероятно, предстоит морская прогулка...
2
— ...Ну что же вы, дорогой компаньон, — говорил Шаброль, небрежно развалившись на диване рядом с напряженным и сосредоточенным фон Перлофом. — Какое-то жалкое помещение, две комнатенки! И район жалкий! Следовало открывать контору в квартале Османбей. В пристойном месте, во всяком случае.
— Вы забываете, кто наши клиенты, Шаброль, — твердо возразил генерал. — Знаете, как говорят нынче? Признак эмигранта — рваные сапоги и дырявые локти. Вы хотите, чтоб он в таком виде хорошо себя чувствовал в аристократическом районе? Он просто не пойдет туда. Да и средства, отпущенные вами...
— Вам лучше знать психологию беженцев, генерал. Меня она не волнует. Что касается средств, вот! — Он потряс чековой книжкой. — Будет дело — будут деньги. На стамбульское отделение нашего «Лионского кредита», дружище. Да! Да! Да! Де-ло!
Фамильярность француза и чековая книжка покоробили фон Перлофа, но он не показал вида.
— Ведь мы уже сотрудничаем, насколько я помню?
— Точно так, — согласился Перлоф.
— Нет, господин Перлоф. — Шаброль мгновенно переменился. Лицо стало жестким, в голосе зазвучали металлические ноты. — Такое сотрудничество — не сотрудничество. Вы скрываете от меня важные политические новости. Я узнаю о них по другим каналам. Дайте мне сказать!.. Вы угадали: я имею в виду именно миссию в Турцию этого большевистского генерала... этого, который разбил вас в Крыму... Как его?
— Фрунзе.
— Вам, конечно, известно, миссия поедет Понтийскнм побережьем. Известно и то, что Фрунзе везет Кемалю более миллиона золотом! У вас есть задание убрать Фрунзе? Есть! Почему не сообщаете? Ставите в глупое положение перед теми, кому я подчинен?
— Но... Как мне казалось, недопущение миссии в Ангору — общий интерес союзников и наш.
— Ваш Врангель все еще надеется на победу султана, который пропустит его армию на Кавказ? О-ля-ля! Чепуха! Давайте рассуждать как политики и смотреть вперед, Перлоф. Цените мое доверие! Вам известно что-нибудь о миссии Франклен-Буйона? Он уже трижды встречался с Кемалем!
— В самых общих чертах, м’сье Шаброль, — неопределенно отозвался врангелевец. — Мне кажется... Я...
— Что вам кажется — потом. Кажется — перекреститесь, как говорят ваши соотечественники, дружище.
— Я бы попросил вас... — не выдержал Перлоф.
— Дело не в словах, генерал. О Буйоне вы, слава аллаху, что-то слыхали. Это уже достижение! А о полковнике Мужене? Он, между прочим, мой соотечественник, учтите. И тоже покатил к Кемалю.
— Это для меня новость.
— Там подозрительно упорно лазают по горам еще итальянцы кавалера Туоцци. И англичане непримиримого к Кемалю сэра Герберта Харингтона затевают переговоры в порту Инебоду. Так как?! — Шаброль наслаждался произведенным впечатлением и растерянностью Пер-лофа. — Все очень запутано, Перлоф. Одному Врангелю все кажется очень простым: тут — белое, тут — красное. Но вы-то! Вы-то! Не ждал. — И вдруг спросил прямо: — А охрана у Фрунзе большая?
— Пока неизвестно.
— Кого посылаете для остановки Фрунзе?
— Есть надежный и проверенный человек, — ушел от ответа Перлоф.
— Прекрасно! — не стал уточнять Шаброль. — Задача состоит вот в чем, генерал. Ваш человек или несколько человек должны задерживать продвижение миссии к Ангоре. И только! Никаких самостоятельных шагов в отношении Фрунзе. Это нежелательно. Объясняю: пока Буйон и Мужен ведут переговоры с Кемалем, а британская пресса ругает нас, миссия Фрунзе должна медленно двигаться на запад. Этого требуют интересы Франции, ясно? Считайте, ваше первое серьезное задание и проверка возможностей. Залог — чек на триста фунтов. Прошу!
— Благодарю, — Перлофа не покидало ощущение сделанного им неверного хода.
— Ну, что вы насупились? — наступал Шаброль. — Мало? Больше не могу: не отпущено. Не беспокойтесь, будет еще! Может, вы думаете, меня волнует судьба Фрунзе? Ничуть! Как будет дан сигнал, стреляйте в него хоть картечью из пушек!
— Понимаю, — Фон Перлоф вздохнул. — Но акции против Фрунзе, проведенная русским офицером, очень подняла бы наше реноме.
— Будет вам и реноме. Кстати, как думаете внедрять своего офицера к туркам? Вероятно, через отряды понтийских сепаратистов? — Перлоф кивнул, и Шаброль, издевательски улыбнувшись, продолжил: — Еще два вопроса, генерал. Разрешите?
— Прошу, м'сье, прошу. — Перлоф счел, что главное позади.
— Первое — ваш скорый отъезд со штабом главнокомандующего в Белград. Надо решать, генерал: переводим мы наше бюро туда или...
— Или? — вновь насторожился контрразведчик, весьма недовольный собой. Каждый раз француз дирижировал их разговором, захватывал инициативу и держал ее до конца, бестия. Впрочем, он ведь довольно щедро оплачивал это.
— Или оставим бюро здесь, а в Белграде организуем лишь филиал?
— Обсудим, — сказал Перлоф, демонстративно поглядывая на часы. — Я готов признать любой вариант. А где будете вы? Неужели оставите Константинополь?
— Прикажут — поеду к черту в ад, генерал! За это мне деньги платят. И хорошие!.. Но это неважно: не будет меня, будет с вами кто-то другой. Жаль, конечно. Начинаем успешно, как мне кажется, но...
— А второе? — напомнил Перлоф.
— О, сущие пустяки! — заулыбался француз. — Дело в том, что один из ваших сотрудников стал ухаживать за моей любовницей. Я не говорил об этом, но в последние дни ухаживания переросли все правила приличия: он грубо пристает к даме, не дает ей проходу, устраивает слежку. Бедняжка испугана, а страдаю я.
— А кто этот сотрудник? — спросил, недовольно нахмурясь, Перлоф, и по тому, как он это спросил и как посмотрел при этом вбок, Шаброль понял: знает, слежка за Мадлен — дело «Внутренней линии». Слива богу.
— О! Всегда он такой сердитый, такой хмурый. И часто говорит: «э... э... э». Странная фамилия.
— Знаю, — буркнул фон Перлоф. — Я приму необходимые меры, не бес покойтесь. Шаброль.
— А не прокатиться ли именно ему в Анатолию для руководства группой по задержке Фрунзе? Что скажете?
— Это зависит не только от меня...
— Это приказ, мой генерал. И, конечно, моя глубокая личная просьба. Миссия Фрунзе должна медленно двигаться к цели, иначе Франции будет трудно нейтрализовать Англию. Вы понимаете? Значит, договорились...
Глава пятнадцатая. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВОЕННЫЕ ИГРЫ. (Окончание)
1.
Очередным совещанием Врангель опять остался недоволен. Собственно, и совещаться было не с кем: боевых генералов развезли суда по Балканам, послушные чиновники-администраторы разбежались кто куда, а дальновидных политиков, как показала практика, вокруг него вообще и не имелось. Что они могли ему подсказать, что посоветовать, крысы, готовые бежать с тонущего корабля? И все же совещание служило определенной цели — в трудный момент оно явилось политической акцией, утверждающей: главком по-прежнему у кормила власти, об этом должно стать известно европейской прессе. Совещание стадо политическим фейерверком, могущим создать иллюзию планомерной работы по рассредоточению, но на деле — мобилизации русской армии, готовой по первому приказу Врангеля повернуть штыки в любую сторону — хоть против большевистской России, хоть против бывшей кайзеровской Германии, против любой страны, ежели это станет угодным правительствам Англии или Франции. Впрочем, и подобные высказывания повторялись чуть ли не десятки раз в константинопольском «сидении». Были приглашены представители газет. И Врангель, играя усталость, озабоченность и невозможность раскрыть стратегические планы стран Антанты и свои планы, скоординированные с ними, умело путал журналистов, давая противоречивые, взаимоисключающие ответы на их вопросы, но упорно под-чсркивал, что представитель каждого политического направления может получить то, на что хотел бы рассчитывать в будущей России, — от думского республиканизма до монархизма и военной диктатуры. Это выглядело достаточно беспринципно. С другой стороны, учитывая стремление газетчиков (падких до любой сенсации и готовых видеть слона там, где едва ползала лишь зимняя муха), высказывания и намеки главнокомандующего можно было представить в русле большой политики европейских держав. Врангель сумел обратить пустую болтовню неудавшегося совещания в многообещающее выступление, которое уже завтра начнут толковать влиятельные газеты, изучать обозреватели, приводить в соответствие со своими планами крупные государственные деятели. И каждый, естественно, станет подозревать другого в превентивных соглашениях с Врангелем. Что очень поднимет, кстати, его сегодняшние акции!..
Верный привычке не собирать вместе людей разных взглядов и общественного положения, Врангель досадовал на себя. Вернее, не на себя — на обстоятельства, которые оказались сильнее его. Виной всему эта пресс-конференция и последующие события, весьма важные разговоры, намеченные на середину дня и вечер в том же «Токатлиане», — благо отель все равно оплачен и охрана выставлена.
Из Сербии, куда в очередной раз он ездил с инспекционной и дипломатической миссией, вернулся Шатилов — не столько уже начальник штаба вооруженных сил, сколько дипломат, специальный и полномочный посол главнокомандующего. Павел Николаевич в последнее время активно не нравился Врангелю: не скрывал своих демобилизационных настроений, жаловался на нездоровье, стремился уйти от дел и настойчиво призывал к этому своего друга. С чем он приехал теперь из Парижа и Белграда? Какова международная обстановка, истинное расположение сил в среде стран Антанты? Каковы в связи с этим реальные шансы сохранить русские воинские формирования — где, каким образом, под чьей опекой?.. Конфиденциальный разговор с Шатиловым представляется важным, первостепенным. В правдивости своего соратника, в неумении вести какую-либо двойную игру Врангель не сомневался: подобных простаков не в силах переделать даже самые критические ситуации... И вот они одни, друг против друга. Несколько секунд присматриваются и проверяют свои ощущения, и, хотя виделись вроде бы совсем недавно, каждый с грустью отмечает: время работает против них, его следы — на их лицах, в жестах, походке, в той неуверенности, с которой и тот и другой ждет начала этого нелегкого разговора.
— Стареем, Павлуша, — начал Врангель, и голос выдал его: в нем не было сочувствия, ибо старел, по его мнению, лишь Шатилов. Тот кивнул безразлично, скривился, точно подмигнул, пожал полными плечами, показывая, что эта тема неприятна ему и он не хотел бы развивать ее. И тогда Врангель, обидевшись за отвергнутую доверительность, которая всегда существовала между ними, попросил коротко: — Ну, докладывай! Как в европах? Ждут ли нас? Нужны мы им?
— Однозначных ответов быть не может, — сказал Шатилов наставительно («Ты в Константинополе окопался, отсюда тебе все в розовом свете видится»). — Однако постараюсь быть максимально объективным. Первое: совдепия значительно укрепила свое положение на международной арене. Умело используя мировой экономический кризис, действуя им подобно отмычке, большевики приступили к заключению договоров с капиталистическими странами. Первой «клюнула» благородная Британия. Она, для отвода глаз общества, долго мялась, жалась, дебатировала проблему на всех уровнях — от кабинета Ллойд Джорджа до страниц бульварных газет, а сама уже договаривалась с большевиками о торговом соглашении. Договор действительно был необходим. Кризис потряс Англию сильнее, чем другие страны, проблема экспорта стала проблемой существования. Договор сдерживал и агрессивность Франции. Промышленники, торговцы были за союз, и народ — за. Парламент дебатировал. Ллойд Джордж утверждал: свободная торговля может послужить могилой для коммунизма в России, надеялся на нэп. Как известно, торговый договор заключен. Соглашение оказало сильное влияние на общественность — последовала цепь новых договоров — с поляками, с лимитрофами, с Кемалем и афганцами. Итальянский премьер Сфорца также за договор с Советами.
— Tausend Teufel![12] — воскликнул Врангель. — За барыши они готовы продать любую политическую идею, даже идею священной борьбы с большевизмом! К счастью, есть еще Франция! Есть Германия! Там остались здравомыслящие военные, они не допустят!
— Не горячись, Петруша, — Шатилов спокойно и горько улыбнулся. — Боюсь, и тут нас с тобой, — он многозначительно подчеркнул, — ждут разочарования... Итак, положение в Германии. Еще в начале года общее собрание германо-русского общества постановило послать в Москву делегацию для выяснения возможности проведения торговых переговоров. Затем эту же проблему обсуждал рейхстаг. Задача: не потерять, вернее, не упустить русский рынок, сблизиться на этой почве с Англией, укрепить фронт против Франции. В итоге — еще одно временное соглашение, похожее на советско-английское. Но нет! Немцы пошли дальше. Под давлением большевиков введен особый* пункт. Германия признает советское представительство в Берлине единственным представительством России! Тут уж и добавить нечего.
— Но Франция! Есть Франция!
— Я хотел бы разделить, твою уверенность, Петр Николаевич. Но давай и тут суммировать факты, — Шатилов усталым жестом потер лоб и глаза, не скрывая, что не одобряет несдержанности собеседника, мешающего ему логично построить систему доказательств, целью которой было указать главнокомандующему на всю вздорность его оптимизма, веры в легкую жизнь на Балканах и надежды, что он остается важной политической фигурой. Шатилов демонстративно замолчал.
Врангель походил, выглянул на улицу, отогнув край шторы. Охранника почему-то не было. Шатилов все больше раздражал Врангеля. Вещает авторитетно, точно лекцию читает приготовишке. Потерся в европейских приемных, политический деятель! Бог знает что возомнил о себе!.. Однако надо его дослушать, чтоб выработать какую-то линию поведения, ведь ни с кем другим этого не обсудить: нет рядом никого, кроме «милейшего и мудрейшего Павлуши». Нужна максимальная выдержка, необходимо сцепить зубы и молчать. Молчать, чтобы не отпугнуть верного соратника. «Одного из последних соратников», — мелькнула непрошеная мысль... Врангель покружился вокруг безучастного Шатилова, дружески похлопал его по плечу и сказал бодро:
— Я слушаю, слушаю... Итак, на чем мы остановились? Мы говорили о Франции. Я уверен в ней!
— Да, с одной стороны, все как будто бы хорошо. Заключен антисоветский договор с Японией, Франция поддерживает Польшу политически и экономически. Под сильным давлением ее вассал Румыния заключила соглашение с поляками о взаимопомощи в случае развертывания военных действий на границах, а также с Чехословакией и Сербией; признаны де-юре вновь возникшие прибалтийские страны, которые рассматриваются как опорные базы на Балтике и на границах совдепии.
— Видишь! Вот она — единая цепь против большевиков! — Врангель форсировал уверенность и бодрость. — Россия голодает. Число восстаний в среде крестьянства растет. А у нас отмобилизованные части, дисциплинированные, спаянные ненавистью к большевизму, желанием вернуться на родину. Врангель нужен Франции!
Шатилов нетерпеливо ерзал, досадливо щурился, но не перебивал. Ждал, пока главнокомандующий выговорится. Шатилов почувствовал нерешительность и нетвердость Врангеля: и главнокомандующего армией, которую у него отбирали, растаскивали по разным странам; и простого, чуть растерянного человека, неуверенного в завтрашнем дне. Шатилов продолжил бесстрастно, нарочито сгущая краски. У него возник план, который следовало немедля реализовывать: политическая ситуация и так до крайности напряженная.
— Вот другая сторона вопроса, Петр Николаевич, — буднично продолжал Шатилов. — Мы должны учитывать и то обстоятельство, что... — Слова он выговаривал медленно. Они падали тяжелые, точно чугунные. — То обстоятельство, — повторил он, — что и в немецком рейхстаге, и в палате депутатов Франции есть коммунисты, обладающие не только правом голоса, но и реальной силой. «Руки прочь от Советов!» — вот их действенный лозунг. За ними толпа, миллионы, их боятся правительства. Во всяком случае, заставляют призадуматься даже самых верных наших друзей.
— И что из этого следует? — Врангель снова встал, закружил по гостиной. — Мы с тобой не политиканы, мы — военные. Давай говорить на своем языке.
Нет, Врангель все еще оставался самим собой. Время не поколебало его. Начинать теперь продуманный ранее разговор, убеждать в чем-то главкома — значит идти на открытый разрыв с ним. К такому Шатилов был не готов. Как человек слабый, он решил отступить.
— Я согласен вернуться к языку военных сводок, Петруша, — подобострастно улыбнулся он. — Выводы малоутешительны. Впрочем, тебе самому их делать.
— Итак, — напористо перебил его Врангель. Он взмахнул рукой, что-то хлопнуло — не то ящик, не то доска или крышка, и на столешницу, разворачиваясь в воздухе, легла карта. — Вот они, звенья антибольшевистской цепи! Европа! Балканы! Тут мы стоим твердо. Дальний Восток! — его длинный и крепкий указательный палец тыкался в карту, резче обозначились глубокие вертикальные морщины между бровями. Он все старался поймать взгляд Шатилова, но тот не поднимал глаз и будто думал о своем, более важном сейчас, чем восклицания главнокомандующего.
И вдруг, поймав паузу, Шатилов сказал спокойно и тихо:
— Я уже не верю в единый антибольшевистский фронт от Черчилля через Савинкова к Тютюнику и Булак-Балаховичу. Времена не те.
— Он не верит! — патетически провозгласил Врангель. — Тогда пусть он слушает! Англичане недовольны антибританской пропагандой коммунистов на Востоке — и вот нота Керзона! А вот секретное письмо Керзона Бриану: «Налицо полная возможность нового совместного усилия с целью опрокинуть советское правительство». Вам ясно? А вот подобный план небезызвестного Людендорфа: военные усилия — немецкая добровольческая армия, материальные расходы Англии и Америки.
— Франция против. Я знаю этот вариант, — мрачно возразил Шатилов. — Считают, Германия нарушит Версальские обязательства.
— Не волнуйся, мой дорогой! Договорятся!
— За наш счет. — Шатилова покоробило это «мой дорогой», прозвучавшее точно обращение к адъютанту. — Союзники на большевиков кого только не науськивают: поляков, румын, финнов. Даже законченных авантюристов типа Авалова-Вермонта в Прибалтике или Энвера-паши в Бухаре. И деньги дают, и оружие — тому больше, кто больше ландскнехтов им поставит.
— Очень уж все мрачно у тебя, Павлуша. Международная политика — предмет своеобразный. Ее в белых перчатках делать не принято. Тут уж кто кого ловчее обманет. Поэтому всегда лазейки имеются. Мы и воспользуемся ими. Должны. Как раньше. Чтоб не быть голословным — вот один документ, весьма секретный. — Быстрым жестом фокусника Врангель извлек откуда-то листок тончайшей рисовой бумаги, сказал торжественно: — Читаю. Это телеграмма в Токио от французского министра иностранных дел. — И, снизив голос до шепота, продолжил: — «Соглашение с Японией по вопросу о Сибири заставляет нас быть очень осторожными, потому что наши решения находятся в конфликте с политикой Америки...» Пропускаю. Вот, далее: «Коммунистический режим в России приходит к концу. Его полное крушение можно ожидать в любое время. Нет нужды посылать наши войска против большевиков...» Так, так... «Общая ситуация, включая голод, разрушила Россию... Мы готовы к ее краху и реставрации. Хорошо дисциплинированные. и снаряженные армии, расположенные в Венгрии и Сербии...» Надеюсь, ты понимаешь, о каких армиях идет речь?.. «Армии... в Венгрии и Сербии готовы вторгнуться в страну, восстановить порядок и поддержать монархический режим». Япония солидарна с Францией!
— Откуда эта копия? Достоверна ли она?
— Абсолютно! Перлоф затеял игру с каким-то французом. От него. Разумеется, за деньги, небольшие.
— Важно, кто ведет в подобной игре.
— Сомневаешься в подлинности документа?
— Ничуть. Просто он несколько... устарел.
— Я знаю! — самоуверенно воскликнул Врангель. — Это сентябрь. Но — считаю! — и теперь мало что изменилось. Ты не согласен? Почему? Давай-ка, милый, все карты на стол!
Шатилов вновь возмутился подобным обращением, но вновь сдержался и только помрачнел еще больше.
— Так что ты имеешь в виду? — нетерпеливо поторопил его новым вопросом Врангель. — Что? А?
— Заявление правительства совдепии, в начале ноября, его печатали европейские газеты разных направлений.
— Столько этих заявлений, — брезгливо поморщился Врангель, делая вид, что не может вспомнить. — Запутаешься... Подскажи, пожалуйста. В двух словах — суть.
— В двух словах не перескажешь. Очень важный документ — нам его, как Библию, изучать надо. Найди время, почитай. Он еще окажет влияние на политику.
— Ладно, ладно, не предрекай! В чем там дело?
— А дело в том, что правительство совдепии заявляет, что готово идти на уступки в вопросе о возвращении долгов России, за получение определенных льгот, заключение великими державами мира с Советами и признание их правительства.
— Э, очередной дипломатический ход комиссаров, — отмахнулся Врангель. — Они там, в Москве, мудрецы, эти советские дипломаты!
— После этой ноты начнутся европейские конференции. Одна за другой, увидишь: обгоняя друг друга, кинутся делить рынок, шкуру неубитого русского медведя. А что касается советских дипломатов, то главный из них, Чичерин, — представитель одного из старейших и знатнейших дворянских родов России.
— Сие даже и мне известно, мой милый.
— Прости, Петр Николаевич... Не мог бы ты без подобного обращения? Возможно, мы расходимся в некоторых моментах, но я попросил бы... Меня это обижает, в конце концов.
Подобного взрыва Врангель никак не ожидал от «тишайшего Павлуши», известного ему, как он полагал, досконально. Вот что время делает с людьми! И как же обойтись ему, Врангелю, со своим другом-помощником? Врангель напрягся, но... сдержался. Сказал:
— Мне не нравится сегодняшний наш разговор.
— И мне, — в тон ему ответил Шатилов. — На чем зиждется твоя неколебимая уверенность? На словах тех, кто смотрит тебе в рот? И кто снабжает сомнительной ценности документами? Все эти разведчики, контрразведчики, охранники продаются за тридцать сребреников.
— Опять ты свое? — оборвал его Врангель. — Похоже, решил испугать меня.
— Ошибаешься.
Воцарилось молчание. Каждый сдерживался, понимая, что взрыв может навсегда разорвать их многолетнее знакомство, дружбу и сотрудничество. Шатилов нервно мял папиросу.
— Ты что-то еще хотел сказать? — строго спросил Врангель.
— Бросим все, уедем, Петруша, — вырвалось у Шатилова.
— А деньги у тебя есть, Павлуша? Впрочем, говорят, ты нажился на эвакуации Севастополя.
— И ты веришь этому?! — оторопел Шатилов. — Неужели веришь? Брежу я, что ли?..
— То-то что бредишь, — безучастно отозвался Врангель. И то, что он не ответил прямо, не успокоил друга, опровергнув клевету, возмутило Шатилова.
— У меня все, господин главнокомандующий. — Шатилов вскочил. — Я могу быть свободным?
— Честь имею, — равнодушно сказал Врангель, остро почувствовав, что с этой минуты теряет друга и соратника, теряет навсегда...
Он приказал вызвать Климовича и, проявив расположенность, немало удивившую «мастера сыска», сказал между делом, что заинтересовал его один француз, весьма обеспеченный купчишка по фамилии Шаброль, завсегдатай «Жокей-клуба», который обожает почему-то старших русских офицеров и был замечен однажды даже в обществе самого Шатилова. Климович, естественно, сразу сообразил, в кого мстит главнокомандующий, и, не колеблясь, понимая, что теперь он вновь сможет стать вторым человеком при Врангеле, сказал, спрятав глаза:
— Смею заметить, ваше высокопревосходительство, интересующий вас Шаброль замечен мною в контактах и с генералом фон Перлофом. — Его голос прозвучал с полным безразличием.
— Ну? — притворно удивился Врангель. — Вот как! — И добавил весело: — В таком случае понаблюдайте за ними, генерал. Но мастерски, мастерски! Как вы умеете! «Черт знает что! — подумал он устало. — Дошли до предела, приходится подозревать в измене каждого. Скоро я, пожалуй, начну слежку и за самим собой».
Постучав, заглянул фон Перлоф. Совсем некстати. Неужели услышал о вызове Климовича? Вряд ли. Слишком быстро — просто совпадение... Узнав, что среди ожидавших приема находится адвокат Шабеко, неплохо заработавший на негодных кораблях, на ломе, Врангель демонстративно отослал фон Перлофа и распорядился пригласить своего торгового агента.
Бочком, словно в щель, вошел Леонид Витальевич, в прекрасно сшитой тройке и лакированных ботинках. Остановился в нескольких шагах, ожидая приглашения сесть. И сразу же Врангель заметил его нерешительность: глаза косят, руки нервически дергаются, мокрые губы дрожат в улыбке. Насладившись его страхом, Врангель сделал наконец милостивый жест, указывающий на кресло, и сел напротив.
— Ну-с, — сказал Врангель неопределенно и закинул ногу на ногу. — Давно мы не виделись, милостивый государь, не так ли? Иных уж нет, а те далече. А?
Шабеко сразу понял: Врангель намекает на Кривошеина и хочет узнать, как относится его торговый агент к их разрыву.
Солидные торговые дома неизменно сохраняют постоянные связи со своими клиентами, независимо от симпатий и антипатий, — Шабеко уселся поудобней и словно расслабился, — и даже от глобальной политики, господин командующий.
Врангель вскинулся гневно: этот «фендрик» (вспомнил почему-то, как окрестил купчишку при первой встрече), этот хам, штафирка явно показывает, что времена переменились. На мизинце Шабеко внезапно вспыхнул большой бриллиант, и это окончательно вывело Врангеля из равновесия. Можно себе представить, как он нажился на продаже флота! Не следует ли приказать и сделать так, чтобы негодяй никогда не вышел отсюда... Но какой в этом смысл? Только что произошел почти полный разрыв с Павлушей, он лишался друга, бескорыстного советчика. Раздавив Шабеко, потеряет ловкого и преуспевающего торгового агента. К чему это приведет, кому выгодно?! Врангель до боли в суставах сжал сцепленные руки, подавляя желание заорать, затопать, выхватить револьвер... И сдержался.
— Я приказал вызвать вас, — начал он медленно и холодно, чтобы справиться с непроходившей неприязнью. — Вызвать вас на консультацию по одному близкому вам вопросу.
— Мне передавал барон Тизенгаузен...
— Одним словом, мне нужны деньги! — обрезал его Врангель. — Много — в связи с расселением армии, которую я обязан сохранить! — он резко поднялся и зашагал по номеру. — Все обещают! И никто не дает — ни к чертовой матери! Вы финансист, деятель! Что вы можете предложить? Быстро! Думайте, господин банкир!
— Мне не о чем думать, господин командующий. Мне следует просто напомнить. Вы изволили забыть.
Врангель остановился, посмотрел недоверчиво.
— Речь пойдет о Петербургской ссудной казне.
— Почему же, помню! — нахмурился Врангель. — Вклады, заклады — ломбардные сокровища!
— Да, да, — простодушно подхватил Шабеко. — Миллионы в золоте и серебре. У вашего превосходительства простой способ сделать деньги. И большие! Когда угодно! Я должен сообщить: пора пускать пробный шар. В качестве подготовки к основной и широкой, так сказать, операции, как любят говорить господа военные.
— Тайной, разумеется?
— Я сомневаюсь, что тайное не станет здесь явным. К этому нам надо быть готовыми.
— Вы говорите от кого? Кому это — «нам»? — Врангель не старался скрыть неприязни: его все же выводил из себя бриллиантовый перстень, поминутно вспыхивающий холодными белым и голубым огнями. «Вероятно, чей-то фамильный, — мелькнула мысль. — Купленный этим жуликом на константинопольском рынке».
Шабеко проследил за его взглядом и ответил спокойно:
— Идея согласована, весьма предварительно разумеется, с его сиятельством князем Долгоруковым, бароном Тизенгаузеном, господами Гензелем и Шелестом — с начала этого года заведующим банковским и казначейским отделом казны.
— Так давайте же к делу, господин Шабеко! — любопытство захлестнуло его: «фендрик», слава богу, пришел с идеей, а не с пустыми руками. — Я надеюсь понять суть. Школа отца, знаете ли, не проходит даром.
— Как же, как же! — преувеличенно громко восхитился адвокат. — Барон Николай Егорович Врангель был в свое время одним из самых деловых и предприимчивых людей промышленного Петрограда.
Слова «предприимчивый» и «в свое время» («Теперь-то твое время, явно твое») резанули Врангеля. Радостное любопытство исчезло. Экий пренеприятный тип!
— Говорите, я слушаю, — безразличным тоном сказал Врангель, показывая, что задумался над чем-то более важным и срочным.
— Прошу вас, — Шабеко показал, что его обмануть нельзя. — Буду предельно краток — как вам угодно. Из Каттаро, где хранится казна, была послана в ряд европейских газет информация о начале возобновления деятельности ссудной казны. О возвращении закладов, при условии сохранения квитанций и уплаты соответствующего процента. Время показало, что вкладчики почему-то не торопятся. Возможно, они потеряли квитанции. — Шабеко удовлетворенно потер рука об руку и тут же вновь стал серьезным. — Итак, видимость законности соблюдена: публика оповещена, заклады просрочены. Остается доказать, что мы готовы к продаже... первой партии, скажем, серебро в монетах — легально.
— Что значит легально?
— Финансовое управление сербского правительства по своим, не знаю уж когда и кем придуманным, законам имеет право продавать драгоценности в подобных количествах только через рынок — через публичные торги. Это нам не подходит. Привлечет внимание широких общественных слоев в разных странах. В том числе и в Советской России, конечно.
— Tausend Teufel! — выругался Врангель. — Но вы же придумали что-то, ведь придумали? Я вижу!
— Надо доказать властям, что это серебро находится в Королевстве сербов, хорватов и словенцев транзитом. Тогда оно может уплыть в любом направлении.
— Недурно, милейший! Весьма! Одобряю. Умно!
— Впрочем, надо, еще найти покупателя, ваше превосходительство. И конечно, посредника. Скажем, белградский банк «Руссо-Серб». Ему придется отчислить процентов десять куртажных, думаю.
— Десять? — вскинулся Врангель, понимая, что его уже начинают обманывать. — Почему десять? Не восемь, не двенадцать?
— Я называю минимальный процент.
— Так стоит ли вообще ваше дело игры?
— Надеюсь, — сухо сказал Шабско: теперь-то он чувствовал себя уверенно и показывал это Врангелю — открыто. — Семьдесят ящиков по пятнадцать пудов серебра дадут нам тридцать миллионов динаров. Это три миллиона франков. — Шабско не смог отказать себе в удовольствии насладиться быстрым изменением выражения лица командующего — от деланного безразличия до нескрываемой радости. И поспешил добавить: — Позволю себе, — произнес он твердо, — ввести ваше превосходительство в курс дела, осветив и негативные обстоятельства, могущие появиться в ходе операции.
— Говорите, — приказал, напружинившись, Врангель. И снова заходил, стараясь скрыть нервозность: «фонарик», несомненно тонкий психолог, умело играл на чувствах командующего, вызывая поочередно то радость, то разочарование. Все не так просто. Теперь, направляемый Кривошеиным, этот ловкий делец мог втянуть русский штаб в любую авантюру и опорочить его перед всем миром. — Прошу вас быть откровенным. Предельно, — сказал Врангель, и это прозвучало почти просительно.
— Первое. Мы решили («Опять это таинственное «мы». Поди проверь, кто за этим скрывается в действительности»), — Шабеко сделал паузу,и шумно вздохнул, — решили реализовать лишь просроченные вклады. Просроченные... При этом в особых случаях мы готовы даже к уплате доли, причитающейся собственникам закладов, обращая всю сумму на нужды главного командования и русского дела.
— Доли... Какой доли? Не улавливаю.
— С готовностью поясню. И, ценя ваше драгоценное время, предельно коротко.
— Но я вас не тороплю, — буркнул Врангель и сел.
— Подавляющее большинство закладов делалось в Петрограде с началом войны. Собственники, не предвидя будущее развитие событий, оценивали свои заклады на суммы, разительно меньшие, чем их подлинная стоимость. Чтобы платить меньший процент. А в ссуде они, как правило, и вообще были тогда не заинтересованы: люди независимые, состоятельные... Разрешите пример для наглядности. Я, скажем, принес картину... Ну, Репин, положим. И оценил ее в три тысячи, взяв для проформы двести рублей ссуды. Подлинная же цена картины — в сто, а то и в триста раз больше.
— Ну и что? . (
— А то, что мы («Если он еще раз скажет это ненавистное «мы», я выгоню и прикажу побить его!»), если даже клиент и обнаружится, всегда готовы вернуть ему его оценочную стоимость, направив остаток на нужды...
— Но ведь собственникам принадлежит не доля заложенной вещи, но она вся?
— О! Ваше превосходительство! — впервые с уважительным восхищением воскликнул Шабеко. — Вы смотрите в корень. Все так. Хотя юридически («Пусть только произнесет «мы»...») наша позиция представляется крепкой. После продажи вещи казна погашает ссуду и проценты, возвращает при необходимости остаток закладчику.
— Взяв разницу себе? Но ведь это обман?! — выкрикнул Врангель. — Посягательство на институт частной собственности, в котором мы упрекаем большевиков!
Шабеко молчал — спокойно и, казалось, безучастно.
— Ну? А? Что вы скажете, мой милый адвокат? Может, вы становитесь большевиком и начинаете исповедовать их доктрины?
— Политикой я не интересуюсь, ваше высокопревосходительство. Что же касается сути, то тут вы правы абсолютно: по сути планируемая операция — обман. Притом в широких размерах. В конце концов она должна дать главному командованию суммы большие, чем были выручены главным командованием («Подчеркивает, подлец, тут он не говорит «мы»!») от продажи части судов Черноморского флота.
— А что, если я не соглашусь возглавить эту, с позволения сказать, операцию? Или просто запрещу ее?
— У главного командования это последний шанс, пожалуй, — словно мимоходом заметил Шабеко. — Деньги, ваше превосходительство, это такой предмет, у которого всегда сыщется хозяин.
— Вы начали говорить загадками, милостивый государь. Имеется ли на примете конкурирующая фирма?
— Да, — просто согласился адвокат. И даже улыбнулся, показав крупные неровные зубы. — В Королевстве сербов, хорватов и прочих сильна монархическая группа, очень нуждающаяся в средствах. Не следует забывать и о Совете послов, их эмиссар побывал в Каттаро и имел беседы и с Тизенгаузеном, и с Долгоруковым, и — не скрою! — с вашим покорным слугой. Золото не может лежать долго молча, даже в самом крепком сейфе. Оно должно говорить, должно быть пущено в дело. Тут законы торговли и политики совпадают. Не так ли?
— Да, пожалуй. — Врангель побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, посмотрел в лицо собеседнику, точно увидел впервые. Взгляд его глаз был строг, презрителен. Сказал: — Я подумаю, господин Шабеко... Над всем. — Врангель резко, упруго встал, сделал несколько шагов, но тут же развернулся и добавил с усмешкой: — Надеюсь, завтра в десять утра, встретившись, мы выработаем взаимоприемлемые соглашения. Желаю здравствовать! — и вяло протянул холодную руку для прощания. Это был знак расположения главкома.
Шабеко подобострастно удержал падающую ладонь Врангеля обеими руками. Бриллиантовый перстень на прощанье блеснул зловеще и ярко. Руки у бывшего адвоката оказались горячими и влажными. Врангель с чувством омерзения освободил свои пальцы и, вскидывая колени, зашагал к дальнему окну, где рядом с тяжелой занавесью висел звонок для вызова прислуги. С раздражением главком трижды дернул звонок — так был обусловлен вызов адъютанта. Однако вместо адъютанта вошел фон Перлоф, и это еще более рассердило Врангеля, который с горечью уже в который раз констатировал, что нервы сдали, он совершенно «развинтился» и перестал владеть собой. Врангель посмотрел на контрразведчика холодно, с прищуром.
— Вы меня вызывали, ваше высокопревосходительство? — оценив настроение главкома, спросил фон Перлоф.
— Вас? Нет... Впрочем, раз вы вошли, задержу минуту. Есть ли у вас... досье на господина Шабеко? Что известно о нем в последнее время?
Впервые за время знакомства с Врангелем и работы на него контрразведчик растерялся. И это, конечно, не ускользнуло от внимания главкома. «Неужели генерала что-то связывает с прожженным дельцом? Совместные финансовые операции? Те, что стоят за этим Шабеко? Сейчас выгоднее служить любому богатому штафирке, чем командующему».
— Так что скажете, генерал? — с нескрываемой издевкой продолжал Врангель. — Ведь он хорошо знаком вам, этот господин? А? Он часто и подолгу крутился вокруг штаба там, еще в Крыму. Что?
— С отъездом в Каттаро Шабеко, признаюсь, не очень привлекал мое внимание, ваше высокопревосходительство... Иногда он выезжал в Белград и Париж, вращался в умеренных кругах.
— Ваши сведения устарели, Перлоф! Присяжный поверенный перестал восхищаться прелестями Адриатики. Он то и дело шастает в Париж с целью организации очередной коммерческой аферы.
— Впервые слышу об этом! — вырвалось у фон Перлофа. Голова его дернулась, и пенсне, слетев с носа, закачалось на черном шелковом шнурке. — Это, конечно, не оправдание, ваше высокопревосходительство. В ближайшие три дня я представлю вам подробный доклад.
— Я недоволен вами, генерал.
— Прошу прощения. У вас более не будет поводов... Вся моя деятельность... преданность вам — вы же знаете! Со всем усердием, на какое способен, я исправлю ошибку, — патетически и весьма искренне восклицая и другие слова, оправдывающие его, фон Перлоф, несколько утративший самоконтроль, совершил еще одну ошибку, более серьезную в глазах командующего, чем незнание чего-то и неосведомленность в делах мелкого пройдохи. Он спросил Врангеля, почему главнокомандующего заинтересовал столь незначительный человек?
— Можно подумать, вы — писака, а я — интервьюируемый, — ответил Врангель с открытой издевкой. — Это — ни к чертовой матери! Нет уж, генерал, давайте каждый заниматься своим делом и выполнять долг.
— Разрешите идти? — обескураженно спросил Перлоф. — Мне ясно!
— Нет уж, постойте. Хочу проверить вашу компетентность еще в одном вопросе. — Врангель медленно прошелся вокруг Перлофа, словно сомневаясь, стоит ли начинать разговор. Лицо его показалось контрразведчику Непроницаемым, суровым, и он, заставив себя забыть о первой промашке, замер, ожидая нового подвоха. — Итак, дело такого характера... — Врангель сделал паузу, достал брегет, внимательно послушал музыкальный перестук молоточков. И спросил неожиданно: — А как вы себя чувствуете, генерал? В этой дыре?
— Я не жалуюсь, ваше высокопревосходительство. — Фон Перлоф обмер: неужели отставка, удаление в Болгарию, Венгрию, в Бизерту под видом командировки?!. Что хочет от него «Пипер»?.. Он перестал быть нужным ему? Когда это произошло? Фон Перлоф твердо посмотрел в глаза Врангелю и добавил с максимальной уверенностью: — Я вполне здоров, ваше высокопревосходительство! И готов выполнить любое задание.
— Не сомневаюсь, не сомневаюсь, фон Перлоф. — Врангель дружелюбно, но несколько, пожалуй, фамильярно похлопал генерала по плечу. — Но речь не о вас. Сядем, пожалуй.
А речь, в сущности, шла о простом и известном. Врангель говорил об идущем расселении русской армии, которую он, несмотря на все козни слева и справа, сохранил, провел через белые палатки Галлиполи, лагеря Лемноса и Чаталджи. Теперь положение существенно меняется: надо учитывать разбросанность штабов и воинских контингентов, государственные границы и особые порядки, слабость связи, неуправляемость генералов, которые, конечно будут чувствовать себя вождями — каждый на своем месте, по своему представлению и образу мышления... Штаб главного командования окажется затерянным в сербской глуши, оторванным от живого дела. Как осуществлять в подобных условиях контакт с армией, не ослабить управления, не отпускать вожжей? Он, Врангель, принял решение об учреждении института дипломатических курьеров. Нужны люди — инициативные, многократно проверенные, испытанные в боевых условиях, способные, если придется, выдержать и дипломатическую баталию. Пока есть договоренность с союзниками лишь о двух дипкурьерах. Они будут снабжены паспортами и нужными визами, правом неприкосновенности почты, et cetera.[13] Чуть позднее, он уверен, число дипкурьеров удастся увеличить до четырех-пяти пар.
— Так вот, генерал, — закончил Врангель. — Хочу услышать предложения о кандидатах. Мы с Шатиловым уже обсуждали ряд лиц, но без санкций контрразведки, считаю, этого делать не следует. Так кого вы рекомендуете?
Перлоф несколько успокоился, хотя его не покидала мысль, что и тут может крыться ловушка: назвав кандидата, он выдаст своего человека. Но и не проконтролировать создавшуюся ситуацию он не имеет права. Ему нужен человек «на связи», имеющий доступ к бумагам врангелевского штаба.
Надо подумать, ваше высокопревосходительство, — сказал он, чтобы выиграть время. — Тут следует действовать без осечки.
— Думать времени нет, — отрезал Врангель. — Вы что — плохо знаете своих людей?
— Никак нет. Однако необходима определенная подготовительная работа, проведение бесед.
— Оставьте, генерал! — рассердился Врангель. — К чему вы морочите мне голову?!
«Он явно провоцирует меня, — подумал Перлоф. — Но я не дам ему ни одной кандидатуры сегодня».
А Врангель, все более раздражаясь, сначала под влиянием Климовича, а потом из-за нелепого поведения фон Перлофа, еле сдерживал в себе желание унизить этого самоуверенного выскочку, вытащенного им «из грязи в князи». И вдруг выплыла фамилия: «Венделовский». Судя по всему, этот человек был ненавистен контрразведчику. Он держал его в бесконечном «карантине», проверял и перепроверял, не давал зачислить на должность. Что стоило Врангелю преодолеть сопротивление фон Перлофа и послать Венделовского с миссией Шатилова?! Вот способ поставить на место зарвавшегося фаворита, который свел подозрительное знакомство с каким-то французом. Командующий легко возвышает верных людей. Но столь же легко может и лишать их своего расположения.
— Ну хорошо, генерал, — миролюбиво сказал Врангель, подводя черту под разговором. — Первую кандидатуру называю я — Венделовский. Он обсуждению не подлежит. Я стану его поручителем.
— Я предлагаю ротмистра Издетского, — поспешней, чем следовало, отозвался Перлоф. — Он достоин.
— Согласен. Прекрасная пара, генерал! — слабо улыбнулся Врангель. — Но старшим назначается мой протеже. Приведите своего ротмистра завтра поутру: я побеседую с обоими...
В эту ночь Врангель долго не мог заснуть. Сон был неглубокий, тревожный. Ему казалось, он и не спит вовсе. Сначала будто скрипела на несмазанных, ржавых петлях дверь, подвывал ветер, хлопало окно. Слышались неясные голоса, бормотание, всхлипы. Врангель увидел младшего брата своего, Николая, еще до революции умершего, — он был зеленый, будто утопленник, но улыбался весело и загадочно. Присмотревшись, Врангель понял, что Николай сидит, сгорбившись, за большим обеденным столом в их квартире на Бассейном и, не глядя, быстро перебирает какие-то предметы, раскладывая их на три кучки. «О, это ты, «Пипер», — безрадостно произнес он, отворотив лицо. Врангель приблизился. Это точно был Николай, хотя он никогда не называл старшего брата «Пипером», кличкой. «Зачем пожаловал? Наш дом пуст». — «А матушка где?» — «Вы с отцом бросили ее. Оставили на милость большевикам. Как вы могли?» — «Но она в Финляндии, — возразил Врангель-старший. — В Финляндии, а может быть, уже и в Ревеле, с отцом». — «Хи-ха, т-ха!» — странно засмеялся Николай, и зеленое лицо его внезапно стало краснеть — это со свечой в руках вошла высокая худая женщина, завернутая в какие-то черные тряпки. Разбитые солдатские башмаки ее зловеще гремели. Губы нашептывали что-то, наполняя сердце Петра ужасом и безнадежностью. «Не ссорьтесь, мальчики, — глухим голосом с хрипотцой сказала она. — Умоляю. Теперь, когда все ссорятся, когда вокруг огонь и поруганье, мы должны быть дружны. И, взявшись за руки, идти по пути, указанному нам богом». Не оставляя свечу, она взяла Петра за руку и потянула к столу, повторяя тоном приказа, с одной металлической интонацией: «Идемте же, дети мои, идем... Идем... Идем же...» — «Оставьте меня! — в ужасе закричал Петр. — Оставьте! Вы — покойники!» — и очнулся в поту, задыхаясь от только что пережитого ужаса. Он сел на кровати, озираясь дико и успокаиваясь. Некоторое время он раздумывал, ища какого-то смысла в этих страшных видениях и связи их с его сегодняшней жизнью. И, не найдя никаких связей, он вспомнил весь день, когда он только и делал что распекал своих подчиненных, подозревая каждого в неверности, недобросовестности и коварстве. Так нельзя, не следует делать, надо и поощрять людей... И вдруг уронил голову на подушку и вновь задремал, забылся...
2
Против договоренности фон Перлоф внезапно сообщил Шабролю, что их встреча в конторе частного розыскного бюро, переехавшего только что в первый этаж весьма фешенебельного дома на улице Дандрия, переносится и должна состояться в то же время на площади Сераскерат — в конце аллеи, возле фонаря. Известие насторожило Шаброля, и он пришел на Сераскерат за двадцать минут до срока, чтобы осмотреться и определить, не уготована ли ему засада, организованная генералом, пожелавшим вырваться из-под опеки...
Большая незамощенная площадь лежала перед Шабролем. Не отпуская экипаж и не выходя, он внимательно осматривался. Справа проходила широкая аллейка, фонари редкой цепочкой тянулись, чередуясь с тонкими, недавно высаженными и неприжившимися деревцами. Слева площадь ограничивали деревья, более старые, высокие и толстые, — там стояло множество черных экипажей и выпряженных лошадей. Это было место, откуда могла исходить реальная опасность: добрый десяток врангелевцев легко мог спрятаться в закрытых экипажах с окошками сбоку и сзади. Может, оттуда уже и наблюдали за ним... Шаброль тронул тростью плечо своего возчика и приказал ехать медленно вокруг площади, а сначала к арке с башенками, за которой возвышалея трехэтажный, дворцовой постройки большой дом с немыслимо длинным фасадом.
Шаброль миновал его и проехал перед обшарпанным особняком, расположенным слева, — он казался покинутым, заброшенным. Окна плотно зашторены, вокруг ни души. Да и на всей площади мало людей — одинокие пешеходы, несколько грузчиков, согнувшихся под непомерной тяжестью на плечах. Шаброль мысленно вновь выругал Перлофа: даже если тот и не подготовил пакости, место для встречи он выбрал, без сомнения, плохое. На этом пустом поле каждый человек бросался в глаза, точно прыщик на выбритой щеке!..
Двигаясь вдоль ряда экипажей, Шаброль с максимальной осторожностью разглядывал их последовательно. Два экипажа были пусты, в третьем, похоже, дремал хозяин. В следующем разговаривали и смеялись трое турок, похоже, возницы тех пустых колясок. Зато две коляски, крайние в ряду, насторожили Шаброля. Он не понял сначала — чем, — на козлах понуро сидели возчики, к мордам лошадей подвязаны торбы («Видимо, уже порядочно стоят — лошади жуют без аппетита»), и, отъехав, сообразил, что задержало его внимание — зашторенные оконца последнего экипажа.
Из экипажа выскочил человек в длинном плаще и, чуть подпрыгивая, быстро направился к обшарпанному особняку. Узкая спина его показалась Шабролю знакомой, он видел этого человека. Но где и когда?.. Это не вспоминалось, ускользало — и нервировало. Оглянувшись вторично, Шаброль увидел, что экипаж тронулся с места и по диагонали пересек площадь Сераскерат. Доехав до конца аллеи, экипаж остановился, из него вылез фон Перлоф. Наблюдая за ним не более полуминуты, Шаброль упустил из поля зрения длиннополого — буквально на какой-то миг. Тот исчез. Или спрятался где-то? В заброшенном особняке скрылся? Это настораживало... Отъехав метров на триста от площади, Шаброль остановил экипаж и, расплатившись, зашагал обратно. Фон Перлоф ждал его под фонарем. У него было утомленное, нехорошее лицо.
— Что с вами, генерал? — весело спросил Шаброль, цепко взяв его под руку и увлекая прочь. — Что это значит? Площадь, перемена места встречи? Фу! К такому сотрудничеству я не привык. — И быстро потащил его, продолжая задавать все новые и новые вопросы.
Минут пять они почти бежали. Шаброль, заметив проезжаюший автомобиль, отпустил Перлофа и с криком: «Такси! Алло, такси!» кинулся на мостовую наперерез, подняв руки. И хотя автомобиль вовсе не являлся таксомотором, а водитель-турок ни бельмеса не понимал по-французски, пара сотен лир, кинутая на переднее сиденье, сделала свое дело. Они сели на ковровые подушки, Шаброль показал знаком: «Вперед», и мотор, кренясь и подпрыгивая на щербатой мостовой, повез их неизвестно куда.
Шаброль задвинул стекло, отделяющее пассажирский салон от шофера, и посмотрел на компаньона.
— Так что случилось? — спросил он участливо, озабоченно и в то же время требовательно. — Точно и коротко. Ну, я слушаю.
— Серьезного — ничего. Чутье, предположения, — ответил тот. — Подозреваю, Климович узнал о нашем сотрудничестве и пустил по следу людей.
— Но мы же встречались только в бюро?
— Климович — профессионал, и очень высокий.
— Так. А кому вы хотели показать меня на площади?
— Почему вы решили?
— Кто был тот человек, что вылез из экипажа?
— А-а, — улыбнулся фон Перлоф. — Это мой ротмистр. Я как раз и взял его, собственно, для нашего прикрытия. Предан, как собака.
— Вы меня убедили, генерал. Какая же может быть совместная работа, если мы не доверяем друг другу? Не так ли?
— Точно так!
— Ну, рассказывайте, рассказывайте о своих новостях.
— А вы знаете этого типа? — Перлоф показал глазами на шофера.
— Впервые вижу. Но вы сами не захотели встречи в бюро.
— Полагаю, наши контакты на время исключаются.
— Отказываетесь сотрудничать?
— Имею в виду прямые контакты. Климович...
— Хорошо, мы найдем способы, тем более что у вас ведь начинается новая жизнь. Где будет штаб? Когда уезжает Врангель? А вы? — он замолчал, увидев, что шофер оглядывается на них, пожимает плечами, показывая, что не знает, куда ехать. Шаброль чуть сдвинул окно, сунул в щель еще десяток лир, сказал безапелляционно: — Пера, — и резко задвинул стекло. — Итак? Вы же знаете, через десять дней любые, даже самые ценные сведения теряют две трети ценности — по десять процентов в день. О Климовиче потом, потом. У нас своих проблем полно!
Фон Перлоф рассказал: отъезд Врангеля назначен на середину февраля, главком и штаб расположатся в городке Сремски Карловцы под Белградом; связь с воинскими контингентами в других странах будет осуществляться с помощью специальных курьеров; король Александр разрешает Врангелю пользование собственным шифром; Врангель становится все более подозрительным — после гибели «Лукулла» никому не доверяет, их отношения ухудшаются по непонятной причине, Перлоф полагает, мутит Климобич.
— Дался вам Климович. Есть что-то конкретное?
— Только наше бюро.
— О-ля-ля! — беспечно воскликнул француз. — Но! Вы правы, мой Перлоф! Мы исключим прямые контакты: пока Климович может быть еще опасен. Зачем нам его длинный военный нос в нашем мирном, торговом деле, не так ли? Да! Я с вами согласен. Абсолютно. Это я и хотел сказать, отправляясь на свидание. — Роллан Шаброль ослепительно улыбнулся. — Ваш компаньон тоже собирается покинуть этот город: ковры уже не приносят дохода, игра на бирже рискованна, франк, доллар и фунт падают. Моя фирма отзывает меня в Париж.
— Но как же? Наши взаимные обязательства и расходы?
— Не беспокоитесь, я могу продать бюро вам.
— О чем вы говорите, Шаброль! Я — без денег и... я уезжаю и Сербию. Я слабо представляю, зачем вообще, в таком случае, вам понадобилась организация этой липовой конторы?
— Но не волнуйтесь так. Я объясню. Ни вы, ни я ничего не теряем. Наоборот. Вероятно, я договорюсь, и мы сможем расширить бюро, его филиалы начнут работать в Берлине, Будапеште, Софии, в Белграде.
— Вы-то договоритесь, — без всякого восторга сказал фон Перлоф. — А какова будет моя роль?
— Прежняя, прежняя! Вы останетесь руководителем бюро и моим заместителем. Только денег станете получать больше. Вдвое — вы понимаете? И как это звучит: европейское бюро! А? Потрясающе!
— Где же будете вы?
— Там будет видно. Стану вояжировать, вероятно. Но у нас будет связь, постоянная. Это я беру на себя. Большинство проблем — мои! По приезде в Сербию ваша задача — бюро. Группа — маленькая, несколько человек, владеющих искусством конспирации. Вас найдет мой человек. Он сделает запрос о судьбе своего дяди, русского, с фамилией... Ну, подскажите же мне не простую русскую фамилию. Ну? Оригинальную!
— Не простую? — задумался Перлоф. — Скажем... Крымов.
— Крымов? — почему-то восхитился француз. — Это тот, что жил в Крыму?
— Почему же... не обязательно. Генерал такой был.
— Ладно — Крымов. А его дядя имел в Петербурге большой магазин французской косметики на главном проспекте. На... этом...
— Невском, — подсказал Перлоф.
— Прекрасно! Дядя уехал из Крыма и пропал абсолютно. Вы попросите молодого человека прийти через два дня, в два часа. Он скажет: «Вы моя последняя надежда», передаст вам деньги и инструкции. Вы будете работать с ним. Только вы, генерал! Установите места встреч, пароль, опознавательные знаки. Задача вашей группы прежняя: сбор информации — главное командование, ориентация, намерения, планы; настроение различных русских партий и групп, в первую очередь антифранцузского направления. Информация, мой генерал, исключительно информация! Никакой собственной инициативы, только проверенная и многократно перепроверенная информация! Ну и ваша основная работа, генерал, ваша «Внутренняя линия», — пожалуйста! Но она не помешает деятельности бюро, напротив!.. Одно только замечание, генерал. И весьма серьезное. Не старайтесь провести меня, — в его голосе уже не было игривых интонаций. — Исполнение моих приказов остается первым и главным условием нашего сотрудничества.
— Но, — удивился Перлоф, — что вы имеете в виду?
— Этот, ваш человек, который говорит: «э... э... э».
— А! — догадался Перлоф. — Но-оо...
— Никаких «но». Почему вы не послали его в Турцию? Почему? Мне там нужен был он, а не другой. Я послал его приметы.
— Он нужен был главнокомандующему. Я не мог... И — он нездоров.
— Хитрите?
— Но он ведь оставил вашу любовницу.
— Ну, хватит! Если подобное повторится, в тот же день разрываю наши отношения. Хотите этого? Вижу, нет! И я так думаю.
«Нет, какова скотина, — с бессильной яростью подумал фон Перлоф. — За свои франки хочет получать двести процентов прибылей... И что он привязался к Изетскому? Хотел убрать? Зачем? Надо скорее отправить его в Сербию. Хорошо, что ротмистр становится дипкурьером. Попробуй, достань его теперь!»
— Подобное не повторится, — сказал обиженно Перлоф. — Но не кажется ли вам, что все мы слишком долго испытываем терпение этого автотюрка? Или он — ваш человек?
— Отнюдь. Но «автотюрк» — неплохая острота, фон Перлоф. Сейчас я высажу вас, вон на том углу.
Фон Перлоф кивнул.
— Почему же так мрачно? Подумайте, как нейтрализовать Климовича. У вас есть возможности. И до скорой встречи на Балканах, Перлоф! Вот вам деньги на переезд и устройство. Тут достаточно. В фунтах к тому же. А вот бумажка, подпишите, пожалуйста, что получили. Формальность, но у нас в деловом мире, сами знаете, формальности на первом месте. — Шаброль постучал по стеклу, делая шоферу знак остановиться.
Фон Перлоф вылез с завидной быстротой и зашагал по тротуару...
Меняя машины, француз добрался до рынка и, смешавшись с толпой и выяснив, что за ним нет «хвоста», поспешил к знакомому ряду, где находилась лавка Сулеймана, торгующего коврами. Хозяин и его служащие склонились в почтительном поклоне.
— Как доходы, Сулейман? — весело приветствовал его Шаброль. — Успехи? Здоровье — твое и твоих близких?
— Плохо, господин. — приложил руки к груди хозяин, кланяясь и отступая перед гостем. — Торговля пропала — кому нужны сейчас ковры! Деньги падают. В Турции две власти, эфенди. Скоро я совсем разорюсь.
— Ничего, ничего, Сулейман! — приободрил его француз. — У меня есть хорошие идеи, мы поговорим.
— Спасибо, эфенди. Да продлит аллах ваши годы! Вы добры и велики. И помогаете людям в беде. Проходите, пожалуйста. Вас уже ожидают два господина. Я прикажу принести кофе, такой, какой вы любите.
Роллан Шаброль, откинув ковер, вошел в заднюю комнату. На полу, на подушках, полулежали двое. Один — связной Шаброля — коренастый, рыжеватый, похожий на немца, «Мишель». Второй — с удлиненным смуглым лицом, светловолосый, с бесстрастными серо-зелеными глазами.
— Привел, — сказал «Мишель». — Знакомьтесь — Альберт Николаевич Венделовский.
— Шаброль. — Роллан крепко пожал протянутую руку. — Наконец-то!
— Я был давно готов к знакомству. Зажирел без дела.
— И я застоялся, — добавил «Мишель». — Лежу на дне, как камбала.
— Дело будет, — усмехнулся Шаброль. — Я пошел на встречу лишь потому, что обстоятельства быстро меняются: армия рассредоточивается — нужны новые формы сотрудничества. И, главным образом, новые каналы связи, координация сил для выполнения заданий, сопоставления информации, ее анализа и перепроверки. Штаб Врангеля будет в Белграде, теперь это точно. А там у нас пока пусто. Придется начинать с нуля. Но что там делать солидному коммерсанту, на задворках Европы? Я уеду в Париж. Тебе, — кивнул он в сторону «Мишеля», — в Белграде появляться опасно: ты знаком и Перлофу, и людям Климовича. Поедешь в Болгарию, к «Баязету», ему необходимо надежное прикрытие. Так что надежда на вас, Альберт Николаевич. Центр распорядился расконсервировать «ноль сто тридцать пятого», но вводить без нажима и излишней торопливости. Вам и вести Врангеля и его штаб.
— Есть новое обстоятельство, — сказал Венделовский. — Я назначен на должность — Врангель утвердил меня дипкурьером.
— Давайте оценим ситуацию, — предложил Шаброль, никак не высказывая своего отношения.
— По-моему, все о'кэй! — сказал «Мишель». — Лучшего связника нам и не снилось! И документы Врангеля всегда под рукой, будет время для спокойного перлюстрирования.
— Торопишься, — остановил его Шаброль. — И все и не все. Пока он повезет чепуху какую-нибудь, скажем, к фон Лампе в Венгрию, другой, с действительно стоящей бумагой, будет послан к Кутепову. Частые разъезды — это, конечно, прекрасно, но в Белграде у нас пусто. Туда требуется человек, — он задумался, покачал головой. Сказал, будто самому себе: — Ох, Перлоф, Перлоф...
— О чем ты? — удивился «Мишель».
— Все меня дурнее себя считает. Деньги берет полностью, а информацию дает половинную. Я ему покажу! — он повернулся к Венделовскому и, заметив, что ковер, прикрывающий дверь, дрогнул, воскликнул по-французски, нарочито форсируя голос: — О нет, нет, дорогой Берри, больше я не могу уступить вам ни цента!
Слуга внес поднос с кофе, сластями и фруктами. «Купцы» заговорили по-английски о каких-то пустяках. Слуга принялся разливать кофе по чашечкам, но Шаброль отослал его, прошел убедиться, плотно ли закрыта дверь. Сев на место, сказал Венделовскому:
— Перлоф — хитрая бестия. Он и в наших руках хочет выполнять главную заповедь разведчика-профессионала: выдавать хозяину-покупателю, не всю информацию, ибо опасно продавать больше, чем один факт: уже второй может противоречить первому. Он вас долго перепроверял, «приятель» сына госпожи Куракиной. И сейчас подозрения у него не исчезли. Следует сохранять предельную осторожность. Вот когда мы запеленаем его по-настоящему, возможно, нам самим придется рассеять иллюзии Перлофа. Когда вы приступаете к обязанностям дипкурьера Врангеля?
— Судя по всему, после переезда командующего. Но бог знает! Климович и Перлоф усиленно подбирают двойки, проводят инструктаж. Я уже заявил о своей готовности, так что могут погнать в любой день.
— Особенно волнует Врангеля Кутепов, — заметил Шаброль. — Думаю, ваш первый маршрут будет в Варну, Софию, Велико-Тырново. Запомните, как молитву, Альберт Николаевич. Контакт с «Баязетом» лишь в катастрофической ситуации. Либо — при необходимости с его стороны. Ваш пароль: «Простите, не смогли бы вы поменять тысячу левов на франки?» Он ответит: «Вы обратились не по адресу, милостивый государь. Но я могу указать такого человека». При его обращении к вам пароль остается, только фразы меняются местами. Словесный портрет запомнили?
— Запомнил.
— Ему будет сообщено о вас немедленно. Каждое пятое число с двух до трех его можно найти в ресторане отеля «София» в Тырново.
— Раз в месяц? — переспросил Венделовский.
— Я неточно выразился, — нахмурился Шаброль, недовольный тем, что его перебили. — Пятое, десятое и так далее. Один из столиков, у окна — обязательно. Дополнительная деталь: часто курит — массивный серебряный портсигар с монограммой «Г» и «К», достает из левого кармана мундира либо пиджака, фрака, если в штатском.
— Запомнил.
— А я, признаться, не очень понимаю, почему Центр держит его в дыре, когда острие атаки — Белград, — вступил в разговор «Мишель».
— О! — улыбнулся Шаброль. — Ты, наверное, забыл, как говорят в России?.. Не суй свой длинный нос, куда тебя не просят. А если серьезно — в этой дыре Кутепов и, можно сказать, вся армия. Это — главная сила. Именно из Болгарии следует ожидать все что угодно. И далее. Центр сообщает об активизации дипломатической деятельности союзников сразу же после Каннской конференции. Особенно старается Ллойд Джордж. Грядет всемирная конференция, на которую приглашают и нашу делегацию. Нам направили внешнеполитическую ориентировку: из Москвы все виднее. — Шаброль одним глотком выпил чашечку кофе и продолжал: — Основные документы — доклад Владимира Ильича на Девятом Всероссийском съезде Советов и декларация съезда о международном положении. Но с декабря кое-что изменилось. Прошла Каннская конференция Верховного совета союзников. Купеческая позиция Англии: срочная европейская конференция с участием Советской России, русский вопрос — на первом месте, ослабление давления на Германию из-за боязни толкнуть ее в объятия большевиков. Итальянцы поддерживают англичан. Франция заговорила примирительно устами Бриана.
— Поэтому и заставили его уйти в отставку, — не сдержался «Мишель». — Помните фото — оно обошло все газеты! — Ллойд Джордж учит Бриана игре в гольф. Иллюстрация несамостоятельной политики!
— Точно, «Мишель»! Ты разбираешься в высокой политике, хотя твоя специальность — связь.
Венделовский улыбнулся: Шаброль ему понравился.
— Когда Бриан хотел открыто объяснить свою политику, ему не дали говорить и чуть не стащили с трибуны, — продолжал Шаброль. — Мы же, «Мишель», гораздо терпимее, как видишь. Итак, премьер теперь Пуанкаре. Упрям, хваток, жесток. Французы говорят: «Бриан все знал, но ничего не понимал. Пуанкаре ничего не знает, но понимает все». Очень точная характеристика! Впереди — Генуэзская конференция. Приглашения разосланы, материальную и организационную часть берет на себя Италия. Мировая общественность взволнована приглашением Ленина. Восьмого января приглашение официально принято, заявлено, что советская делегация будет обладать самыми широкими полномочиями. Теперь ситуация осложняется: Генуя под вопросом, начинает откладываться, во всяком случае, — это инициатива Пуанкаре. «Прежде чем идти в Геную — сочтемся!» — лозунг французских правых. В газетах — кампания по защите прав кредиторов. Требования: уплата долгов Россией, возвращение конфискованной собственности и так далее. Франция активизирует деятельность подвассальных государств. Позиция Пуанкаре катализировала деятельность всех белоэмигрантских групп. Их лозунг — «Никаких переговоров с Советами», их задача — показ своей силы и непримиримости. Поэтому возможны теракты против наших представителей как за рубежом, так и в Москве, Петрограде и других центрах. Отсюда наша возросшая ответственность, наши наипервейшие задачи, о которых ниже... Позиция советской дипломатии: мы — не побежденная страна, с которой позволительно говорить с позиций силы, а страна, выигравшая трехлетнюю кровопролитную войну, способная отстоять свое существование от всяких покушений на ее независимость — экономическую и политическую. Затяжка Генуи — большой убыток для стран Антанты. Это подчеркивается всячески. Итак, мы уверены, конференция будет. И все трезвые политики соглашаются с этим, хотя и подчеркивают, что конференция будет только экономическая. Только! — Шаброль, засмеявшись, многозначительно поднял палец. — Хотя мы-то с вами знаем: союзники ни на миг не оставляют задачу реставрации России — прежней, царской или чуть демократизированной, неважно! — готовы поддержать любую авантюру, откуда бы она ни доходила: от бандита Тютюника, поляков, Врангеля... Центр ставит перед нами две задачи. Первая. Дальнейшее проникновение в планы главного командования, наблюдение за ним с целью дискредитации не только Врангеля, но и агрессивных империалистических кругов, связанных с ним. Вторая. Своевременная информация о замыслах всех террористических групп, засылаемых к нам в страну и готовых к выступлению против наших торговых представителей, курьеров, членов делегации, которая будет направлена в Италию. Тут у нас серьезная недоработка — ротмистр Издетский, сотрудник Перлофа, судя по всему работающий на Климовича. Издетский действует прямолинейно, напролом, жестоко. Но пока он неуправляем, к нему нет ключа. Он знает «Мишеля», Мадлен и — через Дузика — вас, Альберт Николаевич. Вам с ним работать и работать. Идея нейтрализовать его в Турции провалилась. Он не поехал, причем мне не удалось выяснить, почему не поехал: почувствовал что-то и не выполнил приказ Перлофа или тот вовсе не давал ему такого приказа. Но это уже fait accompli[14] и только мое дело. Вы, Альберт Николаевич, будьте особо осторожны, вам ехать с ним в паре. Это мое и Перлофа дело, — он улыбнулся. Не дай бог узнать генералу, на кого он работает. Я ему не позавидовал бы! — И, сразу став серьезным, Шаброль сказал, обращаясь к Венделовскому: — О вашей должности, Альберт Николаевич, сегодня же будет сообщено Центру. Акклиматизируйтесь. Присматривайтесь, изучайте обстановку и Издетского. Ищите к нему ходы. Ничего больше!.. Теперь же займемся скучными техническими вопросами. A la bonne heure![15]
235
ИЗ ЦЕНТРА В КОНСТАНТИНОПОЛЬ «ДОКТОРУ»
«Назначение «0135» считаем перспективным. До приезда главнокомандующего связь только через вас. Перебазировка в Париж санкционирована, однако как промежуточный пункт намечены Югославия и Италия. Фирма остается прежней. Срок перебазировки — предположительно — вторая половина февраля.
Сообщаем название книги вашего нового шифра. «Тихое озеро» — издательство Гржебина, страница сорок один. Правила пользования, перешифровальные таблицы сообщим дополнительно.
Центр».
Глава шестнадцатая. АДРИАТИКА. КАТТАРО. НА ПЕРИФЕРИИ ИСТОРИИ
Бока Которская — благословенное место. Лето наступает здесь мгновенно и длится полгода. Словно по взмаху волшебной палочки покрываются зеленью холмы, вспыхивают всеми цветами радуги экзотические цветы. Зеркало лазурной бухты с фантастическими изгибами береговой линии становится изумрудным, ровным, как стекло. Лето теплое, недушное из-за обилия воды и легкого ветерка, дующего с запада, с моря. Мохнатые лапы пальм на набережных многочисленных поселков и городков, переходящих один в другой, придают побережью праздничный вид. Осенью по всем дорогам на стоящих шатром апельсиновых деревьях наливаются соком тысячи плодов — красноватых, оранжевых, багрово-желтых. А после их сбора надолго повисают над Бокой Которской густые теплые туманы. Скрадывают очертания предметов и водную гладь, холмы и дома, сложенные из серого камня, под красными черепичными крышами. Туманы чередуются с моросящими дождями. Кажется, дождь такой мелкий и слабый, что, не достигнув земли, он повисает в воздухе.
Издавна вся жизнь здесь была связана с морем. Бока Которская поставляла миру первоклассных мореходов — капитанов и бесстрашных пиратов, штурманов и строителей больших и малых судов, которым не страшны были любые бури. Петр I набирал здесь учителей для рождающегося русского флота. В Боке Которской Орлов-Чесменский заманил на свой корабль и арестовал знаменитую авантюристку княжну Тараканову. Тут находилась непобедимая эскадра адмирала Ушакова. Недавно здесь восставали матросы австро-венгерского флота...
Теперь по берегам бухты, в местечках Мслино, Лелетика, Дженовичи и других находились лагеря гражданских беженцев. Русские эмигранты не имели права на передвижение без согласия властей, зато они получали нищенское пособие от государства, так называемый «размен», чуть больше двухсот динаров в месяц. Пользуясь покровительством короля Александра, получившего образование в Петербургском пажеском корпусе, родственника Романовых, сюда устремилась реакционная часть белой России: генералы и жандармы, царские сановники и фрейлины, графы и князья, представители православного духовенства, офицеры контрразведки. Королевство сербов, хорватов и словенцев было образовано после распада разгромленной Австро-Венгрии 1 декабря 1918 года. Англия и Франция отводили ему роль жандарма, не только охраняющего порядок на Балканах; но и следящего за Италией и Германией. В новом государстве все ключевые позиции, все посты занимали сербы. Это вызывало активный протест и хорватов, и македонцев, и словенцев. Для поддержания порядка могла быть использована русская армия. Вот почему, с разрешения французов, уже с начала 1921 года к далматинским берегам началась тихая переброска казачьих частей, первая группа которых была размещена на пустынном полуострове Оштра, в бывшей австрийской тюрьме. После переговоров Шатилова на Балканах с Лемноса было перемещено еще три тысячи кубанцев и донцов. Число русских росло в стране не по дням, а по часам. И уже начали раздаваться голоса: русские оккупируют суверенное государство; они хотят навязать ему не только обычаи и порядки, они насаждают и свои идеи. Какие? Кому было выгодно, отвечали: большевистские. Но большинство утверждало: врангелевцы несут с собой самую черную реакцию. Съезд русских беженцев, собравшийся еще в середине двадцатого года, подтвердил это. Девяносто девять процентов его участников делегировали монархические круги. А когда в Белград посмели приехать князь Львов и Зеелер, представляющие относительно левый «Союз земств и городов», в отеле, где они остановились, немедля появилось объявление: «Здесь живут предатели. Лиц, желающих плюнуть им в физиономию, благоволят записываться в очередь».
Эмигрантов из России называли «избеглицы». Было что-то трагическое в этом слове, бесприютное, безотрадное...
В отличие от большинства эмигрантов Виталий Николаевич Шабеко ни в чем не испытывал недостатка и неудобств — благодаря заботам сына Леонида и его независимому положению. Сам Леонид Витальевич, правда, редко бывал дома: все разъезжал по городам и весям, где-то что-то покупал, где-то продавал, возвращался довольный. Судя по всему, его дела шли хорошо.
Они снимали второй этаж сравнительно нового дома. Весь городок, по существу, находился за серой крепостной стеной — маленький, игрушечный, словно театральная декорация: мощенные белыми плитами или плоско-тесаным серым камнем дома, магазинчики, открытые лавчонки с фруктами и овощами, аптека, кофейни и рестораны; полутемные улочки, переулки — вдвоем не разойтись; тупички, площадки (площадью и не назовешь!) величиной с суповую тарелку. А еще несколько мрачных зданий — тюрьма и казарма, оставшиеся от австро-венгерской монархии. И крепость, возвышающаяся на высоком холме, видная с любой точки бухты Которской. Там, под надежной охраной, размещались богатства Петербургской ссудной казны.
Виталий Николаевич Шабеко занял комнату с видом на площадь и арку, выводящую улочку на набережную. Часами просиживал он у окна, наблюдая незнакомую и непонятно почему притягательную жизнь: пестрые костюмы, неторопливую, полную собственного достоинства походку горожан; красоту местных женщин, в облике их явно видны были черты и турчанок, и византиек, и славянок; беззаботную живость мальчишек.
Екатерина Мироновна вела хозяйство. В уборке квартиры ей помогала старая молчаливая черногорка — сухая, жилистая, равнодушная к своим хозяевам. Чем больше Виталий Николаевич приглядывался к Екатерине Мироновне, тем больше она нравилась ему — природным умом и деловой сметкой и редким, особым даром видеть в людях их внутреннюю сущность.
День шел за днем, месяц за месяцем, поразительные в своей сонной одинаковости. В мире ежечасно совершались трагедии, звучали выстрелы, менялись правительства. Эмигранты из России, прожившись до нитки в Константинополе, кидались в отчаянии через океан в сказочную Бразилию, на кофейные плантации, где их покупали и продавали, как рабов; бедствовали на диком скалистом острове Халки, точно так же, как в просвещенном Берлине. Снова сажали на суда и развозили по чужим государствам солдат, которые по-прежнему, вопреки всякой логике, назывались армией; заключали тайные союзы дипломаты, которые немедля нарушались политиками... И только он, старый историк Шабеко, оставался один, лишенный человеческих контактов и правдивой информации, ибо русские газеты в Боку Которскую почти не приходили, а судить о происходящем по запоздалым французским или английским, проповедующим в отношении стран Адриатики взаимоисключающие идеи, было все равно что разгадывать сложнейший и бессмысленный ребус.
В самом городе размещалась какая-то офицерская рота, что ли — не то корниловцы, не то дроздовцы, — несла охрану Петербургской казны. Эти бродили по улицам гордые и высокомерные, с нескрываемым презрением, лишь при крайней необходимости общались с горожанами. Презрительно цедили слова, угрожали взглядами, точно дулами пистолетов, случалось, и матом сыпали, и руки поднимали на «дикарей, не уважавших мундира». Встречались Виталию Николаевичу и другие беженцы — обтрепанные, изуверившиеся, а то и просто нищие, просящие подаяние. Это были подлинные «избеглицы», те, кто считал унизительным для себя работать на лесоповале или строительстве дорог. Они протягивали ладонь с таким выражением, будто не куска хлеба просили, не мелкую монету, а давали руку для поцелуя. С их лиц не сходило выражение превосходства, презрения к тем, к кому они обращались за милостыней.
Профессор Шабеко сторонился и тех и других. На улице он старался отмежеваться от своих соплеменников, не показать, что и он принадлежит к постыдному племени «избеглиц». Он купил себе черногорскую шапочку нечто среднее между феской и тюбетейкой, отпустил клиновидную седую бородку. Он поправился от спокойной, размеренной жизни и, окончательно утратив схожесть с Чичиковым, стал похож на преподавателя медресе, знатока и толкователя Корана. Если бы не сильно увеличивающие очки, сменившие пенсне, неизменный костюм-тройка, светлое лицо и серые глаза, его никто и не принимал бы за русского. На прогулках в городе профессор говорил только по-французски. Однажды случай свел его со Здравко Ристичем — в прошлом капитаном, начинавшим службу еще на паруснике, командовавшим чайным клипером и закончившим недавно карьеру на утлом пароходике, ходившем в Италию, в Грецию и даже в Африку. Здравко — маленький, широкогрудый, с крепкими еще руками и лицом, загорелым до черноты, точно у мавра, с сиплым голосом и неистребимым оптимизмом — учил Шабеко сербскому языку. Поначалу, правда, они лишь раскланивались, затем старый мореход пригласил профессора выпить по чашечке кофе, повел туда, где подают лучший в Каттаро, с водой, необходимой для прополаскивания рта, чтоб вкус кофе ощущался сильнее. Шабеко ответил приглашением на обед в кафану. Они познакомились. Узнав, что его новый приятель — русский, Здравко, против ожидания профессора, даже обрадовался. И... заговорил на чистом русском языке: его дедушка воевал против турок, попал в плен, бежал и оказался в России.
Через месяц их знакомства Здравко пригласил профессора к себе, а это был знак особого доверия!
Шабеко изумился: тут был целый музей. Он занимал весь дом капитана, построенный за городской стеной, на самой «обале», набережной, откуда была отлично видна вся Бока Которская — дорога вдоль берега, поселки, паром, ползущий через бухту... Бесчисленные модели — барки и корветы, бригантины и фрегаты, клипера и даже весельные триеры; старинная корабельная пушка и колокол; ядра, по-видимому поднятые со дна; ростр и старые морские карты, навигационные приборы, оружие, ордена... А потом Здравко стал доставать из инкрустированного сундучка документы, «дукалы» — грамоты и аттестаты, выданные командиром порта Котор, и среди них — руки у историка задрожали — письмо посланника Петра I полковника Михаила Милорадовича к князю Нике Лазаревичу! Увидел Шабеко и документы, датированные шестнадцатым и семнадцатым веками... Вот бы разобраться во всем этом богатстве, хоть как-то систематизировать его, помочь Здравко и впрямь создать Которский морской музей!
Старики, каждый по-своему переживающие одиночество, потянулись друг к другу. Профессор с удовольствием навещал своего знакомца, копался в его книгах и материалах, что-то разбирал, систематизировал, описывал и часто повторял, довольный сделанным: «Со временем в Которе (Шабеко никак не мог приучить себя называть город «Каттаро») будет настоящий морской музей и мемориальная доска о его основателе, патриоте и мореплавателе Здравко Ристиче». Хозяин, встречающий гостя уже попросту, по-домашнему, в длинном халате и красном платке, перекрещивающем лоб, — настоящий корсар, — лишь усмехался: зачем городу музей? Кого это интересует? Еще стреляют друг в друга. Люди хотят покоя, мира, хотят есть, рожать детей, тишины хотят. А когда наступит мир? Никогда. Сколько он себя помнит, всегда на Балканах лилась кровь.
Целые дни проводил Шабеко в доме капитана. Он бы, пожалуй, и совсем перебрался к нему, да неудобным казалось стеснять Ристича, вжившегося в свое застарелое одиночество. Возвращаясь под вечер, Виталий Николаевич все чаще стал замечать присутствие в доме некоего высокого и широкоплечего молодого человека с приятным лицом. При встрече с ним молодой человек останавливался, точно пойманный на воровстве, но кланялся с достоинством и исчезал. Поинтересовавшись как-то у Екатерины Мироновны, старик получил спокойный ответ: это сын уборщицы, он приходит помочь матери в тяжелой работе — заготовить дрова, привезти с базара тележку овощей, крышу починить. Кому мужской работой заниматься, если хозяин все в дороге, а к себе словно в гостиницу приходит. Шабеко пожал плечами, хотел уйти к себе, но Екатерина Мироновна проговорила, величаво скрестив на груди руки:
— А чего скрывать?! Люблю этого парня, живу с ним, если хотите знать.
С тех пор они почти не разговаривали. Приехавший из Константинополя деловой и энергичный Леонид, разумеется, сразу заметил: в доме что-то произошло. Похоже, назревал взрыв. Леонид пытался вызвать на разговор отца, несколько раз с полицейской дотошностью допрашивал Екатерину Мироновну. Она была, кажется, уже на грани признания. Хорошо, дела потребовали срочного отъезда Шабеко-младшего в Париж. Он умчался, и дом в Каттаро вновь погрузился в глухую тишину. Взрыв, к счастью, не состоялся. Исчез и красивый далматинец.
Из дневника профессора Шабеко
«... Полным ходом идет переоценка идей в разных слоях русской нашей эмиграции. С пеной у рта споря, извлекают уроки из прошлого все — от крайних монархистов до социалистов разных мастей и оттенков. Антибольшевистский фронт дрогнул и распадается на десятки кусков, как зеркало, по которому ударили молотком. Несгибаемы лишь наши сведущие» генералы Врангель, Кутепов и иже с ними. За каждым — тысячи безымянных могил, и кто ответит живым, за что погибли те, мертвые?! Да, старая Россия умерла. Надежда на будущую русскую империю под правлением очередного диктатора увядает. Исход из лагеря белых увеличивается: Pricul a Jove, procul a fulmine![16]
Как не вспомнить великого знатока истории российской Соловьева: «Преобразования проводятся успешно Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Людовики XVI-е или Александры II-е». И далее: «Преобразователь вроде Петра Великого при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке — и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и поэтому экипажу предстоит гибель...»
Каким маленьким камешком попали мы, «избеглицы», в огромные жернова мировой политики! Кто считается с осколками бывшей России?! Куда только не занесло нас, «избеглиц»?! А меня-mo, слугу божьего, в самое осиное гнездо! «Руссы» из монархистов, проникшие в Сербию-Хорватию-Словению, черносотенцы в своем большинстве... Но прежде чем говорить о гостях, следует два слова хотя бы сказать о хозяине, кавалере ордена св. Георгия. Король Александр окончил Пажеский корпус. Он не забыл этого, как не забыл и помощи России, оказанной Сербии в 1914 году. Он принял под свое крыло не только остатки армии, но и самую реакционную часть беглой, черной Руси. Чему же удивляться, увидев здесь высших генералов и казачьих атаманов, полицейского Климовича, начальника петербургской охранки Глобачева, личного секретаря царицы графа Апраксина, духовника Николая II попа Феофана, фрейлин, митрополита Антония, престарелых сенаторов и членов Государственной думы (а вернее, Дум), офицеров жандармерии и контрразведок, баронов, князей, графов, многоземельных в прошлом помещиков и владельцев промышленных предприятий, банков и etc и etc... Не хватает только главнокомандующего со своей камарильей. Впрочем, по слухам, вот-вот приедет. И тогда — ждут — начнется новая жизнь. А пока господа офицеры и генералы, сидя на мели, призывая один другого быть в полной готовности, беседуют о повышении в чинах, лениво спорят о будущем, приходя к выводу, что все зависит от того, как зачтется им эмиграция: как действительная служба или как отпуск.
Господа штатские по привычке сбиваются в партии. Программы их нечетки. различия мало заметны. Преобладают монархисты, в среде которых, если судить по газетам, уже намечается персонифицированный — если так позволительно сказать! — раскол. Одна группа тянется к великому князю Кириллу Владимировичу, мечтая страстно провозгласить именно его наследником русского престола. Это — в большинстве — немецкой ориентации. Другие становятся под знамена великого князя Николая Николаевича, живущего то на Ривьере, то в Шуаньи под Парижем. И если Кирилл весь в политике, то Николай Николаевич до сих пор хранит многозначительное молчание, ждет неизвестно чего, не разрешает пользоваться своим именем как отмычкой неизвестно кому и в каких целях. Он ждет, что его... пригласит (весь!!!) русский народ! Недурно! За ним — французы и, сквозь обычный дипломатический туман, дети сумрачного и расчетливого Альбиона. Ждут — и все! Возможно, они и правы: Ne quid nimis.[17]
Есть и другие господа. По сравнению с вышеназванными едва не «революционеры». Называют себя объединенной национально-прогрессивной и демократической русской эмиграцией. Потереть их лидеров, точно кувшин Алладина, слева направо — обнаружится кадет чистых кровей; потереть справа налево — и предстанет перед нами умеренно левый кадет, связанный с левоказачьими организациями и всевозможными правыми социалистами, обосновавшимися в Праге. А еще существуют разные прочие союзы и союзики в городах и селах — несть им числа! Они и довершают дело развала и расслоения русской эмиграции, рождают и крепят в ее среде вражду, сеют семена злобы и взаимной ненависти, способствуют усилению антирусских настроений. Между тем молодое государство сербов, хорватов и словенцев, рожденное в конце 19J8 года, остро нуждается в притоке интеллигенции, гуманитарной и технической. Русские могли бы играть прогрессивную роль в административной и хозяйственной жизни страны, в учреждениях, органах самоуправления, в школах и институтах, в интеллектуальной жизни народа. Особую нужду испытывает страна в техниках и инженерах, строителях, землемерах. А сколько их в среде нашего офицерства из вчерашних вольноопределяющихся и подпоручиков, окончивших краткосрочные командные курсы? Чем занимаются они? Сколачиваются, по недомыслию, в рабочие артели, мостят дороги, валят лес, варят мыло. Почему, почему?.. Да потому, что, состоя в артели, человек остается как бы в армии, в прежнем своем полку роте. Его действия, слова и даже мысли по-прежнему регламентируются уставами и приказами — то есть волею других людей, волею маленьких наполеончиков, которые убеждены: их стодневный марш на Москву еще впереди. Потому-то и нужны им артели, команды (называй, как хочешь!), построенные повзводно, — только оружие раздай, винтовки и пулеметы! Чтобы была сохранена армия. Им нужна изоляция от народов, давших им приют, нужно постоянное развитие и укрепление идеи своего превосходства над этими народами. Для чего? Ad majorem dei gioriam? Для вящей славы божией! И все тут, вся философия и политика.
Мучает меня постоянная, неотвязчивая, мысль. Дело, ради которого и оказался я на берегах Далмации, дело сохранения русского народного достояния, частной собственности — ценностей Петербургской ссудной казны, — находится под угрозой. Вокруг золота и серебра нашего собираются грозовые тучи. Они не видны еще, но уже заявляют о себе раскатами грома. Все чаще слетается в Каттаро «воронье» — князь Павел Дмитриевич Долгоруков, барон Тизенгаузен, некий Сахаров и их клевреты. Я совершенно отстранен от дел. Господин, назначенный с начала года заведующим банковским и казначейским отделом казны (будто Шелест его фамилия, но за точность не поручусь, а узнавать приятности не было), немало удивился моему заявлению о причастности к делам комиссии. Очень торопясь куда-то, он весьма вежливо, впрочем, объяснил мне, что состав комиссии изменен вторично и он, вероятно, не совсем в курсе прежних дел, ибо подчинен непосредственно лишь господину посланнику Штрандтману, а меняющиеся, как облака на небеси, члены комиссии не имеют права решающего голоса, являясь фигурами, подобными мебели. Я обратился за разъяснениями к Леониду. Сын пришел в замешательство — мой вопрос застал его врасплох. Справившись с волнением, он принялся витийствовать о святости и неприкосновенности частной собственности, о злонамеренных слухах, порочащих эмиграцию, о надежности, неподкупности многочисленных членов комиссии, представляющих все слои общества, о неоднократных обращениях через печать ряда стран, в том числе и через газеты, к вкладчикам казны с призывом истребовать свои вклады, обращаясь к специальному уполномоченному министерства финансов А. М. Гензелю. «Какому уполномоченному, какого министерства?! — вскричал я. — Откуда он, этот Гензель?» Сын разговаривал со мной, как с приготовишкой, но успокоил. Я написал возмущенное письмо Кривошеину. Леонид взялся вручить его, хотя и заявил о бесцельности подобного обращения: Кривошсин болеет и не у дел.
Прикинувшись полным (и верноподданнейшим барону Врангелю) идиотом, напросился я на прием к Гензелю, провел с ним плодотворную беседу и многое для себя выяснил. По официальной версии казна была доставлена в Каттаро с ведома и разрешения русского правительства (какого? — sic!), по приказу генерала Врангеля, и поступила в ведение его управления финансов. (А еще в Крыму, помнится, господин Кривошеин заверял меня. что казна — частная собственность и может принадлежать исключительно владельцам золота, драгоценностей и прочего имущества, что только большевики сделали основой своей политики уничтожение частной собственности.) В газетах, действительно, были помещены извещения о возобновлении операций с клиентами, пожелавшими (при условии сохранения квитанций) выкупить свои вклады. И тут же принимается (кем?) особое положение: при неуплате в 12-месячный срок процентов вкладчиками казна имеет право продавать их имущество. История беспрецедентная, если учесть: сегодняшнее положение русских людей, прошедших через две войны, тиф и эвакуации, их разбросанность чуть не по всему свету — и весьма невероятный факт сохранения необходимых документов!
Высокие руководители и распорядители казны пускают «пробный шар» — в продажу идет более 400 пудов серебряной монеты. И тут же — ловкая юридическая акция (уж не с участием ли г-на Шабеко-младшего? Его стиль — определенно). Ценности ссудной казны получают право трактоваться как «транзитный товар», как товар будто бы временно находящийся на территории Сербии, а следовательно, за пределами границы страны, т.е. вне таможенного контроля. Лихо! Одновременно были заменены все служащие казны. Nil mortalibus ardui est![18]
Аппетит, как известно, приходит во время еды. Готовится новая, более крупная операция — в расчете на европейский рынок. Снова печатаются объявления о возобновлении операций. Слухи и разговоры, названные злонамеренными, враждебными, пресекаются «официальными» заявлениями, в которых, между прочим, отмечается, что многолетняя задолженность клиентов превысила уже оценочную стоимость заложенных вещей... Кажется, все шито-крыто? Подлинные квитанции в большинстве утеряны. Заклады просрочены. Публика оповещена. Все ценности признаны транзитными... Где же были вы, господин профессор, коему доверили сохранение достояния народного?! Копались в морских лоциях и беседовали со своим новым другом?! Разбирались в душевных терзаниях Екатерины Мироновны? Пыталась безуспешно заниматься духовным воспитанием сына? Рассуждали о превратностях развития исторического процесса?.. О, sancta simp lie it as! — О, святая простота!..
Дело, однако, принимает все более широкую огласку. Беженская масса волнуется. Устами князя Львова почел себя обязанным выступить по этому вопросу и пресловутый Русский совет. Милейший Гензель, желая, вероятно, укрепиться в справедливости свершенного, ознакомил меня с весьма своеобразной точкой зрения Н. И. Львова, зафиксированной в соответствующем документе, ставшем, по-видимому, руководством для всех, кто будет Продолжать разворовывать Петербургскую ссудную казну. Вот что изволил высказать сей известный общественный деятель: «Прежде всего — эти ценности не доверены нам на хранение. Они скорее всего могут быть приравнены к находке, при которой по закону одна треть принадлежит нашедшему (недурно, а?). Имущество отбито армией у большевиков, похитивших его и растративших часть ценностей (sic!). Это имущество оплачено кровью. Это больше чем находка — это цена крови. Теперь, когда спасение людей зависит от реализации этого имущества, главнокомандующий не только имеет право, но и обязан (!!!) продать ценности, оплаченные кровью, и на вырученные деньги обеспечить армию... Русский совет смело может принять на себя нарекания, сомнения, клевету в полном сознании своей правоты...»
Недурно-с! Каков кульбит!.. «Следует, справедливости ради, отметить, — сказал премудрый Гензель, — что на заседании Совета раздавались голоса, протестующие против ликвидации казны целиком и предлагающие продавать пока только вещи (золото, серебро, драгоценности!), являющиеся просроченными залогами, но эти голоса были заглушены «общим мнением»... Итак, решение о разворовывании казны принято окончательно и — не следует сомневаться! — пойдет к неуклонному исполнению быстрыми темпами. Господа врангели, кутеповы и иже с ними могут не тревожиться: безбедная жизнь им обеспечена. Бесценные картины, золотые монеты более чем на сто миллионов рублей, принадлежащие коллекционерам, полсотни ящиков с уникальными золотыми и серебряными изделиями, серебряные монеты государственных банков, весом в семь тысяч килограммов — вот далеко не полный перечень того, что захватывает «Торговый дом Врангель и К°...».
А что же вы, господин Шабеко? Вы, господин историк, как мне представляется, попали в весьма грязную историю, и ваша не запятнанная ничем прежде фамилия будет стоять рядом с фамилиями всех этих воров — этих долгоруковых, гензелей, тизенгаузенов, шабеко (sic!) и прочих. Что делать нам, куда бежать?.. Устраниться?.. Или, «ополчась на море смут, сразить их противоборством»?.. Но разве дело в моем добром имени? Разве дело не в самой жизни тысяч невинных людей, тысяч «избеглиц»?! Нет, господин профессор! Вам не удастся отойти в сторону, стать в позу стороннего наблюдателя и безропотно принимать пищу из нечистых рук сына, к которым — без сомнения! — тоже прилипает золото, украденное из Петербургской ссудной казны! Нет! Надо бить во все колокола, как в дни лихих на Руси годин! Надо выступать в печати, кричать «держите вора!» на всех перекрестках... Надо ехать в Белград! в Париж!.. Решено — я еду! Fiat Justitta pereat mundus!»[19]
Глава семнадцатая. КОРОЛЕВСТВО СХС. «ИЗБЕГЛИЦЫ»
1
С чувством все усиливающегося потрясения, продолжал свое путешествие «за правдой», как он называл его про себя, Виталий Николаевич Шабеко. Стесненный в средствах (уехал из Каттаро, воспользовавшись отлучкой Леонида, позволяющей не вступать в неминуемые объяснения и споры; продал кое-что из вещей и часы с золотыми крышками, подаренные по случаю двадцатипятилетия преподавания в Петербургском университете, понимая, что вырученная сумма очень мала), он старался продвигаться к Белграду с минимальными затратами, останавливаться на ночлег в русских колониях. Жизнь, которую он наблюдал, существовала как бы в двух измерениях. С одной стороны, она была вполне реальна. Сербы, хорваты и словенцы вокруг трудились, радовались и печалились, оплакивая усопших, целиком отдавались каким-то своим праздникам, — пели, пили и танцевали, жили немудреной, немного безалаберной жизнью южных людей, которые привыкли ко всему тому, что давали им издавна господь бог, земля и щедрое солнце. Эта чужая жизнь была понятна, но не близка Шабеко. С другой стороны, Виталий Николаевич временами попадал в жизнь иллюзорную, призрачную, в которой существовали люди непонятные, но близкие ему — его соотечественники. Транзитные Пассажиры, неспособные трезво оценить теперешнее состояние и подумать над своим будущим.
Началось это еще в городке Ерцегнови, на окраине его, где неподалеку от дороги, обсаженной апельсиновыми деревьями, в бывших австрийских ангарах для гидропланов жили около двух тысяч русских беженцев. Профессор и предположить не мог, что увидит там, внутри, в бараках с асфальтовым полом. В этот день, как на грех, Державная комиссия выдавала денежное пособие, и нищий табор гудел. Виталий Николаевич, отправившийся по лагерю в поисках старых знакомых (была такая беженская «болезнь» — вдруг повезет и на кого-нибудь случайно наткнешься) смотрел на происходившее вокруг расширившимися от ужаса глазами.
День выдался теплый. Беженцы (большинство в штатском, но встречались и люди в форме, даже в генеральских мундирах, если эти обноски можно было назвать формой!) группами располагались вокруг ангаров. Все шумно разговаривали, спорила, жестикулировали. Где-то нестройно пели. Где-то ругались. Присмотревшись, Виталий Николаевич понял: в лагере очень много пьяных, среди них и женщины. Профессор Шабеко всегда думал, что достаточно хорошо знает общество, разные его слои. Он видел и деформацию этого общества под влиянием военных побед и военных поражений, панических эвакуаций, страха перед большевиками, жаждой накопительства у одних и бешеной растратой, сжиганием себя, жаждой наслаждений точно перед вселенским потопом, концом света — у других. Но были всегда — он точно знал и это — и иные, нравственные, не утратившие здравомыслия, способности сохранить простые человеческие чувства — любовь, верность, порядочность, семейные и дружеские отношения. И вот теперь, спустя год после ухода с родной земли, Виталий Николаевич вновь увидел беженцев, и точно пелена с его глаз упала — тут, в лагере Ерцегнови. Все дурное вылезло наружу. И все эти люди — будто один человек: обозленный, жестокий, не верящий ничему и не ждущий ничего. Виталий Николаевич потерянно метался по лагерю. Сначала почти бегом, потом медленно, кругами, от одной группы к другой, прислушиваясь и присматриваясь, вглядываясь в лица.
В одной группе, окруженные любопытствующими, сидя по-турецки на земле, четверо азартно играли в карты. Шабеко удивленно глядел на двух полковников в порванных мундирах, из прорех которых вылезало грязное белье; на верткого человечка, остриженного наголо, видимо перенесшего тиф, с ловкими руками профессионального шулера; на некогда вальяжного и сановного старика в широченной шубе на меху, выглядевшего жалким и испуганным: полы шубы обгорели, мех, торчавший из дыр, делал его похожим не то на лешего, не то на старого и затравленного медведя. В группе окружающих выделялось несколько дам — грязных, но напудренных и подкрашенных. Дамы, вероятно, были не очень трезвы. Они часто и беспричинно смеялись, приставали к соседям. А еще привлек внимание Виталия Николаевича очень высокий и худой молодой человек с лицом беспечного ребенка, в голубой, до колен, шинели и огромных башмаках без шнурков.
Судя по общей реакции, игра шла азартная. Шабеко, не большой специалист в картах, не мог понять, во что же сражаются те, четверо. Удивило его, что ни перед кем не было денег. Не понял он поначалу и смысл возгласов: «В банке сто десятин!», «Ну, на пятьдесят!», «Вистую!», «Ставлю пять нобилей по сто!»... И только чуть позднее, когда между играющими возник спор и один из полковников, побагровев от ненависти, закричал старику: «Вы, сударь, блефуете, у вас и вершка земли не осталось! За такое — шандалом полагается!» — Шабеко понял: играют на бывшую свою землю, на не нужные никому и не стоящие ничего акции заводов и нефтепромыслов, отобранных у бывших владельцев Советами. Неужели эти люди еще надеялись, что сумеют вернуть свою землю, деньги, акции? Нет, это был психоз!
Виталий Николаевич направился к другой, более многочисленной и кажущейся спокойной группе, расположившейся с подветренной стороны, на солнышке, возле стенки ангара. Разговор там шел приветливый, доброжелательно-ленивый, хотя измученными, исстрадавшимися лицами мужчин и женщин, фантастическими одеяниями эти беженцы ничем не отличались от тех, первых. В момент, когда Шабеко приблизился, они говорили о политике, обнаруживая полное единство взглядов, удивившее профессора. Эти люди... ожидали переезда Врангеля, всерьез веря в то, что с его приездом в Королевство СХС начнется новая, спокойная и благостная жизнь, они обретут утерянные права, а затем — после победоносного десантирования в казачьи области, в Крым или на Кавказ — им будет возвращена и сама Россия.
— ...Кликни клич, вождь, и мы поднимемся и пойдем за тобой свершить великое дело освобождения народа от большевиков! — витийствовал моложавый, рано поседевший господин с суровым лицом. — Мы, мыслящие элементы общества, станем национальным центром, в котором так нуждаются армия и народ. Мы никогда не предадим своего вождя. Мы едины сегодня, как никогда.
— ...Каждый из нас понимает, — вторил ему готовым вот-вот сорваться баритоном аскетического вида человек, зябко кутающийся в то. что когда-то называлось шинелью. — Каждый, слава богу, понял, что голгофа, увы, не там, где правят большевики, но тут, в Европе, в цивилизованных странах, где мы, патриоты, увы, мечтали найти отдых от пережитых ужасов, собраться с силами для борьбы, дождаться сигнала к новому походу. Увы, господа, увы!.. Остается надеяться на приезд вождя: генерал Врангель сумеет обратить к нам симпатии европейца. Без главнокомандующего мы, увы, толпа, стадо...
Спокойный разговор между тем принял иное направление. Занятый невеселыми мыслями, профессор не понял, не услышал, с чего началась ссора и кто стал ее причиной.
— Вот вернемся в Россию! — озлобленно кричал один, часто кашляя. — Я... покажу вам! Я... Я…
— Вы — лгун! Лгун! — наскакивал на него сосед. — А у меня в Орловской губернии поместье. Я вас и дворецким к себе не возьму!
— Я! Я! — бил себя в грудь и кашлял еще чаще первый. — У меня!.. Дядя!.. Сенатор! Да-с!
— Сенатор? Ха-а! Вашего сенатора я и в прихожую не пущу.
— Вы! Лучше, к ха-кха!.. За своей Викторией Павловной последите!
— Я не стану и отвечать на оскорбления! — взвизгнула миловидная дамочка с нарумяненным кукольным лицом. — Это сделает муж...
— Как? — притворно удивился кашляющий. — И этот... этот... кха! Тоже ваш муж? Ну, знаете, мадам, — разводит он руками.
Внезапно весь лагерь приходит в движение. То тут, то там раздаются крики: «Наших бьют!», «Наших!», «Спа-сай-те!», «Круши!», «Бей!». Мимо Шабеко проносятся орущие, обезумевшие люди, вооруженные чем попало: камнем, железкой, доской.
— Что? Что случилось? — пытается узнать у одного, у другого профессор, но никто не останавливается.
Лагерь почти опустел. И только заплаканная пухленькая дамочка оказывается рядом.
— За что? — продолжает всхлипывать она. — По какому праву он оскорбил меня? Разве я давала основания?..
— Но, мадам, — Шабеко не выносил женских слез. — Успокойтесь же... Не стоит, право. Куда все побежали?
— Какое мне дело... Наверное, опять эти местные дикари. Оскорбили кого-нибудь из наших, напали.
Профессор замечает молодого человека в голубой шинели и направляется к нему за разъяснениями. Тот оказывается более информированным и объясняет с охотой:
— Понимаете, все местные — красные. Они — большевики, а нас ненавидят. Дерзят, хамят на каждом шагу, оскорбляют. Бывает, нападают. Наши — горячие головы — естественно, протестуют. Нельзя же позволить всяким сербам или туркам садиться тебе на голову. Возникают драки. Бывают и весьма кровопролитные. Здесь же полно боевых офицеров, георгиевских кавалеров. Они не привыкли спускать оскорбления. Вот и возникают бои.
— Но что же случилось сегодня? — профессора начинала забавлять эта святая наивность.
— Ну, один ротмистр — неважно, ибо называются разные фамилии — пришел в кафану выпить пол «деци» ракии. И встретил своего однополчанина. Тот заказал еще пол «деци», а хозяин отказался подавать, представляете? У того, мол, долг. Наш ротмистр, он «Георгия» имеет, между прочим, пригрозил «почистить зубы» хозяину. Я сомневаюсь, что ротмистр так вот сразу и ударил его. Но тот заорал, точно резаный. И тогда все, кто был в кафане, бросились на двух наших. Приятелю ротмистра будто бы пробили голову. Хорошо, кто-то из них сумел вырваться и позвал на помощь. Вот все и побежали...
Молодого человека звали в лагере Володечка. Виталию Николаевичу казалось — с любовью и доброй усмешкой, как издавна всегда относились на Руси к чудакам, к слегка «тронутым». Володя производил впечатление бесхитростного, совершенно не понимающего, что происходит вокруг, человека. Да и что можно было требовать от зеленого юноши, не успевшего даже закончить гимназию! Еще одна искалеченная судьба.
Шабеко и его юный знакомый пообедали в ресторанчике на площади. Стало смеркаться. Профессор подумал было о дешевой гостинице (незапланированный обед нанес ощутимый урон тощему кошельку Шабеко), но Володя принялся уговаривать вернуться в лагерь: в боксе, где он живет, сегодня пустая койка — сосед, пострадавший в драке, отвезен в больницу. Зачем тратить динары?.. Профессор согласился переночевать в лагере. Он допоздна бродил по его территории. Беженцы, притащившие откуда-то доски и щепу (явно ворованные), жгли костры, варили похлебку. Позднее пришла группа очень усталых мужчин, человек около тридцати; вероятно, вернулась артель с дорожных работ. Эти разительно отличались от массы: молчаливым единением, уверенностью в себе и даже какой-то внутренней силой. Они держались особняком. Тоже принеся с собой топливо, разожгли костер, быстро и по-прежнему молчаливо поужинали и, широко разбросав угли, тут же улеглись...
Когда профессор вернулся, Володечка уже спал.
Утром, встав рано, Шабеко не обнаружил рядом голубой шинели. А заодно и своего бумажника с деньгами, предусмотрительно положенного под голову. Подлый мальчишка обворовал его!.. Профессор обошел лагерь — никто не видел Володечку! Видимо, бежал еще на рассвете. Положение создалось хуже некуда!
Какой-то старик с неопрятной, росшей редкими кустами рыжей бородой посоветовал профессору обратиться к коменданту лагеря, генерал-лейтенанту Васильковскому, и Виталий Николаевич, впервые узнав о существовании подобной должности, направился с надеждой (все же какая-то власть: должна разобраться, помочь!) к коменданту.
Генерал Васильковский жил отдельно от всех, в старой палатке, утепленной досками и фанерными листами. Из железной трубы, выведенной через крышу, тонкой струйкой шел дымок. Слабо пахло вареным мясом.
— Кто там еще? — раздался раздраженный басок.
Виталий Николаевич откинул полог и шагнул внутрь. Генерал-лейтенант сидел за столом, сколоченным из нетесаных досок, и с аппетитом ел с ножа консервированное мясо, не обращая ни малейшего внимания на вошедшего. Васильковский был малорослый и некогда, видимо, тучный человек. Теперь, похудев, он напоминал воздушный шар, из которого частично выпустили воздух. И лицо у него было похудевшее, с повисшими щеками, носом-картофелиной, узко поставленными глазами и вытянутым вверх высоким морщинистым лбом. Несмотря на ранний час, генерал сидел в мундире, который стал ему весьма велик, и при всех регалиях.
— Чему обязан-с? — строго спросил он, вытирая губы.
— Видите ли, милостивый государь... — Шабеко, испытывая скованность при мысли, что ему придется просить о помощи человека, который даже с первого взгляда мог вызвать лишь неприязнь, несколько оробел. — Дело в том, что...
— Дело в том, уважаемый... что у нас, в колонии российской, кою считаю уголком государственности нашей, приняты незыблемые установления, имевшие место быть повсеместно в родной империи. В их числе и обращение нижестоящего в Табели о рангах к вышестоящему.
— Не понимаю, о чем вы изволите...
— Следовало бы вас за дверь выставить и потребовать повторно как положено явиться с надлежащим обращением и разъяснением цели визита, — опять перебил генерал. — Но поскольку вы — лицо у нас новое...
— Я решительно отказываюсь понимать, сударь...
— Перед вами не сударь, а генерал государства Российского, «ваше превосходительство» — это вам ясно? Так надлежит обращаться ко мне...
— Какого государства, генерал?! — с трудом сдержался Шабеко, понимая, что подобного издевательства долго не выдержит. — Вы изволите ошибаться, — сказал он достойно. — Я не состою в вашей армии, в колонии — все равно, как бы ни называли это... это лобное место. Вы, как говорят, здесь главный?..
— Позвольте! — генерал чуть снизил тон.
— Нет уж, вы позвольте! Я терпеливо слушал вас!
— Помилуй бог! — генерал оторопел: давно с ним никто не говорил так независимо. Кто его знает, этого коротышку? Может, лицо, близкое к царствовавшему дому? И сам — князь, сенатор? Или особа из окружения главнокомандующего? Генерал, разъезжающий по Бал канам инкогнито, в партикулярном платье? Васильковский вспотел от неожиданных сомнений и непроизвольно водил по лицу грязным полотенцем. Ему вдруг захотелось встать. Проявить каким-то образом максимальную доброжелательность. — Слушаю вас, слушаю, — бормотал генерал беспомощно. — Однако... С кем имею честь?
— Шабеко, Виталий Николаевич, — профессор не понимал, чем вызвана метаморфоза генерала.
«Шабеко, Шабеко? — лихорадочно вспоминал Васильковский. — Известная фамилия! Но кто? Министр будто бы? Никудышная память!»
— По какому, простите за любопытство, ведомству служить изволите? — генерал, спохватившись, встал, широко улыбаясь. — Запамятовал я, Виталий Николаевич, а фамилия ваша очень уж знакомая.
— По какому теперь ведомству? — заговорил Шабеко, мигом забыв обидное начало разговора. — Одно у нас ведомство — беженское! А по образованию я — историк, профессор университета в Петербурге.
— Однако ваш родственник?.. Он ведь точно человек государственный?
— Вы, вероятно, имеете в виду Шебеко, чёрез «е»?
— Позвольте, господин профессор. — Васильковский упорствовал: что-то знакомое, будоражащее было связано с этой фамилией. — Нет ли у вас брата?
— У меня есть сын. Леонид. — Шабеко начинал раздражаться.
— Ну, конечно! — стукнул себя по лбу генерал. — Леонид Витальевич Шабеко! Как же, как же! Наслышан! Весьма! Черноморским флотом в Крыму торговал. А теперь один из зачинателей новой финансовой операции, долженствующей улучшить положение русской армии.
— Вы имеете в виду Петербургскую ссудную казну? Так ведь еще не решено, господин генерал. Частная собственность неприкосновенна.
— Вы шутите, конечно? — Васильковский даже подмигнул заговорщически. — Ведь операции уже идет. Намедни был проездом сам князь Долгоруков. Началась, слава богу.
— А я уверен в ошибке, генерал! В заблуждении тех, кто рассчитывает на золото казны. Именно по этому вопросу и направился я в Белград. А у вас оказался в виде просителя. — Виталий Николаевич рассказал о происшествии и попросил ссудить некоторой суммой.
— Долгом считаю помочь каждому беженцу, — сказал генерал скучно. — Однако казна пуста, пособие от Державной комиссии уже роздано. И личных денег не имею. — Он задумался несколько театрально, и Шабеко понял, что генерал хитрит.
— Взаимообразно, — подсказал он. — Я бы отдал с определенными процентами, естественно. Буду обязан.
— Я — нет, — пожал плечами Васильковский. — Однако в лагере есть человек. Берет десять процентов.
— Годовых?
— Нет, помесячных. Собственно, какое значение имеют несколько динаров для отца миллионера?!
— Миллионера? — переспросил Шабеко. — Ах, да! Я на все согласен, господин генерал: я обязан добраться до Белграда!..
2
Дорога от берегов Адриатики до Мостара, а затем до Сараево оказалась долгой, однообразной, грязной, выматывающей душу и тело, хотя поезд полз по очень живописным местам, лез на горы, миновал тоннели. В Сараево Шабеко с трудом втиснулся в переполненный вагон. Маленький, игрушечный паровозик с большой трубой пищал сорванным, суматошным фальцетом. Профессору казалось: еще два-три таких панических сигнала — и всех пассажиров выгонят втаскивать состав на очередной перевал. Пассажиры, однако, оставались безучастными... «Селяки», которые сразу узнавались по домотканой одежде и мягким остроносым кожаным галошам, вели себя весьма шумно, возбужденно и с аппетитом ели, группа парней тянула грустную мелодию. Горожане и немногочисленные чиновники, напротив. держались высокомерно и чопорно, шелестели газетами, говорили вполголоса, безучастно поглядывали на соседей. Шабеко обратился было, чтоб скоротать время беседой, к интеллигентного вида пожилому человеку с вопросом, произнесенным по-французски, но тот лишь пожал плечами. Виталий Николаевич повторил вопрос по-немецки. Сосед не ответил, отвернулся демонстративно. Не удержавшись, профессор сказал что-то о приличиях, существующих в цивилизованном мире, и обиженно замолчал.
Поезд прибыл в Белград вечером, опоздав против расписания часа на два. Прохожий, в котором Шабеко без труда признал русского, любезно согласился проводить его до дешевой гостиницы. Они двигались в полной темноте по переулкам, лишенным всякого освещения. Чтобы не упасть, профессор попросил попутчика взять его под руку. Провожатый оказался армейским подполковником.
— Ну, а как жизнь в Белграде? — спросил Шабеко.
— Жизнь?! — насмешливо переспросил спутник. — Прозябание!.. А вы откуда, милостивый государь?
— Из Каттаро.
— Цветут небось уже эти... оливки. Вам повезло.
— Зато вы к властям ближе.
— Какое там! — махнул рукой и даже сплюнул от досады подполковник. — Политиканы! Царедворцы! Они и тут далеки от нас, как луна от земли. Да и нам, беженцам, до них дела нет, впору только о себе подумать. Мне еще повезло, я работу здесь нашел.
— Кем же вы трудитесь?
— Трудитесь?! — подполковник коротко хохотнул. — Я не в штабе ныне — в артели, грузчиком на железной дороге, по которой вы изволили вояжировать. А через город пешком в общежитие возвращаюсь потому, что каждую полушку обязан экономить: жена больна.
— Простите великодушно, мои вопросы бестактны. Но я совершенно не понимаю: общественные группы, «размен» — финансовая помощь королевства, помощь Красного Креста?..
— Ее целиком забирают наши всемогущие боги, жаждущие славы и новых кровопролитий. Скажу откровенно, профессор: ругаю себя — почему в Россию не вернулся? Теперь поздно: убивают каждого, кто помыслит бежать. Недавно ночью убит поручик Ветлов из нашей железнодорожной артели, а на трупе записка: «Так будет с каждым, кто продается Советам». Будьте осторожны здесь.
— Благодарю, господин подполковник. — Шабеко с чувством искренней признательности пожал руку бывшему офицеру. — Что я им? Как сказал Плиний: «Падает тот, кто бежит, кто ползет — не падает». Я — книжный человек, никому не опасен.
— А вот мы и у цели, — подполковник остановился возле неказистого двухэтажного здания с керосиновым фонарем над входом. — Желаю успеха, профессор, хотя, если признаться, знаю: ничего, кроме унижений, не ждет вас. Вряд ли увидимся еще.
— Ну, почему же? — удивился Шабеко. — Может, мне удастся пособие жене вашей выхлопотать?
— Не удастся, профессор. Заслуг у меня нет, — подполковник щелкнул разбитыми сапогами, поклонился и зашагал прочь...
Виталий Николаевич получил ключ от каморки под крышей, рухнул на скрипучую деревянную кровать, на сомнительной чистоты простыни и, преодолев брезгливость, охваченный внезапно пришедшим за все дни поездки чувством покоя и безопасности, мгновенно заснул. А утром, когда Виталий Николаевич, выпив чашку кофе с булочкой, которые ему принесла, разбудив его бесцеремонно, разбитная служанка, вышел на улицу, ярко и тепло светило солнце. Белград при свете дня произвел на Шабеко удручающее впечатление: улицы грязны, изрыты, повсюду канавы, строительный мусор, маленькие, жалкие домишки.
Было рано для визита в русское посольство, — посланник Штрандтман наверняка еще не принимал посетителей, и профессор пошел знакомиться со столицей. Солнце скрыли тучи. Шабеко выбрался к реке Саве, поднялся по косогорам на улицы древнего Савомальского квартала и вышел к парку и крепости Калсмагдан. Весной и летом тут, вероятно, было красиво — много зелени, теперь все казалось сумрачным: голые, продрогшие ветки, серый камень «твержавы» — крепости, откуда, впрочем, открывался прекрасный вид на долину, где, сливались голубые воды Дуная и серые — Савы.
Виталий Николаевич отдохнул и двинулся дальше, по улице, полого поднимающейся на небольшой холм, откуда доносились звонки трамвая. Он оказался возле двухэтажного отеля «Националы», миновал разбросанные рядом многочисленные палатки и закусочные, широкую лестницу, ведущую к пароходным пристаням на Саве, и словно в иной мир попав! — оказался на улице Князя Михаила, главном проспекте столицы.
Здесь рождалась новая Сербия. Здесь размещались лучшие магазины, кафе и рестораны, парикмахерские и портновские, банки и новый королевский дворец. (Недалеко, посреди улицы, возвышалась странная круглая веранда, с шестью смешными, словно завитыми львами — память о королевской свадьбе и пышных торжествах.) На тротуарах стучали щетками чистильщики, носились орущие продавцы газет. Стайками, настороженные, продвигались сербы из деревень в бело-красных национальных костюмах. Фланировали русские офицеры в полной форме, с погонами и без погон, — зубоскалили и смеялись, отпускали шутки по адресу проходящих дам. Все здесь удивляло профессора.
На перекрестке, под фонарем, разговаривали два старых генерала. Шабеко, задержавшись, чтобы пропустить экипажи, услышал, как один говорил другому:
— Нет, батенька, не пустят нас в Россию. Большевиков прогонят, милюковцы не пустят, эсеры не пустят…
— Не пустят — пробьемся! — возразил другой.
«Каждому — свое, — подумал Шабеко, — но если и эти начинают понимать крах планов реставрации старой Россия, то в скором времени все «избеглицы» поймут, что надо жить своим умом, что надо бежать из этих колоний, лагерей, из воинских и полувоинских формирований. Правда, еще пройдут дни, а может, и годы. Генерал Васильковский в Ерцегнови как высказался? «На Западе начинают дипломатничать с большевиками. Наша задача сорвать этот альянс. Сербия должна опереться на русских — тогда на юге Европы сохранится порядок. Австрияков, мадьяр мы прижмем, прикажем платить сербам землей, румыны откроют нам путь к восточным границам... Мы поднимем Русь!» Перейдя улицу, он был уже совсем близок к цели путешествия — к «русскому дому», как называли в Белграде здание посольства, неизвестно кого и представлявшего теперь, находившееся почти напротив дворца. Виталий Николаевич увидел приближающегося к нему князя Николая Вадимовича Белопольского — сына генерала, отца Ксении. Он ничуть не изменился, и они, узнав друг друга, искренне обрадовались встрече, задали одновременно один и тот же вопрос: «Какими судьбами?» и «Рассказывайте же, рассказывайте!».
— Вы старше, профессор, вам и начинать, — сказал Белопольский, забыв вдруг имя и отчество Шабеко и скрывая это таким образом. — Вот кафана. Зайдем.
Виталий Николаевич кивнул.
— А отец ваш — он жив? Где он?
— Жив, жив, — со странной интонацией ответил Белопольский и тут же попросил: — Но сначала о вас.
Шабеко коротко рассказал, что ужасов крымской эвакуации не испытал, ибо уехал раньше, живет с сыном в Каттаро, в лучшем положении, чем тысячи беженцев, — в этом он убедился. И снова спросил о старом князе.
— Он опозорил меня, — глухо, тяжело ответил Николай Вадимович. — Он остался у большевиков.
— И они не посадили его?
— Более того! В чести он. И подписал, среди других, известное обращение к нашим солдатам и офицерам, призывающее к возврату на родину. Вот так!
— Но!.. Это!.. Это смелый и твердый шаг, требующий мужества!
— Для меня последствия его малообдуманного шага оборачиваются здесь чуть не позором.
— Но почему, объяснитесь же!
— Извольте. — Имя и отчество профессора по-прежнему не вспоминались. — Белград — большая деревня, однако здесь центр эмиграции нашей, ожидающей приезда днями Врангеля. Державная комиссия дает нам всего четыреста динаров ежемесячно. Гроши! Стыд!.. Страшно то, что все командные посты захвачены тут сторонниками «черной сотни». Они правят бал: возвеличивают и ниспровергают, неугодных преследуют, лишают «размена», высылают во французские колонии, имеют место убийства. Слово «милюковец» звучит здесь с той же окраской, как «комиссар» и «большевик». А тут еще и эта декларация! Всяк в нос тычет. Я отстранен от дел совершенно, хожу в париях.
— Ну, а дети ваши, что с ними?
— Ничего не знаю. Хочу верить, живы, разбросало по свету... Хотя Ксения... Мир праху ее: она-то уж, вероятно, погибла в Крыму.
— А прислуга? Арина, если не ошибаюсь?
— Потерялась в суматохе и содоме бегства.
Помолчали скорбно.
— Но почему бы вам в одну из европейских столиц не перебраться, Николай Вадимович?
— Минуты жду! Друзья и сторонники в Париж зовут. Там атмосфера другая. Хочу, однако, приезда главнокомандующего дождаться: последняя надежда сведения о сыновьях получить, оба известны в армии были. А вдруг? Случай! Один шанс из тысячи.
— Да, — согласился Шабеко. — Случайности в истории имеют громадный смысл. Скажем, если б солдаты, вовремя прикатившие пушку Бонапарту в один из дней вандемьера, задержались пропустить по стаканчику вина, не было бы ни Аустерлица, ни самого великого полководца. Многое в нашей жизни определяет Случай. И все же — уезжайте отсюда, — чем скорее, тем лучше. В Сербии тяжелый воздух. А с приездом Врангеля хуже станет.
— Все может быть, профессор, — имя историка все не вспоминалось. — Приедет и приказ издаст: никакого переселения. Тогда мне один путь — на «дно».
— Что сие значит?
— Общежитие для неимущих беженцев в сараях старого трамвайного парка. Тут и столовая — пять динаров обед и чай. Впрочем, кипяток по утрам и вечерам бесплатно! Мытье — под краном во дворе, хлеб — в соседней лавчонке. Одно слово — «избеглицы». Хотя, признаюсь, боюсь я новых переездов, профессор. Из Константинополя случилось мне с большой группой беженцев на французский корабль быть погруженным. Мы радовались: и судно пристойное, и европейская команда. Однако в открытом море разгорелся скандал. Кто его начал — неизвестно. Говорили, один из офицеров обидел — а может, и ударил, кто его знает? — матроса. За того вступился товарищ и сбил с ног офицера. Возникла драка. Пошли в ход и ножи, и прочее. Наши кричат: «Круши! Ломай черепа! Бей большевиков!» А французы свое. А потом забастовку объявили: «Не повезем белую сволочь!» Представляете, профессор? Вот вам и республиканцы!
«Что он, как попугай, заладил: профессор, профессор! — невольно подумал Шабеко. — Да он просто имя мое забыл».
— То, что вы рассказали, князь, — сказал он, — ужасно. Хотя, как мне представляется, типично и весьма симптоматично для нашего времени, ибо иные эмигранты зачастую ставят себя в особое положение перед другими людьми, к коим не испытывают ничего, кроме презрения. Разве я не прав?
— Ну разумеется, разумеется, — согласился Белопольский. — Но что это я все о себе? Что привело вас в Белград, профессор?
— Вы запамятовали, князь, — меня зовут Виталий Николаевич.
— Помилуйте, с чего вы взяли?! Я отлично помню!
«Врет, уж точно врет», — определил Шабеко. Он рассказал о продаже ссудной казны и о тех надеждах, которые он возлагает на вмешательство общественности. А теперь, после их встречи, — и на вмешательство князя.
Белопольский скорбно покачал головой:
— Ни на меня, ни на здешние общественные силы не надейтесь. Монархисты уже высказались за продажу, спор идет лишь о том — продавать казну разом или частями. Но почему вы ввязались в это дело?
Шабеко достал давнее письмо, подписанное Кривошеиным. Белопольский пробежал письмо и сказал безапелляционно:
— Это липа, Виталий Николаевич. И подпись Александра Васильевича поддельная. Плохо подделана, я знаю, как подписывается Кривошеин, можете не сомневаться.
— Но зачем?.. Как это понимать? — бормотал совершенно сбитый с толку Шабеко. — Зачем понадобилось им... ему... Мое имя!
— А как попало к вам это письмо?
— Его принес сын. Ах, старый осел!.. Я знаю, оно точно поддельно! — профессор возбуждался все сильнее. — Сын старался уговорить меня эвакуироваться правдами и неправдами. Я нарочно не торопился, и тогда появилась эта подметная бумага. Да! Но я все равно пойду к Кривошеину. Como parace![20]
— Должен вас огорчить вторично, Виталий Николаевич, — Белопольский сочувственно стиснул локоть профессора. — Александр Васильевич болен. Он в Париже.
— В таком случае я пойду... Не знаю куда! В Державную комиссию! К Штрандтману, к черту, к дьяволу!
— Не волнуйтесь. Взгляните на ситуацию твердо. И трезво. Палеолог — он считает себя большим человеком — вас просто не примет. Его подчиненные в Державной комиссии — чиновные мошки, «карандаши», ничего не решают. Посол наш очень озабочен приездом Врангеля и тонкими дипломатическими маневрами, как примирить крайних и здравомыслящих монархистов. Да и как он остановит кампанию, которую сам санкционировал?! Камень покатился с горы.
— Но что вы посоветуете мне? — профессор сделал ударение на слове «мне».
— Плетью обуха не перешибешь, дорогой Виталий Николаевич. И еще — простите великодушно. Утверждают, будто сын ваш — один из организаторов этой коммерческой операции.
— Не сын он мне! Не сын! — вскричал Шабеко. — Я рву с ним. И стану бороться с его преступной кампанией повсюду. И здесь, и в Париже, — где смогу поднять голос. Igni et ferro! Igni et ferro! — Огнем и мечом! — Он внезапно замолчал и пристально посмотрел на Белопольского: — А все же: смогу ли я рассчитывать на вашу помощь?
Николай Вадимович замешкался с ответом.
— Но я не знаю, право... Как?.. Чем я смогу быть полезен, — бормотал он, застигнутый врасплох неожиданным поворотом дела и прикидывая, есть ли смысл блокироваться с этим неистовым человеком, чья политическая платформа ему совершенно неизвестна. И как посмотрят на это общественные круги. Пока он здесь, надо с волками жить — по-волчьи выть. Когда еще он сумеет в Париж выбраться... Нет, им не по пути. Однако профессор возбужден и способен на необдуманные шаги. Долг порядочного человека — остеречь его.
— Впрочем, подумаем, посоветуемся... И вы ведь еще не знаете, что предпринять, — сказал он как можно убежденней, — мы подумаем... Подумаем вместе, дорогой Виталий Николаевич. Крепитесь: две головы всегда лучше, чем одна. Можете располагать мною.
— Спасибо, Николай Вадимович, — растрогался Шабеко. — Вы поступаете, как настоящий христианин... Мы еще повоюем, князь!..
Из дневника профессора Шабеко
«... Я все еще в Белграде. Живу на том самом «дне», о котором в день приезда рассказывал мне Белопольский, нашедший высокого покровителя из октябристских лидеров и уехавший благополучно в Париж, не сделавший ничего в нашем общем деле. Палец о палец не ударивший, если быть совсем точным, в целях спасения народной собственности от разграбления «Торговым домом П. Врангеля. Л. Шабеко и К°». Бог не простит ему этого!..
Внешне события моей жизни — весьма бедные события, если говорить только о моей персоне, очень спокойные, достаточно легкие — в период отъезда из Крыма внезапно приобрели характер бурный, грозовой. Лавина событий, обрушившихся на простого человека, грозит разбить и похоронить под обломками годами создаваемое мною собственное, суверенное государство, которое я с некоей наивностью наименовал «независимой республикой Шабеко». Теперь покой мой смущен окончательно, «республика» разрушена, и я лишился самого главного — веры в себя, в свой ум, прозорливость, умение разбираться в событиях, анализировать, давать им правильную оценку. Стоит ли теперь и за перо браться?.. Впрочем, если быть правдивым, процесс этот, начавшийся еще после гибели Святослава («Боже, насколько самонадеян и безапелляционен был я в своих суждениях, непримирим во время бесед со старым князем и доктором Вовси!»), продолжавшийся и во времена плавания к берегам Адриатики, и при жизни в Каттаро, завершился лишь только что — с моей поездкой «за истиной» в Белград.
Что искал я тут — у кормила власти — старый, отставший от своего времени человек? Что нашел? Кого встретил? Политиканов, борющихся за место в экипаже, в надежде, что он когда-нибудь отправится в «освобожденную» Россию, а пока не брезгающих ничем, погрязших в грехах, нарушающих не только все человеческие законы, но и мораль, библейские заветы?.. Крыс, сбежавших с тонущего корабля? Где они — святые борцы? Где они — вчерашние вожди, генералы, ведущие армии, теоретики, проповедующие планы возрождения России, политики, мобилизующие «просвещенные» силы Европы и Америки на поддержку «белого дела»?.. Зачем приехал сюда? Верил, здесь сосредоточились «лучшие силы» бывшей России? Глупец! Как говорится: Lasciate ogni speranca voi chentrate! — Оставь надежду всяк сюда входящий! Со дня на день ждут приезда «мессии» — самого главнокомандующего. «Вот приедет барин, барин нас рассудит». А пока каждый в меру сил, возможностей и честолюбия вершит власть своими методами, о которых лучше и не думать.
Мои дела худы. Истоптав все приемные — где встречал и улыбки, и оскорбления, и прямые угрозы, — решил всеми возможными способами добиться разрешения на отъезд в Париж. В этом обещал содействовать мне и князь Белопольский, но от него ни слуха ни духа. Остается расчет лишь на собственные силы, а они не более воробьиных.
Приезжал Леонид, хотя в записке, отправленной из Белграда с оказией, я просил его не пытаться найти меня, а лишь прислать кое-что из моих вещей (лучшие из них — увы! — уже проданы здесь при помощи ловкого посредника). Леонид умолял простить его, пытался всевозможными способами объяснить свой подлог и свое поведение, направленное якобы на мое же спасение. Я оставался непреклонен. И — странно все же! — смотрел на него, никак не чувствуя в нем сына, плоть и кровь свою, будто на чужого, будто на адвоката, нанятого защищать интересы кого-то третьего... Леонид, отчаявшись в попытках примириться, пытался навязать мне деньги. «Они дурно пахнут, сударь. — сказал я твердо. — Они ворованные. Ничто не заставит меня принять хоть копейку!» Внезапно он заплакал. Будто бы искренне. Таким я его никогда не видел. Стал клясть свое одиночество и злой рок, отнимающий у него самых близких и дорогих людей. (Судя по всему, Екатерина Мироновна, решившись окончательно, порвала с ним полностью, доверившись наконец зову истерзанного своего сердца. Бог ей судья!..) Леонид упал передо мной на колени, стал истово целовать руки. Я с трудом вырвался и ушел, спрятался от него. Timeo Danaos et dona ferentes — боюсь данайцев, даже дары приносящих.
Становлюсь обывателем — беженцем, думающим о еде и о том, как прожить каждый вновь наступающий день. Оказывается, это проще, чем давать объяснения историческим процессам. Чувствую, погибаю — и нравственно и физически. Устаю, простужаюсь. Еще три-четыре таких месяца, и мне уже не поможет Париж...
Поистине, не зная, где упадешь, торопись подстелить соломку. Неделю назад пришло мне в голову, что не все я сделал, действую кустарно, а голос мой — «глас вопиющего в пустыне». Надо будить общественное мнение, открывать людям глаза, призывать под свои знамена... Вере в силу печатного слова меня учили с детства. Одним словом, написал я гневную статью о продаже народного добра, в которой называл подлинные лица и подлинные деяния этих лиц. А затем, переписав набело, понес в редакцию русской, судя по заявлениям — весьма либеральной газетенки, обосновавшейся здесь как дома. И принят был, надо сказать, подобающим образом. Обласкан. И заверен, что статья будет опубликована чуть ли не в следующем номере. Дни, однако, бежали, а статья не появлялась. Придя за справкой, я встретил на месте редактора уже другого человека — прямого и резкого, с офицерской выправкой, который сказал, что печатание моих побасенок требует согласования с рядом лиц, чье мнение газета здесь выражает, и просит наведаться как-нибудь днями... Вечером, вернувшись «домой», застал на самом видном месте возвращенную мне статью с запиской, где говорилось прямо: газета статью напечатать не имеет возможности ввиду вздорности обвинений в адрес лиц, широко известных в обществе, чье положение и заслуга — лучшая гарантия от моих упреков и беспочвенных подозрений... etc, etc... Но это еще не все! События, развернувшиеся тем же вечером, напоминают повествование Элена Сю. Ко мне подошли двое. В масках! И, взяв за руки, оттащили в дальний угол двора и пригрозили убийством, если я не оставлю свои писания... навсегда! Все это очень грустно.
Людей, подобных этим, в масках, здесь множество, сомневаться не приходится. Как и в том, что отправить на тот свет такого старика, как я, дело не сложное. Думайте, профессор, думайте! Снова жизнь задает вам непростую задачку!..
Внезапно разыскал меня Здравко Ристич. Появление старого корсара растрогало меня: проделал долгое, трудное и не дешевое путешествие из Каттаро лишь для того, чтобы повидаться, привезти оставленные мною вещи (признался, что говорил с Леонидом, и тот сказал, что я не вернусь) и некоторую сумму денег. которую он готов ссудить мне (поклялся, что деньги, принадлежат ему, а не Леониду). Да, все же именно добрые и высокопорядочные люди — двигатели прогресса, двигатели истории! Они — опора мира. Вопрос о переезде в Париж таким образом приобретает практические очертания. В Париж, в Париж! Там чище воздух. Там цвет эмиграции нашей. Там легче будет бороться против «Торгового дома Врангеля и К°»! Итак, вперед!»
Глава восемнадцатая. МОСКВА. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
1
После переезда в Москву Наркоминдел помещался на Спиридоновке, в доме известного купца Гавриила Тарасова, на углу Патриаршего переулка, в окружении особняков, принадлежавших Рябушинскому и Морозову. Потом наркомат занял часть отеля «Метрополь», а в декабре — был переведен в дом страхового общества «Россия», в стиле модерн, на Кузнецком мосту, неподалеку от Лубянской площади. Огромный и светлый, развернутый в полкруга, дом вызывал ассоциации с фантастическим кораблем. Квартиру в «Метрополе», на четвертом этаже слева, в углу здания, Чичерин оставил за собой. Привык. Хотя квартирой это помещение было назвать трудно: два гостиничных номера — кабинет и комната, где стоял рояль. Большое окно кабинета выходило на Китайгородскую стену. Из окна дуло. Жить и работать здесь было трудно. Впрочем, нарком не обращал внимания и на худшие условия. Он поражал всех аскетическим образом жизни, неутомимой, фантастической работоспособностью и полным пренебрежением к своему здоровью, с трудом выдерживающему нечеловеческие перегрузки. Ленин, необыкновенно высоко ценивший Чичерина, не раз обращался и в ЦК, и к самому Георгию Васильевичу с просьбой обратить внимание на свое здоровье. Нарком вмешивался и контролировал решительно все, что происходило в его «епархии». Он работал ночами до рассвета. Такова была выработанная годами привычка, от которой никто не мог заставить его отказаться. Оправдывая свой стиль, он доказывал: «Вопрос стоит не о ночной работе, а о продолжительности моей работы, доходящей до двадцати часов в сутки... Перенесение моего кратковременного отдыха на более ранние часы не уничтожит ночную работу, но, наоборот, продлит ее и еще больше сократит мой отдых ввиду абсолютной невозможности днем отгородить себя от посетителей». Таков был нарком — представитель древнейшего и знатнейшего рода государства Российского, безоговорочно принявший революцию. Чичерин обладал энциклопедическими знаниями, феноменальной памятью. Он знал десяток языков и не уставал изучать новые и новые. Прекрасный оратор, красноречивый полемист, блистательный знаток истории международных отношений, Георгий Васильевич стал прекрасным дипломатом, занявшим по праву место народного комиссара иностранных дел Советской Республики...
Проснувшись незадолго до полудня, поеживаясь от холода (в «Метрополе» топили плохо, соблюдая режим экономии) и наскоро попив чаю (при НКИДе была столовая, но нарком там лишь обедал), Георгий Васильевич пешком отправлялся на Кузнецкий мост. Путь его был выверен в шагах и минутах. Чичерин выходил из гостиницы и направлялся к Малому театру и по Петровке до Кузнецкого. Затем, повернув направо, поднимался к Лубянке. Дорога занимала двенадцать-пятнадцать минут. Георгий Васильевич чувствовал непроходящую усталость. Сказывались годы, плохое питание, возрастающее обилие безотлагательных дел, недостаточное число сотрудников наркомата. От рекомендованных в НКИД Чичерин требовал и высокой культуры, и разносторонних знаний, и умения трезво и быстро разобраться в обстановке. По предложению Ленина на дипломатическую работу были направлены Красин и Боровский, Менжинский и Литвинов, Карахан и Берзин, Иоффе и Мануильский: подбирались и рядовые сотрудники наркомата — обсуждались их деловые и личные качества, взвешивалась возможность отозвания их с фронтов или с прежних должностей; создавалась Коллегия — деловой, рабочий орган комиссариата, ставшая коллективным мозгом Наркомата иностранных дел. Оформлялась структура центрального аппарата, возникали отделы, занимающиеся странами по географическому принципу; секретариат и экономически-правовой отдел информации и печати; создавались курсы по подготовке работников наркомата. Много внимания уделял Чичерин организации заграничных представительств, которые, как правило, не имели еще дипломатического статуса и действовали в трудных, а порой — в открыто враждебных условиях. Всеми силами боролись они за восстановление отношений, признания хоть минимума полагающихся дипломатических гарантий и привилегий. Чичерин вел переписку с полпредами, боролся за экстерриториальность представительств, требовал соблюдения статуса, своевременной выдачи виз, вникал во все мелочи работы за границей. Впрочем, он ничто не считал для себя мелочью.
Выйдя к подъезду «Метрополя», Чичерин зябко поежился, плотнее завернул шею старым шарфом, боясь простуды, которой был очень подвержен. Дул северный, пронизывающий ветер, закручивая маленькими смерчиками сор, окурки и обрывки бумаги на тротуаре. В этот час в центре Москвы казалось довольно многолюдно. И люди одеты получше, чем год назад, отметил про себя Георгий Васильевич. Все же сказался год без войны. Нарком шел своим обычным маршрутом. По виду — весьма обыкновенный интеллигентный человек, среднего роста, в довольно поношенном пальто, со светлой бородкой и усами, карими глазами, глядящими понимающе и пронзительно. Род Чичериных — выходцев из Италии — вел свое начало с пятнадцатого века, когда один из Чичериных, Афанасий, приехал в Россию с посольством греческой царевны Софьи Палеолог. Были в роду и боевые генералы, и дипломаты, и известные губернаторы. И сама династия Романовых воцарилась на престоле не без участия Чичериных: подпись думного дьяка Ивана Чичерина вместе с другими стояла под грамотой об избрании на престол Михаила Романова. Такие повороты совершает история: потомок «государевых людей», опоры трона — стал революционером, большевиком. Мало кто из москвичей, встречавших на улице Георгия Васильевича и даже знавших, что он нарком иностранных дел, мог предположить, что этот большевик, прошедший школу революционной борьбы. — знаток музыки, крупный лингвист. И если знанием французского языка он был обязан горячо любимым писателям, то английский Чичерин постигал не только на улицах Лондона, не только по произведениям литературы, но и на бурных митингах и в мало приспособленных для учебы казематах Брикстонской тюрьмы, куда власти постарались упрятать «русского бунтаря»...
Чичерин думал о телефонном разговоре с Владимиром Ильичем (случалось, они перезванивались по нескольку раз в день, обменивались письмами и документами, согласовывая их) и о последней встрече с ним. Насколько прозорлив и находчив был Ленин, с какой легкостью и умением выбирал решение, которое поначалу и удивляло, и вызывало решительный протест, но впоследствии, проверенное и испытанное жизнью, оказывалось единственным и самым мудрым для данного момента. Ленин всегда учил увязывать внутренние проблемы страны с проблемами внешнеполитическими. Владимир Ильич точно предсказал и изменения, происходящие в мировой экономической системе капиталистических стран, которые, расставшись с идеями реставрации старой России при помощи вооруженной интервенции, придут к необходимости вступать с ней в экономические, а следовательно, и все более крепнущие политические отношения. Владимир Ильич гениально предсказал Геную, подготовкой которой круглосуточно и был занят теперь НКИД. Советская Россия заявляла о своих международных правах. Прошла Вашингтонская конференция, Каннская конференция. Все громче раздавались голоса трезвых политиков: послевоенное переустройство мира требует всеобщего экономического сотрудничества. Капитализм делал первую уступку большевистским Советам. Уступка была вынужденная: капиталисты хотели торговать, им были нужны рынки сбыта...
На Неглинной и Петровке было многолюдно. Здесь особенно рьяно вылезала изо всех щелей всякая нечисть и накипь, считающая, что теперь, при нэпе, ей многое дозволено, теперь она — «соль земли». Зеркальные витрины, лоточники, расплодившиеся, как тараканы. Кокотки, чистильщики, подносчики, продавцы подпольного товара и просто мелкие и крупные жулики... Еще в декабре, во время переезда НКИД на Кузнецкий мост, Чичерин в очередной раз простудился. Обострился хронический фарингит, говорить стало трудно, временами душил кашель... Георгий Васильевич поежился, укутал горло... Всю эту раздражающую нэпманскую публику Чичерин старался не замечать. Просто мелькающие вокруг люди мешали сосредоточиться, думать о главном. А главным теперь была Генуя...
В конце января Чрезвычайная сессия ВЦИКа утвердила состав делегации. Чичерину поручалось возглавить специальную комиссию, созданную Политбюро ЦК РКП(б). А тут некстати обострение болезни. Владимир Ильич потребовал его немедленного ухода в отпуск. Чичерин решительно отказался, утверждая, что отпуск для него равносилен полному уходу: политически он несвоевременен, организационно невозможен. Несколько раз рассматривался этот вопрос. Было принято решение о предоставлении наркому отпуска лишь после завершения работы конференции. Чичеринская комиссия провела двадцать два заседания, по два-три раза в неделю. Различные наркоматы, Госплан, видные ученые и специалисты готовили отчеты и справки по историческим, экономическим, финансовым, правовым и другим вопросам. Георгий Васильевич ежедневно докладывал Ленину о состоянии дел и получал от него записки, содержащие не только указания по поводу дальнейшей подготовительной работы комиссии, но и по поводу смысла выступлений советских дипломатов уже в самой Генуе. Разрабатывалась «широчайшая (по выражению Владимира Ильича) программа», с которой советская делегация должна была сесть за стол переговоров. 28 февраля Центральный Комитет партии принял написанное Лениным постановление о задачах советской делегации на конференции...
«Ленин не едет в Геную!», «Не едет в Геную!» — крича и размахивая над головой газетой, пробежал полуодетый мальчишка. «Ллойд Джордж приглашает Ленина! Ленин поедет в Геную!» — кричал на углу Петровки и Кузнецкого другой продавец газет. Да, сенсация продолжалась, сенсация не утихала ни на миг. Старая лиса Ллойд Джордж предпринимал дипломатический демарш не случайно: британский «лев» хотел публичной дуэли с большевистским лидером, хотел предъявить ультиматум от имени Антанты только руководителю советского государства. Отвода, с одной стороны, аршинные заголовки газет всех стран: «Ленин принял приглашение», «Ленин едет в Геную», «Ленин приглашен». С другой — явное смятение, звериный вой белых эмигрантов: «На все приглашения каннских дипломатов признать большевиков мы отвечаем: „Никогда! Никогда! Никогда!’’»; предостережения фашистов: «Будем надеяться, что... Ленин останется у себя дома, а Италия не очутится под влиянием большевистского фанатизма». Простые люди в разных странах устали от войны, девальваций, лишений и голода. Они хотят спокойно жить под мирным небом, они ждут конференцию, которая должна стать началом мира на земле.
Итак, Генуя! Это экзамен. Это — самая серьезная проверка для всех звеньев аппарата НКИД, испытание и для него, наркома. Преодолевая недомогание, Георгий Васильевич продолжал работать. Работать круглосуточно — как и его наркомат, который действовал ежедневно все 24 часа. Менялись секретари. Менялись стенографы, переводчики и эксперты. Нарко»), переходя из кабинета в кабинет, диктовал по-русски, по-немецки, по-английски, по-французски. В те дни каждая справка, каждый документ, выписка из архивов проходили через его руки. Он сам занимался и подбором технического аппарата для советской делегации. Казалось, не было силы, способной изменить введенный им распорядок. Иностранные корреспонденты передавали из Москвы фантастические подробности об аскетической жизни и нечеловеческой работоспособности наркома...
Чичерин перешел на противоположную сторону Кузнецкого моста. Возле задней стены универмага «Мюр и Мерилиз» толпа густела и спрессовывалась... Минуя один из узких дворов на подъеме Кузнецкого моста, Чичерин заметил долговязого шарманщика в порыжевшем котелкё. Шипящая, нечеткая мелодия бетховенского «Сурка» звучала скорбно и жалостливо. Девочка лет десяти в двух платках поверх телогрейки, в больших, подвернутых у колен валенках, медленно кружилась вокруг шарманки, подпевая что было сил чистым, но слабым, непоставлснным голосом. Чичерин невольно замедлил шаг, присматриваясь. Его задержала музыка. Он подумал о Бетховене, затем, естественно, о Моцарте, о том, что его исследование боготворимого им композитора не продвинулось ни на йоту. В этот момент мелодия окончилась. Из форточек полетели во двор монетки, завернутые в бумагу и обрывки газет. Девочка, гораздо проворнее, чем танцевала, собирала их. Чичерин встретился взглядом с шарманщиком, смутился от желания тоже кинуть несколько медяков — их не оказалось в кармане, — и пошел дальше, думая о совещании в Коллегии, которое ему предстояло провести.
Очень разные по характерам я близкие по судьбам были его соратники по наркомату, профессиональные революционеры, собравшиеся здесь, в «корабле» на Кузнецком мосту, чтобы еще раз (уже в который!) обсудить ход подготовки к Генуе и наметить курс, который займет советская делегация, чтобы провести в жизнь, в статьи протоколов, временных соглашений, а то и договоров ленинскую линию...
Чичерин оглядел членов Коллегии. Они, действительно, были очень разные — Литвинов, Карахан, Красин, Иоффе и другие. Деловой, напористый Максим Максимович Литвинов — точен, аккуратен до педантизма, привык все доводить до конца, бывает упрям, неразговорчив, убедить его не просто, уже не раз возникали споры... Лев Михайлович Карахан — старейший сотрудник НКИДа, дверь в дверь жили они в «Метрополе» с наркомом, ходили друг к другу поздними вечерами, беседовали, пили чай. Единомышленник? Но он порой излишне мягок, углубляется в детали, в частности, которые мешают быстро понять общую ситуацию. Леонид Борисович Красин — человек особый. Политик, крупный инженер. Очень эмоционален, но умеет прекрасно сдерживаться. Отличный организатор, прекрасная память, широкие познания, весел и жизнерадостен, умеет оперировать фактами и цифрами. Он, пожалуй, сторонник английской ориентации. Разоренную войной Германию готов сбросить со щита, это его ошибка. Адольф Абрамович Иоффе — человек сдержанный, весьма «закрытый», похожий на мужика из-за простоватого лица и бороды лопатой. Впрочем, всегда безукоризненный костюм, очки в золотой оправе. Умница, участник Октября, член Петроградского Военно-революционного комитета, ставший дипломатом, полпредом в Германии. Ему-то как никому известна ситуация в стране. Его деловые контакты должны нам помочь. Настроен на укрепление связи с Германией, считает, именно в Германии возможнее прорвать цепь, связывающую капиталистические державы... Однако Иоффе бывает и трудно управляем. Порой ставит наркомат перед уже совершенными делами, перед фактами. А вернее — post faktum. Далеко не всегда считался он и с наркомом. Впрочем, это происходило раньше, еще в восемнадцатом году. Потребовалось прямое в адрес Иоффе указание Ленина о том, что послы без ведома наркома иностранных дел не вправе самостоятельно предпринимать решающие дипломатические шаги. Адольф Абрамович, как настоящий коммунист, воспринял критику, сделал выводы. Однако целиком ли он излечился от своего по-человечески понятного упрямства?..
Совещание началось. С обзором дипломатической борьбы после Канн и накануне Генуэзской конференции выступил Литвинов.
Политическая ситуация в Европе внушала серьезные опасения. Одно за другим менялись правительства: в Италии, в Польше, Греции и Австрии. На волоске висели кабинеты Ллойд Джорджа в Англии и Вирта в Германии. Правительственные верха Франции выступали против конференции. Пуанкаре решительно перечеркивал все, о чем договаривались в Каннах, добивался укрепления Версальского договора, уплаты Франции репараций и всех платежей, сохранения оккупации левого берега Рейна, предварительных гарантий от Советской России в том, что все решения, принятые ранее союзниками (по существу, «подлинный режим капитуляции»), будут подтверждены. Франция активно давила на Румынию, Польшу, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Чехословакию, пользуясь всевозможными союзами, соглашениями и блоками. Однако и эти страны, соблюдая свои интересы, учитывая прославянские настроения, рост левых сил, не во всем соглашались с Пуанкаре и не шли во французском фарватере. К тому же боялись, что англо-французский конфликт сможет привести к восстановлению и усилению Германии. Франция упорно стремилась к созданию антисоветского блока на границах Советской России. Однако и Польша, и Латвия, Литва и Эстония весьма настороженно относились к французским посягательствам, тем более что их уже связывал ряд соглашений с Россией. Они маневрировали, опираясь на англо-французские противоречия. Францию изо всех сил поддерживали белоэмигрантские организации. В печати развязывалась антибольшевистская кампания. Распространялись лживые данные о состоянии советской экономики и финансов. Британская империя разваливалась. Шла гражданская война в Ирландии; отпал Афганистан, признанный независимым; росло национально-освободительное движение в Индии; формально пришлось признать независимость Египта. Экономический спад, свертывание производств, нехватка сырья и рынков сбыта наблюдались и в Италии, которая издавна являлась торговым партнером России. Заключение в декабре торгового договора с Советской Россией сразу ж с позволило Италии снизить расходы на импорт. Италия выступала за Геную. Особую позицию занимало правительство США. Оно точно воды в рот набрало в ответ на приглашение прислать представителей в Геную. По мнению Литвинова, подкрепленному рядом газетных сообщений, молчание это прикрывало расхождение внутри правительства, ибо Меллон и Гувер — министры финансов и торговли — высказывались за участие в конференции, хотя более консервативные и влиятельные члены кабинета Гардинга выступали против Генуи, ибо уже усматривали в ней возможный блок европейских стран, готовых выступить с ревизией решений Вашингтонской конференции.
— Заканчивая короткий обзор, — заключил Литвинов, складывая бумаги и снимая сильно увеличивающие роговые очки, — хочу высказать сугубо личное соображение: главный наш противник — Франция, но пока капиталисты хоть как-то, хоть вчерне не договорятся, не сторгуются, они не сядут с нами за стол переговоров.
— Возможно, возможно, — откликнулся Чичерин. — Мы должны быть готовы и к тому, что придется еще ждать. Я уверен, Генуя состоится. Им она нужна так же, как нам, хотя они прекрасно знают нашу политическую доктрину, считают фанатиками и боятся нашей пропаганды. И... своих коммунистов, которые, как Марсель Кашен, атакуют их с открытых трибун и в прессе. Сам факт приглашения нас за стол переговоров — уже победа, победа дипломатическая, основанная на победах в гражданской войне.
Карахан, обменявшись с наркомом взглядом, сказал:
— Разрешите, товарищи, напомнить вам телеграмму Ллойд Джорджа? Цитирую: «Я буду рад, если вы сообщите мне имена ваших делегатов и состав делегации, и по получении этих сведений и указания маршрута, по которому намерены следовать ваши делегаты, я войду в сношения с заинтересованными правительствами и сообщу вам о мерах, принятых к тому, чтобы им были предоставлены все удобства и должная охрана...» Отсюда, как мне представляется, и ряд наших сегодняшних задач: состав делегации, выбор пути. — Карахан вновь взглянул на Чичерина.
Тот нахмурился, изменял излюбленную позу — склоненная набок голова подперта кулаком, поднялся за столом. Сказал:
— Мы должны обменяться мнениями, товарищи. Пусть выступит каждый. Но прежде мне хочется еще раз повторить важнейшие мысли Владимира Ильича — они станут основополагающими в период подготовки и проведения конференции. Они тем более важны, что в правительстве и народе все более утверждается мысль о невозможности поездки Ленива в Геную.
Среди собравшихся пронесся короткий, сочувственный шепоток.
— Граждане Советской России тревожатся за жизнь Ильича. Они не верят капиталистам. Разрешите, я оглашу лишь одно письмо. — Чичерин пошарил по столу, нашел искомое, выпрямился. — Вот что пишет рабочий-путиловец: «Гений его слишком важен для России и для мировой революции, чтобы можно было рисковать его жизнью. Нет, Владимир Ильич, не ездите, поберегите себя. У нас есть достойные дипломаты, которые достаточно авторитетно смогут представить Россию на конференции...» Так вот, товарищи дипломаты, давайте думать, анализировать. Права председателя делегации, по всей вероятности, будут переданы вашему покорному слуге. — Чичерин чуть улыбнулся и сделал паузу, подавив, видимо, приступ кашля. Отхлебнул чая, радуясь, что приступ миновал, продолжил ровным и чуть приглушенным голосом: — Как вам известно, я многократно беседовал с Владимиром Ильичем о Генуе и получал от него важнейшие указания. Позволю прежде всего задержать ваше внимание на моем письме Владимиру Ильичу от десятого марта. Цитирую: «...прошу Вас прочесть нижеследующие предложения и дать Ваши указания. Мы должны выступить с «пацифистской широчайшей программой», это один из главнейших элементов предстоящего выступления, однако ее у нас нет. Есть только отдельные отрывочные моменты в первых директивах ЦК. Мы должны ввести в привычные современные международные формы что-то новое, чтобы помешать превращению этих форм в орудие империализма... В результате мировой войны усилилось освободительное движение всех угнетенных и колониальных народов. Мировые государства начинают трещать по швам. Наша международная программа должна вводить в международную схему все угнетенные колониальные народы. За всеми народами должно признаваться право на отделение... Новизна нашей международной схемы должна заключаться в том, чтобы негритянские, как и другие колониальные народы, участвовали на равной ноге с европейскими народами в конференциях и комиссиях и имели право не допускать вмешательства в свою внутреннюю жизнь. Другое новшество должно заключаться в обязательном участии рабочих организаций... В результате у нас получится очень смелое и совсем новое предложение: ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС с участием всех народов земного шара... Конгресс будет иметь целью не принуждение меньшинства, а полное соглашение... Одновременно мы предложим всеобщее сокращение вооружений...» — Чичерин сделал выразительную паузу и добавил: — Хочу познакомить членов Коллегии с ответом Владимира Ильича. Он пишет: «Мне кажется, пацифистскую программу Вы сами в этом письме изложили прекрасно.
Все искусство в том, чтобы и ее и наши купцовские предложения сказать ясно и громко до разгона (если «они» поведут к быстрому разгону).
Это искусство у Вас и нашей делегации найдется...
Всех заинтригуем, сказав: «мы имеем широчайшую и полную программу!». Если не дадут огласить, напечатаем с протестом...
При такой тактике мы выиграем и при неудаче Генуи. На сделку, невыгодную нам, не пойдем...» — Георгий Васильевич положил письмо в папку, сделал глоток чая и продолжал: — Эти же идеи высказаны и в речи Владимира Ильича на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлургов и, без сомнения, известны вам, товарищи. Хочу лишь' акцентировать внимание Коллегии на тезисах, которые станут для нас опорой при выработке текста выступления на открытии конференции. — Он достал машинописный текст. — Итак... Геную мы приветствуем и на нее идем. Капиталистическим странам надо торговать с Россией. Мы, как купцы, завязываем отношения и знаем, что ты должен нам и что мы тебе... угроз не боимся, пугать нас пустячками не следует, ибо от этого только потеряют престиж те, кто пугает... Отступление в смысле того, какие уступки мы капиталистам делаем, закончено, наше экономическое отступление мы можем остановить. Дальше назад мы не пойдем... Если капиталисты думают, что можно еще тянуть и, чем дальше, тем больше будет уступок, — ошибаются. Им можно сказать: завтра вы не получите ничего. Число стран, желающих торговать с нами, увеличивается. Опоздавшие заключить с Россией торговые договора получат худшие условия. — Чичерин сделал паузу. Его большие карие глаза внимательно переходили с одного лица на другое. — Из всего сказанного, — сказал он глухим голосом, — вытекает архиважная, как любит говорить Владимир Ильич, идея. Идея о возможности мирного сосуществования, деловых и мирных отношений стран с различным политическим строем, между капиталистической и социалистической системами. Давайте торговать, — не вооружаться, а разоружаться!.. С другой стороны: не давать ни малейшей надежды противникам, рассчитывающим на нашу капитуляцию, на принятие кабальных условий. Теперь прошу, товарищи, говорить о стратегии и тактике в Генуе. По результатам этого разговора, вероятно, мы и составим проект заявления советской делегации.
Слово взял Красин — стройный, подтянутый, кажущийся даже щеголеватым. Оглядел собравшихся внимательными красивыми глазами. Коснулся седеющей бородки, сказал, пряча ироническую улыбку:
— За позицию Ллойд Джорджа я ручаюсь абсолютно. Встречался с ним, слежу пристально за каждым словом. Опытный демагог, но отлично понимает: не соберет конференцию, его тут же свалят, заставят уйти с политической арены. Генуя должна принести ему крупные дивиденды, звания «главного» пацифиста, трезвого политика, сумевшего «обуздать» страшных большевиков. Это не мало, товарищи. Он вовсе не друг Советской России, тут никто не обольщается. Но первое: он признает, что Генуя может найти лучшие способы послевоенного экономического восстановления Европы. Мирного, товарищи! Второе: он за торговлю и переговоры со страной, которая до войны давала очень много сырья, потребляемого Европой. Третье: Генуя — это «противовес», который ударит по Франции, чья позиция Ллойд Джорджем изучена отлично.
— Однако Ллойд Джордж откровенно заявляет и об оборотной стороне своей позиции, — заметил Иоффе. — Признание Советской России с позиций английского лидера — это признание нами всех старых долгов, возвращение конфискованной собственности иностранцам, прекращение «большевистской пропаганды». Да и надежда его на голод, который принудит нас отказаться от «системы» и сдаться на милость англичанам. Он не останавливается и перед клеветой на нас.
— И я отнюдь не считаю его прямым союзником. Просто, лавируя между крайними консерваторами и оппозицией лейбористов, Ллойд Джорджу придется поработать и на наши интересы. Важно, что в фарватере, пробитом им во льдах вражды к Советской России, пойдут и корабли других стран. Многих стран, — сказал Красин. И повторил: — По-моему, это важно.
— Следовательно, вы предлагаете курс на Великобританию? — спросил Карахан.
— Предлагаю. Не на Францию же?!
— Есть еще Германия, — заметил Чичерин. — Давайте послушаем Адольфа Абрамовича. Он в известной степени старый германофил, ему и карты в руки.
— Главное в том, что Германия задушена репарациями и положение в стране очень тяжелое, — коренастый, плотный, широколобый Иоффе нахмурил брови. Выдержав паузу, он заговорил нарочито сдержанно: — Борясь против давления Репарационной комиссии, рейхсканцлер Вирт тщетно взывает к общественному мнению, доказывая, что две трети расходной части государственного бюджета поглощаются Антантой и лишь треть расходуется на нужды Германии. Иозеф Вирт за Геную. Он надеется решить там все репарационные проблемы, которые являются общегосударственными, первоочередными для его страны. Отсюда ориентация на Англию против Франции — на любых условиях. Сдерживание Пуанкаре — это невозможность оккупации Рура, это чуть ли не предотвращение гибели германского государства. Панацея от всех бед, так сказать.
— Простите, пожалуйста, Адольф Абрамович, — вставил Красин. — Интересно, насколько позиция правительства Вирта разделяется другими партиями? Или мы будем иметь дело с единой и железной Германией?
— С удовольствием удовлетворю ваше любопытство, Леонид Борисович, — улыбнулся в бороду Иоффе, не очень довольный тем, что его перебили, нарушив цельность продуманного обзора. — Тем более что именно об этом я намеревался сейчас поведать. Не задерживая внимания товарищей, можно, пожалуй, сказать так: все буржуазные и социал-демократические партии повернуты теперь лицом к Англии и поддерживают правительство. Даже крайние националисты, требующие полной ревизии Версаля.
— Стоя на коленях перед Ллойд Джорджем и молясь на него, немцы изо всех сил пугают его победой большевизма не только в Германии, но и во всей Европе, — заметил Литвинов. Он снял очки, глаза его стали добрыми и беспомощными, не соответствующими его сильному характеру известного партийного конспиратора. — Если Антанта будет продолжать нажим на Германию, там закономерны политические беспорядки. То есть опять революция, — он протер и надел очки.
— Совершенно верно. Так считает и Ратенау, — добавил Иоффе. — Не будет Германии, рухнет Европа.
— Еще один фактор, — вставил Чичерин. — Притом весьма важный. И перспективный для нас. Немцы напуганы тем, что восстановление Европы произойдет без их участия, Германию не допустят к дележу «русского пирога». Если мне не изменяет память, именно Ратенау высказался уже за обсуждение экономических вопросов напрямую между Германией и Советской Россией.
— Да, Ратенау, — заметил Красин. — Он не скрывает колонизаторских планов! Он лгун и фарисей!
— Он прежде всего миллионер, Леонид Борисович! Он — торговец. У торговцев, как известно, жажда наживы превалирует над всеми другими чувствами, а порой и над политическими стремлениями. Деловая Германия, можно сказать, наш уже старый торговый партнер. Давайте вспомним, Адольф Абрамович. С начала прошлого года, предположим.
— Прежде всего, был большой наш заказ на паровозы, принятый рядом фирм. Он стал своеобразным толчком к установлению торговых отношений. В конце января германо-русское общество постановило послать в Москву делегацию. Вопрос о возобновлении торговли обсуждался тогда же и в рейхстаге. Соглашение с нами англичан подтолкнуло немцев. Шестого мая, как известно, мы подписали временное торговое соглашение, похожее в целом на англо-советское.
— Позвольте добавить, Адольф Абрамович! — энергично сказал Литвинов. — Германия ведь признавала советское представительство в Европе единственным законным представительством!
— Да, да, — улыбаясь, согласился Иоффе. — Я это почувствовал на своей шкуре. Советское представительство «пришлось по душе» особенно немецким националистам. Эти господа еще проявят себя как политическая сила. — Он помолчал, сказал прежним тоном: — Следует особо выделить и подчеркнуть идею восстановления России совместными усилиями, идею консорциума. Мысль о колонизации России продолжает, привлекать всех. Англичане ее искусно маскируют, чтобы притупить бдительность Пуанкаре, но она наверняка проявится во время конференции. Я уверен, мы не можем с этим не считаться.
— Спасибо, Адольф Абрамович, — сказал Чичерин. — Позволю себе вновь обратить ваше внимание на доклад товарища Ленина на Девятом Всероссийском съезде Советов — это внешнеполитическая линия советского правительства. Она — и стратегия в Генуе. А тактика? Прорыв цепи капиталистических государств в любом месте, в самом слабом. — Чичерин замолчал, чувствуя стремительное приближение кашля, и вновь отхлебнул теплого еще чая. Обвел погрустневшими, нездоровыми глазами коллег. И, собравшись с силами, продолжал более тихо, чем обычно: — Я обращаю ваше внимание на порядок дня конференции, утвержденный Верховным советом союзников. Там шесть групп вопросов. В составлении их видна рука Пуанкаре. Первый пункт повестки — обсуждение принципов Каннской резолюции, второй — установление мира на прочной основе. Давайте поговорим по поводу каждого. Прошу быть предельно краткими. У нас еще обсуждение текста выступления при открытии конференции с учетом наших ошибок, имея в виду которые, Владимир Ильич написал: «Не надо страшных слов». И далее... Нам предстоит рассмотрение маршрута следования делегации в Геную. Слово товарищу Карахаяу...
2
Спустя неделю в час тридцать ночи Чичерин принимал Артузова. Эта встреча также имела прямое отношение к Генуэзской конференции. Артур Христианович выглядел усталым. На висках заметнее выступила седина, глаза запали, под глазами — резкие тени, и только мушкетерская бородка и короткие усы были, как всегда, аккуратно подстрижены. Девятый съезд Советов, давший высокую оценку деятельности ВЧК, сузил, по предложению Ленина, круг ее деятельности. Судебные функции передались другим органам. ВЧК (Декретом ВЦИКа от 6 февраля она станет называться Главным политическим управлением при Народном комиссариате внутренних дел) в качестве основной ставилась задача политического обеспечения государственной безопасности — подавление контрреволюционных выступлений, борьба со шпионажем, охрана границ, водных и железнодорожных путей, борьба с контрабандой, выполнение специальных заданий по охране революционного порядка. Перестройка центрального аппарата, естественно, прибавила забот каждому чекисту. Тем более члену Коллегии, одному из руководителей советской разведки.
Чичерин, конечно, знал Артузова, хотя они и редко встречались. Сегодняшний визит Артузова имел сугубо деловой характер. На него было отпущено наркомом двадцать пять минут, посему, усадив гостя в глубокое кресло и налив ему чая из самовара, кипевшего всю ночь, Георгий Васильевич сразу повел разговор об обеспечении безопасности советской делегации.
— Товарищ Воровский, наш представитель в Риме, без устали сражается с итальянцами по вопросам статуса делегации, — говорил Чичерин. — А они упрямятся, отказываются дать гарантию неприкосновенности. Мы требуем: только полная и безусловная неприкосновенность! Всем членам делегации — дипломатам, экспертам, переводчикам! Неприкосновенность багажа, корреспонденции, посылаемой через спецкурьеров. Полное равноправие с другими делегациями. Вы же понимаете, Артур Христианович, не цветами готовы там встречать нас?!
— Да уж, — согласился, улыбнувшись, А рту зов, пощипывая по привычке бородку. — Итальянские фашисты настроены весьма агрессивно, но нас, признаться, больше заботят всевозможные белоэмигрантские круги — по пути следования и в Италии. Да и Врангель рядом. Окончательно ли утвержден ваш маршрут?
— Да, да! Рига, Берлин, Вена, Милан, Генуя. Это самый оптимальный вариант, учитывая протяженность, время нахождения в пути и стоимость проезда. Что касается белоэмигрантских банд, против них нам уже помогают бороться друзья в разных странах. Политически, разумеется. Например, Марсель Кашен с трибуны французского парламента, Клара Цеткин, Вильгельм Пик — с газетных полос. Да и мы не сидим сложа руки: сразу после заседания ВЦИКа я намерен послать телеграмму правительству Италии. Возможно, ноту. Суть ее в том, что если в Геную пригласят представителей любых контрреволюционных организаций русских эмигрантов — участие советской делегации в конференции станет невозможным. Абсолютно невозможным!
— Однако это отнюдь не исключает попыток террора, — заметил Артузов. — Мы у себя предварительно обменивались мнениями: у вас будет гарантированная охрана.
— То есть, Артур Христианович? Гарантированная? Объяснитесь. — Чичерин иронично сощурился. — Говорят, Генуя — всемирная сумятица, кого только там не будет! А вы — гарантированная.
— Я поясню, Георгий Васильевич. Ну, во-первых, это охрана, так сказать, официальная, государственная. Мы исходим из того, что наша делегация все же добьется надлежащего статуса в Италии. Во-вторых, охрана добровольная, неофициальная, но, надо сказать, очень верная, хотя и непрофессиональная. Это друзья Советской России из стран, по которым пройдет путь делегации. И уж последняя, незримая — это мы, чекисты, Георгий Васильевич. Мы будем охранять вас и в Риге, и в Берлине, Вене и Генуе...
— Ну и отлично!
— ...Хотя все это вместе взятое не исключает повышенной бдительности и осторожности каждого члена делегации от главы до coding clerk![21]
— Понятно, понятно, Артур Христианович. Кому же, простите, захочется лезть на ножи или под пули головы подставлять! — Чичерин нетерпеливо переложил какие-то бумаги на столе. — Однако хочу еще задержать вас, если позволите. Буду максимально кратким. Дело в следующем... Капиталисты твердят: Генуя — конференция только экономическая, только финансовая, торговая. Для нас — в уме пока! — и политическая. Мы обязаны предельно использовать эту международную трибуну. Не используем — грош нам цена. Хорошо бы к началу ее работы иметь неопровержимые свидетельства того, что европейские державы продолжают заниматься формированием враждебных нам банд, заключают или готовы заключить новые военные союзы, направленные на организацию очередной военной интервенции против Советской России. Мы в этом уверены, но, увы, у нас нет доказательств. Если подобные документы попали бы к нам — вы представляете? — мы в любой момент можем исхлестать антантовских дипломатов по щекам!
— Понимаю, Георгий Васильевич.
— Наиболее вероятны их связи с врангелевцами, это ведь армия. Она еще не утратила ни силы, ни организованности. Генералы ждут, кто их купит. Врангелевцы! Обратите внимание! — Чичерин достал из жилетного кармана часы и посмотрел на циферблат.
Артузов тотчас встал.
— Я немедленно доложу товарищу Менжинскому, — сказал он. — И мы примем меры.
— Но я не гоню вас, Артур Христианович, — сказал Чичерин смущенно. — Сейчас мне принесут еду — суп и каша. Приглашаю поужинать.
— В другой раз, пожалуй. Разрешите воспользоваться вашим приглашением, Георгий Васильевич? Очень бы хотелось посидеть спокойно, поговорить о музыке.
— О музыке? Охотно, — улыбнулся Чичерин. — Но, считаю, и нынешний разговор был полезен.
— Я очень рад, что он состоялся.
— Напрасно отказываетесь, Артур Христианович! — неожиданно задиристо сказал ему вслед Чичерин. — Каша отличная! Такую только дипломатам подают!
На пороге Артузов оглянулся напоследок и улыбнулся еще раз. У него была широкая, располагающая улыбка. Он провел рукой по пышной шевелюре, приглаживая ее, и уже в дверях надел кожаную кепку...
В ЦЕНТР ИЗ БЕЛГРАДА ОТ «ДОКТОРА»
«Врангель выехал в Сербию 26 февраля, остановился в Галлиполи, несмотря на противодействие союзников, и выступил перед армией. «Год назад, — сказал он, — я обещал вам, что не уеду из Константинополя до тех пор, пока последний солдат не будет отправлен отсюда. Теперь я могу выполнить свое обещание. Родные славянские страны широко открыли двери своих государств и приютили у себя нашу армию до тех пор, пока она сможет возобновить борьбу с врагом отчизны... Со спокойной душой я отправляюсь далее. Целый год я пробыл узником в Константинополе и всегда смело и громко поднимал свой голос в защиту правды, потому что знал, что за мной стоит двадцать тысяч людей, готовых в любой момент поддержать меня. Спасибо вам за вашу службу, преданность, твердость, непоколебимость. Спасибо вам и низкий поклон». Главком полон надежд. Полагаю, с отъездом Врангеля «серебряные операции» по продаже казны развернутся с большим размахом.
Задание, связанное с Генуей, принял.
Переброска русских частей в Сербию закончена. Кавдивизия Барбовича назначена в погранстражу. Кубанская казачья в районе Вране будет сооружать шоссе к границе Болгарии. Технический полк — на железнодорожных работах. В Белой Церкви — Николаевское кавучилище. Размещаются Крымский, Донской, Русский кадетские корпуса. Значительная часть офицеров принята в жандармерию. Под штаб и интендантство определен городок Сремски Карловцы, в полусотне километров от Белграда, где расположены основные отделы во главе с генералом Архангельским (быстрое выдвижение рядового дежурного генерала при Деникине и Врангеле вызывает много толков), разведывательный и оперативный отделы. Шатилов отдыхает с матерью и женой (видна тенденция уйти от дел). Уклад жизни армии — казарменный (дежурные и дневальные, выход на работу строем, рапорты, наряды, чинопочитание, суды чести). По мобилизационным планам первые четыре дивизии могут быть развернуты в течение пяти дней. Врангелю и семье приготовлена вилла уТопчидерского парка, за которую заплачено более миллиона динаров. Охраняется лейб-казакам и. В его подчинении остаются: ряд генералов резерва для замещения старших командных постов; военные представители в Праге, Софии, Париже, Берлине, Бухаресте, Белграде; военные агенты, действующие под видом путешествующих коммерсантов, и вновь организованный отдел дипкурьеров. На первый план выдвигаются генералы Климович и Глобачев, полковник-юрист Рязанов, полковник Тарасевич, Калашкин и особо ротмистр Баранов — участник убийства Рябовола в Ростове, дважды публично оскорблявший Гучкова в Крыму, учинивший скандал в посольстве в Париже, «присяжный вешатель». Из многочисленных групп и разрозненных союзов решено приступить к созданию единой военной организации, провести пробную открытую мобилизацию сил.
Эмиграция состоит из следующих групп: монархисты, поддерживающие Кирилла Владимировича; члены Высшего монархического совета в блоке с «николаевцами», сторонниками Николая Николаевича (борьба между ними обостряется и составит содержание жизни эмиграции на ближайшее десятилетие); представители объединенной национально-прогрессивной и демократических групп кадетского направления: представители левоказачьих организаций, левого крыла кадетов и социалистов, материально поддерживаемые из Праги. Все группы влачат жалкое существование. Надежда на объединяющую роль главкома сменяется критическими голосами, раздающимися слева и справа. Все более выдвигается Кутепов, нашедший контакт не только с русскими, но и с болгарскими монархистами. Врангель вынужден обороняться. В ответ на упреки в либерализме он заявил: «Я сам монархист, но выбрасывание таких лозунгов сейчас считаю несвоевременным».
Первого марта Врангель прибыл в Белград. На вокзале было много встречающих — штатских и в военной форме. Конвойцы выстроились перед вагоном. В сопровождении военного агента в Сербии генерала Потоцкого главнокомандующий обошел фронт. Особого энтузиазма не было. Поблагодарив за службу, Врангель и Потоцкий вернулись в вагон. Поезд отошел от перрона и был остановлен в Топчидере, где простоял день. Часть чинов из поезда главкома высажена по пути — в Крушеваце, некоторые направлены на жительство в Карловцы и Крагуевац. Врангель недоволен приемом и не находит нужным скрывать это Добивается аудиенции у короля Александра.
Прибытие Врангеля вызвало шум в газетах, протесты. Министерство иностранных дел выступило с разъяснением: «Пребыванию генерала Врангеля в столице печать придает такое значение, которого оно на самом деле не имеет. Русский генерал прибыл в нашу землю, чтобы пользоваться полным гостеприимством, каким пользовались и другие русские. Придавать же пребыванию генерала Врангеля какое-либо военно-политическое значение совершенно неосновательно». Ожидаются протесты в Народной Скупщине от депутатов. Король Александр принял Врангеля лишь 14 марта. Содержание беседы неизвестно.
С долгожданным заявлением выступил генерал Шатилов, оставляющий пост начальника штаба главного командования: «Я считаю, что работа по расселению армии закончена и что я имею теперь право уйти. Я не бегу с тонущего корабля. Наше положение именно сейчас прочно. Ухожу для того, чтобы облегчить Главнокомандующему его работу в деле блокирования общественности. Я отлично знаю, что в некоторых кругах меня считают лицом, препятствующим полезным мероприятиям, и не хочу мешать. Еще в Константинополе я просил Главнокомандующего освободить меня. Тогда моя просьба была отвергнута, и только теперь, после приезда в Сербию, Главнокомандующий выразил согласие. Я немедленно же вернусь в ряды армии, как только мои услуги потребуются Главнокомандующему, с которым у меня сохраняются самые лучшие отношения. А сейчас я буду работать как рядовой офицер, выполняющий поручения, какие мне будут даны... Счастлив, что на мое место назначен генерал Миллер. Совершенно искренне убежден, что он будет для Главнокомандующего более незаменимым сотрудником, чем я. Ручательством этому — его огромный опыт, приобретенный и во время службы за границей в качестве нашего военного представителя в Бельгии и Италии, и во время Великой войны, когда генерал Миллер был начальником штаба армии, а затем командующим корпуса, причем руководимые им боевые соединения являли примеры искусства и доблести. В качестве главнокомандующего Северным фронтом генерал Миллер оставил по себе лучшие воспоминания. Работа его на пользу русской армии за последнее время в Париже дает достаточные основания быть вполне уверенным, насколько тепло встретит его и теперь русская армия, хорошо знающая генерала Миллера».
Изоляция Врангеля усиливается. Сведения о подготовке к Генуэзской конференции будоражат эмиграцию, усиливают раскол. Демонстративно активизировались переговоры с Румынией, имеющие главной целью пропуск белой армии через Бессарабию. Врангель готов признать присоединение Бессарабии к Румынии — взамен помощи оружием, продовольствием, санитарными средствами. В случае разногласий обе стороны избирают арбитром короля Александра. Со стороны Румынии активно выступают Братиану и Дука, готовые подписать договор.
Беспокойство главкома вызывает ситуация в Болгарии. Усиливается давление на русскую армию со стороны левых сил и правительства Стамболийского. Растет сопротивление им Кутепова, способного «наломать дров», вошедшего в контакт с монархическими кругами и совершенно не разбирающегося в политике. В Софию и Велико-Тырново направлен Климович.
Шатилов перестал быть начштаба 27 марта по приказу Врангеля № 242.
Бюро по розыску русских эмигрантов приступило к работе. При выполнении задания надеюсь помощь компаньона. «0135» отбыл вместе с Издетским. Полагаю, проверка продолжается.
Доктор».
В ЦЕНТР ИЗ ВЕЛИКО-ТЫРНОВО ОТ «БАЯЗЕТА»
«Войска Туркула, Витковского, Манштейна. расположенные в Тырново, Загоре, Софии и в других пунктах, имеют оружие и вновь назначенных комендантов. Кутепова поддерживают сербский посланник, белградская газета «Новое время», русские монархические центры и местные монархические круги, преимущественно военные. На банкетах раздаются речи по адресу «потомков Шипки и Плевны, которые воскресят Русь и по-братски, рука об руку, пойдут вперед вместе с братьями-славянами». На военном параде, устроенном Кутеповым, присутствовал болгарский военный министр. Состоялось несколько открытых заседаний военно-полевого суда (Казанлык, Тырново). Начальник контрразведки полковник Самохвалов активно организует сеть, угрожающую не только русским солдатам и офицерам, объединившимся в «Союз возвращения на родину», но и левым силам страны и самому правительству Стамболийского. Попытка начальника софийского гарнизона полковника Лючева, приказавшего русским сдать оружие и пулеметы на хранение в болгарские склады, дабы «избежать каких-либо оснований для вмешательства со стороны военных представителей Антанты», блокирована. Всячески раздувается «коммунистическая опасность» изнутри, ее влияние на ряд высших чиновников (вплоть до начальника жандармерии Мустанова и софийского градоначальника Трифонова). В закрытых донесениях штаба и в русских газетах «большевистскими агентами» названо фантастическое число реально существующих и выдуманных людей. Стамболийский осуждается за «идеологию флирта с Советской Россией». Власти — за предъявление новых требований к врангелевской армии «в оскорбительном, ультимативном тоне».
В Белград срочно вызваны для координации усилий Миллер, Барбович, фон Лампе, а также военные представители из Праги, Константинополя, Берлина, некоторые члены Русского совета. Обстановка в Болгарии накаляется. Возможна организация заговора.
Задание, связанное с Генуэзской конференцией, принято.
Баязет ».
Глава девятнадцатая. «ОРИЕНТ» И ДРУГИЕ ЭКСПРЕССЫ. ДИПКУРЬЕРЫ ВРАНГЕЛЯ
1
С тех пор как фон Перлоф утвердил Венделовского дипкурьером, Альберт Николаевич совершал уже четвертую поездку. После долгого вынужденного безделья началась для него иная жизнь: вечное движение, поезда, купе, станции, полустанки, вокзалы, страны. И постоянное присутствие коллеги, Станислава Игнатьевича Издетского, будь он неладен! Такого человека Венделовский встречал впервые. Казалось, в бывшем ротмистре сосредоточилось все самое плохое: садизм, спесь и гипертрофированное самолюбие, ненависть и зависть ко всем, кто стоял выше него, и презрение, стремление попрать, унизить тех, кто зависел от него... «Мелкая душонка» — говорят про таких. Венделовскому приходилось сдерживаться: ничего не поделаешь — оказались впряженными в одну повозку. Правда, одно существенное преимущество имел перед Издетским тот, кого называли нынче Альбертом Николаевичем, — он знал о ротмистре многое, почти все. Тот не знал ничего и мог лишь подозревать, да и то потому, что так приказал ему фон Перлоф. И каждый раз, когда у Венделовского сжимались кулаки, он повторял про себя, точно заклинание: «Издетский, Станислав Игнатьевич — контрразведчик, член монархической лиги, сотрудник врангелевской «Внутренней линии»... Законченная сволочь, скотина, гадина! А приходится называть его по-дружески на «ты» после того, как выпили на брудершафт...»
Хвостовой вагон неимоверно мотало и подбрасывало на стыках. Их купе оказалось последним. Хлопала поломанная дверь в тамбур. Устойчиво пахло карболкой и уборной. Из соседнего купе, через открытую дверь, доносились голоса — требовательный и настойчивый мужской и извиняющийся женский. Издетский спал. Как всегда, по уговору, внизу. Он спал на спине, сложив руки, тихий, точно покойник, не храпел, не скрипел зубами, не ворочался, не разговаривал во сне — совесть, видно, его не мучила. Впрочем, сон его был чрезвычайно чуток. При малейшем шорохе, остановке, шуме или звуке Издетский мгновенно открывал глаза. А если замечал что-то подозрительное, моментально садился, запустив руку под расстегнутый френч, во внутреннем кармане которого лежал браунинг. Поэтому, похоже, и спал так, сложив руки на груди — всегда в боевой готовности. Издетский не очень гордился возложенной на него миссией. Считал, достоин большего, способен на большее. Но не роптал и лишь однажды, под хмельком, проговорился: выполняет специальное задание, поэтому и терпит коммивояжерство, которое не требует ничего, кроме аккуратности и осторожности. Венделовский догадывался, задание — это он, последняя проверка, учиненная фон Перлофом. Следовало пройди и ее. Терпеливо, спокойно, умно. Да и Центр передал: пока никаких контактов, даже при самой благоприятной ситуации (она может быть подстроена!) не идти на перлюстрацию документов в вализе. Пока работают другие.
«Приятель» сына княгини Татьяны Георгиевны Куракиной, урожденной баронессы Врангель, двоюродной сестры главнокомандующего, никогда не жил в Киеве. И рекомендательное письмо Врангелю («Дорогой Пипер, ты же знаешь, я никогда не рекомендовала тебе неподходящего человека...») привезли Венделовскому в Москву перед переброской. Его жизнь весьма разнилась с той «легендой», которую товарищи отработали для него на Лубянке. Альберт (Антон) родился в Петрограде, на Васильевском острове, в семье многодетного врача. Антон был старшим. Он отлично закончил классическую гимназию и был принят на историко-филологическое отделение университета. На втором курсе Антон увлекся историей искусств. А на третьем... стал солдатом революции.
Сейчас Венделовский с улыбкой вспоминал о тех днях и о себе — наивном и беспомощном студенте в длинном, не по росту морском бушлате, рваных башмаках и потрепанных брюках. «Докторов сын» с первых дней революции вступил в Красную гвардию, оказался в отряде, патрулировавшем в центре города. Отряд брал под охрану особняки, брошенные хозяевами.
Сколько картин, скульптур, древних книг оставалось в опустевших дворцах... «Художественные ценности — достояние народа», — твердил ребятам пожилой рабочий, возглавлявший отряд. Но из всех, пожалуй, только «докторов сын» мог сказать, какая картина — ценность, а какая — мазня. А когда задержали целую банду, прятавшую в подвале на Мойке сотню срезанных с рам холстов, в ЧК отвел грабителей Антон. Знания студента-искусствоведа очень пригодились. «Вы гуманитарий? Очень хорошо! Давайте знакомиться», — сказал ему один из следователей.
Антон стал чекистом. А спустя два года получил отлично разработанную «легенду», позволившую ему в конце концов приблизиться к главнокомандующему белой армией барону Врангелю.
Но окончился ли его «карантин»? Или он все еще под пристальным наблюдением фон Перлофа, желающего установить его связи и поэтому соединившего его с Издетским? Ротмистр беспокоил Альберта Николаевича: он не был прост, несмотря на афишируемые широту души, приязнь и даже амикошонство. Станислав Игнатьевич набивался в друзья и доказывал, что он, простой фронтовик, окопник (Венделовский знал, что это за «окопы»), ни шагу не сделает без опытного на дипломатическом поприще коллеги. Издетский буквально не сводил с него глаз. Они повсюду бывали вместе, — это раздражало, но Альберт Николаевич заставлял себя терпеть и присматривался к напарнику, стараясь разобраться в его характере и отыскать уязвимые места, вредные привычки, наклонности: в будущем это позволило бы управлять жандармом, который строит из себя то фронтовика, то утомленного светской жизнью и политической борьбой блистательного гвардейца. Но Издетский не давался, он, казалось, был одинаково равнодушен к вину, и к женщинам, и к азартным играм. А потом — бесконечные разговоры — это ведь был определенный зондаж, чистая провокация! Неужели Издетский считал его простаком?! Если да, уже это следовало использовать. Пусть остается при своем мнении... Любимой темой разговоров Станислава Игнатьевича была высокая политика, известные ему современные пружины и рычаги, управляющие ею. В оценках он был безапелляционен. Говоря о политике, Издетский всегда приходил к монархической идее «блюстительства русского престола», предсказывал борьбу между великими князьями Николаем Николаевичем и Кириллом Владимировичем. «Блюститель престола», конечно, э... э... еще не монарх, — витийствовал Издетский, криво улыбаясь. — Но при определенных ситуациях... э... может стать таковым, не имея на то прав. Великий князь Кирилл с братьями Борисом и Андреем стремятся привлечь на свою сторону династию. За него греческая королева и... э... э... семья Александра Михайловича. И Дмитрий Павлович! А за ним — и вдовствующая императрица Мария Федоровна, и принц Ольденбургский, и герцог Лейхтенбергский. Находясь в гостях у английского короля, герцог сказал, что с Кириллом тягаться не намерен, пусть вопрос о «блюстителе престола» решает Земский собор.
— Но ведь рейхенгальцы заявили твердо: «Русский царь должен быть рожден от православной матери», — вставлял Венделовский, делая вид, что предмет спора ему важен. — А Кирилл Владимирович — увы! сын!.. — этому обстоятельству не удовлетворяет.
— За Кирилла — Мюнхен, Будапешт, Греция, отколовшиеся от Рейхенгаля!
— Так, значит, и вы за князя Кирилла?
— Ах, Альберт Николаевич! Все у вас... э... э... просто. Это — сладкое, это — горькое. Мария Федоровна не даст ему ни гроша! И жена его — Виктория — слишком экспансивная, представляющая легкую добычу для авантюристов.
— Однако Виктория Федоровна... — нарочито обострял разговор Венделовский, — ее ум, инициатива, энергия достойны будущей царицы.
— Интриганка она... э... э... преотличная! — слишком уж смело восклицал Издетский. — Генерал от интриги, гораздо выше своего супруга. Помните, как в японскую, во время потопления «Петропавловска» он кричал из воды: «Я — великий князь! Спасите, вам заплатят!»
— Я помню и красный бант во время Февраля, которым поспешил украситься князь Кирилл. Он пожимал руки палачам России и царской семьи.
— Так вы за Николая Николаевича? — радовался Издетский. — Вы, пожалуй, правы: Кирилл может стать чемпионом гольфа и управлять авто, но не государством. Что он, в сущности, сделал для «белого дела», для России?!
— Но и великий князь Николай Николаевич... — продолжал прикидываться простаком Венделовский. — Его высочество превосходный офицер, ему не было равных в искусстве проводить военные смотры и поддерживать дисциплину, но император не случайно удалил его от командования: внук Николая Первого не выиграл ни одного сражения. Это страстная, легко возбудимая натура. Как он — одним лихим ударом! — снес голову любимой своей охотничьей!
— Несчастная... э... э... собака. Он так страдал потом, — не скрыл сарказма ротмистр. — Так вы против Николая Николаевича? Уж не либерал ли вы? Не милюковец?
— Отнюдь, Станислав Игнатьевич, — чрезвычайно серьезно говорил Венделовский. — Я считаю, настало время прекратить какие бы то ни было выпады или инсинуации по отношению к царским особам. Всем надлежит проникнуться сознанием, что суждение об образе действий великих князей есть исключительное право государя императора.
— Хорошо, хорошо, — поспешно соглашался Издетский. — Но сейчас, э... э... когда императора нет. Кому вы служите?
— Генералу барону Врангелю, — с достойным пафосом отвечал Венделовский. — Он — вождь. В его руках армия. А покуда армия жива, в наших сердцах жива Россия с сильным монархом. Вот, если угодно, мое кредо.
«Законченный идиот, — думал Издетский. — Время ничему не научило его. Перлоф может быть спокоен: у него не хватит ума даже на то, чтобы продаться кому-нибудь. Считает, дипкурьерство — большой шаг на пути к дипломатической карьере. Поэтому и предан Врангелю...»
А Венделовский понимал: важно не переиграть, не разрушить сложившегося мнения о себе. Не давать повода задуматься этому самовлюбленному индюку. Усыпить его бдительность, заставить отказаться от постоянного сопровождения и слежки.
...Несмотря на все попытки оттянуть (а возможно, и похоронить!) мирную конференцию, Генуя приближалась неотвратимо. Центр вновь напоминал: Москве нужны документы, подтверждающие военные и политические контакты врангелевского командования с правительствами Франции, Англии и других европейских государств. Судя по всему, чекисты не получили пока ничего заслуживающего внимания. Может быть, он, Венделовский везет эти документы сейчас в вализе под нижней полкой и призван охранять их от любых посторонних глаз? Ему еще не дан приказ ни при каких, даже самых благоприятных, условиях интересоваться содержанием врангелевской переписки. Пока он лишь перевозчик, дипкурьер. Он — солдат. И привык к исполнению приказов. Обидно, конечно: столько времени прошло, и ни одного донесения от «0135». Он посмотрел вниз, на Издетского. И тот, точно почувствовав неприязнь его взгляда, открыл один глаз — настороженный, большой, немигающий.
— Спите, ротмистр, — Венделовский успокаивающе покивал головой. — Все в порядке. Едем по расписанию.
— Через два часа с четвертью я вас сменю, — Издетский потянулся. — Качает, спать невозможно. Европа! — и он матерно выругался.
Озадачивало Вснделовского положение в Болгарии. Похоже, она находилась накануне непредвиденных событий, в которых определенная роль отводилась и русским воинским контингентам. Много документов, если не большинство, адресовалось врангелевским штабом именно туда, лично Кутепову. Подозрения усиливались еще и от того, что Издетский под разными предлогами уже дважды оставлял его в Софии, а сам отправлялся в Велико-Тырново, где находилась резиденция бывшего «царя галлиполийского». Эта, нынешняя, поездка предполагала заезд в Софию после Берлина, на обратном пути, и на этот раз Венделовский дал себе слово ослушаться напарника, добраться до старой столицы Болгарии и на месте разобраться в том, что там происходит. Он сделает это обязательно, даже если придется идти на прямой конфликт с ротмистром, который повсюду следовал за ним, как тень, и только в Софии решался оставлять его одного.
До Софии предстояла еще остановка в Берлине... И Венделовский с чувством радости впервые подумал о том, что он все же добился за последние поездки определенного равноправия в отношениях и своей самостоятельности — после того как обмен вализами совершался и у них оставались свободные часы до отхода поезда. А уж в вопросах дипломатических — оформлении виз, прохождении обязательных бесед при пересечении государственных границ, обмене валюты, а иногда и упорном отстаивании своих прав не проходить таможенных досмотров — Издетский без возражений отдавал ему пальму первенства, ибо все это требовало не только хорошего знания языков, уравновешенности и такта, но и умения где-то словчить, где-то «нажать», где-то сослаться на несуществующие статьи несуществующих международных соглашений и конвенций. Ведь и дипкурьеры они были «липовые», самозванные, представляющие бог знает кого. Они сами завели себе дипломатические паспорта, переплели их в изящный сафьян с золотым тиснением. Запаслись и справкой — «laissez passer», открытым листом, в котором указывалось, что они курьеры русской делегации. (Какой? Где? При ком? — Ни у кого, как ни странно, это ни разу не вызвало вопросов.) Паспорта выглядели весьма солидно, освобождали их от досмотров и упрощали процедуру получения виз. Нет, даже при самой придирчивой оценке своих поступков Венделовский мог констатировать, что определенных успехов он добился. Всего за три поездки. Да и четвертая началась обнадеживающе: перед отъездом из Сремских Карловцев он впервые получил приглашение на чай от главкома...
2
Сремски Карловцы — маленький городок, окруженный полями и заливными лугами, селами и хуторами. И даже Дунай здесь тихий, умиротворенный, совершенно безобидный, как ручеек. Среди всех архаичных обычаев городка наиглавнейший был таков: под барабанный бой чуть не ежедневно полицейские власти созывали горожан для различных объяснений и распоряжений. В городке — огромное здание школы, красивая двойная колокольня патриаршего собора, дворец патриарха, духовная семинария. Вечерами в парке играл духовой оркестр добровольной пожарной дружины. На площади у костела собирались гуляющие. Городок на железной дороге Белград — Субботица до Версальского договора принадлежал Венгрии. Теперь Сремски Карловцы отошли к Королевству сербов, хорватов и словенцев. А с тех пор как сюда переехал штаб врангелевской армии, жизнь городка поначалу, казалось, бурно забила. На улицах появилось много офицеров в форме, посыльные, донские казаки с красными лампасами, конвойцы — терцы и кубанцы в меховых папахах, несколько автомобилей. Отделы штаба занимали дом, который горожане называли «Старая школа». Здесь же находилась и большая столовая, где питались холостые сотрудники, а по субботам и воскресеньям проводились богослужения. Жизнь Сремских Карловцев напоминала теперь жизнь штаба не очень крупного войскового соединения, загодя подготавливающего небольшое наступление. Вечера были томительны и однообразны. Аборигены засыпали чуть ли не с первыми сумерками, улицы пустели, погружались в мертвящую тишину, малочисленные фонари гасли. Офицеры иногда собирались в кофейне у Тарановича, уныло пили сливовицу-«монастырку», слушали заводную шарманку, неазартно, «по малой» играли в преферанс и девятку. И только самые лихие прожигатели жизни, имеющие кое-какие сбережения, ездили иногда в Нови Сад для развлечений: там было несколько пристойных кафе, синематограф, «заведение с дамами». Венделовский говорил всем: ему повезло — вместо богом забытой дыры — несколько европейских столиц за одну поездку! Правда, они после долгой войны изрядно потеряли свой блеск, однако жизнь там лучше и во всяком случае несравнимо интересней, чем в какой-нибудь беженской колонии или на строительстве шоссе.
У Врангеля — как узнал загодя Венделовский — уже несколько дней ровное, хорошее настроение. Во-первых, вероятно, потому, что из Брюсселя приехала жена с сыном Петром и дочкой Еленой, встреча их была теплой и даже сердечной. Врангель внезапно расчувствовался, обнял и поцеловал детей, долго не отпускал их от себя — все расспрашивал о жизни в Нидерландах. Во-вторых, недавно Врангеля принимал король Александр, и весьма доверительная часовая беседа с ним начала рождать у главкома не вполне четко еще сформулированную, но перспективную идею. Решив ее разрабатывать, он задумал проверить ее на тех, которым еще доверял...
Врангель принимал Венделовского в гостиной, один (даже вездесущего генерала Перлофа на этот раз не было), и сам разливал чай, подчеркивая неофициальный, весьма доверительный характер их встречи, С максимальным участием, на которое был способен, он расспрашивал новоявленного дипкурьера о его жизни, родителях, родственниках, образовании, знакомстве и дружбе с князем Андреем, сыном Татьяны Куракиной; извинялся, что обстоятельства помешали ему сразу использовать Альберта Николаевича в деле, которое тому по плечу; интересовался его взглядами, оценкой нынешнего политического момента; все время подчеркивал ту огромную степень доверия, которой он с сего дня облекает своего посланника, представляющего главнокомандующего русской армией в самых разных странах, среди деятелей разных политических направлений и взглядов.
Венделовский держался напряженно. Хорошо, что знал высказывания Врангеля представителям прессы после посещения короля Александра (разумеется, их не напечатала ни одна газета) о том, что «все части русской армии, рассеянные по различным странам, сохраняют свою боевую организацию и с нетерпением ожидают дня, когда они смогут вновь посвятить свои силы освобождению России». В духе этой безумной программы он и отвечал, вызывая растущую симпатию главкома (как мало, в сущности, надо для этого — уметь лишь поддакивать!).
Врангель просил внимательно прислушиваться и присматриваться ко всему происходящему вокруг, покупать газеты на местах и привозить ему наиболее интересные, чтобы подкреплять свои доклады, кои ему надлежит будет делать после возвращения из каждого турне. Поинтересовавшись, где намерен обосноваться Альберт Николаевич — в Белграде или тут, — и получив ответ, что в Сремских Карловцах, Врангель, еще более помягчев (вспомнил, кстати, что Венделовский понравился ему еще в момент первого появления и потом, во времена эвакуации из Крыма), заметил, что квартиры тут весьма дороги, а посему он даст указание начальнику информационного отдела Генерального штаба полковнику Архангельскому, в ведении которого находится и дипкурьерская связь, изыскать возможность и прибавить жалование господину Венделовскому. Альберт Николаевич сказал, что он путешествует в паре с ротмистром Издетским и неловко будет, если один из них станет получать более другого.
— Издетский... Издетский, — силился вспомнить Врангель. — Очень знакомая фамилия, а человека за ней — нет, не вспомню. Вы-то его давно изволите знать?
— Со времен прибытия в армию, с первых дней, когда генерал фон Перлоф устроил мне серию экзаменов, ваше высокопревосходительство.
— Ах, Перлоф, Перлоф! Я вспомнил: это его человек, Издетский. Он — жандарм. Почему вы хлопочете за жандарма? Боитесь его?
— Что вы, ваше высокопревосходительство?! Почему?
— Оставим, Альберт Николаевич. Он — человек не нашего круга. Хотите, я прикажу назначить к вам иного напарника? Выбор есть.
— Не беспокойтесь, умоляю, ваше высокопревосходительство! Ротмистр меня вполне устраивает. Есть недостатки, но и масса достоинств — боевой офицер, участник многих кампаний, верный нашему делу. У него есть чему поучиться.
— Ну хорошо, хорошо, — поморщился Врангель. — Только не называйте этого господина «боевым офицером». Тут и определенные оттенки, вам — штатскому человеку — их не понять. И не доверяйтесь ему.
— Благодарю вас за ценный совет, ваше высокопревосходительство! — воскликнул Венделовский. — Я оправдаю ваше доверие! — Увидев, что главнокомандующий хочет встать, он вскочил: — Простите, я злоупотребил вниманием вашего высокопревосходительства.
— Пустяки, — дружески сказал Врангель. Он улыбнулся и будто бы подмигнул даже. Но, сразу став серьезным, встал — глаза немигающе уставились в лицо Венделовского — и протянул ладонь. Сказал: — Надеюсь, наш разговор останется между нами, Альберт Николаевич? И еще: до Белграда всю почту вы будете завозить сюда, в Сремски Карловцы. Лично мне, на самое непродолжительное время, вы понимаете? И делать это так, чтобы ваш ротмистр не замечал.
— Естественно.
— Подумайте, как нейтрализовать напарника. Купите его, напугайте — любым способом. Желаю успехов!
3
Поезд мчался ночной равниной. Ни огонька. И только в окне мелькал бело-голубой диск полной луны. Трясло. Дурно пахло. Кто-то громко и возмущенно разговаривал по-немецки в коридоре, возле их купе. Венделовский посмотрел на часы: пора будить ротмистра. Он соскочил с полки, чтобы поправить постель. Издетский открыл глаза и, словно не спал вовсе, спросил:
— А как нравится вам... э... э... Струве, Альберт Николаевич? — Точно все время думал только о том, чтобы продолжать проверку коллеги.
— Он что — приснился вам? — пытался отшутиться Венделовский.
— Напрасно изволите... э... э... шутить. Струве — весьма опасная бестия. Недавно он так изволил сформулировать свою новую политическую позицию: мы против вождя, хотя готовы под единым водительством добиваться реставрации России... в духе правовой государственности. Что сие?
— Оставьте, Станислав Игнатьевич. Я отдохнуть хочу.
— Не знаете или являетесь... э... приверженцем?
— Знаю. Струве утверждает, что не только с лозунгом, но и с задней мыслью о возврате земельной собственности идти в Россию нельзя. Впрочем, не пугайтесь: его программа недалека и от нашей программы.
— Какой это вашей?
— Нашей, нашей, Издетский! Монархической! Так что не волнуйтесь и дайте мне поспать до Берлина! Вы мне надоели наконец своей любознательностью.
— А мне кажется, вы — скрытый милюковец, — не унимался Издетский. И хотя спрашивал он шутливо, желваки на его обтянутых кожей скулах перекатывались зло, а узко поставленные глазки смотрели внимательно и настороженно.
— Если кажется, перекреститесь, — сказал Венделовский и полез на верхнюю полку.
— Вы спите, Альберт Николаевич? — тут же раздалось снизу. — Не сердитесь. Нам работать вместе и головы из-за этих бумажек под пули подставлять. Я хочу быть в вас уверен как в самом себе.
— Хватит дурака валять, Издетский! Вы всю жизнь выполняли и будете выполнять чужие задания. Но успокойтесь. Ни вас, ни ваших начальников я не боюсь: и у меня есть высокий покровитель...
Берлин не переставал удивлять Венделовского. Огромный город, переживший войну и революцию, всеобщую разруху, бешеное падение марки, инфляцию, продолжал неправдоподобную, фантастическую, иллюзорную жизнь. И даже днем, казалось, Берлин живет по-ночному: бурно, бестолково, лихорадочно, точно в канун сильнейшего землетрясения, которое должно произойти через час-два и о котором все уже знают. Всегда поражающий приезжих своей чистотой, порядком на улицах, аккуратностью, Берлин имел вид запущенный, замусоренный донельзя. Дома — серые, закопченные, одряхлевшие; улицы — давно не подметаемые.
Переполнены все доступные увеселительные заведения — всевозможные кафе, биргале, вайнштубе, нахтлокали. По улицам текла густая толпа: фланировали офицеры несуществующей уже кайзеровской армии, в форме, с моноклями в глазу; спешили коммерсанты и «деловые люди», стремящиеся хоть на чем-нибудь подзаработать при ежедневно растущих ценах; спекулянты — «шиберы», как их называли, — направляющиеся на Монцштрассе, где бурлил «черный рынок»; продавцы жалких товаров с лотков, мальчишки-газетчики и мальчишки-папиросники; дамы из общества и проститутки разных рангов; то тут, то там возникали «шпаннцеры» или «шлепперы» (зазывалы), собирающие гостей в свои притоны, где можно и в карты поиграть, и голыми «нахттанцеринами» полюбоваться, музыку послушать, потанцевать и выпить, если у тебя завелись кое-какие деньжата. Была слышна русская речь. Берлин — один из крупных центров русской эмиграции. Немцы, недовольные пришествием русских, ворчат: «Скоро нам не будет места у себя дома...»
Дипкурьеры остановились, как обычно, в гостинице «Элита». И здесь царила грязь, запустение — рваные обои, осыпавшаяся штукатурка, ломаная мебель. Но были тут и свои преимущества: неподалеку старомодное здание на Унтер-ден-Линден — русское посольство и канцелярия эмигрантов на Люцовштрассе, где дипкурьеры сдавали и получали почту; относительно невысокие цены, некоторые знакомства с прислугой, предупреждающей о внезапной облаве или интересе, проявляемом к постояльцам «шпитцслями» или обыкновенными «поленте».[22] Номер курьеров выходил окнами во внутренний двор, в полуторах метрах внизу находилась крыша какого-то гаража или сарая, подходившая к широкой стене, по которой — в случае необходимости — можно было пробраться на соседнюю тихую улочку. Издетский авторитетно объяснил, что это как бы второй вход или выход — вещь совершенно необходимая при нахождении на конспиративной квартире...
Днем курьеры отнесли вализу в эмигрантскую канцелярию. Один из заместителей военного агента капитан Снесарев, чем-то явно озабоченный и встревоженный, принял почту и сказал, что они свободны, посылка для них не готова, к тому же не исключено, что им придется выехать в Вену: у поехавшего в Белград дипкурьера полковника Бемера какие-то неприятности там, необходимо по выяснении обстоятельств — принимать меры. С восьми вечера Снесарев просит их быть неотлучно в номере, он им позвонит.
— Черт побери! — воскликнул Издетский, когда они вышли. — Только задержки здесь не хватало!
— А что? Вы недовольны? Хоть сутки отдохнем от поезда.
— Отдохнешь тут, пожалуй! — ротмистр казался расстроенным. — У меня на Берлин специальное задание от генерала Перлофа.
— Тайна, конечно?
— Кой черт! Искать его дальних родственников по всем ночлежкам Европы! — и он принялся рассказывать о князьях Белопольских, о немой красотке Кэт, которая поди знай! — оказалась любимой родственницей генерала, княжной Ксенией, растерявшей родных. Фон Перлоф сухарь сухарем кажется, а вот внезапно воспылал родственными чувствами, из Константинополя в Белград перевез, в закрытом пансионате ее держит, лечит, ничего не жалеет. И взял себе в голову найти кого-нибудь из семьи Белопольских. Обнаружил он след князя Николая Вадимовича в Белграде, но тот уехал, кажется, во Францию, и ниточка оборвалась: хоть и заметная фигура князь — общественный деятель в прошлом, думец, либерал, масон, но и Франция — не Псковская губерния, — потерялась иголочка в стоге сена.
По тому, с каким раздражением и неприязнью рассказывал это ротмистр, Венделовский сделал для себя вывод — Издетский не любит своего начальника.
— Если не возражаете, Станислав Игнатьевич, — сказал он участливо, — я готов сопровождать вас в прогулках. Но предлагаю сначала немного поразвлечься.
— Очень... э... немножко. Я почти без денег.
— Уже? — удивился Венделовский. — Тогда я приглашаю.
— С чего это? Благотворительность? И откуда у вас... э… э... деньги? Мы ведь и получали и тратили, кажется, одинаково.
— У меня богатый дядя, — какая вам разница?
— Русский офицер обязан... э... э... — Издетский нахмурился, — Вы меня покупаете? Кому это надо?
— Только большевикам. — Венделовский заразительно засмеялся.
— Но я не продаюсь дешево. — Издетский вроде бы успокоился и принял игру.
— За сколько? Впрочем, моя фирма не постоит перед любой суммой, чтобы приобрести такого человека, как вы, Станислав Игнатьевич.
— Действительно, почему бы и не поразвлечься, — заколебался Издетский. — Только условие — расходы поровну и никаких излишеств, Альберт Николаевич. Хороший... э... э... обед и недолгая прогулка.
— Принимается! Предлагаю зоо! Или луна-парк?
— Пожалуй, последнее: звери в клетках напоминают нас с вами.
— Позвольте спросить, кто? Львы или обезьяны?
— Что-то вы сегодня слишком развеселились, Венделовский?
— Я же сказал, дядюшка...
К ним подошла совсем юная проститутка, с лицом плохо умытой Гретхен. Остановила свой взор на ротмистре, сказала неожиданно хриплым — не то простуженным, не то прокуренным — голосом:
— Пригласи меня, фати[23]. У меня красивая грудь. И ты такой красивый.
— Weg, weg![24] — внезапно озлился Издетский. — Свинство какое!
— Вы не любите девочек? — изумился Венделовский. — Или эта не в вашем вкусе?
— Да какое вам дело, сударь?! — Он выругался.
Они приехали к луна-парку. Видимо, из-за хох-бетриба[25] народу и здесь оказалось предостаточно. Посреди газона — гигантская надпись «Радуйтесь жизни». На дорожках сравнительно чисто. Множество ларьков, павильонов, аттракционов. На озере, на помосте выступает самый сильный человек в мире — Марино. Он поднимает шестерых и держит на себе автомобиль. Неподалеку американизированный «Бар Дальнего Запада» и дамский бокс... Венделовский с видом завсегдатая повел коллегу в глубь парка. Они оказались возле ресторанчика с веселым названием «Тары-бары». Издетский смотрел настороженно.
— Здесь самые лучшие и дешевые счи в Берлине, мои ами. И молодые поросятки. Уж поверьте!
После вкусного, хотя и не очень сытного обеда умиротворенный Издетский, к которому вернулась его всегдашняя самоуверенность, напомнив про обещание сопровождать его, повез Венделовского по крупным центрам русской эмиграции. Сначала они отправились в бойкий торговый район, где на Нейскенигштрассе в одном из дворов, в глубине, стояло двухэтажное обшарпанное здание — бывшая казарма, в которой ныне размещалось общежитие Общества помощи русским гражданам. Благородные эмигранты называли этот притон по-петербургски — «Вяземская Лавра» или «Васина деревня».
Пройдя по щербатому булыжному двору и попав внутрь общежития, дипкурьеры увидели мрачную картину: полутемные комнаты, низкие потолки, грязные, с обсыпавшейся штукатуркой стены, почувствовали кислый, застоявшийся воздух. Узкие кровати (вернее, проволочные нары)} стояли почти впритык друг к другу — истонченные рваные матрацы, ни постельного белья, ни одеял, каждый использовал свое имущество, укладывая его под себя.
Издетский обратился к пожилому человеку с окладистой бородой с вопросом, где находится канцелярия.
— В конце коридора по лестнице, на второй этаж. — И, проводив взглядом ротмистра, старик сказал буднично: — Задерганный. Должно, умрет скоро. С изъянцем. Крови много на нем безвинной.
— Так вы прорицатель?
— Был бы им, сидел у себя в Печерской лавре. Лицо я духовное, сан имею. Отец Василий имя мое. А вас как величать прикажете?
— Венделовский, коммивояжер, волею обстоятельств.
— Все мы здесь волею обстоятельств — странники, гонимые ветром времени, страдающие за грехи свои. Каждой твари по паре, простите за грубость, вырвавшуюся невольно. Одно слово — беженцы. Гнием круглосуточно... Нет, не все, конечно. Есть здесь и те, что за любую работу хватаются, чтобы прокормить ближних своих... Был тут один... Дворянин, инженер-строитель. В мастерской какой-то трудился. Говорил все: знаете, отец Василий, хорошо стал понимать я пролетарские лозунги. И сознание у меня истинно пролетарское. Готов станки ломать, бастовать, на баррикадах сражаться. Вижу, как грабят нас хозяева.
— Может, он с большевиками спутался?
— С жизнью он спутался, — ответил старик.
В это время вернулся Издетский. Лицо его было непроницаемым,
— Идемте, Альберт Николаевич. И тут у меня «зеро». Вы свидетель перед Перлофом.
Они посетили еще одно русское общежитие и городской ночлежный дом на Фребельштрассе, возле госпиталя имени Фридриха Вильгельма. Все их старания оказались тщетными: пересекли Берлин, а никаких следов кого-либо из Белопольских так и не обнаружили. Оба устали, настроение испортилось. К тому же принялся накрапывать нудный, холодный дождь. Следовало как-то убить время до вечера, а при их весьма скудных средствах это представлялось затруднительным.
— А как же ссуда от богатого дядюшки? — в который раз издевательски спрашивал ротмистр. — Вы же обещали развлечения.
— Неутомимы вы, Станислав Игнатьевич, неутомимы в развлечениях, — отшучивался Венделовский. — Оставим что-нибудь на вечер и на ночь, если угодно. — Они проходили мимо мрачного здания филармонии, и странная мысль неожиданно пришла ему в голову. — А знаете, — сказал он бесшабашно, — только не удивляйтесь! Мы с вами сейчас отправимся на... Знаете, куда торопятся те люди, что толпятся у входа? Не знаете? Тогда читайте — на лекцию. И кого? Небезызвестного историка Милюкова. Да, да! Редактора газеты «Речь», сторонника аннексии Дарданелл, знаменитого своей речью «Глупость или измена?» в Думе.
— Так это здесь? — удивленно пробормотал Издетский. — Но почему мы... э... э... должны слушать болтовню старого идиота?
— Во-первых, нам абсолютно нечего делать. Идет дождь, и мы — рядом, это перст господен. А во-вторых, как вы говорили. Белопольский — фигура известная именно среди милюковцев. Где же наводить справки о нем, как не в их среде?
— Постойте! — вскричал ротмистр. — Сегодня какое число?
— Двадцать восьмое с утра было.
— Вы хотите увидеть театр? Извольте, отправляйтесь поглазеть на Милюкова. А меня увольте! Да! — зло выкрикивал Издетский. — Я не пойду, даже если мне приплатят!
— Удивляете, коллега! — Альберт Николаевич сразу почувствовал резкую перемену в настроении своего напарника, который, без сомнения, знал нечто важное, о чем не мог, не имел права говорить. — Не по-товарищески поступаете, Станислав Игнатьевич. Весь день мы вместе, вы меня обижаете, честное слово, обижаете! Такое не принято среди людей нашего круга. Именно здесь вы бросаете меня!.. Вы что, боитесь идти? Да?! Я догадался? Вы боитесь встретить здесь кого-то! Точно?! Ваши прошлые, крымские делишки? Вы боитесь? Факт.
— Ну что вы, право, — пожал плечами ротмистр. — Никого я не боюсь. Просто растерялся от неожиданности. Я не обязан выслушивать лекции одного из самых ярых губителей России. Сегодня у меня иные задачи. — Издетский приходил в себя, начинал говорить в обычной манере, кривя серые губы. — Но если вы настаиваете. Что ж! Идемте, меня еще никто не упрекал в забвении чувства товарищества, а тем более в трусости.
— Вы опять говорите загадками.
— На них вам ответит... э... э... Милюков.
Они вошли в зал и уселись посредине, возле прохода. Издетский наотрез отказался продвинуться вперед. Лекция уже шла. На трибуне витийствовал хорошо известный всем Павел Николаевич Милюков, профессор, блистательный оратор и прожженный политик, кадет, один из тех «главных» либералов, которые «расшатывали» Российскую империю. И сейчас Милюков — плотный, румяный, с быстрым взглядом голубых глаз — вдохновенно говорил о российской политической ситуации так, точно не было двух революций, гражданской войны, бегства из Крыма; точно стоял он по-прежнему на думской трибуне круглого зала Потемкинского дворца.
Впрочем, все более внимательно вдумываясь в слова Милюкова, Альберт Николаевич с удивлением улавливал и новые ноты, из которых начинала складываться и совершенно иная мелодия: оратор пропагандировал необходимость приспособления старой политики к современным условиям с учетом ряда таких факторов, с которыми — увы! — все партии России обязаны были считаться.
Белое движение, говорил он, в настоящий момент вряд ли сможет завоевать Россию, так как советская власть держится не без воли народа. В том виде, в каком существует оно ныне, белое движение, лишенное идеи и творческих сил, уверенно идет к тихой и мирной кончине, замирая от старческого склероза. Следует выбирать иной путь, отвернувшись от реставрационных вожделений, спрятанных в складках свернутых монархических знамен. В русской эмиграции появился ряд мелких групп, стремящихся перенести борьбу внутрь России путем террора. На этой почве и возникают сверхоригинальные сращения партий и группировок. С другой стороны, в среде эмиграции — особо среди молодежи — уже начинают наблюдаться и неосознанные стремления к реабилитации современной России. Как ни странно, в то же время эти люди используют свои теории для оправдания своей правой тактики во имя реставрационных целей. Они всячески потакают слепым инстинктам, темным обрядам, разжигают ненависть к иноверцам, а также культивируют монархические настроения среди своих соратников, что совершенно алогично первой части их программы.
Альберт Николаевич искоса посмотрел на Издетского. Тот сидел напряженно, застыв, как изваяние. Он словно ждал чего-то. Холодно поблескивал седоватый ежик волос, нервически дергалась щека. Крепко сцепленные руки заметно подрагивали на колене.
Милюков, закончив лекцию и поклонившись собравшимся в ответ на их не очень дружные аплодисменты, начал спускаться с трибуны в зал. К нему подошли несколько человек и, оживленно разговаривая, двинулись следом по проходу. Венделовский увидел, как из третьего ряда быстро поднялся неопределенного возраста человек и, выхватив револьвер, с криком «За царя и царскую семью! За Россию!» стал стрелять в спину Милюкова. Милюков упал. Поднялась паника. Двое из окружения Милюкова набросились на стрелявшего, стали бороться с ним и тоже упали. Неизвестно откуда с пистолетом появился второй террорист и, не целясь, выстрелил в груду барахтающихся тел. В зал ворвались полицейские.
— Бежим! — Издетский схватил за руку Альберта Николаевича и с силой потянул за собой к боковому выходу. — Скорее!
— Но в чем дело? — упирался тот, уже понимая, что именно об этих выстрелах знал заранее ротмистр.
— Потом, потом! — вскрикивал Издетский. — Мы не должны быть замешаны в этом. Я... э... объясню. Да поспешайте, черт возьми!
У Издетского был отличный сыскной нюх — ничего не скажешь! Он ориентировался так, точно бывал здесь сотни раз. Какими-то переходами и боковыми лестницами они пронеслись через здание и спустя несколько минут оказались на маленькой незнакомой улице — вовсе не на той, с которой входили. Ротмистр по инерции продолжал тащить Венделовского. Наконец, запыхавшись, выпустил.
— А вы испугались, ротмистр, — с чего бы? Держу пари, вы знали обо всем, знали и этих, стрелявших. Ваши друзья? Однополчане?
— Я не могу довериться вам, Венделовский. Это не моя тайна.
— Ах, ротмистр, ротмистр! За кого вы меня принимаете?! Стреляли в Милюкова, да еще с лозунгом «За убиенного царя и Россию». Значит, наши друзья — монархисты. И вы знали об этом с первых же минут появления возле филармонии. Значит, Лига! Думаете, я тупица! Мои взгляды вам известны. Мы — коллеги. А теперь мы как бы и соучастники. Да и какая тайна? Завтра берлинские газеты опишут это покушение или убийство со всеми подробностями. И фотографии ваших друзей напечатают. Их же схватили, видели?
— А вы видели — точно?
— Видел.
— Вот черт. Жаль. Хотя мы были незнакомы. Это, так сказать, берлинская... э... э... группа — сторонники открытой борьбы.
— В то время как константинопольско-белградские группы проповедуют иную тактику. — Венделовский заговорщически улыбнулся, показывая, что и ему кое-что известно. — Такие же боевые организации, такие же «списки приговоренных». Надеюсь, ваши знакомые не промазали. Кто же они, герои?
В конце концов Издетский, то ли преодолев сомнения, то ли движимый какими-то планами относительно «привязывания» к себе Альберта Николаевича, рассказал все, что знал. Имя первого стрелявшего — Шабельский-Борк. Он сын помещика, служил в туземной дивизии под командованием великого князя Михаила Александровича, в эмиграции жил сначала в Берлине, потом в Мюнхене, занимался литературной деятельностью, убежденный монархист, считавший, что «Гучков и Милюков довели страну до революции...». Другой — Сергей Таборицкий. Во время войны он окончил Елисаветградское кавалерийское училище, служил в Северной армии авантюриста и самозванца Авалова-Вермонта, был правой рукой начальника охранки армии Селевина, в свое время повешенного военно-полевым судом за откровенный разбой. Затем корнет недолго сотрудничал в «Призыве», был сельским батраком в Померании. В последнее время оба бедствовали — пока не попали в поле зрения Лиги и не согласились на сотрудничество. В качестве испытания им было поручено убийство Милюкова, имеющее демонстративный, политический характер, — судьба, мол, по воле провидения настигает всякого, кто приложил руку к разрушению монархии. Шабельский и Таборицкий ждали подходящего случая: Милюкова следовало уничтожить в общественном месте, на глазах как можно большего числа людей. И, по отзывам коллег, не очень-то и торопились. Жили в дорогих номерах отеля «Мариенбад», у них имелись деньги. А о лекции Милюкова было объявлено и в русских колониях, и в газетах...
Венделовский, как казалось, без большого интереса выслушал коллегу. Теперь, однако, следовало как-то поощрить его откровенность, отблагодарить его, что ли, не акцентируя на этом внимания... И поскольку вечер уже наступил, Альберт Николаевич достал бумажник и, вздохнув, пересчитал деньги, а потом беспечно махнул рукой, сказал нечто вроде «где наша не пропадала», «живем все равно один раз» и предложил завершить день там, где захочет его приятель. К его удивлению, от выпивки и даже от женщин Издетский отказался. И вдруг предложил с чувством плохо скрытой неловкости:
— Может быть, э... сходим в театр «Эроса»? Слышали, что это? Уникальное заведение, не пожалеете. — Издетский как-то подобострастно захихикал, что также было несвойственно ему.
Венделовский внутренне насторожился.
— Что, вторая филармония? — спросил он с насмешкой. — И там стреляют друг в друга?
— О нет, там театр! Зрелище! Незабываемые картинки. И только в Берлине. Нам ничего не грозит, уверяю.
Театр «Эроса» находился в западной части города, напротив крупного варьете, в одном из бесчисленных маленьких танцевальных залов. Вчера здесь танцевали горничные и продавщицы с шоферами и грузчиками, сегодня, как предупредил их швейцар, «у нас только для дам». Они зашли, и их тут же окружили гладко-выбритые, напудренные мужчины, с подведенными глазами, накрашенными ярко губами, намазанными бровями, с искусственными цветками в петлицах. Танцующей походкой они вели своих «дам» — коротко остриженных, в широких юбках и темных блузках с высокими закрытыми воротниками и галстуками, нередко с моноклями в глазу. Зал был переполнен. Странные прически, белые, напудренные, словно заштукатуренные лица, яркие губы и глаза. Запахи дешевых духов, пудры, пота, табака. Духота. Теснота. Двусмысленные улыбки. Смех. Где мужчина, где женщина — разобраться невозможно. Издетский чувствовал себя здесь как рыба в йоде и не мог скрыть этого. «Вот она — слабина, вот ахиллесова пята нашего несгибаемого, неподкупного и бесстрашного ротмистра, — думал Альберт Николаевич с удовлетворением, словно человек, решивший сложную инженерную задачу. — Это мы запомним, учтем и другим расскажем. Меня он, видно, уже считает совершенно своим и не стесняется. Черт знает, какая трансформация произошла с этим человеком! Наверняка, он уже бывал здесь».
Подымается занавес. На импровизированной сцене начинается нудная сентиментальная пьеса из «их» жизни. Актеры ужасные. Венделовский с трудом пытается понять содержание, хотя идея пьесы утверждается в каждом эпизоде, чуть ли не в каждой реплике — как плох мир и плохи люди, не понимающие «их» и заставляющие страдать. В зале гробовая тишина. У некоторых на подкрашенных глазах слезы. Венделовский с трудом сдерживает желание засмеяться. Если бы не дело, не перспективность внезапного «открытия», он бы с удовольствием высказал бывшему ротмистру все, что думает о его любимом театре...
— Ну как? Не жалеете... э... о потерянном времени? — спрашивает Издетский, когда они возвращаются в отель ночью на конном омнибусе, работающем до утра и прозванном в Берлине Буммлерваген — «кутиловоз».
— Было любопытно, Станислав Игнатьевич. Весьма, — отвечает Венделовский, боясь переиграть. — И хотя я не принадлежу к... героям пьесы, зрелище показалось мне весьма занимательным. Благодарю за доставленное удовольствие.
Да, — резюмирует Издетский. — Мы отлично провели свободный денек...
На следующее утро газеты полны сообщений о неудавшемся покушении на Милюкова. Рассказываются биографии Шабельского-Борка и Таборицкого. Они полностью совпадают с тем, что сообщил о них Издетский. После выстрелов Шабельского Милюков оказался невредимым: его заслонили собой бывший профессор Каминка и редактор влиятельной эмигрантской газеты «Руль» Владимир Дмитриевич Набоков — бывший камер-юнкер и сын министра при Александре III. Его-то и убил случайно Сергей Таборицкий, когда стрелял вторым в груду тел, барахтавшихся на полу, в проходе. Террористы арестованы полицией. Ведется следствие. Как сообщили «из весьма осведомленных кругов», по этому же делу будто бы арестован и граф Пален, бывший офицер лейб-гвардии конного полка, начальник дивизии у генерала Юденича, ныне близкий к крайне правым русским монархическим кругам, один из руководителей тайной Лиги, ведущей активную борьбу с мировым большевизмом.
— Интересно, — комментировал сообщения Венделовский. — С каких-то пор Милюков записался в большевики?
— Э... э... Наши враги — это наши враги, — усмехнулся ротмистр. — Не все равно, как они называются?!
...Помощник военного агента капитан Снесарев в назначенное время передал им вализу и подтвердил приказ срочно ехать через Вену: бывший кирасир полковник Бемер, действительно, по невыясненным до сих пор обстоятельствам, задерживается местной полицией. Его напарник с почтой ждет инструкций, находясь без документов, по существу, на нелегальном положении и каждую минуту ожидая ареста, ибо у него, ко всему, нет и австрийской визы. Им предписывалось разыскать дипкурьера, почту забрать, а при невозможности перевезти через сербскую границу — сжечь.
— Положены ли в вализу берлинские газеты? Для главнокомандующего? — спросил Венделовский.
Капитан Снесарев растерянно пожал плечами.
— В этой суматохе, — сказал он. — Я затрудняюсь. Я не присутствовал при опечатывании вализы. Но генерал Врангель лично просил меня напомнить, чтобы все газеты, в том числе и советские, продающиеся здесь, были отправлены с почтой для него, — настаивал Венделовский. — Это приказ, и я обязан. Это мой служебный долг, наконец.
Издетский молча наблюдал за этой сценой. Авторитет Альберта Николаевича, имевшего личное поручение от самого Врангеля, значительно вырастал в его глазах.
— Хорошо, — сказал Снесарев. — Я пошлю кого-нибудь к киоску.
— И вы полагаете, я смогу провезти их в боковом кармане пиджака? Вализа ведь запечатана.
— Не понял, — Снесарев смешался.
— На первом же пограничном пункте меня из-за вашей нерасторопности, господин капитан, арестуют, как большевистского агитатора. Так что распорядитесь только о газетах нашего направления.
Слушаюсь, господин Венделовский, — капитан впервые за время их знакомства почтительно принял под козырек и, четко развернувшись, вышел...
И вот снова поезд, стучат колеса на стыках рельсов. Снова страны, границы, вокзалы, разъезды. Снова купе на двоих — один отдыхает, другой несет бдительную вахту. Какая это поездка? Третья? Пятая? С разрешения Центра Альберт Николаевич начал работать — содержание каждой перевозимой вализы просматривается, с наиболее интересных документов врангелевского штаба снимаются фотокопии. Издетский, получивший не одно доказательство дружеских чувств коллеги, при необходимости нейтрализуется. Однако, за исключением активизации кутеповцев в Болгарии, ничего существенного пока не обнаружено. Ярких документальных материалов, подтверждающих связь белой армии и ее вождей с правительственными кругами Англии, Франции, Польши, не прослеживается. Задание Центра не выполнено. Но Венделовский чувствует шестым чувством, интуицией разведчика — поиск надо начинать с Болгарии...
«Плечи» поездок удлинялись. Время, проводимое в пути, увеличивалось. И хотя дипкурьерская работа становилась все отлаженней, привычнее и обыденнее, чаще стали проявляться непредвиденные, кажущиеся случайными, мелкие, в сущности, срывы, досадные задержки, недоразумения. В их обилии чувствовалась определенная система, легкая, почти неощутимая направляющая рука, присутствие которой давало о себе знать все настойчивей, хотя и маскировалась она по-прежнему столь же искусно. Венделовский понимал: ими начинают интересоваться спецслужбы все большего числа стран. Слишком многие из них связывали свою политику и дипломатию с еще существующей армией Врангеля, хотели как можно чаще знать, кто, как, с чьей помощью надеется использовать полки кадровых, отмобилизованных солдат и офицеров, готовых по первому приказу своих командиров стать кондотьерами и направить оружие против тех, кого повелят считать врагами. Наиболее активными оставались французы. Они больше всех поистратились на Врангеля и хотели знать, чем он занимается и о чем думает.
Альберт Николаевич вспомнил и предыдущую поездку. Они прибыли прямиком в Прагу, сдали почту в управление военного агента, пересели на другом вокзале на будапештский поезд и отправились в Венгрию. На пограничной станция попали в забастовку железнодорожных служащих и просидели трое суток в вагоне, без денег и еды, боясь, что у них под любым предлогом могут отнять вализу. Из-за непредвиденной задержки и возникла гонка, которая продолжалась по всему дальнейшему маршруту. А на вокзале в Будапеште их уже ждал помощник полковника фон Лампе — Иловайский, он прямо в купе принял и передал им почту. Сербскую границу миновали ночью. Два часа всего они пробыли в Белграде и, получив распоряжение не останавливаться в Сремских Карловцах, отбыли через Ниш, по живописной долине реки Моравы, мимо Косова Поля на Цариброд — последнюю станцию перед болгарской границей. Здесь существовал так называемый «русский этап», которым заведовал бывший полковник Долгов («Не смейте говорить «бывший»: меня трясет!»). При станции чуть ли не круглосуточно работала харчевня, где кипел огромный самовар и продавались бутерброды. Вокруг была дикая природа — поросшие лесом высокие холмы, внизу шумела бурная, горная речка. Переехав границу, Венделовский всегда остро чувствовал: Европа оставалась позади, он — на Балканах. Впечатления были безотрадными — грязные маленькие вокзалы, переполненные крестьянами и вчерашними солдатами (куда они все ехали — оставалось загадкой), одинокий извозчик, покосившиеся домики, разбросанные в беспорядке, месиво грязи на жалких центральных городских площадях. Правда, если быть объективным, Европа явно уступала в другом — в еде: Балканы встречали пассажиров белым хлебом, сыром, колбасой...
Тут мысли Венделовского были прерваны приходом жандарма, которого почему-то сопровождал похожий на страуса человек, представившийся на французском языке «инспектором специальной полиции». Жандарм проверил их документы, а «инспектор» неожиданно предложил им сойти со всем багажом, угрюмо заметив, что неподчинение, а тем более сопротивление бесполезно. Он показал кивком головы на окно: с высокого перрона в купе заглядывали три совершенно одинаковые, с нафабренными усами, физиономии. Издетский начал было скандал, но Альберту Николаевичу удалось укротить его, и, эскортируемые бдительными стражами, отобравшими у них вализу и багаж, они отправились в помещение вокзала. Положение было безвыходное: ничего не сделать — болгарская полиция у себя, на границе, проводила таможенный досмотр. Но когда по приказу француза была вскрыта вализа, Венделовский выразил решительный протест и потребовал, чтобы ему предоставили возможность связаться с Софией, с русским посольством. Альберт Николаевич уже знал содержание вализы (успел ознакомиться), поэтому внутренне он не очень-то и волновался, однако проявить дипломатические способности и служебное рвение следовало для пользы дела. Он добился удовлетворения просьбы, и его провели в аппаратную. Единственно, что его занимало, — участие в этой акции представителей доброй и старой союзницы Франции. Чем оно вызвано? Цель их задержания была неясна... Не дозвонившись до посланника Петряева, Венделовский разыскал военного агента генерала Ронжина и, доложив о случившемся, просил вмешательства и распоряжений. Разговор с Ронжиным тоже не помог Венделовскому прояснить ситуацию. Характерно, что досмотр и задержание произошли в Болгарии. Именно в Болгарии, находящейся в преддверии каких-то событий.
Когда он вернулся, ему объявили, что они оба арестованы, а их багаж и почта конфискованы. «На каком основании?» — спросил он по-французски, демонстративно обращаясь не к жандармам, а к «инспектору». — «За провоз контрабандных товаров, — невозмутимо ответил тот. — Изъяты бриллианты».
— В чем дело, Станислав Игнатьевич? — спросил Венделовский.
У Издетского был вид побитой дворняги.
— М’сьс — француз? — осведомился «инспектор».
— Я русский, — по-французски ответил Альберт Николаевич.
— У вашего коллеги изъяты два крупных бриллианта. Мы приняли решение задержать вас до выяснения обстоятельств и ваших личностей. Просим следовать, господа.
Их провели через привокзальную площадь в одноэтажное приземистое здание с решетками на окнах и заперли в комнате, обставленной убого, хотя и не без полицейской сообразительности: прибитый к полу струганый стол, две дубовые скамьи рядом, платяной шкаф, деревянные кровати, застланные домотканым рядном. Когда охранники ушли и сухо щелкнул замок запираемой двери, Венделовский, посмотрев на коллегу с презрением, сказал сухо:
— Рассказывайте! И без фантазий. Иначе вам одному расхлебывать это забавное происшествие. Одно слово лжи, и я умываю руки.
— Я думаю, это происки... э... большевиков, — выдавил Издетский.
— О большевиках потом. Начинайте с бриллиантов.
— Ничего особенного. Одна пожилая дама из Белграда дала мне... э... два камушка и просила продать в Константинополе. Она несколько раз помогала мне — долг платежом красен.
— Она делилась с вами?
— Как вы могли подумать?! — По тому, каким тоном были произнесены эти слова, Венделовский понял: врет, брал свою долю, и немалую.
— Очень мне все это не нравится, Станислав Игнатьевич, — с почти искренним сожалением сказал Альберт Николаевич. В душе он радовался: Издетский попадал в полную зависимость от него, хотя неизвестно было еще, чем могла обернуться для них эта непредусмотренная ситуация. — Мы — дипкурьеры главнокомандующего русской армией, а не... ловцы бриллиантов. Придется отдать их этому французу.
— Но это... э... э... невозможно! — вскрикнул Издетский. — Как я расплачусь?
— Вот это ваша забота. Я, к сожалению, ничем помочь не могу. Вы же не посвящали меня в свои финансовые аферы. Не доверяли, вероятно. Делиться не хотели.
— Да я впервые пошел на это! Слово офицера!
— Контрабандист из вас не получился. Что скажут Климович, фон Перлоф? А если дойдет до Врангеля?! Мой вам совет: скорее избавляйтесь от бриллиантов. Никаких протоколов! Вы ему — камни, он нам — вализу и свободу. Еще неизвестно, возьмет ли? Черт его разберет, кого он представляет!
— А я вам говорю... э... все подстроено большевиками!
— Вряд ли. А почему вам кажется?
— Они давно за мной охотились. Однажды в Берлине я заметил, какой-то тип фотографировал меня в окне вагона. А в Софии недавно во дворе посольства ко мне подошел человек в мундире без погон и... э... э... попросил зайти для переговоров в ближайшее кафе. Я, разумеется, отказался, потребовав, чтобы он изложил суть дела на месте. Без обиняков он заявил, что одна правая организация — какая... э... он пока сказать не может — очень интересуется перепиской Врангеля. Он предлагает передать ему всю почту на два-три часа и гарантирует, что... э... печати останутся в полной неприкосновенности. За большое вознаграждение, конечно. Я, разумеется, отказался и хотел схватить мерзавца, чтобы удостовериться в его личности, но он вырвался и исчез.
— Очень интересно! Но почему вы решили, что это — агент Советов, если он представился монархистом?
— Правые и так знают все, что исходит из штаба главнокомандующего.
— Ну, тут вы преувеличиваете.
— А я вас уверяю!
— Мне нужны не слова, а доказательства, Станислав Игнатьевич. Факты! Мы что же — возим открытые вализы?
— Именно, именно! Для определенного круга открытые.
— И для вас тоже?
— Да. Почти всегда — скажу, как другу.
— А Врангель? Шатилов? Миллер?
— Естественно, нет. Я имел в виду руководство монархической лиги. Открою вам секрет. После того как этот негодяй пытался меня купить, я доложил об инциденте генералу... э... э... — Издетский поперхнулся и, откашлявшись, продолжил: — Ну, не важно, одному из военных руководителей лиги. Дело в том, что тот человек назначил мне еще одно свидание.
«Не отсюда ли у тебя эти «дамские» бриллианты, голубчик? — подумал Венделовский. — Ротмистр оказался более прытким, чем я полагал. Похоже, он молится сразу трем богам...»
— Ну, и? — заинтересованно поддержал он разговор.
— Я предложил генералу обмануть их. Конечно, тип не имел никакого отношения к правой организации — проверка установила.
— Ну, и? — повторил Венделовский озабоченно, ибо разговор, начавшийся почти случайно, давал все более важную информацию.
— Я придумал, как обмануть того типа и всех, кто за ним стоял, специально изготовленными «секретными» бумагами. Однако генерал отказал: получив нашу вализу, большевики могут сами подложить туда компрометирующие «белое дело» документы и передать их французскому правительству или в адрес Генуэзской конференции, чтобы опорочить нашу армию. Понимаете? Да, факт продажи почты дипкурьером главнокомандующего, став достоянием печати, говорил бы против нас.
— Резонно, — согласился Альберт Николаевич. — Но почему же вы думаете, что против вас действуют именно большевики? Может быть, это милюковцы, керенцы — мало ли кто еще из «леваков».
— Почерк особый. Видно птицу по полету, — я знаю, в России насмотрелся, поверьте. И вообще — за последние месяцы повсеместно усилилась деятельность именно... э... большевистской агентуры. Генерал Климович — только между нами, совершенно конфиденциально! — начинает крупную операцию. У Кутепова под самым носом давно сидит, судя по всему, крупный их агент.
Венделовский похолодел: неужели «засветился» кто-то из окружения «Баязета» или он сам? Издетский, выбитый из привычного состояния арестом, сболтнул лишнее. Ситуация резко менялась. Теперь и Альберт Николаевич был заинтересован в том, чтобы в кратчайший срок выбраться из этого городка. Следовало предупредить товарищей: «Баязету» грозила опасность!
— Вот что, Станислав Игнатьевич, — сказал он. — Я приложу все свое умение для того, чтобы мы с самыми меньшими потерями вылезли сухими из этой гнусной истории. Что я получу за это?
— А что бы вы хотели?
— Не знаю еще, если признаться.
— Не беспокойтесь: мой принцип — услуга за услугу.
— Беспокоюсь. Время такое. Пишите расписку. Я вам продиктую. Итак... Такого-то числа, месяца, года я, имярек, получил от господина Венделовского пятьсот фунтов за оказанную ему услугу, связанную с... О чем задумались, Станислав Игнатьевич? Сумма большая? Никакого значения это не имеет. Итак, на чем мы остановились?.. Связанную с информацией о деятельности монархической лиги, членом которой я являюсь. Написали? Подпись.
— Зачем это вам?
— Как только вы отдадите мне мои честно заработанные пятьсот фунтов, я верну вам расписку. Договорились? Выходит, вы гораздо богаче, чем я думал, когда поил, кормил вас в Берлине и развлекал в театре «Эроса».
— А если я не подпишу?
— Независимо от исхода нашего ареста, после возвращения я немедля докладываю обо всем Перлофу и главнокомандующему
— Уговорили. Но вы не разрешите ли сделать только одно добавление. Перед вашей фамилией я поставлю «член лиги». Так мне кажется удобней.
— Вы меня вербуете? Об этом поговорим после освобождения... А впрочем, пишите. — Получив расписку. Венделовский положил ее в бумажник и, подойдя к двери и забарабанив в нее кулаками, закричал: — Эй, кто там?! Часовой! Зови офицера!
Дверь открылась. На пороге стоял молоденький жандарм, стройный и темнолицый, тонкий в талии, словно танцор.
— Мы голодны, хотим есть.
— Я провожу вас, — он старательно выговаривал русские слова.
Жандарм в сопровождении часового с винтовкой вывел их из дома и повел через площадь в ресторан при отеле «София». Часовой присел в тени на корточки, прислонившись спиной к стене, а они зашли в небольшой и довольно чистый зал, где их уже ждал «инспектор». Он сделал приглашающий жест и отослал болгарского жандарма.
— Пообедаем вместе, господа? — не то спросил, не то приказал он. И добавил: — Пообедаем и поговорим. Все обсудим, как офицеры, союзники и интеллигентные люди.
Альберт Николаевич сделал знак Издетскому молчать.
— Мы готовы к беседе с минуты нашего незаконного ареста.
— Требовалось время, чтобы проверить ваши документы.
— И дипломатическую почту?
— Совершенно верно. Но все печати целы.
— Мы можем следовать своим маршрутом?
— Ни в коем случае.
— Что хотите вы?
— Однозначно ответить трудно.
— Разрешите, я вам помогу? Вы отдаете все конфискованное... за исключением одного бриллианта — по вашему выбору. Копии с документов, которые вы сняли, естественно, остаются у вас. У нас лишь один вопрос и одна просьба.
— Слушаю, хотя я рассчитывал на оба камушка.
— Будьте милосердны, сударь. Бриллианты принадлежат третьему лицу. И потом... Мы идем на сделку и хотели бы...
— Тут вы не можете ничего хотеть, — «инспектор» сразу посуровел. — Вон сидит человек. Он обязательно подтвердит, что вы давали полицейскому чиновнику взятку за свое освобождение.
— Понятно, — поднял руки Венделовский. — Вопрос снимается. Остается лишь просьба. Нам бы хотелось — это джентльменское соглашение! — чтоб нигде не осталось следов нашего задержания на болгарской границе — ни у них, ни у вас.
— И все за один камушек? Не много ли, господа?! Наш разговор несколько затянулся.
— Отдать оба бриллианта — самоубийство для моего друга, поверьте, господин инспектор.
— Охотно верю. И охотно пошел бы навстречу, если б у вас была какая-то сумма в твердой валюте. Мне ведь тоже делиться придется. И этим болгарам дать за молчание.
— Денег, как вы могли убедиться, у нас, увы, нет!
— Тогда вашему другу придется расстаться с перстеньком, который украшает мизинец его левой руки.
— Снимайте, Станислав Игнатьевич, — тоном, не допускающим возражений, сказал Венделовский.
— А где гарантии, что, как только мы расстанемся, нас снова не арестуют? — спросил Издетский.
— Да, действительно, где: — поддержал его Альберт Николаевич.
— Насколько, мне известно, господа направляются в Софию. Мы поедем вместе, и я гарантирую полную безопасность вашего проезда. Понравились ли вам местного изготовления кебабчичи? — повернулся «инспектор» к Издетскому.
— О чем еще говорит эта мерзкая лягушка? — тот не отвел ненавидящего взгляда.
По быстро скошенным в их сторону глазам Венделовский определил, что француз, может быть, и не француз вовсе. Во всяком случае, он прекрасно понимает по-русски. А по-английски? Альберт Николаевич, успокаивая и одновременно осаживая Издетского, как бы между прочим, произнес пару ничего не значащих фраз по-английски, внимательно следя за реакцией «инспектора». Нет, английского языка тот не понимал. Итак, рядовой оперативный работник Дезьем бюро. Да и то маловероятно. Скорее — мелкий сотрудник спецслужб французских оккупационных властей, нацеленный на врангелевцев и не брезгующий при случае заняться «частным промыслом». Полицейские всех стран, как известно, рады заработать и никогда ничем не брезгуют. На дипкурьеров он вышел случайно. Запугал или купил болгарских таможенников — и все. С таким же успехом он содрал бы куш и с других, найдя повод прицепиться к чему-то, а уж если появилась возможность прицепиться к контрабандным нарушениям — тем более. «Но мой «друг»-то, мой «друг»! Коммерсант: бриллиантами решил торговать, скотина! Непоправимый промах, господин ротмистр! Теперь в нашем спектакле мы наконец-то поменяемся ролями. Задание главнокомандующего — хм! — выполнено: вы у меня в руках, господин жандарм...»
«Инспектор», назвавший себя Симоном Барбатье, не соврал: до Софии они, действительно, ехали вместе, в одном вагоне. И вализа, и багаж были возвращены. Лишь Издетский понес ощутимый убыток, лишившись бриллианта и перстня.
Альберт Николаевич волновался. Поезд опаздывал, а ведь каждый час представлял угрозу для «Баязета», мог стать роковым. Венделовский раздумывал над тем, как он сумеет (должен суметь!) оторваться от Издетского, как доберется до конспиративной квартиры (если она еще не провалена), чтоб не «засветиться», и передаст связной SOS. Продумывал он вариант и на случай полной неудачи в Софии — каналы связи с «Доктором» в Белграде или через Центр. И то и дело вспыхивала мысль: а достоверные ли у него факты, чтобы поднимать шум, не следует ли еще и еще раз перепроверить то, о чем проболтался (и не сказал ли преднамеренно?) Издетский?
Альберт Николаевич часто выходил в коридор покурить. Ротмистр мешал думать, раздражал своими бесконечными вопросами о случившемся и о том, как им следует вести себя по возвращении в Белград и Сремски Карл овцы. Испуг сделал его беспомощным. Во время очередной остановки поезда к Венделовскому подошел француз, спросил светским тоном:
— Судя по моим ощущениям, м’сье не военный?
— Нет, — односложно ответил Венделовский. — Почему это вас интересует? Это допрос?
— О! — Симон Барбатье улыбнулся. — Хочу дать вам совет. Смею думать, полезный.
— Давайте.
— Не задерживайтесь в Софии, м’сье. Скоро там будет очень горячо для всех русских. Ваших лидеров будут арестовывать, изгонять..
— Благодарю за предупреждение. Чему обязан?
— О! О! Ну, о чем вы, м’сье! Вы же помогли мне немного разбогатеть.
— Я могу, следовательно, попросить вас о чем-то?
— Я уже оказал вам услугу.
— А нельзя ли подробнее?
— К глубокому моему сожалению, нет.
— Благодарю вас за все, — Венделовский шутливо поклонился.
В ЦЕНТР ИЗ ВЕЛИКО-ТЫРНОВО ОТ «БАЯЗЕТА»
«Политическая ситуация в Болгарии осложняется стремительно. На средства крупных банков создан реакционный союз «Народный сговор» во главе с Александром Цинковым, Александром Грековым, Христо Калфовым. Их опора — офицеры и унтер-офицеры, уволенные из армии. Тайной военной лигой руководят полковники И. Волков и С. Васильев. Связь со двором осуществляется через личного адъютанта Бориса III подполковника X. Калфова. Активно налаживаются связи с кутеповцами. Правительство Стамболийского идет навстречу реакционному лагерю, сближается с Сербией. Италия, боящаяся усиления Сербии и ее союза с Болгарией, принимает меры к свержению Стамболийского. Ее агенты вошли в контакт с правыми националистическими организациями. Сколачивается реакционный лагерь, растут общества, имеющие поддержку в государственном аппарате, учащаются антикоммунистические провокации. Вероятен вооруженный заговор с целью свержения правительства. Основная ставка — на кутеповцев, размещенных в крупнейших городах, имеющих гарнизонных начальников, комендантов на вокзалах, представляющих внушительную военную силу. Предполагаемый срок военного выступления — начало Генуэзской конференции, но не позднее середины 1922 года.
Болгарская коммунистическая партия разоблачает заговорщиков, проводит митинги и демонстрации. 30 марта самый массовый митинг состоялся в Софии. БКП заявила о своем твердом решении действовать совместно с БЗНС[26] против попыток военного переворота.
Идет разложение врангелевских войск и агитация за возвращение на родину. О сильном влиянии большевизма среди русских панически телеграфирует вице-консул из Варны Николай Иванович Свешников в адрес русской миссии и посланника Александра Михайловича Петряева. В последнем ответе от 23 марта Петряев, на основе указания главкома, потребовал принять категорические меры к пресечению стремления членов воинских контингентов репатриироваться в Россию, предупредил о полной секретности вышеизложенного и личной строгой ответственности при соблюдении данных указаний.
В связи с негласной перепроверкой всего штабного офицерства прошу ограничения связи, использования дополнительного канала лишь при крайней необходимости.
Баязет».
НОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА УССР ПРАВИТЕЛЬСТВУ БОЛГАРИИ
Передано по радио 3 апреля 1922 года
«Правительство Украинской Социалистической Советской Республики неоднократно проявляло готовность войти в дипломатические сношения с Болгарским Правительством.
Украинское Правительство с чрезвычайным прискорбием узнало, что Болгарское Правительство содействует организации белогвардейских вооруженных сил на территории Болгарского государства. В Болгарии находятся и формируются следующие части врангелевской армии: в Тырново находится штаб генерала Кутепова с интендантством и штабными командами; в Орехово и его окрестностях расквартирован Харьковский полк: в Габрово и Севлиево — конные дивизионы Корниловского и Дроздове кого полков: в Софии и ее окрестностях, а также в Варне — военные училища; в Варне — авиационный отряд. Части эти к 20 января, согласно приказу Кутепова, приступили к усиленным занятиям. Среди русских беженцев организована по приказу того же генерала регистрация добровольцев для пополнения означенных частей. Части эти снабжаются болгарским интендантством, отпустившим им бесплатно обмундирование и в настоящее время отпускающим сукно и кожу из казенных лавок. Формирующиеся с ведома, согласия и при содействии Болгарского Правительства враждебные Украинской Республике армии ставят себе целью нападение на Украину.
Правительство Украинской Социалистической Советской Республики, усматривая в вышеуказанных фактах прямую поддержку со стороны Болгарского Правительства действий и намерений, стремящихся к свержению Рабоче-крестьянской власти и нарушению безопасности и мирного труда украинского народа, считает необходимым довести до сведения Болгарского Правительства, что всякие воинские части, сформированные и снаряженные Болгарией, которые произвели бы нападение на Украину, оно будет рассматривать как регулярные части Болгарской армии. Правительство Украинской Социалистической Советской Республики надеется, что Болгарским Правительством будут приняты все меры к устранению вышеуказанных недружелюбных факторов по отношению к Украинской Социалистической Советской Республике.
Пользуясь случаем, Украинское Правительство подтверждает еще раз неоднократно выраженное стремление к мирным отношениям и мирному сотрудничеству с Болгарским Правительством».
ИЗ ГАЗЕТЫ «ПОЛИТИКА» ОТ 14 МАРТА 1922 ГОДА
«Член Народной Скупщины от Земледельческой партии Милош Москавлевич внес правительству интерпелляцию по поводу русской армии и генерала Врангеля: «Кто такой барон Врангель и признает ли его наше правительство как главу русского правительства и главнокомандующего русской армией? — заявил депутат. — Если правительство Врангеля не признает, то как он может иметь в Королевстве СХС своего военного агента и другого своего помощника в Белграде, который управляет судьбой русских эмигрантов и имеет влияние на Державную комиссию, являющуюся нашим государственным учреждением для помощи русским? Известно ли Вам, что местопребыванием так называемого «Русского совета» при главнокомандующем русской армией является София, а его духовный центр — в Берлине, в то самое время как главнокомандующий русскими войсками находится в Белграде и член этого совета от эмигрантов в Югославии П. В. Скаржинский, вместе с еще двумя представителями Врангеля, был на монархическом съезде в Рейхенгале в прошлом году, который вынес решение произвести реставрацию империи и бороться за уничтожение всех послевоенных договоров, в которых наша земля так заинтересована? Находится ли наше государство в состоянии войны с Россией, с какого времена и вследствие каких причин? Если нет, кто позволил агентам барона Врангеля производить регистрацию эмигрантов и все другие приготовления для вооруженного нападения на Россию с нашей территории? Известно ли Вам, каким гонениям подвергаются все те русские, которые не желают быть орудием авантюристических замыслов барона Врангеля и его помощников? Если Вы всего этого не одобряете, то думаете ли Вы для защиты наших жизненных отношений с демократической Россией принять меры для прекращения отравления нашего общества со стороны этих последних остатков мрачного периода русской истории?..»
Министр иностранных дел Пинчин в своем ответе заявил: «Генерал Врангель пользуется здесь правом гостеприимства. Его пребывание не носит ни политического, ни военного характера. Мы не признали Врангеля, когда он был главой русской армии и победоносно двигался на Москву. Мы не признали его и теперь... Мы не можем допустить, чтобы на нашей территории подготавливалось или было произведено какое-либо выступление против России. Подобное выступление, подготовленное на нашей почве, вовлекло бы нас в войну с Россией, которая никогда не будет пользоваться сочувствием сербского народа, несмотря на то что большевики — властители России... Мы воздерживались от принятия на себя каких-либо обязательств, которые могли бы вовлечь нас в войну с Россией. Нам ничего не известно о деятельности русских эмигрантов, о которых говорил автор запрос си Если б такая деятельность происходила под иностранным влиянием и если б подготовлялось выступление, например против нашего государства, то правительство приняло бы энергичные меры против таких выступлений...»
Глава двадцатая. БЕЛГРАД. АУДИЕНЦИЯ В КОРОЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
Отношения Врангеля и Александра Карагеоргиевича складывались сложно и весьма неоднозначно. Бывший регент Сербии и главнокомандующий ее армией в мировую войну, став королем и правителем государства сербов, хорватов и словенцев, начал активно проводить шовинистическую великосербскую политику, опираясь на Францию. У него своих дел и своих проблем было по горло: сколачивание молодого королевства, дипломатические усилия, укрепление администрации и армии, строительство дорог, борьба с хорватскими и македонскими сепаратистами[27]. Много повседневных забот, самых разнообразных: молодому королю все казалось одинаково важным и ответственным. Не удивительно, что порой он забывал о Врангеле, не уделял ему должного внимания, хотя в его политических планах армии, осевшей на его землях, отводилась активная роль. Разумеется, в рамках, дозволенных Антантой. Но не вечно же будет существовать этот союз стран Согласия! Международная обстановка может обостриться, может измениться после каждой европейской конференции. Говорят, она будет экономической, но это никого не обманывает! Издавна проигравший в войне платит долги, незаметно вооружаясь, думает о реванше. Врангель импонировал Александру. Как человек военный, король понимал русского командующего, его неколебимое стремление во что бы то ни стало сохранить армию, попавшую в жернова мировой политики, в борьбу различных партий и прожженных дипломатов. Александр сочувствовал ниспровергнутому дому Романовых, сочувствовал и монархическим идеям государственности: он сам строил королевство в условиях всеобщего послевоенного либерализма, разгула народной стихии, требующей всевозможных свобод и опирающейся на расшатанную экономику, слабость государственных аппаратов и дурной пример Советской России. Он поддерживал белую эмиграцию и Врангеля, хотя они доставляли ему немало хлопот и политических осложнений. Особо усилились эти осложнения в последнее время в связи с Генуей и все более заметным расколом между Врангелем и русскими монархическими кругами, которые нашли приют в его стране и поддерживаются верхушкой православной церкви.
Впервые после приезда главнокомандующего из Константинополя правитель Королевства сербов, хорватов и словенцев приглашал его на прием сам. Необходимость беседы назрела. Нужно было обсудить ряд безотлагательных вопросов и выработать мнение по каждому из них. Хотя, если отбросить дипломатический этикет и называть все вещи своими именами, не столько обсудить эти вопросы, сколько проинформировать о них Врангеля, познакомить со своими решениями, потребовать полного принятия их и неуклонного исполнения. Вопросов было несколько — первоочередных, связанных с русской армией в Болгарии; с местными проблемами; с Генуэзской конференцией. Аудиенция была назначена на два часа пополудни, Александр приказал: через полчаса прервать их беседу, считая это время достаточным для инструктирования (так он назвал про себя суть встречи) главнокомандующего русской армией. А чтоб беседа не выглядела по-государственному официальной, решил он принять Врангеля не в зале, не в кабинете, а в отдаленной комнате, где любил пить кофе с людьми, которым покровительствовал, либо с теми, отношения с которыми предпочитал не афишировать. Прием в «кофейной» комнате имел как бы двойной смысл. Аудиенция, данная здесь, означала проявление монаршей доверительности, в которой было и некоторое пренебрежение. Для приема титулованных особ имелись парадные залы.
Врангель ехал во дворец. Впереди лакированного ландо верхом — донские казаки-конвойцы. Парой жеребцов — таких белых, что издали казались голубыми, — правил огромный, гориллоподобный казачина, широкоплечий и широкозадый, неопределенного возраста, с бородой веником, из-под которой виднелись три «Георгия» и две медали. На заднем сиденье, рядом с величественным главнокомандующим — подтянутый и напряженный, как хлыст, фон Перлоф. Сзади, в закрытом автомобиле — охрана, поручики Дузик и Петровых (вот где пришлось встретиться и объединиться!) и еще двое сотрудников «Внутренней линии».
Кони веером отворачивали в стороны морды, по-ле-бединому клонили к земле шеи, красиво и чуть замедленно выбрасывали ноги — точно на параде. Что-то мелодично позвякивало. Буграми ходили мускулы под начищенной глянцевитой кожей. Подбоченившись, Врангель безучастно глядел вверх и вправо — на окна верхних этажей и крыши, — продолжая разговор с разведчиком. Фон Перлоф докладывал о Кутепове и о положении в Болгарии.
— «Народный сговор», ваше высокопревосходительство, непопулярен. У него мало сторонников, и открытое выступление, а тем более вооруженное, обречено на провал, — говорил контрразведчик в гусиный затылок командующего, испытывая растущее неудобство оттого, что не видит выражения его лица. — Кутепов, втягивая в заговор армию и тем дискредитируя ее, делает непопулярной в народе саму идею славянского движения. Подобное незамедлительно перекинется и на здешнее королевство. И так наша армия весьма непопулярна. Симпатии простолюдинов на стороне Советской России.
— Когда, в какие времена мнение простолюдинов определяло ход истории? — Врангель едва заметно дернул головой, приветствуя какого-то офицера, отдавшего ему честь, и всем корпусом повернулся к Перлофу. — Кутепов, как кабан, идет напролом. Чудесно! А его офицеры? Ближайшее окружение?
— Окружение у генерала Кутепова, как всегда, безмолвствует. У него не поговоришь! Впрочем, по моим данным, многие горячие головы рвутся «в дело», засиделись.
— Пусть порезвятся, молодцы. — Врангель устало прикрыл глаза, улыбнулся своим далеким мыслям и тут же стал серьезным. — Я уверен: Кутепов вновь провалится и сядет в лужу. Это охладит его вождизм и сепаратистские настроения. Да-с! Хорошо, если он провалится и болгарские лапотники разоружат его так же, как петроградская чернь в семнадцатом году, возле Таврического дворца. Вы подумайте, что требуется сделать. И весьма срочно. Необходимо подбросить соответствующую информацию союзникам, в газеты.
— Новаше высокопревосходительство! — не скрыл изумления Перлоф. — Это весьма ослабит армию. Поставит ее под удар.
— Нет, нет, мой генерал! Армию — нет! Надо сделать так, чтоб удар пришелся по Александру Павловичу и его штабу. Пусть их там попугают, потрясут. Не сдохнут!.. А чуть позднее мы с вами придем к ним на выручку. Вероятно, это объяснит еще раз господину Кутепову, кто есть кто? Вам что-то неясно, генерал? Вы задумались?
— Есть все же определенный риск, ваше высокопревосходительство. — Перлоф, отлично знавший своего шефа, тщетно старался скрыть изумление: главнокомандующий делал шаг, достойный Талейрана. — Широкая кампания левой прессы... Возможно, арест и интернирование штаба... Секретные документы верховного командования, — стараясь придать голосу силу и убежденность и в то же время неприкрытое беспокойство, выговаривал он. — Представляете радость всех наших врагов — от большевиков до Ллойд Джорджа? И как поведут себя люди из штаба корпуса? Туркул? Скоблин? Сам Кутепов? Надо быть осторожным. Призываю вас!
— Я взвесил, генерал. И решил. От вас зависит лишь быстрая информация союзникам и прессе. Фильтруйте ее, фильтруйте! Сколько угодно: я вполне доверяю вам.
«Бог мой! — сообразил внезапно контрразведчик. — Да он боится главного своего сподвижника больше, чем самого Ленина! Вот и вся дипломатия, вся политика».
Они подъехали к королевскому дворцу. Впереди, возле будок, стояли пестро одетые двухметровые часовые... Перлоф, конвойцы и охранники из «Внутренней линии» остались на улице. Полированная пролетка с кучером была пропущена ко входу. Врангель, холодно и величественно посмотрев по сторонам, замедлил шаги, чтобы дать возможность адъютанту, начальнику караула, мажордому («Черт знает, кого они там вышлют навстречу?!») встретить его. Однако никто почему-то не появлялся. «Начало аудиенции не предвещает ничего хорошего, — мелькнула мысль. — Впрочем, и сам дворец, и нравы здесь с момента моего последнего визита, вероятно, изменились оттого, что этот выскочка Александр стал наконец королем. Скотоводы останутся скотоводами». Короткие размышления ободрили Врангеля, и он твердо шагнул к дверце, которая будто сама по себе раскрылась, пропуская главнокомандующего.
Трое придворных низко поклонились Врангелю. Офицер — неизвестно в каких чинах, — в круглой шапочке с белым, торчком, плюмажем, гусарском ментике с меховой оторочкой, наброшенным на левое плечо, с игрушечной сабелькой, отдал ему честь и пригласил следовать за собой. По широкой беломраморной лестнице, устланной алым ковром, они поднялись на второй этаж и двинулись анфиладой комнат — небольших, полупустых, небогато обставленных. «Все не по протоколу, — подумал Врангель. — Встречают, точно бедного родственника, точно просителя. Я ему покажу просителя! Благодетели! Сами за счет французов существуют! Сами нищие! Лапотники!..»
Сербский офицер, внезапно остановившись, пропустил Врангеля вперед и с поклоном, почтительно прикрыл двери. Небольшая комната, заставленная низкой мебелью — мягкие кресла, тахта, ковры и драпри, инкрустированные перламутром столики по турецкому образцу» — была пуста. «Кофейный разговор, — неприязненно подумал Врангель, опускаясь в кресло и проваливаясь. — С глазу на глаз. Почему бы это?»
Колыхнулась тяжелая занавеска, скрывающая еще дверь, и в комнате появился король. Против ожидания, в парадной форме, с лентой через правое плечо и с множеством орденов. Всегда простоватое, по-юношески мягкое лицо Александра — правильного овала, с чуть заостренным подбородком, прямым носом, легкомысленной тонкой полоской усов — выражало монаршую озабоченность и важность. Большие глаза под пенсне смотрели требовательно, грозно, пристально. Врангель не без зависти отметил, что Александр весьма изменился с момента последней встречи: королевский сан, видно, прибавляет каждому, вчера еще малоизвестному претенденту, не только особую осанку и величие, но и осознание этого. «Молодец! Ощущает себя Александром Македонским», — подумал Врангель, вставая чуть поспешнее, чем следовало.
Он шагнул навстречу королю и с чувством пожал протянутую вялую, пухлую руку. Ощущение было такое, точно пожал мягкую и надушенную перчатку. И сразу, еще не узнав о цели вызова, определил линию поведения: Александр стал типичным , королем маленького государства, весь пышный дворцовый этикет, роскошь начисто убили в нем офицера, участника войны, командующего хоть опереточной, но все же армией. Он, Врангель, обязан не заметить этого. Он поведет разговор, как солдат с солдатом: Александр не монарх, а он не вассал его. И не проситель — он командующий большой армией. Он представляет хотя и поверженную, но реальную силу — белую Россию.
Александр угостил Врангеля крепчайшим, обжигающим рот кофе из золотого прибора, который внезапно возник на инкрустированном столе: Врангель мог поручиться, что никто не входил в комнату. Затем король милостиво подвинул коробку с сигарами, — на каждом пальце его сверкало по перстню, а на некоторых по два («Всю свою казну с собой носит, каналья, боится, разворуют приближенные»). Врангель взял «гавану» с золотым пояском и окутался дымом, предоставляя Александру вести разговор, ради которого он пригласил его.
— Я рад, что у вас все в порядке, барон, — сказал Александр по-русски, намеренно демонстрируя не совсем правильное произношение и иногда вставляя сербские обороты. — Но я пригласил вас затем, чтобы... ознакомить с волнующими наше королевство проблемами, связанными с вашим пребыванием, — и строго посмотрел в лицо гостя.
Врангель промолчал, и это почему-то рассердило Александра (а может он лишь искал повод и давно настраивал себя против этого долговязого генерала — не то немца, не то шведа, но уж не русского, — во всяком случае, всерьез считавшего себя истинным полководцем). Король встал. Встал и Врангель, — он знал этикет.
— Садитесь, барон — капризно произнес Александр. — Я позволю себе походить. Мне надо сосредоточиться. Извольте сидеть. Итак...
— Я слушаю со всем вниманием, ваше величество, — заставил себя проглотить приказание и светски улыбнулся Врангель.
— Да? Да! — Александр почувствовал удовлетворение от того, что заставил Врангеля титуловать себя как подобает. — Вы так быстро откликнулись на мое приглашение. Вэома сам вам захвалан...[28] Однако хочу обратить ваше внимание, барон. Первое — это Болгария. Мне доносят, что ваши генералы вмешиваются во внутренние дела суверенного государства и поддерживают одни элементы против других. Это может вызвать братоубийственные столкновения, согласитесь. Будите на опрезу[29]. Правда, проблемы Болгарии — не мои проблемы. Но нам не все равно, что происходит на границах. Ваши генералы поддерживают крайне воинственную партию Болгарии... Мне это невыгодно! Я то нечу допустити![30] Что там происходит? Почему ваши генералы выходят из подчинения! Как вы допускаете такое?! Вы не должны: это серьезно осложнило бы наши отношения, барон.
— Но, ваше величество, — Врангель не ожидал подобного напора, — я не вижу опасений... Генерал Кутепов... Я смогу направить его, обуздать, наконец...
— Вот, вот! Вы должны дать заверения. Нет — убедительные доказательства в этом! Я требую! Но это не все, барон! — голос короля повышался, Александр нарочно взвинчивал себя, чтобы навязать главнокомандующему свою волю и приказы.
Врангель отлично понимал это, но, к своему удивлению, терпеливо и даже кротко слушал, примирясь и с тем, что король многократно обращался к нему, называя «бароном» и ни разу «генералом» или тем более «командующим». Еще недавно Врангель оскорбился бы и закурил удила. А сегодня он сидел и слушал разглагольствования новоиспеченного монарха. «Что делает время, — невесело думал Врангель. — Поговорили бы они со мной так в Крыму».
Александр заметил безразличие гостя и усилил нажим, перейдя, однако, на более доверительную и спокойную интонацию.
— У меня много проблем и дома. Mo je сушта истина[31], — сказал он с озабоченностью. — Вы должны понять меня, барон. Войны принесли миру революцию. Можно не мириться с нею, но не считаться — нельзя. Народы не хотят, чтобы ими правили по-старому. Так, шта да се ради?[32] Я — монарх, но я не Романов в России. И чтоб мой народ не роптал, я дал ему Скупщину, парламент. Пусть они думают, что контролируют меня. Такие времена, такая жизнь!.. Я слушаю, что они говорят, и поступаю по-своему. Но я вынужден слушать, барон, вынужден! За правое крыло Скупщины я спокоен. Но есть и республиканцы — левая Земледельческая партия, ей симпатизирует народ. Почему? Левые — демагоги. Чуть не каждый день они предают гласности документы правительства, на каждом заседании выступают с запросами — по любому поводу. — Александр на миг замолчал, свет попал на стекла пенсне — и его большие, широко поставленные глаза стали круглыми, слепыми, как у совы. — Вас, судя по всему, интересует, какое отношение к нашим проблемам имеете вы? Слушайте! — король сел. — Пока их запросы касались вас лично и эмигрантов.
Врангель, не сдерживаясь, поднялся. Сказал дрожащим голосом:
— Разрешите, ваше величество. Я прошу... Убедительно настаиваю: в вашей стране у меня нет эмигрантов — есть армия, только армия. До беженцев мне нет решительно никакого дела.
— Вот, вот! Армия! Так говорят и земледельцы: что за армия на территории суверенного государства?! Вы должны забыть слово «армия», барон. Это приказ! Он не обсуждается. Садитесь, садитесь! И запамтите Moje речи![33] Я защищал вас и ваших сподвижников, когда проводилась первая и вторая продажа ценностей, вывезенных из Петербурга. Вы обещали полную тайну операции, осторожность и секретность. А теперь? О вашей торговле говорят на любом белградском перекрестке! О ней трубят газеты! Меня предупредили о нежелательных последствиях иностранные посланники — большевики готовят нам ноту. Это оскорбляет. Это посягательство на частную собственность граждан... Зачем вам понадобилось превращать ценности и произведения искусства в обломки? Я не понимаю.
— Таково было, увы, требование покупателей. Те же соображения конспирации. Эти деньги необходимы для сохранения армии.
— О-о! — словно защищаясь, выставил ладони король. — Я этого не знаю. Не хочу слышать!
— Так, к моему сожалению, говорят все вчерашние друзья и союзники, — с горечью произнес Врангель. — Хорошо. Этот грех я беру на свою душу. Бог и армия поймут меня. Не осудят и потомки, надеюсь.
— Уреду, поступите према своим нахоhену, али имаjте у виду да ja не одговарен за последице![34] — Александр начинал сердиться не на шутку. — Я предупредил вас, как друг, но — оставим это.
— Оставим, — устало отозвался Врангель. Безразличие овладевало им. Он чувствовал себя подавленным и думал лишь о том, как поскорее выбраться из дворца.
— Есть и последний вопрос, который мы должны обсудить, барон, — продолжал между тем Александр. — Конференция, которую державы готовы провести в Генуе.
— Неужели вы, ваше величество, сядете за стол переговоров с большевиками?! Это равносильно их признанию! И гибели всего «белого дела»! — Врангель бросил сигару в пепельницу.
— Вы же знаете: я не признаю большевиков. Я — против установления дипломатических отношений с Советской Россией. Решительно против! Однако, барон, интересы европейской политики.
— Да, но за признанием большевиков де-факто последует цепь договоров и признание де-юре...
— Пока я жив, — высокопарно перебил Александр, — договора с большевиками не будет.
— Я верю в это, ваше величество. Верю в благородство и крепость вашего государства. Но что должен делать я, лично я? Теперь?
— Вы должны выступить... с заявлением о Генуе.
— Это невозможно! Это... предать армию! — восклицал Врангель растерянно, не вполне владея собой.
— Вы не даете мне сказать, барон, — строго заметил король. — То je невероватно![35]..» Вы должны высказаться в том плане, что ни к какому вооруженному выступлению не готовитесь и все силы направляете на то, чтобы помочь своим бывшим боевым соратникам честным трудом обеспечить себе жизненное существование в приютивших вас дружественных странах. Таков смысл заявления. Чем скорее вы его сделаете, тем лучше. В ваших же интересах. И не будем это обсуждать, барон. Прошу вас — от имени страны, на гостеприимство которой у вас нет оснований жаловаться. — Александр многозначительно посмотрел на большие напольные часы.
Врангель проследил за его взглядом и не поверил глазам: аудиенция продолжалась всего двадцать с небольшим минут. Ему казалось, он подвергается пытке больше часа. Уловив нетерпенье короля, главнокомандующий встал и молча поклонился. Он был совершенно раздавлен этой беседой, похожей на судилище. Всегда мягкий, уступчивый, Александр продемонстрировал силу и характер. Едва Врангель приблизился к дверям, они открылись, и тот же офицер, словно все это время стоял тут ожидая — подслушивая или охраняя своего короля, — повел Врангеля анфиладой комнат к выходу. Главнокомандующий сник, словно стал меньше ростом, и даже походка у него изменилась. Он шел, чуть ссутулясь, не поднимая острых колен. Полы черкески, обычно взлетающие вокруг длинных ног, едва колыхались. Папаху он, задумавшись, нес в руке, так и не надев ее на голову. В довершение на улице случилось событие, окончательно испортившее ему настроение...
Когда, с трудом приободрившись, он появился из двери, Перлоф приказал кучеру трогать. Лакированное ландо лихо подкатило к подъезду. Врангель занял свое место. По его застывшему лицу контрразведчик понял, что сейчас не время задавать вопросы.
— Трогай! Живо! — приказал он казаку, делая знак охране, находившейся неподалеку, на улице, приготовиться к движению.
Донцы лихо поднялись в седла, построились, ожидая, пока проедет мимо пролетка с главнокомандующим.
— Ни к чертовой матери, Перлоф! Нас хотят уничтожить! — в бешенстве, которое внезапно сменило апатию, сказал Врангель. И выпрямился: — Но мы будем бороться, будем бороться, Перлоф!
Пролетка направилась на улицу мимо полосатых будок. И тут, неизвестно откуда, выкатился внезапно навстречу огромный, точно погребальный катафалк, черный автомобиль.
Столкновение казалось неминуемым. Кучер, в полной растерянности, натянул вожжи. Жеребцы всхрапнули, присев на задние ноги, и резко рванули вправо. Ландо и мотор зацепились. Раздался треск. Задняя ось лопнула, колесо отлетело и медленно покатилось в сторону. Пролетка осела набок, перекосилась.
Выпрыгнув, Врангель едва удержался на ногах.
Фон Перлоф непроизвольно выхватил револьвер.
— Оставьте, — тихо приказал Врангель. — Вы перебьете дипломатов. Не видите — французы! Не хватало нам только этого.
Праздношатающиеся смеялись, показывали пальцами на русских военачальников, всегда таких гордых и презрительных, оказавшихся теперь в столь смешном положении. Казак-кучер оттащил пролетку в сторону и успокаивал коней, забыв про своих седоков. Неподалеку бестолково суетились сопровождающие их охранники.
— Что вы встали, как баба, генерал! — вспылил, вновь потеряв самоконтроль, Врангель. — Прикажите наконец подать мотор. Бегом! — он выругался и впервые в жизни топнул ногой от ярости...
Перлоф призывно помахал рукой своим, но те не поняли его жест, и тогда он неловко побежал за автомобилем под смех зевак, остановившихся на тротуарах.
Глава двадцать первая. ПРОГУЛКИ КАПИТАНА КАЛЕНТЬЕВА
1
Капитан Калентьев гулял по Софии. София ему не нравилась.
Другое дело Велико-Тырново. Калентьев получил разрешение Кутепова и снял там для себя комнату на старинной улице, носящей имя русского генерала Гурко. Согласно инструкции, каждый пятый вечер он сидел в ресторане «София», у окна, положив перед собой серебряный портсигар с монограммой «Г» и «К». Он ждал связного. Связной должен был сказать: «Простите, не смогли бы вы поменять тысячу левов на франки?» А он ответит: «Вы обратились не по адресу, милостивый государь. Но я могу указать такого человека». Связной обязан был передать деньги и срочный приказ Центра. Калентьев знал его: коренаст, рыжеват, похож на немца. Зовут «Мишель». Впрочем, мог прибыть и другой. Связной прибыл благополучно в Софию, но дважды не выходил на встречу. Что-то мешало ему. Что? Это предстояло выяснить со всей осторожностью. И побыстрей. Можно было выждать — в других условиях. Но не теперь: у Калентьева накопилась срочная информация, а ситуация становилась напряженной. Поэтому и пришлось ему отправиться в Софию...
Капитан не спеша шел парком «Борисова Градина». Он всегда, по приезде, начинал день с прогулки, чтобы размяться, а заодно проверить, не тянет он за собой ненароком филера. Калентьев подумывал о том, что линия связи у него после переезда в Болгарию несколько сложна и громоздка, следовало бы ее упростить, а его визиты в Софию свести к минимуму. С другой стороны, в Тырново каждый новый человек на виду, их встречи следовало бы «ставить», как шекспировский спектакль, на это ни времени, ни сил уже не оставалось. Все же сказывались перегрузки последних лет, с ними тоже невозможно было не считаться. А еще Калентьев с нежностью подумал о своей помощнице Леночке, Елене Владнславовне Андриановой, по легенде — дочке корниловского полковника, георгиевского кавалера и первопоходника, пропавшего без вести при эвакуации Симферополя. После константинопольских мытарств добрые люди помогли ей перебраться в Софию и устроили сначала в русский хирургический госпиталь на улице Искрь, а потом, с трудом, в русскую амбулаторию поближе к центру и посольскому особняку, на Московской улице. Здесь Елена Владиславовна имела вполне сносные условия: работа через день, небольшое, но все-таки жалованье, добрые знакомства и приличное окружение. Елена вела довольно замкнутую жизнь. Недавно она познакомилась, правда, с милым ей Альбертом Николаевичем Венделовским, дипкурьером штаба главнокомандующего. Молодые люди открыто встречались всякий раз, когда дела службы забрасывали его в Софию, но его приезды не были слишком частыми. Еще реже приезжал из Тырново друг и соратник отца, капитан Калентьев, так много сделавший для нее. Иногда присылал «своего денщика» — крепкого парня, у которого одно плечо было чуть выше другого, — передавал с ним коротенькие записки, немного денег, «луканки» — сырокопченую колбасу — или любимый ею слоеный пирог с овечьим сыром. Вот и все знакомства Андриановой. А в обычные дни — работа в амбулатории; прогулка до комнатенки на мансарде трехэтажного дома по улице Графа Игнатьева, которую она снимала; немудреная еда: «фасул чорба» — суп или «фасул яхния» — тушеная фасоль, «кисело млеко»; уединенная однообразная жизнь, никаких развлечений, случайных знакомств. Елена Владиславовна Андрианова, она же Надежда Андреевна Бекер, она же Мадлен Лepya, милая сероглазая девушка с ямочками на бледных щеках, и была теперь софийской связной Калентьева.
Найти ее сегодня являлось первоочередной задачей: она должна была переправить к нему «Мишеля». Возможно, она знала, что произошло с ним, — если, конечно, «Мишель» не «засветил» ее. Прежде всего следовало навестить амбулаторию, под видом больного, естественно.
День выдался по-настоящему весенний. Ласково пригревало солнце. Калентьев направился в центр. И все же, подстраховываясь, решил пройтись по улице Графа Игнатьева, мимо дома № 31, где жила Андрианова. Мощенная каменными торцами улица казалась узкой из-за тесно прижатых друг к другу домов. И тротуары были узкими. А в первых этажах — лавчонки, магазины, портновские и сапожные мастерские. И только впереди каменная щель расширялась, распахивалась: слева возникал как бы бульвар или сквер, а там, среди берез и плакучих ив, — прекрасный храм «Святых седьмочисленцев», сооруженный из турецкой «Черной мечети» Сулеймана I — в память славянских просветителей. Контуры мечети угадывались. Купол сидел на старых стенах, пристроены были лишь притвор, колокольня и алтарь. Все здесь поражало красотой и целесообразностью. Перейдя тихую, застроенную небольшими особняками улицу Царя Шишмана, Калентьев по вновь сузившейся улице Графа Игнатьева подошел к угловому дому № 31 — старому, запущенному и высокому, с выпирающими округлыми трехколонными фонарями. Над третьим этажом, в мансарде и жила Андрианова. В ее комнатенку можно было попасть по внутренней деревянной лестнице, переходящей в узкую винтовую, и через дверь прямо с крыши, имеющей кованый затейливый бордюр по краю. (При выборе жилья для связной это играло немаловажную роль, но теперь Глеб подумал, что соседство у Елены неподходящее: в доме № 33 обосновался «Союз возвращения на родину» и уж конечно это место притягивает сюда десятки филеров.) Он постоял на углу бойкого перекрестка, наблюдая при помощи витринного отражения, не следят ли за ним, а затем посмотрел наверх. Дверь на крышу была заперта, выстиранный передник не висел на окошке, оба цветка в горшках стояли рядом. Все это означало, что связной нет дома и опасности тоже нет. Калентьев отправился в амбулаторию.
Здесь было многолюдно. Принимали три врача, и возле двери каждого собралась изрядная очередь. «Не хватает встретить знакомого, — думал Калентьев, пробираясь узким коридором. — Привяжется, замучает рассказами о трагическом положении, а напоследок попросит денег на недельку-другую». Он решил ждать. Решение оказалось правильным, ибо минут через пять дверь раскрылась: выпуская больного, Леночка Андрианова, сразу заметив Калентьева, удивилась, испугалась, конечно, и, чтобы скрыть эти чувства, кивнув ему, скрылась в кабинете и, появившись тут же, уже без халата, прижалась к нему стремительно, поцеловала в щеку, шепнув «идите», и, не выпуская его руки, быстро повела по коридору. Еще несколько шагов — и они оказались в маленьком дворе, заставленном пустыми ящиками.
— Что случилось? — и голос выдал ее волнение.
— Если я здесь, ничего серьезного. Почему не вышел «Мишель»?
— Подозревает, что за ним следят. Решил отсидеться.
Калентьев, почувствовав чей-то взгляд, внезапно обернулся. В окне второго этажа мелькнул и скрылся человек. Калентьев обнял девушку и, нежно увлекая ее в коридор, спросил:
— Здесь «Мишель» бывал?
— Нет.
— Сколько раз встречались?
— Два.
— Когда и где новая встреча?
— Сегодня: собор Александра Невского, семь вечера. Возле стенописи «Христос благословляет детей».
— Сегодня не пойдете. Запасная квартира есть? — Девушка кивнула, и Калентьев зашептал, выговаривая слова четко, тоном приказа: — Под любым предлогом немедля уходите, домой не возвращайтесь.
— Но там рация. И новый портативный фотоаппарат для вас — «Экспо», американский.
— Туда для изъятия пойдет другой. Ты уходишь отсюда и ждешь меня, не высовываясь. Когда связь с Центром?
— Завтра, двадцать три сорок семь. Дублирование в два сорок семь. Послезавтра должен приехать Венделовский, на день.
— Где встречаетесь?
— Вокзальный район, больница «Климентина», газетный киоск.
— Вы не пойдете и туда. Ваша задача — оставить квартиру на Игнатьева и обеспечить мне «нитку» с Центром.
— Ясно, — кивнула Елена Владиславовна. — Я уйду через час.
— Постарайтесь быстрее. И сохраняйте выдержку. Увидимся.
Оказавшись на улице, Калентьев задумался. Информация, полученная от Андриановой, ему не нравилась, настораживала. Что-то происходило и тут. «Хвост», не отпускающий «Мишеля», и эта тень, мелькнувшая в окне. Если уже следят и за Андриановой, значит, и он «засветился» только что. Надо дождаться, пока Елена сумеет покинуть свою амбулаторию, и посмотреть, не сопровождают ли ее филеры. И подумать, откуда они взялись, кто послал их?
Калентьев заметил небольшой ресторанчик — само небо поставило его на пути! — выход из амбулатории отсюда прекрасно виден, — и решил подождать, а заодно и перекусить: с утра маковой росинки у него во рту не было. В момент, когда он покончил со шницелем и взялся за десерт, в дверях амбулатории показалась Елена. Бросив взгляд по сторонам, она перешла улицу и заспешила в сторону русского посольства: «Хорошо идет — чуть боком, — оценил машинально Калентьев. — Видит, что у нее за спиной».
Расплатившись с официантом («Обычные чаевые, не большие и не маленькие, чтоб не запомнил»), он вышел на ресторанное крыльцо. Удовлетворенно и лениво ковыряя зубочисткой во рту, Калентьев зорко следил за уходящей Еленой. Вроде бы «хвоста» не было. Подождав, он пошел следом с видом фланирующего бездельника, временами переходя Московскую улицу и останавливаясь, чтобы убедиться в том, что и за ним нет слежки. Все было чисто, хотя он и не мог еще дать себе ответа на вопрос, откуда дует враждебный ветер. Союзники исключены, «Мишель» без инцидентов перебрался из Германии. «Внутренняя линия» тоже исключалась: «Доктор» сумел бы предупредить. Оставался Климович. Вероятнее всего — Климович. Нужна быстрая перепроверка. Перепроверка и нейтрализация через «Доктора» и Перлофа. На это потребуется время, а его, по существу, нет, ибо есть работа, которую и на день не отложишь, — встреча с «Мишелем» для получения денег и приказа Центра, переданного через него. Нужна связь, чтобы сообщить очередную информацию.
Елена, а за ней и Калентьев, выйдя на улицу Руска, миновали миниатюрную русскую церковь «Русский святониколаевский храм». Она была как желтый игрушечный теремок с блестящими золотыми луковками куполов. Делая вид, что завязывает шнурок на ботинке, Калентьев огляделся по сторонам. Улица Руска выглядела пустой. Кроме них — никого. А Елена, свернув налево, уже поднималась к Московской, и вскоре ее каблуки застучали по желтоватой торцовой плитке мостовой. Андрианова быстро шла в сторону собора Александра Невского, огромной глыбой задавившего город. Филеров не было. Тут Елена Владиславовна внезапно вскочила в пролетку, которая быстро стала удаляться и свернула в ближайшую боковую улицу. Исчезновение Андриановой ничего не изменило на улице. Никто не кинулся следом, не взял извозчика, хотя их стояло несколько, никто и внимания не обратил на ее исчезновение. «Оторвалась, умница!» — Калентьев решил дойти до собора и заранее осмотреть место вечерней встречи, чтобы быть готовым ко всему и знать пути для отступления — если его ждала засада. Он и такой возможности не исключал...
Но еще по пути Калентьев решил специально зайти в русское посольство, чтобы потолкаться на виду у всех, а заодно исполнить пустяковое поручение, данное ему в Тырново, в штабе.
Глядя на русское посольство, занимавшее территорию между Московской (парадный въезд с трехцветным российским флагом) и улицей Руска, трудно было представить себе, что на одной шестой земного шара уже пятый год существует государство рабочих и крестьян. Русское посольство в Софии по-прежнему представляло Российскую империю. Здесь сидел посол Петряев, и все, казалось, было призвано подчеркивать незыблемость старых порядков: чистота и особая тишина, холодный блеск окон высокого первого этажа, забранных фигурными решетками, жандармского вида швейцар (или охранник — кто разберет?), то и дело появляющийся возле двери.
За полчаса справившись с делами, Калентьев поднялся на второй этаж и просил секретаря доложить Петряеву: из Тырново прибыл капитан Калентьев — офицер для поручений генерала Кутепова, интересуется, не будет ли почты или каких-либо устных приказаний. Изобразив на хмуром лице почтительность, секретарь ответил, что господин посол строго-настрого запретил беспокоить его и закрылся с белградским гостем. «Кто же пожаловал к нам, уж не сам ли главнокомандующий?» — спросил Калентьев. «Не велено-с сообщать», — строго ответил вымуштрованный чиновник. «Не велено — не надо, без поручений мне легче будет возвращаться. Не хотите ли сигару? Пожалуйста!» — «Превосходна! Какой аромат! И крепость — прелесть! Откуда, господин капитан?» — «Константинопольские запасы. Возьмите парочку, не стесняйтесь, прошу!» — «О, не знаю, как и благодарить вас». Калентьев сделал протестующий жест, беспечно улыбнулся, но тут же, посерьезнев, сказал озабоченно: «Думаете, начальство поверит, что я ходил к послу? Подумает, не вылезал из ресторанов. С Кутеповым, знаете ли, шутки плохи». — «Да-с, командир корпуса у вас особый человек». — «Хоть бы узнать, с кем занят господин Петряев, — для правдоподобия, знаете ли». — «Кутепову можете сказать: с генералом Климовичем». Так вот откуда дул ветер! Климович! Сбывались худшие предположения. «Мастер сыска» не без важного дела оказался в Софии Надо быть готовым. Готовым к худшему. Капитан вышел из здания посольства и направился к собору Александра Невского.
...Горели золотом купола храма, показавшегося вблизи еще огромней. Внутри собор был прекрасен — замечательными фресками и громадными люстрами, мозаичным полом, стенами, у основания зелеными, а выше серыми, зеленоватыми колоннами, двумя тронами, охраняемыми крылатыми львами, алтарем, иконостасом с амвоном и обширными балконами, где пел хор. Тысяч пять-шесть молящихся — никак не меньше! — мог вместить собор. Сейчас он был почти пуст, хотя шла служба и человек сорок стояло подле алтаря. Слаженно и тревожно-жалостливо пел квинтет. Маленький попик в черной рясе густым басом творил молитву. Благодаря отличной акустике, голос его гремел, как труба-геликон. Рука невидимого человека ловко передала кадило, и попик, плавно помахивая им, спустился к молящимся Сладкий запах ладана сразу же ощутился в воздухе. Попик двинулся быстрыми, короткими шажками сквозь группу людей — и все расступались перед ним и кланялись низко, а он приостанавливался, деловито крестил пустоту перед собой и шел дальше.
Калентьев, купив две свечки и зажегши их от большого напольного светильника возле алтаря, застыл богомольно и сосредоточенно, незаметно бросая взгляды налево и направо. Он увидел большую настенную картину, изображающую группу людей под деревом. На переднем плане, возле сидящего Христа — три мальчика. Глеб вспомнил, что здесь где-то должна быть и работа Васнецова «Христос и Богородица», но отогнал непрошеную мысль, повернулся и пошел к выходу.
На улице он вновь остановился возле большой доски белого мрамора, делая вид, что заинтересовался текстом. И вдруг услышал насмешливый глухой голос, читающий из-за его плеча: «...добровольные пожертвования всего болгарского народа для увековечения его братской любви и глубокой признательности к... — тут голос поднялся чуть не до визга, — великому — подумать только! — русскому народу за освобождение Болгарии в семьдесят восьмом году... Вечная слава павшим!..» Калентьев спокойно обернулся лишь тогда, когда голос смолк. Сзади стоял поджарый человек с седой головой и четким профилем римлянина, одетый в простой костюм явно с чужого плеча.
— Вот, мать-перемать! — зло воскликнул он. — Для увековечения!.. Любви!.. Соборы построили! Лучше бы деньгами выдали, сволочи! Мать их так!
— Не понимаю, о чем вы? — сухо сказал Калентьев.
— Вижу я, ты, как всегда, в отличной форме.
— Не имею чести быть знакомым.
— Не имээшь? Здравствуйтэ, гаспадын. Какой приятный встрэч! Какой жизн — наший жизн?! Я из Крым, гаспадын, из Стамбул, гаспадын, из Галпол, гаспадын, — дурачась и кривляясь, сказал седой.
Калентьев узнал Андрея Белопольского и думал, выгадывая секунды, что могла означать эта встреча: внезапная ли она в действительности или кому-то было нужно именно сейчас подсунуть ему приятеля.
— Ба! — воскликнул он дружески. — Князь?! Изменился ты, однако, не узнать.
— А ты ничуть, Калентьев. Все такой же! Один — во всей армии.
— Как ты оказался здесь, князь?
— Я послан убить царя Бориса за то, что его крестил наш Николай Романов.
Это был новый Андрей, и что-то переменилось в нем.
— Ну, здравствуй, — Калентьев протянул ему руку, и тот, чуть подумав, пожал ее. — Рад видеть. Хотелось бы поговорить.
— Поговорить можно, но не более: я случайно не при деньгах. — Белопольский усмехнулся. И усмешка у него была новая, незнакомая Глебу. «Укатали сивку крутые горки», — подумал Калентьев.
— Предлагаю ко мне, — сказал он. — Выпьем за встречу. Я в «Болгарии».
— А меня пустят? Я не стану шокировать тебя и тамошнее блестящее общество? Лучший отель!
— Идем, идем! Проведу тебя по старой дружбе. — И он повел Андрея в обратном направлении, к царскому дворцу. — А ты где остановился? Не в Подуэнях[36], случаем, — вечным железнодорожным пассажиром?
— Обижаешь. — Андрей усмехнулся. — Я пролетарий, зарабатываю на хлеб этими двумя, — он протянул мозолистые, в незаживших ссадинах, ладони. — И сам себе удивляюсь: нынче выгодней стать убийцей, вором, тайным агентом — кем угодно!
Они миновали царский дворец — длинный, двухэтажный, на высоком цоколе, с большими продолговатыми окнами и балконами на втором этаже, позади дворца был виден сад, у входа, под железным балконом, застыли дюжие часовые, — и свернули на бойкую улицу, ведущую к почте. На ней и помещался отель «Болгария», который в те годы, действительно, считался лучшим в столице.
— Хочу спросить, — остановился Белопольский. — Ты, случаем, ничего не знаешь о членах моего семейства?
— Я уже говорил тебе о деде: он остался в Крыму, а теперь вернулся в Петроград. — Глеб вопросительно посмотрел на Андрея, тот кивнул безразлично, и Глеб продолжил, словно после раздумья и внутренней борьбы: — Я видел и его подпись под одним из обращений к солдатам и офицерам врангелевской армии.
— Может, он и прав, — дед, — задумчиво сказал вдруг Белопольский.
Калентьев посмотрел на него с удивлением...
— Думаешь, все русские — те, что привел Врангель, и те, что прибежали сюда после Одессы, Новороссийска, — одинаковые? И страдают одинаково, и верят одинаково, и одинаково молятся за Россию? Как бы не так!
— Господь не допустит гибели России, — сказал Калентьев.
— Не допустит? — с усмешкой посмотрел на него Андрей. Ну будет уж, Калентьев... Или как тебя там — на самом деле?
— О чем ты?
— Бог уже допустил... Рассчитывали, большевиков можно победить? Нет! А Россия, как вы изволили только что выразиться, погибнуть не может. Следовательно, и победить ее нельзя. Невозможно. Нам с вами. И тысячам таких же изгоев. Ибо: там страна. С ними. Не с нами, Калентьев.
— С такими идеями вам и к большевикам отправиться не страшно.
— Нет, Калентьев, страшно. Точно вы выразились — очень страшно. От меня осталось лишь полчеловека. Другую съели господа Корниловы, Деникины, Врангели. А зачем большевикам получеловеки? Обрубки?! Нет, такие, как мы, России не нужны. Наше дело плохо, Калентьев. Как вы, вероятно, убедились, в беженском раю никто не хочет сентиментальничать. Все ножами да зубами работают — только успевай обороняться.
— Оставим эту тему.
— Оставим, — согласился князь. — И мои подозрения тоже.
— Какие подозрения?
— В отношении тебя.
— И в чем ты меня подозревал?
— Какая теперь-то разница?! На тебе по-прежнему русская воинская форма... Считаем, вопрос снят.
— Как будет угодно. Готов ответить на любой твой вопрос.
— Благодарю. Но вопросов не будет... Никаких...
В маленьком номере Калентьева они выпили несколько рюмок водки, закусили, и Андрей, внутренне расслабившись, подобрел и принялся расспрашивать Глеба о его житье-бытье, об армии и знакомых офицерах.
— Но ты-то, ты-то как здесь оказался? — спросил Калентьев.
— Рассказывать сутки, — отмахнулся Белопольский, в который раз подливая себе и понемногу отхлебывая, но не пьянея.
— А ты в двух словах, — настаивал Калентьев.
— Если в двух — изволь. Но выпьем! — Андрей сделал глоток, лицо его перекосилось, в глазах — ярость: — Все было, все! Нанялся я матросом на вонючую фелюгу. Пиратствовали, контрабанду возили. Чуть не угробили меня там. Потом в Варне околачивался — дела искал. Когда от голода стал пухнуть — тоннель строил в горах. Молот, лом, кирка — ты держал когда-нибудь это в руках, Калентьев? Десять часов? Босиком — никакая обувь острых камней не выдерживает... Еще копал землю под виноградники, работал на разгрузке вагонов со «смрадом». Знаешь, что такое «смрад»? Знаешь, конечно... Этим «смрадом» я надышался досыта. Вся жизнь — смрад! — Андрей не пьянел будто, но становился все злее. — Хотя тот «смрад», что я грузил, — другой. Это сухие дубовые листья, пыльные, едкие. Их употребляют при выработке кожи. Дрова пилил в лесу, даже в стачке участвовал там, каково? Штрейкбрехеров привезли — наших с тобой земляков, ясно? Мы им: «Навоз вы! Подлецы!» А они в ответ: «Хамы! Скоты». Кто-то схватился за сук, за ним — другой, третий. Пришельцев обратили в бегство. — Андрей улыбнулся, хохотнул. Смех у него был добрый, незнакомый Калентьеву. — Ну, жандармы, разбирательство. Назвали всех нас большевиками, напавшими на честных людей, и уволили. Теперь я — в артели грузчиков на железнодорожной «гаре», станции. Мостки к вагонам пляшут, плечи, ноги и руки болят, пот слепит, рот и легкие в пыли — не продышаться. Мешки — на плечах, сыпучие грузы — в тачках. И беги! Зато следующий день отдых. Как сегодня.
— Ты очень изменился, Андрей.
— К лучшему или худшему?
— Очень изменился, — повторил Калентьев, уйдя от ответа.
— Видно, потому, что за короткое время я прожил не одну жизнь, Калентьев. И все эти разные жизни остались во мне. И знаешь, хоть трудно, не хочу ничего, кроме своей артели. Пригласи меня господин Кутепов начальником штаба, откажусь. И это не поза — убеждение. В наше время самое лучшее, когда руки-ноги работают, а голова — свободна. Думать не надо, не хочется, да и не о чем.
— А не хотел бы ты вернуться домой?
— Ты имеешь в виду Россию? Oh, non![37] Там у меня нет дома.
— Сейчас многие возвращаются.
— Для меня это невозможно. Не заслужил.
— Je comprends![38] Могу ли я помочь тебе?
— Можешь. Налей еще и выпьем за нас — таких прежних, героических, доверчивых и глупых. Живых и мертвых.
Они чокнулись и выпили. Калентьев, подумав, решился и сказал:
— А ты можешь помочь мне. Вечером. Только не задавай вопросов.
— Для тебя, мой спаситель? Ты столько раз появлялся в моей жизни, в самые нужные моменты, — приказывай! Я готов даже на аттентат.
— Услуга иного свойства. В семь часов вечера я вновь посещу собор, где мы встретились. У меня rendevous с дамой, которую я не могу компрометировать. А в семь десять, скажем, ты подъезжаешь к западной стене на извозчике, с поднятым верхом. Если я наткнусь на мужа и мне придется бежать, мы побежим вместе. Если все пойдет хорошо, в семь двадцать ты уезжаешь. Договорились?
— Договорились, — согласился. Белопольский. — Давненько не участвовал я в любовных играх. Только учти: пистолета у меня нет, отстреливаться нечем.
— Надеюсь, до стрельбы не дойдет, — беспечно сказал Калентьев.
Опытным разведчиком и знатоком человеческой психологии считал себя фон Перлоф. Но он грубо ошибся, когда, после долгих поисков, нашел в свое время человека для освещения деятельности Евгения Константиновича Климовича. Случилось это еще в конце 1920 года, после оставления Крыма, когда в поле зрения руководителя «Внутренней линии» попал маленький воынский мещанин, старый сотрудник департамента полиции, некто Далин, по кличке «Шарль», одно время работавший на Климовича. Перлоф привез Далина из Парижа и, посулив ему приличное жалованье, подсунул его, будто случайно, прежнему начальнику. Перлоф явно недооценил своего соперника: Климович, быстро разобравшись в ситуации, легко перекупил «Шарля», любящего азартные игры, женщин и вечно нуждающегося в деньгах.
2
Далин давно уже работал на двух хозяев, но главная его информация шла все же в первую очередь к Климовичу. С ней был связан и весьма срочный приезд Евгения Константиновича в Софию. Далин вышел на некую, весьма законспирированную личность, и теперь предстояло разобраться, кому она служит. Произошло это, в общем-то, случайно. Появившийся неизвестно откуда в софийском отеле «Сплендид-палас» человек был встречен нежданно Далиным, который вспомнил, что уже видел его где-то в Константинополе. Он дал задание одному из своих филеров на всякий случай «поводить» своего знакомца. Несколько дней внешнее наблюдение не давало ничего, заслуживающего внимания: образ жизни приезжий ведет скромный, гуляет по Софии, ни в какие контакты на улицах не вступает. Далин полагал уже возможным снять наблюдение, когда ему доложили, что гость, поинтересовавшись поездом на Велико-Тыриово, привез в номер еще один чемодан, взятый в камере хранения. Опытному сыщику ничего не стоило — в отсутствие хозяина — проникнуть в номер и открыть чемодан. Каково же было его изумление, когда он увидел среди белья весьма крупную сумму денег — и не только в левах, но во франках и фунтах. Ясно, деньги предназначались для передачи. Но кому? Далин, нюхом почувствовавший дело, на котором при любой ситуации можно неплохо заработать, сообщил об этом Климовичу. Евгений Константинович решил, что деньги предназначаются либо Кутепову, что не очень вероятно (от кого?), либо человеку фон Перлофа, который сидел возле Кутепова по заданию «внутренней линии» и Врангеля. А еще, решил Климович, тут вне всякого сомнения можно «половить рыбку в мутной воде»! Во-первых, войти в полное доверие к Кутепову, который, как показывает время, выдвигается в первые фигуры белого движения, и ему принадлежит будущее. Во-вторых, утереть нос этому выскочке Перлофу, всерьез считающему себя разведчиком. Короче, Евгений Константинович, человек на подъем легкий, незамедлительно выехал в Софию, чтобы во всем разобраться лично. Приехал он не один. Он привез с собой Дузика. Теперь при Климовиче он состоял вроде бы порученцем и охранником.
Приехав в Софию, Евгений Константинович счел необходимым нанести визит старому хозяину «русского дома» Петряеву. Не столько визит вежливости, сколь зондаж, стремление получить информацию об обстановке и болгарских делах из первых рук. Однако нашла коса на камень! Александр Михайлович Петряев, конечно же хорошо знавший своего гостя (два раза раненный, но не убитый революционерами, человек Врангеля) и не симпатизирующий ему (неспроста приехал, заварит и тут кашу)» с подлинным искусством дипломата ходил вокруг да около, многозначительно вздевал очи горе и заливался соловьем о новостях второстепенных. Контакт не получался. Господин посол начинал злить Климовича своей неколебимой сановностью, спокойствием, плохо скрываемым пренебрежением к собеседнику. Начальник врангелевской контрразведки упустил тот факт, что в глазах Петряева он прежде всего доверенный представитель Врангеля — человека, вступившего в конфликт с Советом послов, где Александр Михайлович играл определенную роль. Когда Евгений Константинович сообразил это, было поздно. Беседа заканчивалась, да он и не мог даже намекнуть этому ортодоксу, что давно готов сменить хозяина...
Раздосадованный Климович позднее принял своего агента. Далин впервые появился в хорошем костюме-тройке, с мягкой шляпой в руках и тростью. Его умное, непроницаемое и ничем не запоминающееся лицо походило на лицо самого Климовича и, впервые подметив это, Евгений Константинович подумал о том, что это, очевидно, влияние профессии, стирающей с лиц разведчиков все индивидуальные особенности. Но лишь агент начал говорить, голос выдал его: Далин докладывал привычным языком полицейского протокола:
— Пробыв восемь дней в Софии и не уехав в Тырново, «Эн» внезапно изменил образ жизни, который стал шикарным. Часто посещал рестораны, поменял гостиницу, стремился к знакомствам с женщинами и не один раз садился за рулетку.
— Может, заметил слежку?
— Никак нет, Евгений Константинович. Поведение не то. Открытое очень. Пять дней назад мой лучший филер «Пашка», что его вел, доложил: «Эн» в соборе Александра Невского имел непродолжительную беседу с молодой женщиной. О чем говорили, установить не удалось. Мы получили приметы женщины или, если вернее сказать, девицы: роста невысокого, хрупкая, лицо узкое, светлое, овальное, глаза серые, на щеках ямочки, шатенка, года двадцать два — двадцать четыре. Я на всякий случай учредил пост внутри собора.
— Молодец! Хвалю! — воскликнул Климович. — Будешь поощрен.
— Стараемся, ваше превосходительство, — сказал Далин с достоинством. — Азбука-с... Позавчера-с рыбка это, в общем-то, случайно. Появившийся неизвестно откуда в софийском отеле «Сплендид-палас» человек был встречен нежданно Далиным, который вспомнил, что уже видел его где-то в Константинополе. Он дал задание одному из своих филеров на всякий случай «поводить» своего знакомца. Несколько дней внешнее наблюдение не давало ничего, заслуживающего внимания: образ жизни приезжий ведет скромный, гуляет по Софии, ни в какие контакты на улицах не вступает. Далин полагал уже возможным снять наблюдение, когда ему доложили, что гость, поинтересовавшись поездом на Велико-Тырново, привез в номер еще один чемодан, взятый в камере хранения. Опытному сыщику ничего не стоило — в отсутствие хозяина — проникнуть в номер и открыть чемодан. Каково же было его изумление, когда он увидел среди белья весьма крупную сумму денег — и не только в левах, но во франках и фунтах. Ясно, деньги предназначались для передачи. Но кому? Далин, нюхом почувствовавший дело, на котором при любой ситуации можно неплохо заработать, сообщил об этом Климовичу. Евгений Константинович решил, что деньги предназначаются либо Кутепову, что не очень вероятно (от кого?), либо человеку фон Перлофа, который сидел возле Куте-пова по заданию «Внутренней линии» и Врангеля. А еще, решил Климович, тут вне всякого сомнения можно «половить рыбку в мутной воде»! Во-первых, войти в полное доверие к Кутепову, который, как показывает время, выдвигается в первые фигуры белого движения, и ему принадлежит будущее. Во-вторых, утереть нос этому выскочке Перлофу, всерьез считающему себя разведчиком. Короче, Евгений Константинович, человек на подъем легкий, незамедлительно выехал в Софию, чтобы во всем разобраться лично. Приехал он не один. Он привез с собой Дузика. Теперь при Климовиче он состоял вроде бы порученцем и охранником.
Приехав в Софию, Евгений Константинович счел необходимым нанести визит старому хозяину «русского дома» Пстряеву. Не столько визит вежливости, сколь зондаж, стремление получить информацию об обстановке и болгарских делах из первых рук. Однако нашла коса на камень! Александр Михайлович Петряев, конечно же хорошо знавший своего гостя (два раза раненный, но не убитый революционерами, человек Врангеля) и не симпатизирующий ему (неспроста приехал, заварит и тут кашу), с подлинным искусством дипломата ходил вокруг да около, многозначительно вздевал очи горе и заливался соловьем о новостях второстепенных. Контакт не получался. Господин посол начинал злить Климовича своей неколебимой сановностью, спокойствием, плохо скрываемым пренебрежением к собеседнику. Начальник врангелевской контрразведки упустил тот факт, что в глазах Петряева он прежде всего доверенный представитель Врангеля — человека, вступившего в конфликт с Советом послов, где Александр Михайлович играл определенную роль. Когда Евгений Константинович сообразил это, было поздно. Беседа заканчивалась, да он и не мог даже намекнуть этому ортодоксу, что давно готов сменить хозяина...
Раздосадованный Климович позднее принял своего агента. Далин впервые появился в хорошем костюме-тройке, с мягкой шляпой в руках и тростью. Его умное, непроницаемое и ничем не запоминающееся лицо походило на лицо самого Климовича и, впервые подметив это, Евгений Константинович подумал о том, что это, очевидно, влияние профессии, стирающей с лиц разведчиков все индивидуальные особенности. Но лишь агент начал говорить, голос выдал его: Далин докладывал привычным языком полицейского протокола:
Пробыв восемь дней в Софии и не уехав в Тырново, «Эн» внезапно изменил образ жизни, который стал шикарным. Часто посещал рестораны, поменял гостиницу, стремился к знакомствам с женщинами и не один раз садился за рулетку.
— Может, заметил слежку?
— Никак нет, Евгений Константинович. Поведение не то. Открытое очень. Пять дней назад мой лучший филер «Пашка», что его вел, доложил: «Эн» в соборе Александра Невского имел непродолжительную беседу с молодой женщиной. О чем говорили, установить не удалось. Мы получили приметы женщины или, если вернее сказать, девицы: роста невысокого, хрупкая, лицо узкое, светлое, овальное, глаза серые, на щеках ямочки, шатенка, года двадцать два — двадцать четыре. Я на всякий случай учредил пост внутри собора.
— Молодец! Хвалю! — воскликнул Климович. — Будешь поощрен.
— Стараемся, ваше превосходительство, — сказал Далин с достоинством. — Азбука-с... Позавчера-с рыбка клюнула. Ее встреча с «Эн» состоялась в соборе, в то же время, у картины «Христос благословляет детей». Разговор был короток, производился шепотком-с. Друг другу ничего не передавали. Мой человек провел ее до дома — на улице Графа Игнатьева, тридцать один. По проверенным данным: девица Елена Владиславовна Андрианова, дочь погибшего в Крыму корниловского полковника. Прибыла из Константинополя.
— На что живет? Работает?
— Состоит сестрой милосердия в русской амбулатории. Живет скромно, характеризуется положительно. Знакомых не имеет.
— Странно... Весьма, — задумался Климович. — Пахнет липой. Липой!.. Как это не имеет? Что соседи?
— Говорят, много работает. Одинока.
— Тайный обыск не провели?
— Пока не удалось: была дома, никуда не отлучалась. Наружное наблюдение не заметило ничего заслуживающего внимания. Правда, сегодня в поле нашего зрения появился еще один объект. Он приходил к Андриановой в амбулаторию, имел беседу, после которой она, видимо предупрежденная о наблюдении, внезапно скрылась. И в квартире больше не появлялась.
— Упустили, упустили. Ах, Далин, Далин!
— Народу у меня мало, сами знаете, ваше превосходительство.
— Видно, с профессионалами дело имеем.
— Совершенно справедливо. Полностью согласен с вашим превосходительством. Однако спешу заметить, ниточка тянется.
— Новый мужчина? Прекрасно! Что?
— Остановился в отеле «Болгария», приближенный генерала Кутепова, капитан Калентьев. Приехал из Тырново только что.
— Тырново, Тырново, — задумался Климович. — И «Эн» собирался в Тырново. Есть ли тут связь? Возможно, весьма возможно. Кто же передает ему столько денег? Но, насколько помнится, этот Калентьев в Турции работал на Перлофа. Значит, Врангель через Перлофа, по каналам «Внутренней линии» посылает деньги Кутепову? Чепуха! Нет, здесь что-то не так. Знаком ли был раньше капитан с девицей?
— По сведениям, знаком. Приезжал. Их неоднократно видели вместе.
— А девицу мы потеряли, — задумчиво сказал Климович. — Держитесь теперь покрепче хоть за капитана. Кто его ведет? .
— «Пашка», он наиболее способный, и «Валет».
— Так, так... А не делал ли капитан попытки встретиться с «Эн»? — Климович продолжал рассуждать вслух. — Они обязательно пойдут друг к другу. Обязательно. Надо дать им встретиться, Далин. Пусть они встретятся и поговорят. Пусть «Эн» передаст ему привезенные деньги. Посмотрим, куда они поедут. И еще: ищите девицу. София — не Петербург, не могла же она раствориться!
— Может, уехала? — предположил агент, и его старое морщинистое лицо угодливо напряглось.
— Вряд ли. Она знает обоих, капитан не знает «Эн» — так мне кажется. Они встретятся с ее помощью либо у нее. Впрочем, и собор продолжайте держать под наблюдением.
«Если бы хоть предположить, кто работает с такими деньгами, легче строились бы гипотезы», — подумал Климович. И добавил:
— Не станем торопиться, Далин. Сейчас главное — водить их и не выпускать, смотреть и анализировать. Рано или поздно они приведут нас к Андриановой. «Может, поехать к Кутепову? — мелькнула еще мысль. — Или, словно невзначай, встретиться в гостинице с этим Калентьевым? Заставить открыть карты?»
— Раньше, при старом-то режиме, проще было, — сказал Далин. — Главное, народу больше. Нужны тебе филеры, агенты, — проси сколько надо. А требуется, поймал — хватай и в тюрьму! А теперь все переменилось: кто с кем и против кого?.. Голова кругом.
— Да, ты прав, Далин... Сообщай мне обо всех новостях незамедлительно. И я дам тебе своего Дузика. Будет у тебя хоть на связи.
— И еще вопросик, ваше превосходительство. Разрешите? Если начнут уходить, что прикажете? Брать? Ликвидировать?
— Ты что — с ума сошел? Забыл, где находишься? В Болгарии! Чужая страна, нас самих посадят!
— Так я ж говорю, по-тихому?
— В крайнем случае задержать, Далин. Легко ранить. Нам нужен человек для дознания, а не покойник. Стрелять только по ногам и брать вечером, без шума, без полиции и журналистов. Но не раньше, чем они обнаружат слежку. Пока мы только наблюдаем. Только, — повторил он строго, тоном приказа. — А мне нужна квартира. На окраине, в тихом месте. Из гостиницы я должен уехать сегодня же: слишком много людей меня знают. Озаботься немедля, Далин.
— Квартира для вашего превосходительства имеется. В центральной части, правда, — Далин улыбнулся, отчего его лицо сжалось, сморщилось, стало с кулачок. — Но сад большой, забор глухой, подвалы глубокие. Там хоть режь, на улице никто не услышит. Уже заплачено за месяц — чтоб без подозрений. Так что я совсем без денег.
— Жуликоват ты, Далин. Но все равно молодец, хвалю за усердие! Будешь поощрен. И помни! Главное — докладывать мне обо всем. Никакой самостоятельности! Прежде всего разобраться, с кем мы имеем дело.
Отпустив агента, Евгений Константинович задумался. Пожалуй, впервые в жизни он сталкивался с противником, не зная, кто он, не зная даже, противник ли это. Климович корил прежде всего самого себя: никогда раньше такого не случалось — он не знал, на кого работает и на кого должен работать...
3
В оговоренное время «Мишель» не вышел и к Андриановой. Калентьев, пришедший в собор минут за десять до встречи, чтобы осмотреться, без большого труда обнаружил филера. Есть в их лицах и повадках что-то удивительно похожее, канцелярско-полицейское, профессиональное стремление «пережимать», свойственное самым плохим актерам. Калентьев пытался поводить филера. Делая вид, что внимательно осматривает фрески, он останавливался и у фресок «Бог Саваоф», «Святые Кирилл и Мсфодий», и возле двух тронов, и возле центрального иконостаса. Филер, как прибитый, стоял за красной колонной, перед картиной «Христос благословляет детей». Это казалось подозрительным. Калентьев быстро направился к западной стене, где находился вход на балкон хора, взбежал по лестнице, но тут же повернул и стал спускаться вниз. И конечно, незамедлительно, нос к носу, столкнулся еще с одним филером, отпрянувшим в сторону и пропустившим Глеба. Сомнений быть не могло: и он уже тянул за собой «хвост»! Предосторожность, принятая «Мишелем», не имела теперь никакого смысла. Неужели попался? Но в чьи руки? Скорее всего — конкурирующие «фирмы» Климовича и фон Перлофа. Возможно, его случайно узнал кто-то из константинопольцев? «Мишеля» схватили и теперь выколачивают из него показания?.. Плохо. Надо уходить. И обеспечивать безопасность Андриановой, если ее еще не «засветили» на запасной квартире. Тогда совсем плохо. Он остается слепым и глухим, без связи, накануне взрывных событий. «Приятеля» пора выводить из игры. Пора ли? А если это работают люди Перлофа, которого, вероятно, сможет обуздать «Доктор»? Значит, не пороть горячку, не суетиться... Выждать?.. Калентьев порадовался своей предусмотрительности: Андрей Белопольский — человек обязательный, пунктуальный, — в эти минуты он подъезжает на извозчике к главному входу. Делая вид, что ничего не заметил и продолжает ждать кого-то, Калентьев не спеша продвигался от западного входа, вдоль стен, к центральному. Оба филера, держась на расстоянии, уже открыто шествовали за ним. Интересно, ждет ли его у входа третий? И сколько их всего? В последний момент Глеб переменил решение и повернул к западному выходу. Он сумеет обогнуть собор, и это даст ему некоторые преимущества. Если Андрей на месте, посадка к нему на извозчик будет выглядеть не как заранее спланированная, а как случайная акция. Если все филеры ждут его в центре, бегство через западную дверь тоже даст некоторые преимущества. Глеб убыстрил шаги и вдруг побежал. К счастью, западные врата оказались незапертыми. Он даже не удосужился заранее проверить это. Позор!.. Упав на сиденье рядом с Белопольским, Глеб крикнул извозчику:
— Пошел! Оплата двойная! — и, переведя дух, благодарно пожал руку Белопольскому.
— За тобой действительно муж гнался?
— Ты недалек от истины. Но не один — с дружками, их было там с десяток, — усмехнулся Калентьев. — Посмотри, не едут?
— Сзади чисто.
— А красотка не пришла. Бедняга! Ей достанется.
— Не переживай: красотки всегда выкрутятся. Я тебе удивляюсь. Столько женщин вокруг, зачем же выбирать замужнюю?
— Сердцу не прикажешь. Пожалуй... Знаешь, нам, к сожалению, пора расстаться. Отвези меня к вокзалу.
— У тебя есть деньги, Андрей? Прости, не обижайся. Я могу дать тебе денег. Немного. Отдашь потом.
— А зачем мне деньги, Глеб? Разве ты не понял? Мне ничего не нужно. Все, что зарабатываю, — мое.
— Я понял и рад за тебя. — Калентьев замялся, не зная, имеет ли он право рисковать и что говорить приятелю, с которым они расстаются надолго, быть может, навсегда. — Завтра я уеду, Андрей. Не знаю, как сложится жизнь, кому и что она приготовит. Но мне кажется, мы всегда были добрыми друзьями и солдатами. Не нужны деньги, прими добрый совет. Возвращайся на родину, Андрей.
— А ты как решил?
— Для меня это давно решенное.
— Да меня там просто шлепнут, когда разберутся, кто к ним пожаловал.
— Не шлепнут. Я ручаюсь.
— Ты?! Кутеповский капитан? Солидное поручительство!
— Я тебе верю, Андрей. Очень. И верю, ты вернешься. Может быть, даже раньше, чем я. Поэтому слушай внимательно и запоминай. Если решишься, ты пойдешь на улицу Графа Игнатьева, тридцать три. Там — «Союз возвращения на родину». Я не могу тебе всего объяснить... Но когда ты вырвешься отсюда и вернешься в Россию, при проверке говори: мой друг капитан Калентьев, капитан Калентьев в Болгарии уговорил меня вернуться, уверил, что Россия меня простит.
— Боже, Глеб! Чего это ты вдруг заговорил так?
— Прощай, Андрей! Больше сказать не могу ничего. Не знаю, увидимся ли еще.
— Тут уж как судьба распорядится. Сколько раз мы прощались!..
Они обнялись. Белопольский зашагал к вокзалу, думая о разговоре с Калентьевым. Сколько он его знает? Вечность! С Корниловского ударного полка. Что-то всегда выделяло Калентьева из массы офицеров. Он был добр, справедлив, никогда не участвовал в общих пьянках, не участвовал в экзекуциях и карательных экспедициях. Он от всех отличался. И всегда был сам по себе. Кому же он служит? Неужели красной России?! Большевикам? Следовательно, и он, князь Белопольский, идет против своих?.. Но кто теперь «свои» для него? Врангель? Слащев, предавший его? Жандарм Бадейкин? Или его друг Калентьев? Или дед — отставной генерал, вернувшийся в Петроград?.. «Какое мне дело! — успокаиваясь, подумал Андрей. — Боритесь! Режьте друг другу горло. Дискутируйте. Я далек от вас, от вашей политики. Надо жить дальше. И выполнять то святое, что было обещано старой Кульчицкой — найти ее невестку...»
И сразу возникло воспоминание, точно для того, чтобы опровергнуть мысли Андрея. Оно относилось ко времени, когда Белопольский стал матросом на «Преподобном Фоме». Почему эта худая посудина носила такое название — оставалось загадкой, как и то, кто являлся ее подлинным хозяином. Люди без национальности, без имен и фамилий (большинство имело подложные документы), объяснялись на диком каком-то эсперанто, основу которого составлял французский язык.
Греческую армию, сражавшуюся с турками, оружием, боеприпасами, продовольствием снабжали французские интенданты. Команда «Фомы» наладила кражу и доставку на шхуну банок с чаем, мешков с сахаром и перевозку этих дефицитных продуктов на восток, где они продавались втридорога базарным перекупщикам. Туда же шло купленное в Константинополе оружие. С востока на запад «Преподобный Фома» перевозил греков и армян, бежавших от резни, то тут, то там спровоцированной турецкими националистами. Кемаль-паша побеждал. Фронт неуклонно продвигался с востока на запад. Шхуна шла вдоль черных анатолийских скал, подбирая беженцев. Обезумевшие от пережитого ужаса люди, нагруженные впопыхах схваченным скарбом и детьми, за спасение отдавали все, что имели. Капитан набивал ими трюмы, заваливал палубу так, что «Преподобный Фома» чуть не черпал бортами воду. Старенький мотор работал с перебоями, задыхаясь, как астматик. Вода проступала сквозь дырявую обшивку...
«Преподобный Фома», совершив очередной рейс за контрабандным керосином в Батум, возвращался в Константинополь. На море царил штиль, но барометр падал, и вода, освещенная предзакатными лучами солнца, казалась покрытой масляно-желтой пленкой, сливающейся на горизонте с вытянутым длинной полосой желтым облаком. Было очень тихо в этот час, и только мотор выстукивал простую мелодию, ритмично постреливал в бездонное небо дымными колечками. Команда, свободная от вахты, благодушествовала на палубе — играли в карты, пили вино, спали. И даже капитан приказал вытащить на мостик кресло-качалку и подремывал, не выпуская трубку изо рта.
Потом не могли уж и вспомнить, кто первым заметил большую группу беженцев на берегу, взывающих о помощи. Береговые скалы в этом месте уходили под воду, причаливать было опасно, и, хотя шхуна была изрядно нагружена, желание заработать, владевшее каждым, не потребовало приказов. В мгновение были сброшены оба якоря, подготовлены к спуску шлюпки с гребцами.
Звериный вой несся с берега. Толкая друг друга и подымая детей над головой, беженцы лезли в воду, видя свое нежданное спасение в яхте и двух лодках, приближающихся с каждым взмахом весел. Первая царапнула дном камень и остановилась. Следом — вторая. Их тут же обступили обезумевшие люди. Они кричали, взывали к богу, молили о помощи. Одни протягивали матросам кошельки, золотые кольца и браслеты, другие — запеленутых младенцев, сумки и тючки с жалким скарбом — самое дорогое, что оставалось у каждого. В это время на гребне высокой скалы появились вооруженные люди. Раздалось несколько выстрелов. Брызнули каменные осколки. Толпа взревела и кинулась на штурм лодок.
— Куда?! Назад! — кричали матросы, размахивая веслами. — По одному!
— Отцепляй! — приказал боцман, выхватывая огромный нож и нанося удары тяжелой рукояткой направо и налево.
Обе лодки, перегруженные сверх меры людьми, преследуемые плывущими вслед беженцами, упорно хватающимися за борта, корму и весла, медленно уходили от берега. Удерживаемые людьми, для которых эти мгновения оставались единственным шансом остаться в живых, лодки почти не продвигались вперед и в любую минуту могли перевернуться. Стрельба с гор усилилась. Стали хорошо видны многочисленные фигуры турок, спускающихся по скальным осыпям и расщелинам. Положение осложнялось. Матросы, испугавшись за собственные шкуры, принялись с поспешной яростью отталкивать веслами еще державшихся за борта и корму. Беженцы один за другим отставали, и лишь молодая и сильная женщина с грудным младенцем цепко удерживала шлюпку побелевшими от напряжения пальцами. Кто-то ударил женщину веслом по голове. Собрав остаток сил, женщина бросила живой сверток в шлюпку, и Андрею удалось подхватить его. Молодая гречанка, продолжая улыбаться, медленно проплыла мимо шлюпки, погружаясь в воду, и Андрею показалось: она с надеждой смотрит на него. Он передал ребенка в чьи-то руки. Матросы навалились на весла. На «Преподобном Фоме» уже поднимали якоря.
А черев час налетел шторм. Облако на горизонте быстро росло и клубилось. Море закипало. Черная туча закрывала небо. Свет мерк. Становилось темно. Ревущий ветер вздымал волны. Шхуну кидало вверх и вниз. Стремительные потоки обрушивались на палубу. Заглох мотор.
— Наверх! К парусам! Все наверх! — надрывался боцман. — Руби ванты!
Матросы, держась за леера, передвигались по палубе на четвереньках, поливаемые водопадами воды, суетились, мешая друг другу. В сущности, и матросов среди них не было, так, голытьба, — вот когда это проявилось, при первом серьезном шторме.
Андрей выскочил в момент, когда «Преподобного Фому» медленно поднимало к верхушке гигантской черной волны, нависающей и уже опасно закругляющейся над шхуной. Стремительно падало на голову черное небо. Балансируя по ускользающей из-под ног палубе. Белопольский с трудом сделал несколько шагов. Мачта позади него упала, обрывая снасти, и вдруг шхуна и все, что было на ней, рухнуло в гудящую волну. Качнулось, оторвалось от кипящей волны и взлетело ввысь, в небо. Вслед за Андреем неслись по палубе какие-то предметы, ящики, грохотала сорванная с креплений небольшая лебедка, катились кричащие люди. От кормы к носу пронесся стремительный белый поток. Андрей летел в нем, чувствуя полное бессилие, думая лишь о том, как бы зацепиться, не дать волне смыть себя в море. О в больно ударился. В это время волна схлынула, нос шхуны со стоном и скрипом стал задираться, небо, посветлев и качнувшись, стало приближаться. Андрею удалось схватиться за леер. Он подтянулся, волоча обессилевшее тело, и прижался к стойке, охватив ее руками и ногами.
— Тонем! — несся чей-то истерический визг.
— К помпе! — раздался голос боцмана, и Андрея сильно толкнуло вправо. Он не удержался на трапе и полетел вниз, в душную трюмную темноту. Падая, ударился о ступеньку трапа и полетел еще ниже, в зловонную воду на дне трюма...
Еще много часов бушевало Черное море. Но шторм отходил уже на запад. «Преподобный Фома», к общему удивлению остававшийся на плаву, походил на раздавленную и порванную коробку, носившуюся по воле волн. С поломанной грот-мачтой и повисшей бизанью, с порубленным и порванным такелажем, поврежденным рулем, трюмами и мотором, залитыми водой, корабль смещался к западу, в сторону Константинополя. Ручные помпы не справлялись с откачкой. Все матросы авралили уже вторые сутки.
К вечеру, когда механику удалось наконец запустить мотор и «Преподобный Фома» двинулся на малых оборотах по ветру, за ними погнался военный катер, вооруженный пушкой и двумя пулеметами системы «Кольт».
— Турки! — закричал боцман. — Беженцев вниз! Трюмы задраить!
Катер приблизился. С него приказали заглушить машину. Пятеро турок в широченных шароварах, фесках, красных бархатных жилетках, увешанные оружием с головы до пят, поднялись на борт и велели построить команду у мостика. Старший над ними, горбоносый, размахивая маузером перед всегда сонным капитаном, чудовищно коверкая французские слова, требовал документы на грузы, команду и судовой журнал. И повторял, если он найдет тут хоть одного грека, капитан будет расстрелян.
— Сто хочет эта собачий сын? — невозмутимо спросил капитан Юсуфа, турка. Тот объяснил, и тогда капитан, пожав плечами, сказал: — Пусть кофорит с босман. — И полез на мостик: — Дайт им теньги, босман.
Турки проводили капитана недоумевающими взглядами. И тут, выстрелив из маузера и взъярившись, горбоносый подскочил к Юсуфу — он был матросу по пояс — и, тыча стволом ему в живот, быстро и гневно залопотал что-то. Огромный Юсуф согласно кивал и униженно кланялся, испуганно косясь на пистолетное дуло. И перевел:
— Спрашивает, сколько беженцев везем?
— Скажи, штормом с палубы смыло.
— Поверит разве?
— Неужели детей на смерть отправим? — возмутился боцман — Аллахом клянись. Аллах простит.
— Они гяуры, — мрачно возразил Юсуф. — Не могу. Никак мне нельзя.
— Скажи, задерживать станут, утонем: забортной воды набрались. Даю пятьсот лир, пусть отпускают. А в трюмах вода, ясно?
— Он согласен, — облегченно перевел Юсуф.
Боцман достал мешочек, висящий на груди, отсчитал деньги.
Горбоносый схватил их и, вращая глазами, закричал что-то.
— Говорит, не хватает десять лир, — пояснил Юсуф.
— Пусть подавится! — боцман швырнул турку ещё несколько бумажек, смятых в кулаке, и тот схватил их на лету. И засмеялся — точно заклекотал, давая команду покинуть шхуну. Тут, к несчастью, он и заметил Христо, грека, и, схватив его за ворот брезентовой куртки, вытащил из группы матросов, старающихся прикрыть несчастного.
— Грек? — радостно спросил он.
Тот кивнул, и, повинуясь взгляду старшего, турки схватили Христо, бросили под ноги горбоносого. Потрясенный страхом грек пополз на коленях, стеная и сипло затянув суру из Корана. Турки совещались, на чем его повесить. Матросы «Преподобного Фомы» взирали на происходящее с холодным любопытством. Андрею показалось, он услышал, как заключается пари — вздернут Христо или его пристрелит начальник. Очевидно, выигрывали первые: на несчастного грека накинули петлю и поволокли по палубе. Христо хрипел, задыхаясь. Андрей чувствовал, как нарастает в нем ярость. Но он не успел вмешаться: боцман шагнул вперед и наступил ногой на веревку. Турки выжидательно посмотрели на своего горбоносого, тот — недоуменно — на Юсуфа.
Боцман стал говорить, что Христо русский грек, за греков Турции они не ответчики, турок уважают, а греческих греков ненавидят, как первейших врагов, из-за которых вынуждены страдать. Турок выслушал боцмана, затем — испуганно бормотавшего что-то Юсуфа и коротко заключил:
— Сто лир, — и посмотрел на боцмана. Пускай Христо платит, — боцман демонстративно повернулся спиной к турку.
— Сто лир! Я даю! — закричал несчастный пленник.
Христо отпустили. Он вскочил, нашаривая кошелек в глубоких карманах.
— Двести! — приказал турок.
Христо, вытащив кошелек, торопливо пересчитал наличность, выкрикивая:
— Пятьдесят! Шестьдесят! Восемьдесят пять!.. Сто двадцать!.. Сто сорок!.. Сто сорок семь!.. Все! — И сказал сокрушенно: — Больше нет.
— Двести! — повторил турок. — Возьмите его!
На несчастного мигом вновь накинули петлю.
— Друга! — взмолился он, падая на колени и протягивая руки к матросам «Преподобного Фомы». — Братья! Спасите! Я отдам!
Команда молчала. Продолжая стоять на коленях, с петлей на шее, Христо протягивал деньги каждому, оглашая шхуну рыданиями.
— Подонки! Вы все — подонки! — не выдержал Белопольский. — Его убьют из-за пятидесяти лир. Он же наш... товарищ?!
— О! Господин сказал «товарищ»? — насмешливо бросил боцман. — Это прогресс! Остается выложить деньги. -
— Даю! — отозвался Андрей. — Хотя этот подонок не стоит и трех лир.
— Так рассуждает каждый из нас. — подытожил боцман. — Стоит ли тратиться?
— Прошу! Я прошу вас! — молил Христо. — Я отдам! Клянусь!
Андрей дал сорок лир — все, что было. Остальные собирали по лире, по две.
Пересчитав деньги, горбоносый удовлетворенно засмеялся и, демонстрируя мастерство, пальнул в сигнальный фонарь на мостике и, срезав его первым выстрелом и еще веселее рассмеявшись, пошел к трапу. Турки мгновенно очистили палубу.
В начале третьих суток путешествия, к вечеру, мощное течении втянуло в Босфор «Преподобного Фому». Ошвартовались у пристани в Румели Гиссаре, освободились от греческих беженцев, а утром малым ходом доползли до каботажной пристани Селибазар...
Прожив вновь тот, старый кусок жизни, Белопольский с горькой насмешкой над собственной наивностью подумал сейчас о том, что, пока где-то на земле идет война и одни люди убивают других, никому не удастся остаться над схваткой, стать в сторону безучастным наблюдателем. Надо делать выбор. Каждому придется делать свой выбор. И чем скорее, тем лучше. Тогда человек перестает быть щепкой, которую волны носят по морям и океанам. Надо только помнить все, ничего не забывать. Тот, кто забывает о прошлом и прожитом, рискует пережить его вновь... Он вернулся мыслями к Калентьсву и даже позавидовал ему: Калентьев — не щепка. Он знает хорошо, что делает...
Калентьев, приказав извозчику ехать от вокзала не торопясь, раздумывал над событиями последних дней и анализировал каждый шаг. Ошибки он не видел, не находил. Ошибку, возможно, допустили те, кто работал с ним, — Андрианова, «Мишель», «Приятель»? Конечно, «Мишелю» не следовало и на час оставлять в гостиничном номере деньги. Что произошло с «Мишелем» дальше, Калентьев точно не знал. Заметив слежку, он не потащил за собой филеров в Тырново. Однако он навел их на Елену — это без сомнения. Здесь просчет. Следовало, пожалуй, повременить, но кто знает его обстоятельства и данные ему инструкции? И не арестован ли он? Не убит? Успела ли поменять квартиру Андрианова?.. Сколько лет проработал, и вот, пожалуйста, начались сбои — в момент, когда накануне Генуи от него ждут чуть ли не самой важной за эти годы информации...
Глеб Георгиевич Калентьев родился в богатом рязанском поместье генерал-лейтенанта Георгия Ивановича Багрова, вышедшего в отставку по многим ранениям, ничуть не изменившим, однако, ни его крутого нрава и гвардейских привычек, ни стремления к яркой и азартной жизни. Отца своего Глеб видел редко. Ходили в округе много лет анекдотические рассказы о его проделках, кунштюках; о цыганских хорах, привозимых им на масленицу; о приемах, для которых сервировали столы на сто персон; об оранжерее, где работал выписанный из-за границы специальный цветовод; о замечательной конюшне, облицованной кафелем, где содержались бесценные кони и среди них знаменитый жеребец по кличке Уголек, оцениваемый в полмиллиона рублей.
Мать его, Елизавета Владимировна, женщина удивительной красоты, доброты и мягкосердечия, была дочерью полкового врача, спасшего на поле боя отца Георгия Багрова, тоже генерала и сумасброда, поселившего своего спасителя у себя в поместье, выделившего ему немного земли и домик с хозяйственными пристройками. Врач Владимир Матвеевич Калентьев — дед Глеба, безотлучно просидев пять суток у постели больного, сам закрыл глаза благодетелю своему. Сын умершего не пользовался услугами полкового врача, да и не требовался ему врач вовсе, — однако с земли не гнал, относился к нему, как к памятной вещи, оставшейся после отца. Существует, и ладно! До тех пор пока в отставку не вышел и не приметил, что выросла рядом раскрасавица и умница Лизочка, которая еще вчера, кажется, смущаясь до немоты, приходила в усадьбу на пасху или на рождество и недурно пела, аккомпанируя себе на фортепиано.
Багров-младший увлекся ею. Она же просто и бескорыстно полюбила его, явившего, по-видимому, какие-то, скрытые от других, добрые черты сумасбродного своего характера, хотя, имея семью, он не давал ей никаких обязательств. И к рождению сына отнесся с полным равнодушием, заявив, впрочем: «Если будет здоров, дам достаточные деньги на содержание. Его судьбу определят его успехи. Он должен быть хорошо воспитан. Я укажу ему и дальнейший жизненный путь». После 1903 года, когда приняли закон, позволяющий усыновлять внебрачных детей даже при наличии законных, Георгий Иванович не пожелал изменить судьбу сына. Глеб так и остался Калентьевым — по фамилии деда. А вскоре генерал внезапно умер, как и жил, на бегу, от апоплексического удара, оставив завещание, по которому давал небольшую часть состояния сыну при условии, если тот окончит юнкерское училище и станет хорошим офицером.
Воспитывал Глеба дед — человек образованный, мыслящий широко и прогрессивно. У него в доме вечно жили какие-то люди. Глеб запомнил землемера и художника, а потом попа и мастерового: вечерами, сходясь за самоваром, спорили до хрипоты — что есть жизнь, что есть человек, что ему надо для свободы и счастья. Бывали здесь и люди, неугодные властям, скрывающиеся от полиции. Дед и мать называли их шепотом — «политические»... После смерти Багрова-младшего наследники приложили немало сил, чтобы ликвидировать «революционное гнездо». Калентьевы переехали в Москву. Глеб окончил классическую гимназию и, несмотря на сопротивление деда, отдан был в юнкерское училище: семья бедствовала, нужны были деньги. В училище и в полку Глеб чувствовал себя белой вороной. С начала войны он был послан во Францию в рядах русского экспедиционного корпуса. Участвовал в. боях, был ранен и награжден солдатским «Георгием». Глеб приветствовал Февральскую революцию и незамедлительно сбежал из госпиталя, чтобы принять в ней участие. Один из тех «политических», кого в свое время долго прятал дед, оказался большевиком, членом московского Военно-революционного комитета. Он помог разобраться в политической ситуации. Революции нужны были профессиональные офицеры — Глеб командовал отрядом красногвардейцев. До середины восемнадцатого он оставался в Москве, учился на специальных курсах. В чине поручика и под своей фамилией был направлен на юг, где формировалась Добровольческая армия. При Каледине стал штабс-капитаном. Деникин произвел его в капитаны. Калентьеву не нужна была легенда, не приходилось играть никакой роли: он играл самого себя. И псевдоним себе сам придумал — «Баязет» — первое, что пришло в голову...
4
Елена Владиславовна с нетерпением ждала прихода Калентьева. Он задерживался. Зная его пунктуальность, Елена волновалась, хотя, как успел сообщить ей «Приятель», благополучно перенесший рацию и страховавший «Баязета», возле собора Калентьеву удалось оторваться от филеров и умчаться на случайно оказавшемся тут же извозчике. Наконец раздался условный стук в раму (в отличие от главной квартиры, эта, запасная, находилась на первом этаже, на восточной окраине Софии), а затем в дверь, и появился Глеб. Он нравился Елене: всегда спокоен, хладнокровен, малоразговорчив, невозмутим. И красив, строен, безукоризненно одет. Елена была даже чуть-чуть влюблена в своего шефа.
— Как прошел переезд? — спросил он буднично, словно речь шла о поездке из города на дачу. И, увидев, что она кивнула успокаивающе, вновь спросил: — Была ли связь? Центр передал: по сообщению «ноль сто тридцать пятого», подтвержденному «Доктором», Климович вышел на человека возле Кутепова.
— А-а! Значит, подтверждается. Это опасно! Что с «Мишелем»? У меня встреча не состоялась, он не пришел.
— Знаю. «Приятель» страховал вас. Он увидел его возле собора, и они контактировали. Он в безопасном месте. Центр приказал: «Баязету» уходить. Нам вместе. В Варне у отеля «Сплендид» будет ждать человек. В девять утра, возле входа — газетный киоск. Пароль: «Нет ли у вас расписания движения пароходов?» Отзыв: «Вас интересует Константинополь?» — «Афины». — «Про Афины вы узнаете в Константинополе». «Мишель» уходит. «Приятель» остается пока здесь.
— Когда должен был быть сеанс связи? Ну, если б мы не уходили?
— Завтра в двадцать два.
— Ясно. Уйдем после сеанса: исключительно важная информация. Сейчас поработаем, Елена Владиславовна. Будете шифровать.
— Но ведь приказ — уходить срочно.
— В Варну мы не поедем вместе, дорогая Елена Владиславовна. Люди Климовича уже ждут нас на всех крупных станциях, можете не сомневаться. И словесные портреты у них имеются, если кто-то из наиболее расторопных не успел вас или меня сфотографировать. А то и вместе, когда мы мило беседовали во дворе амбулатории. Будем добираться поодиночке. Поработаем, и я уйду, чтоб подготовить свое исчезновение. Так что не будем терять времени. Записывайте информацию.
— Я готова, — метнувшись за блокнотом, сказала она.
— Итак, номер... Диктую. — Калентьев сел в плетеное кресло и, прикрыв глаза, устало вздохнул. Помолчал, сосредоточиваясь. — Пишите: «Кутепов, поощряемый сербским посланником, в контакте с болгарскими монархистами готовит заговор. Точка. Самохвалов под видом антикоммунистической организует свою агентурную сеть, направленную против членов правительства Стамболийского, он собирает сведения о болгарских укреплениях, складах оружия, амуниции, наличии подвижного состава на железных дорогах и автомобилей. Требования Межсоюзной комиссии о немедленном разоружении врангелевской армии не выполняются. В штабе Кутепова получено ультимативное распоряжение полковника Топлджикова. Все русские должны подчиняться болгарским законам. Врангелевские контингенты не могут пользоваться правами боевых частей, обязаны подчиняться гражданским властям, коим надлежит немедля приступить к разоружению кутеповцев. Все желающие вернуться в Россию беспрепятственно депортируются. Ввиду наступления весны части русского корпуса могут быть определены на сельскохозяйственные работы. Врангелю запрещен въезд в Болгарию. Им послано Кутепову указание о непринципиальных уступках. Одновременно, при ухудшении обстановки, вырабатывается план, согласно которому части корпуса снимаются с мест и идут в Сербию на соединение с русской армией. Из Белграда дипсвязью получено письмо Шатилова, оценивающего ситуацию по поручению главкома. — Калентьев замолчал, посмотрел на Елену: — Успеваете? Цитирую: «Положение русской армии в Болгарии в случае вооруженного выступления земледельцев, поддержанных местными большевиками, будет чрезвычайно затруднительным. В этом случае нам необходимо соблюдать полнейший нейтралитет, дабы не вызвать к себе новый взрыв вражды со стороны болгарского народа и иностранных держав. Этого же требует наш долг по отношению к гостеприимно принявшей нас стране. При этом положение наше будет значительно облегчено, если болгарская армия в этом вооруженном выступлении окажется на стороне короны. Если же она расколется и в большей своей части окажется на стороне земледельцев, то обстановка для нас сложится значительно тяжелее, но и в этом случае я не вижу оснований отказаться от нашего нейтралитета, так как конец борьбы будет знаменовать возвращение к существующему ныне политическому положению. Только в одном случае обстановка, может заставить нас выйти из положения нейтральных зрителей, именно, если это выступление будет организовано земледельцами, руководимыми коммунистами, так как успех в борьбе, одержанный левыми партиями при этой группировке сил, имел бы первым последствием расправу над нами...» Подпись. Конец цитаты. Генерал Миллер готовит от имени Врангеля приказ, в котором предписывается частям, находящимся в Болгарии, быть наготове и выступить по первой тревоге, но в то же время не принимать никакого участия в боевых действиях внутри страны и в случае вынужденного перехода границы Сербии. Точка... Считаю, усилия левых сил и прессы Болгарии, требующих «отсечь кровавую руку Врангеля», насильно посадить войска в поезда и отправить в Россию, малодейственными. Все приказы главного командования и Кутепова направлены против Генуэзской конференции, призваны явить неослабную мощь сил контрреволюции, готовой и к массовым выступлениям, и к индивидуальному террору. Уходим завтра через Пловдив либо Бургас на Варну. Рация передается «Приятелю», нуждающемуся в помощи. Время связи, пароли прежние. Баязет».
— Готово! — сказала Елена.
— Шифруйте немедля, Лена. Готовьтесь к связи и переезду внимательно. «Приятель» будет здесь. Заранее сожгите все, пепел — в туалет. Чтобы ни духу ни запаху.
— Зачем вы так? Разве мне впервой?
— Повторение — мать учения, — обезоруживающе улыбнулся Калентьев. — Не вовремя засек нас Климович, ох не вовремя! Да что делать?! Тут кто — кого. Буду ждать вас в Бургасе. Проводит «Приятель». Ну, а там как бог пошлет! Авось выскочим. Итак, до свидания, Елена Владиславовна.
«Ну и выдержка! — подумала Андрианова, накидывая цепочку и невольно прислушиваясь к шагам Калентьева по каменным плитам тротуара и не слыша его шагов. — Работать, когда все рушится, когда охранники Климовича наступают на пятки. Недаром он просидел столько лет бок о бок и с Деникиным, и с Врангелем, и теперь — с Кутеповым. Будь мы с «Мишелем» поосторожнее, он еще работал бы и работал».
— Ну-с, Далин, — Климович, не скрывая раздражения, ритмично постукивал карандашами, зажатыми в кулаке, по столу. — Теперь-то вы можете твердо сказать: они ушли! Ускользнули между пальцами. Провели нас, как детей! Может быть, это призраки? Ничего подобного! Они — такие же, как мы с вами, люди. И более того, они, как и мы, русские! Психологию русского человека вы уж должны были знать: столько лет в охранке... Что? Вы не знали, на кого они работают? Да, это смягчает вашу вину. В очень малой степени, увы... И я не знал. Но на кого могут сегодня работать русские? На всех! И на большевиков — откуда ни возьмись, у них возникла сильная разведка и контрразведка, в этом мы могли убедиться и в Петрограде, и в Москве, и воюя против них в Крыму. И в Константинополе, черт возьми! Вечером мне удалось по телефону связаться с вашим другом, Далин. Перлоф заверил меня, что ни капитан Калентьев из кутеповского штаба, ни эта медицинская сестра Андрианова, ни этот рыжий «немец» никакого отношения к его «Внутренней линии» не имеют... Положим, Калентьев оказывал ему услуги. И не раз! Он был подсажен к Кутепову с ведома самого Врангеля. Короче, сведения Перлофа равны нулю, но я сегодня ему поверил. У нас нет фотографий этой святой троицы?
— Только девицы, ваше превосходительство.
— Калентьева, если нам повезет, найдем у кутеповцев.
— У нас есть словесные портреты для внешнего наблюдения.
— Хорошо. Передайте Дузику. Я обратился за помощью к софийскому градоначальнику Станчо Трифонову. Дузик отвезёт их ему. Хотя я уверен: эти трое еще ночью покинули Софию. Может быть, удастся их перехватить где-нибудь на границах, хотя это маловероятно. Мне очень не хочется, но придется обращаться за помощью и к начальнику жандармерии полковнику Мустанову. Они все тут полковники — наваждение какое-то, Далин. Мустанов особый — он терпеть не может нас. Так что считайте, сражение — вероятней всего! — мы проиграли, Далин... Пошлите ко мне этого идиота Дузика. А впрочем, черт с ним! Пусть отправляется в градоначальство, к Трифонову, — что с него возьмешь! Работать не с кем, Далин. Вот такая, сударь, ситуация... Помню, хорошо сказал как-то покойный генерал Корнилов: «Надо солдата как можно чаще заставлять чистить казарму. Иначе власть захлебнется в собственных нечистотах». Очень верно! Но у нас и солдат не осталось, Далин. Довоевались! Красным повезло еще и потому, что у меня есть дела поважнее — Генуя. Решено любым способом ликвидировать руководство большевистской делегации. Где угодно и как угодно. Конференция в Генуе — наша братская могила, Далин. Вы это понимаете? Понимаете? Ну, спасибо. Так что готовьтесь, Далин. Надо бороться, надо сопротивляться хотя бы...
Глава двадцать вторая. ЮГОСЛАВИЯ. ВИЛЛА «ЭКСЕЛЬСИОР» БЛИЗ ДУБРОВНИКА
1
Фон Перлоф привез Кэт — согласно документам Анастасию Мартыновну Мещерскую, больную нервным расстройством, — на Адриатику еще в конце января. Пансионат «Эксельсиор», куда он устроил ее, находился в полутора верстах от Дубровника, на берегу моря. Небольшая затейливой архитектуры вилла прилепилась к скале, как ласточкино гнездо: комнат пятнадцать, не больше, внизу холл и столовая, на втором и третьем этажах — жилые помещения. За забором петляла по берегу неширокая, покрытая утрамбованной щебенкой дорога. При сильном ветре и волнении на море брызги и пена взлетали на трехметровую высоту и захлестывали дорогу. Пансионат напоминал Кэт их крымскую виллу «Бельведер» и одновременно — константинопольский пансионат Трубецкой и Чавчавадзе. Комнатка Кэт находилась на последнем этаже — угловая, так что, сидя на балконе, закутавшись в плед, она видела и морскую даль, и дорогу к Дубровнику, скрывающуюся за скалой, которая нависала над изрезанной береговой линией.
Кэт приехала в курортное межсезонье. По утрам над водой стоял густой холодный туман. Незаметно он превращался в дождливую пелену. К вечеру моросящий дождь усиливался. Он шумел в кронах вечнозеленых деревьев, барабанил по крыше, напористыми струями низвергался из водосточных труб, издавал монотонные шипящие звуки на ступеньках и каменных плитах тротуара. Пляжи пустовали. Перевернутые, глянцевито блестевшие просмоленными днищами лодки напоминали морских котиков, выползших на сушу. Серое море и серый берег сливались, казались одним целым. Безлюдно было вокруг. Бёзлюдно, уныло, сумрачно. Будто на дне глубокого озера. Все виделось через дождливый занавес — нечетко, расплывчато. Более половины комнат пустовало. Кэт не сразу узнала об этом: она не ходила в столовую, еду ей приносила разбитная итальянка неопределенного возраста, которая с одинаково веселым рвением исполняла сразу несколько должностей — убирала комнаты, стирала белье, ездила на шарабане в окрестные села за вином, хлебом, мясом и сыром. Итальянка сочувствовала «русской девушке-аристократке, которая перенесла немало горя». Она обладала живым умом и добрым сердцем. Звали ее Джованна. Они объяснялись знаками...
Дни были тихие, покойные и однообразные. Вечера — тоскливые, наполненные воспоминаниями о детстве и юности, о семье. Кэт страдала бессонницей, вероятно, потому, что мало двигалась. И засыпала, измучившись и извертевшись, за полночь. И долго приходил к ней один и тот же сон... Будто подводит ее к аналою дед. Она — невеста в белом платье с фатой и белыми цветами в волосах. А рядом — ее дядя-жених, с маленькой головкой, в мундире, при всех орденах. Священник, трижды перекрестив их, вкладывает им в руки зажженные свечи. «Миром господу помолимся... О мире всего мира... О рабе божием Святославе и рабе божией Ксении... А еще спожити им добре в единомыслии... Господь бог дарует им брак честен и ложе неоскверненное...» — звучит в притихшем храме голос. «Венчается раба божия Ксения рабу божию Святославу!..» — «Нет! — кричит Ксения. — Не Святослав он, не Святослав! Помилуйте!» — и просыпается от ужаса, сдавившего ей горло. И снова мучается, вертится с боку на бок на измятых простынях. И в который раз твердит заговор от тоски, которому еще в крымские времена научила ее кормилица Арина: «На море на кияне, на острове Буяне, на полой поляне, под дубом мокрецким сидит раба божия Ксения, тоскуя, кручинится в тоске неведомой и в грусти недознаемой. в кручине недосказанной. Идут восемь старцев незваных-непрошеных. «Гой ты еси, раба божия Ксения, ты что-почто сидишь с утра до вечера кручинная?» И рече раба божия Ксения восьми старцам: «Нашла беда среди околицы, залетела во ретиво сердце, щемит, болит головушка, не мил свет ясный, постыла вся родушка». Начали ломать тоску восемь старцев грозным-грозно, бросать тоску за околицу. Кидмя кидалась тоска, от востока до запада, от реки до моря, от дороги до перепутья, от села до погоста. Нигде тоску не приняли, нигде тоску не укрыли. Заговариваю я рабу божию Ксению от наносной тоски по сей день, по сей час, по сию минуту, и слово мое никто не превозможет ни воздухом, ни духом». Так мучается до рассвета и забудется лишь на несколько часов — пока разбудит ее стуком Джованна. Встанет к завтраку с тяжелой головной болью, и белый свет ей не мил.
Вскоре навестил Ксению дядя. Привез бутылку шампанского, множество вкусных вещей и маленьких подарков. Случилось так — неизвестно и почему, — что Ксения до сих пор не призналась Перлофу в своем излечении. Настораживало ее, удерживало что-то. Казалось, так проще, привыкла она к грифельной дощечке и карандашику... Дядя был в хорошем настроении. Говорил о будущем, о розысках ее родных.
Вторично фон Перлоф появился в пансионате в середине марта. Его сопровождал русский доктор, привезенный из Белграда. Дядя был необыкновенно мрачен. Казалось, его не обрадовали и оптимистические прогнозы, высказанные врачом. А тот, осмотрев Кэт, повел на берег моря, где усадил ее на перевернутую лодку и убежденно заговорил. Но не о болезни, а о ее молодости, о красоте, что разлита здесь, на Адриатике, которую не в силах были уничтожить ни время, ни солнце, ни море и ветра, ни толпы завоевателей — римляне, византийцы, сарацины. Дождь стих. Тучи над морем разошлись, и они увидели огромный багровый солнечный диск, который, сплющиваясь, уходил за горизонт. «Как зовут вас?» — написала Ксения на грифельной дощечке, решившись скрыть пока свое выздоровление от доктора, в котором ей предстояло еще разобраться.
— Закудрин, — представился он. — Сергей Сергеевич, — и поклонился. — Ваш дядя, как кажется, человек не очень добрый, но бесконечно хорошо к вам относящийся, просил меня излечить вас. Так придется потерпеть мое общество, дорогая Анастасия Мартыновна. Гиппократ, Гален, Боткин говорили: «Надо лечить не болезнь, а больного».
«Как?» — написала Кэт.
— Психотерапия плюс фармакология, — улыбнувшись заговорщически, сказал доктор. — В борьбе с недугом я — лишь советник, эксперт, учитель, если вы доверитесь мне. Мутизм — неорганический паралич голосовых связок. Расстройство невротическое. Вы справитесь. — В спокойных внимательных глазах под густыми пушистыми бровями, мягкой улыбке, в высоком мудром лбе и большой голове доктора было что-то притягательное, доброе.
«Вы не гипнотизер?» — написала Ксения.
— Я не исключаю и гипноза. Но главное — фармакотерапия. Хорош бром с кофеином, валериана с ландышем, китайский лимонник, алоэ. Вы плохо спите? Займемся и дыхательной гимнастикой. Скажите, пожалуйста, «о-о», — внезапно попросил он.
— О-о, — не задумываясь, произнесла она, забыв о своей игре.
— Так я и знал. — Закудрин усмехнулся. — Зачем вам этот обман?
Ксения, покраснев, подавленно молчала.
— Только, пожалуйста, правду. А не угодно — молчите. Я не выношу лжи. Всеобщая ложь вокруг. Это невозможно.
— Я объясню... Вы поймете. У меня нет злой цели!
— Я должен уехать. Что делать мне тут? Лечить несуществующую болезнь? Это не в моих правилах.
— Не говорите дяде, умоляю. Ну, до следующего его приезда
— Но были ли вы вообще больны? Или тут все комедия?
— Я доверяю вам. Я все расскажу. Завтра же, как только дядя уедет. Прошу вас.
— Хорошо. Я — слабый человек, и вы меня уговорили.
Обед фон Перлоф устроил праздничный. И прислуживал им сам хозяин пансионата. После десерта Сергей Сергеевич откланялся. Христиан Иванович, промеряв шагами комнату и попросив внимания, сказал с внезапно вырвавшейся лаской:
— Простите, Ксения, редко навещаю вас. Но думаю каждодневно. И вот доказательства. — Он полез во внутренний карман пиджака, вытащил конверт и протянул Ксении. — Тут паспорт, «нансеновский», дорогая. Он возвращает вам фамилию ваших предков. Поздравляю, княжна Ксения Николаевна Белопольская, — и церемонно поклонился. — Однако хочу предупредить: здесь, в пансионе, вы по-прежнему Мещерская. Так проще. Есть и вторая новость — мне удалось узнать адрес вашего отца и снестись с ним.
Ксении хотелось броситься ему на грудь. Но она сдержала внезапный порыв, опустила глаза. Ей было стыдно.
«Благодарю, дядя, — написала она. — Вы сделали для меня так много». И, потянувшись, поцеловала его в щеку. Вы как дочь мне, Ксения, — голос его дрогнул. — Я всегда мечтал о такой дочери. И был бы счастлив, если... — он запнулся от охватившего его волнения.
«Мой долг теперь...» — Ксения задумалась: ее отношение к дяде оставалось все еще противоречивым. Что-то мешало ей, что-то настораживало. Его связь с садистом Издетским и даже начальствование над ним? Вероятно. Но не только это. Разговоры еще в константинопольском пансионате: «Жандарм, заплечных дел мастер. Служил всем, приближен к главному командованию». Она мало задумывалась над тем, чем же, собственно, занимается ее дядя. У нее было лишь одно чувство по отношению к нему — благодарность, ибо он не просто помог ей, он действительно спас ее — от голода, унижений, пыток, смерти, быть может...
— Послушайте меня, моя девочка, — Перлоф взял руку Ксении своими цепкими холодными пальцами и просительно заглянул ей в лицо. Его глаза под пенсне стали растерянными. — Я, к сожалению, должен уехать. Много работы. Обстановка накалена до предела.
Ксения кивнула: у нее не было желания задерживать дядю.
— Лечитесь. Слушайтесь господина Закудрина — он врачеватель, с практикой. Я постараюсь приехать при первой возможности. Обязательно напишите отцу. Весточка — верное свидетельство вашего существования. Мне он, может быть, и не поверил. Кто знает?
Ксения вновь кивнула.
— Вот немного денег. — Христиан Иванович достал бумажник и, не считая, отделил большую часть из пачки. — Нет, нет, не возражайте! — воскликнул он просительно. — Тут немного, по нынешним временам. Поезжайте в Дубровник, развлекитесь. Может, понадобятся лекарства. — Он чуть не силой сунул деньги Ксении.
«Почему вы добры ко мне?» — написала Ксения.
— Ты так похожа на мать... Твоя мать была замечательная — умница, красавица. Какое-то время мы росли вместе. — Фон Перлоф задумался, точно поразившись своей откровенности и внезапно вырвавшемуся признанию. И замолчал подавленно, не скрывая искреннего своего волнения.
«Вы любили ее?»
— Всегда преклонялся... Началась моя служба, и мы расстались. Я был послан в Академию Генерального штаба, Ольга училась на естественном факультете курсов профессора Герье. Ольга Михайловна очень изменилась. Вокруг вертелась богатые и сиятельные женихи. Ваша бабушка баронесса фон Дихтгоф весьма выделяла одного свитского офицера. Мы вновь расстались. А когда я вернулся из заграничной командировки, моя матушка сообщала, что ее сестра удачно выдала дочь замуж за князя и преуспевающего светского человека, которому уготована блестящая карьера. Вскоре родился ваш брат Виктор, не так ли? Наши пути разошлись. И я не смел, не хотел более напоминать о своем существовании...
«А вы не виделись более?»
— Один раз. Случайно, мельком. Мы перемолвились несколькими фразами. О ее смерти я узнал с опозданием. Это известие потрясло меня. Казалось, из жизни навсегда ушло что-то прекрасное и возвышенное.
«И вы помните ее?»
— Не спрашивайте, прошу вас. У меня нет никого... — Сказал горько: — Я всегда был занят чужими делами, службой. И не принадлежал себе. Но теперь богу угодно было наградить меня. Я нашел вас, и вам я нужен. Мне кажется, не было страшных дней и лет, и я снова вижу перед собой молодую милую Ольгу... Олечку фон Дихтгоф. Значит, есть в мире для каждого из нас высшая награда!
«Как вы относитесь к моему отцу?»
— У меня всегда было предубеждение против этого человека, — не скрыл брезгливой мины фон Перлоф. — Я завидовал ему, если быть честным. И его блистательному взлету на государственной службе, и сиятельному роду, и состоянию. Ну, конечно, и такой жене, как Ольга Михайловна, — прежде всего. Его трансформация, братание с гучковыми и родзянками доставили мне мстительное наслаждение. Однако оно было не полным: бедная Ольга не видела падения того, кого сделала своим избранником.
«Вы все же любили маму?»
— И в самых смелых мыслях своих никогда не ставил я рядом наши имена. И мечтать не смел: Ольга всегда оставалась для меня лишь божеством, существом иного, высшего мира. Это не была любовь, готов поклясться на святой иконе!
«А отца ненавидели?»
— Я плохо знал его. Он был для меня не реальным человеком, скорее — злая сила.
«Был чужой и с нами, — написала Ксения. — Меня не любил. Сказал, лучше умерла бы я, чем мать».
— Ужасно!
«Мой отец — дед, — быстро нацарапала Ксения. — Он, конечно, погиб».
Фон Перлоф, разумеется, знал все об отставном генерале Белопольском, но решил смолчать, зачем ранить бедную девочку?
— Пока я нашел лишь вашего отца, но я не теряю надежды, верьте, я со всем рвением продолжаю поиск, — сказал он.
«Вы убивали, дядя?» — написала Ксения и удивилась внезапности поворота мыслей.
— Я солдат, дитя мое. — Рыжеватые брови фон Перлофа полезли вверх: — И шла долгая война. Я стрелял. Мне приходилось. Да, вероятно, убивал. А почему вы спрашиваете?
«Простите, — написала она. — Глупый вопрос».
— Не думайте о прошлом, — сказал он, вновь обретя привычную твердость и по-своему истолковав ее интерес. — Все плохое, слава богу, кончилось. Давайте прощаться, родная. И не беспокойтесь: все будет хорошо. Все, все, верьте мне!
У Ксении вдруг возникло четкое и неколебимое ощущение, что она видит дядю в последний раз. Впервые он вызвал у нее сострадание, и следы скорой неминуемой смерти виделись ей на побелевшем, растерянном лице. В порыве жалости Ксения внезапно опустилась на колени и поцеловала руку фон Перлофа. По ее смуглому, ставшему совсем детским лицу потекли слезы. Фон Перлоф, легко подняв ее, поцеловал по-отечески в лоб, сказал растроганно:
— Благодарю вас, благодарю! Не тревожьтесь ни о чем, Ксения. Все плохое для вас кончилось: вы под моей защитой.
«Я буду молиться за вас».
Он погладил ее по волосам дрожащей рукой:
— Я буду телеграфировать, Ксения. Часто. Но если понадоблюсь, не дай бог, срочно — звоните в Белград. — Он протянул ей визитную карточку.
«А отец, — написала она, — он приедет? И заберет меня?»
— И об его приезде я буду знать. Пусть это вас не волнует, девочка. Все будет так, как вы захотите. Поправляйтесь, дорогая Ксения! — сказал он, склоняясь к ее руке.
«Сколько седых волос, — непроизвольно отмстила про себя Ксения. — Какой тяжкой жизнью живет, видно, этот человек. Всегда он должен раздваиваться, меняться, как актер. Может, и со мной только что он сыграл отрывок из какой-нибудь пьесы? Какова моя роль — статистки? А я растрогалась, расчувствовалась от благодарности. Может, я просто нужна ему, — прежние сомнения овладели ею. Это говорила, конечно же, приобретенная ею осторожность. — Нет, не может быть, — подумала она уже с уверенностью. — Есть же на земле что-то святое». Ксения, мимолетно коснувшись, поцеловала дядю в висок и отвела его голову. Фон Перлоф выпрямился и, быстро надев пенсне, скрыл увлажнившиеся глаза.
— До встречи, дорогая Ксения, — уже обычным своим голосом сказал он и по привычке щелкнул каблуками, хотя был в штатском костюме. Уходя, он обернулся. Улыбка у фон Перлофа была жалкая, впервые ею увиденная. И Ксения вновь необыкновенно ясно ощутила и осознала, что расстаются они надолго, может быть навсегда. И она снова пожалела Перлофа.
Ксения долго сидела в кресле-качалке, размышляя над их встречей. Какой он странный, ее дядя! Вдруг разволновался, заговорил о маме и отце, о своих чувствах, которые подавлял, наверное, всю юность, и теперь все вдруг вырвалось... Зря она не призналась, что давно уже говорит. Но разве не сама жизнь научила ее сверхосторожности?.. А вдруг дядя, узнав, что она здорова, прекратил бы заботу о ней и кончилась бы безмятежная, спокойная, почти райская жизнь! Нет, она не сделала ошибки. Она не поторопилась со своими признаниями, и один бог — судья ей... И все-таки, вспоминая дядино лицо в дверях — лицо одинокого, обреченного человека, — она искренне пожалела его. Ксения плакала — о нем и о себе, и молилась, и просила бога не гневаться на нее за ложь, и снова плакала, думая о прошлом и будущем...
2
С появлением в пансионате доктора Закудрина жизнь начала меняться для Ксении. Точно бог действительно услышал ее. Однажды, проснувшись и выйдя на балкон, Ксения увидела голубое, просветленное небо таких чистых тонов, какие бывают только на церковных фресках. Бирюзовое море тихо и покойно лежало у ног. Благостная теплота окружала ее. Резко и сладко пахли неведомые, неизвестно когда распустившиеся цветы. На горизонте был виден косой белый парус. Под окнами слышались громкие голоса, цокали копыта коней, раздавался шум колес телег и экипажей — точно доктор расколдовал погруженную в спячку жизнь целой страны...
Сергей Сергеевич познакомил Ксению с Дубровником. День, назначенный для путешествия, оказался ярким, солнечным, нежарким. Закудрин заранее заказал извозчика, и они, успев позавтракать, покатили каменистой, немного пыльной дорогой. Море возникало то справа от экипажа, то, скрывшись на мгновение, — слева. Дорога поднималась с холма на холм, мимо, домиков и вилл, потом резко ныряла к воде, — пахло водорослями, йодом, вереском, нагретым камнем, — и вдруг незаметно перешла в окраинную улицу. У пристаней и набережной едва покачивались на ленивой волне шлюпки, баркасы, яхты. А чуть дальше — небольшой пароходик с высокой черной трубой, на котором играл духовой оркестр и на палубе виднелись пестро одетые люди, готовящиеся либо к веселой прогулке, либо к какому-то празднику.
Дорога вновь стала подниматься и чуть удалилась от моря. Они выехали из-за поворота, и вдруг Ксения увидела город. Толстые стены крепости, замыкаясь изломанной линией в сложную геометрическую фигуру, спускались к воде. Внутри крепости, тесно прижатые друг к другу, виднелись дома. Это и был Дубровник.
Они отпустили извозчика и пошли пешком через цепной мост и высокую арку главных ворот, мимо высоких башен. Сергей Сергеевич не раз бывал здесь. Он говорил, говорил, но Ксения, потрясенная увиденным, не слышала ни слова...
Улица вывела их на миниатюрную площадь, к сердцу города, где находился дворец князя. Ксения поняла: тут жила Джульетта, а через этот балкон проникал к ней в спальню Ромео. И именно здесь, на этой площади, скрестились шпаги Монтекки и Капулетти. И пролилась кровь... Забили башенные часы. Над городом летела величественная, как хорал, мелодия. У Ксении пропало ощущение времени: она оказалась в семнадцатом веке…
...Они долго бродили по Дубровнику. Спускались к маленькой гавани, где был аорт и от причала к причалу протягивали цепь, замыкавшуюся на ночь, чтобы вражеские корабли под покровом темноты не смогли проникнуть в крепость. Неподалеку, на еще более маленькой площади шумел пестрый рынок... Закудрин повел ее в собор, а затем — в францисканский монастырь и хранилище древних рукописей. Ксения для себя по-прежнему оставалась знатной горожанкой, прожившей здесь триста лет и оставшейся молодой...
С тех пор Ксения почувствовала, что выздоравливает, появляется у нее новый, пристальный интерес к жизни. В этом помогал ей доктор, окруживший се постоянным, но не навязчивым вниманием. В дни стремительного пришествия весны и начинающегося уже лета Ксения словно расцвела, налилась силой и красотой: ее бескровное овальное лицо загорело, синие глаза блестели, белокурые волосы отросли и выгорели. Она чуть-чуть пополнела, и это тоже шло ей. Дубровник, солнечные лучи, ласковое горько-соленое теплое море, запах роз и пение птиц да еще старая виноградная лоза, упрямо поднимающаяся к ее балкону, затушевали страшное прошлое, день за днем вытравляли кошмары Крыма и Константинополя, укрепляли надежду на то, что жизнь продолжается и могут быть в ней еще и радости и счастье.
К Закудрину Ксения чувствовала безграничное доверие. Они часто и подолгу беседовали о себе, о времени, судьбах близких им людей. И все чаще — о доме, о России. Закудрин, к удивлению, оказался хорошо информированным о тамошней жизни, об успехах и трудностях новой власти. Доктор говорил и об эмигрантах, возвращающихся в Россию. Они с удовольствием вспоминали Петроград: белые ночи, свинцовые воды Невы и туманно-серебристый свет на набережных, строгий, графически четкий силуэт адмиралтейского шпиля, тяжелую давящую громаду шапки Исаакиевского собора, фонтаны Петергофа, прекрасные скульптуры Летнего сада, острова, парки Царского Села. Воспоминания будоражили Ксению больше всего. Они рождали и свои, очень личные воспоминания. Ксения вновь и вновь обращалась к петербургскому детству и юности, где находила все новые, милые ее сердцу эпизоды, подробности, детали...
Однажды в пансионате появился Николай Вадимович Белопольский. Джованна вызвала Ксению с пляжа. Ксения поспешила домой с ощущением радостного беспокойства, которое неизменно возникает у каждого человека при встрече с дорогим ему прошлым, с родными людьми.
В холле, расположившись на диване и артистично отнеся руку с сигарой, сидел отец. Он вновь выглядел как в свои лучшие петербургские времена: стал опять вальяжен, пополнел, гладко выбритые щеки лоснились. И одет модно. И голос прежний — бархатистый, самоуверенный, голос статского советника, снисходительно беседующего с подчиненными ему чиновниками. Он обнял и расцеловал дочь. (Несколько театрально, в расчете на публику, как невольно отметила Ксения.) Она смотрела на происходящее как бы со стороны. И была раздражена этим зрелищем: страшные годы, пролетевшие над страной, словно не коснулись ее отца. Ксения представила ему Закудрина.
— Оч-чень приятно... Оч-чень, оч-чень, — сказал он быстро и как-то невнимательно, глядя поверх его головы. — К вашим услугам.
Словно Закудрин нуждался в его помощи.
Ксения, покраснев от обиды за доктора, увела отца к себе.
— А у тебя тут... мило, — сказал он почему-то шутливым тоном. — Прости, не сразу приехал. Все дела, политика, страсти, тайная война.
— Нет ли у тебя известий о наших?
— Только о твоем деде. Представь, он остался в России по своей воле и теперь даже в фаворе. Сотрудничает с большевиками.
— Бог ему судья, отец.
— В конце концов — да. Я пытался образумить его. Через газету, разумеется. Тщетно! Представь, он прислал мне ответ, где обвинил в антипатриотизме, службе врагам отчизны!
— Для тебя он политический противник, а для меня дед, и я люблю его. И с удовольствием была бы с ним! — Внезапная мысль потрясла ее: отец ведь не заметил даже, что она говорит! — Между прочим, я выздоровела, как видишь!
Отец посмотрел удивленно, вспомнив о немоте Ксении, — о ней ему рассказал Перлоф — родственник, которого он всегда терпеть не мог. Князь смешался, но, чтобы скрыть смущение и обрести себя, поцеловал дочь, пробормотав что-то вроде: «Как же, как же, очень рад, слава богу! Мне говорили», — и стал раскуривать потухшую сигару. Затянувшись, он сказал со вздохом:
— А о братьях твоих ничего не известно. Словно в воду канули. В смерть обоих не верю. И в пленение. Поиски не прекращаю, надеюсь. Андрей, по всей вероятности, завербовался в Иностранный легион. А куда девался Виктор — ума не приложу. В списках армии, во всяком случае, не значится.
— Такая была семья... большая, — горько вырвалось у Ксении.
— Да-а... Но какое счастье, что я нашел тебя! И мы вместе — подумать только! И никогда не расстанемся. Теперь уж — никогда!
— А Арина? С ней что?
— Осталась в Крыму. Исчезла! Убежала, одним словом!
— Уж не обидел ли ты ее?
— Кто это и когда обижал у нас в доме эту холопку?! — воскликнул князь и тут же, уловив возмущение во взгляде дочери и поняв, что несколько переиграл, добавил: — Вероятно, осталась с сыном. Представляешь, Иван жив. И более того — активный большевик, чекист! Однажды я встретил его на рю Пера — это уже наша вторая нежданная встреча, — но он не признался. Кошмар какой-то! Говорили, чекисты были причастны к потоплению яхты Врангеля!
— Ах, папа, какое мне дело до Врангеля?!
— То есть? — поразился Белопольский. — Главнокомандующий...
— И слушать не хочу! — не сдержалась Ксения. — Мы столько не виделись, а ты... Ты даже не спрашиваешь, как я выжила.
— Я не хотел тебя травмировать, поверь. Воскрешать тяжкие воспоминания. Я со всей душой!.. Расскажи. Я весь внимание.
— Нет, — твердо сказала Ксения. — Действительно, зачем? У меня все прекрасно.
— Слава богу.
— Оставь, пожалуйста, бога! И говори лучше о себе.
— Хорошо, хорошо! — словно защищаясь, воздел руки Николай Вадимович. — Я в Париже. И у дел. Тоже прошел все круги эмигрантского ада, можешь не сомневаться. Приближен к особе великого князя Николая Николаевича, которого считаю единственным, я подчеркиваю, единственным претендентом на престол Российской империи.
Ксения молча смотрела на отца. В ее глазах стыло удивление.
— Наши первейшие враги — «Кирилловцы»! Сторонники князя Кирилла — этого «демократа» и самозванца! — и тупоголовых немцев. Они пытаются узурпировать права наследия. Хотят чуть ли не силой захватить престол.
— Какой престол? — гневно воскликнула Ксения. — Так ты опять за монархию?
— Да, да! Я — монархист! И непримиримый! — с жаром воскликнул князь. — Сама жизнь увела меня от заблуждений молодости, вредных теорий; внушенных мне масонами, погубившими страну. Россия была сильнейшей державой мира. Накануне войны она имела боеспособную армию, развернутую для сражений, хорошо вооруженную. У нас были винтовки и пушки получше австрийских, дредноуты на Балтике и Черном море, не уступавшие германским. Мы бдительно смотрели на запад и проморгали брожение у себя в тылах. Масоны расшатали империю! Они породили думцев и прочую плесень — социал-демократов, эсеров, большевиков! Всех этих керенских, черновых, чхеидзе, савинковых! Допустили приезд, в Россию Ленина. И — подумать только! — сами отдали в руки врагов, предали царскую семью! И дискутировали в то время, когда каждый взяв винтовку, должен был становиться в цель и идти спасать помазанника божия!.. Помолчи! — воскликнул он резко и тут же поморщился, сознав свою бестактность. — Дай, Ксюшенька, закончить...
— Но Николай Романов... Ты, сколько я помню, всегда говорил...
— Мы не понимали его, — убежденно возразил Николай Вадимович. — Он не был нм слабым, ми глупым. Ом желал одного — победы над врагом, понимая, что разгром германцев, подобный разгрому, которому мы подвергли австрийцев, решит все проблемы тыла и усмирит недовольных. Предотвратит революцию. Он верил нам, своим слугам, но мы подвели его. Одни из-за корысти и честолюбия, другие по бездарности, третьи из-за далеко идущих и еще неизвестно кем и откуда направляемых масонских связей. А когда разгорелась братоубийственная война, возникли все эти Юденичи, колчаки, Деникины и иже с ними, кто думал о российском императоре? Никто! Каждый старался сам въехать на белом коне в Первопрестольную! Даже Врангель... Скажу по секрету: он ведет себя так, что от него обязан отвернуться любой офицер, исповедующий монархическую идею. Заигрывает с левацкими группировками, хочет, дабы сохранить под своим командованием, армию поставить вне политики. Не выйдет! Не дадим!..
Ксения, растерянная, смотрела на отца. Она не ждала такой метаморфозы, всегда он доказывал обратное: насквозь прогнившая монархия; коррупция правящих кругов; царь с психологией командира роты; неврастеническая немочка, окруженная толпой темных личностей, способная внушать безвольному «Нике» любые повороты в политике. Это и привело Россию к революции.
— И что же теперь? — спросила она насмешливо.
— Борьба! — воскликнул он яростно и убежденно. — Призыв к Генуе — не победа большевиков! Конференция лишь обострит все. Главный вопрос — династический. Мы сплотились вокруг великого князя Николая Николаевича. Какой благороднейший человек! Мы просили его выступить с заявлением, он отказался. Кирилл готов объявить себя — подумай! — «блюстителем престола»! Еще немного — и он дерзнет провозгласить себя императором! Мы готовим представительное совещание в Париже. Надеемся, прибудут делегаты более чем от ста монархических организаций. Трепов заверил, что и Высший монархический совет поддержит нас, будет нижайше просить Николая Николаевича возглавить движение. А если «Кирилловны» не подчинятся нашим решениям, мы исключим их из совета!
У Ксении ломило виски. Она с трудом сдерживалась и преодолевала неприязнь. Это ведь надо! После двух лет разлуки читать ей политическую лекцию. Не спросить, что было, как и на что она живет, как себя чувствует. Поистине, он и теперь оставался ей чужим человеком. Чужим и чуждым.
— Русский человек не имеет права стоять в стороне от нашей борьбы! — восклицал Николай Вадимович. (Откинувшись, он прищуривался, точно оценивая собеседника. Раньше этого не было. Ксения заметила, что он часто щурится — не то оценивает, не то подмигивает.) — Тебя, разумеется, это тоже касается: ты — Белопольская и моя дочь. Я вовсе не требую, чтобы ты участвовала в политических дискуссиях, но присутствие в определенных парижских сферах...
— А ты уверен, что я буду в Париже? — спросила Ксения.
Николай Вадимович понял, что, увлекшись, перегнул: эта красивая молодая женщина, ставшая самостоятельной, вовсе не ощущала себя его дочерью. Ей не стоило, просто бессмысленно было приказывать, ее надо было уговорить. Белопольский решил переменить тактику.
— Ты, по-видимому, взволнована, Ксения, — сказал он как можно мягче. — Да и я, признаться, устал.
— У нас скоро обед, я распоряжусь. А ты пока приляг.
— Ну что ты, что ты! — решительно воспротивился он. — Не стану стеснять тебя. Не беспокойся! Я вернусь часам к четырем... нет, к пяти пополудни, когда это адово солнце чуть остынет...
— Как тебе будет угодно, отец. — Ксения горько улыбнулась: он просто неподражаем, родственные чувства совершенно несвойственны ему.
— До скорой встречи! — князь помахал рукой и ретировался.
В ровном, добром настроении покинул он «Эксельсиор» и, осведомившись, где поблизости хорошо кормят, приказал извозчику отвезти себя в рыбный, «рибарский», ресторан. Это был старый кораблик, еще полвека назад ставший на вечный якорь. Расторопный кельнер принес огромную жареную рыбину без костей, упакованную в какие-то лопухи, на жаровне, под которой тлели угли. И, радостно улыбаясь, подкладывая кусок за куском, — рыбина была, действительно, очень вкусная, — наливал белого вина и приговаривал: «извол-те», «молим лиэпо», «еш мало, господжин», а в заключение трапезы принес маленькую обжигающую чашечку крепчайшего кофе, которая взбодрила Николая Вадимовича и окончательно привела в отличное настроение. Как и вид переливающегося всеми оттенками синего и зеленого цвета ласкового моря, что плескалось рядом. Он оглянулся. За соседним столиком сидела стройная, светло-русая, большеглазая, с румянцем на тугих щеках дама лет тридцати пяти. Казалось, от нее пахло морем, свежестью и здоровьем. «Королева, — подумал он, с удовольствием оглядывая ее нагло выпирающую грудь и по-летнему оголенные полные руки. — Вот бы интрижку завести». Белопольский улыбнулся ей, и дама улыбнулась ему в ответ. Весьма многообещающе...
Выпроводив отца, Ксения принялась искать Закудрина. Ни в «Эксельсиоре», ни на море его не было. Ничего не могли сказать ей и знакомые, и слуги в пансионате, и всезнающая Джованна. Огорченная Ксения вернулась и долго сидела на балконе, на жаре, наблюдая за дорогой. Не возвращался почему-то и отец. Она зашла к себе и, омыв лицо холодной водой, прилегла. И тотчас задремала в тихой прохладе. Боковое солнце не пробивалось сквозь густые виноградные листья старых лоз и вьюнков, поднятых на стену, и поэтому свет в комнате казался зеленоватым, успокаивающим. Ксения заснула. Разбудил ее настойчивый стук в дверь. Джованна принесла ужин. Нежно поцеловав Ксению в плечо, она вытащила из-за черного бархатного корсажа и подала ей письмо. Рассмеялась — точно кучку медяков на пол бросила — и исчезла. Ксения вскрыла конверт. Письмо было от доктора.
«Милая, милая Ксения Николаевна! — писал Сергей Сергеевич. — Обстоятельства сложились таким образом, что срочное присутствие мое в Белграде необходимо, и я не в силах ни отложить, ни отсрочить его. Батюшка Ваш сказал, что намерен увезти Вас в Париж и Вы дали согласие. Вы совсем здоровы, слава богу. Все у Вас будет в жизни. Все! Вы — добрая, красивая, душевно щедрая. Вы подарили меня своим знакомством и тем сделали счастливым. Оставляю Вас с самыми лучшими пожеланиями.
Всегда Ваш Закудрин».
Доктор исчез из ее жизни. Так же внезапно и непонятно, как и появился…
Ночь Ксения провела без сна, раздумывая над случившимся, над приездом отца, готовившего ей такую серьезную перемену в жизни. Странно, его отсутствие ничуть не волновало ее. Отец удивил ее переменой взглядов, «возвращением к самому себе», как он подчеркивал. Родственные чувства так и не родились у него. Ксения думала о нем как-то спокойно, машинально (только что был — и нет, исчез), без намека на благодарность, на дочерние чувства. Дядя занял в ее жизни гораздо большее место. Ехать с отцом в Париж? Пусть он заботится о ней, кормит и одевает, думает за нее обо всем. С него не убудет, неплохо он устроился. Она устала, ей невмоготу заботиться о себе. Сколько можно сидеть в Дубровнике? И разве может она противиться родительской воле? Она не нужна никому. И ей никто не нужен. С этими мыслями Ксения под утро задремала.
Утро было обычное: солнечное, теплое, похожее на все ее утра на Адриатике. И мерцающие золото-зеленые солнечные зайчики на потолке, и дробный цокот копыт ослика на мостовой, и гортанные громкие голоса внизу, и мурлыканье Джованиы.
Отец появился в полдень — сияющий, отдохнувший, источающий залах тонких французских духов. Видя, что Ксения не интересуется столь странным и длительным его исчезновением, он не стал ничего объяснять, а как о деле решенном заговорил об их отъезде, стал расписывать достоинства «вечного города», всемирной колыбели культуры и искусства, прельщал учебой и развлечениями, возможностью составить хорошую партию, удачно выйти замуж за какого-нибудь заокеанского миллионера, которые, как известно, особенно ценят русских девушек из старых дворянских родов.
Ксения слушала его с отчужденно-непроницаемым лицом, и Николай Вадимович, уже теряя терпение и подумывая над последними аргументами (не тащить же ее на поводке, силой), начал рассуждать о цвете русского общества, оказавшегося в Париже.
— У нас совершенно иная обстановка, поверь. — возбужденно говорил он. — Это не берлинские, не балканские берлоги, где вчерашние генералы, не отвыкшие еще применять оружие при всяком поводе, рвут друг другу глотки за власть. В Париже — цвет русской эмиграции, слава ее культуры и искусства — писатели, художники, актеры императорских театров. Они определяют эмигрантский «климат». Наша интеллектуальная элита живет своей жизнью: концерты, лекции, благотворительные собрания, клубные встречи, полемика. Парижская эмиграция — хранитель русской государственности, традиций и обычаев в ненастье нашем.
— Ты меня почти уговорил, — спокойно прервала отца Ксения. — Но постой, постой! — повысила она голос видя, что тот хочет перебить ее. — У меня есть вопросы. Внезапно исчез мой доктор. Тебе известно что-либо? Когда ты видел его в последний раз, вы говорили?
— A-а! Этот милый эскулап-альтруист! — вздохнул князь. — Вчера мы имели беседу, весьма откровенную, но краткую, впрочем. — Белопольский уже думал о встрече со вчерашней женщиной, которая будет ждать его в том же ресторане.
— Ну, и? О чем же?
— Да так, ни о чем...
— Но дядя... надо ведь сообщить.
— О, опять голубой мундир! Темная лошадка. Я телеграфировал ему.
— Однако... Ты не терял времени. Он узнал, что я поправилась?
— По-моему, да...
Нет, он неподражаем, ее отец! Мотылек, попрыгунчик! Ничто не занимало его внимание. Ксения казалась себе старше отца лет на двадцать.
— Соблаговолите собраться к вечеру, Ксения Николаевна! Я повезу вас морем в Италию, а оттуда — в Париж. Вы не раскаетесь! — воскликнул князь, собираясь уйти. — Для тебя наступят новые времена. Я вернусь вскоре, жди.
— Париж?.. А знаешь, я хочу к деду... в Петроград, — тихо промолвила Ксения. — Да, к деду. Здесь я никому не нужна. И ты сам это знаешь.
— Ты сумасшедшая!..
«Она точно сумасшедшая», — сказал себе князь Белопольский, спускаясь по лестнице...
«Он совсем чужой, — думала Ксения, оставшись одна. — Его деловитость, любование собой, сибаритство — невозможны! И показное желание благодетельствовать нестерпимо... Удивительно, что заботы дяди не обижают и не ранят. Вероятно, потому, что дядю всерьез волнует моя судьба. С отцом иначе. Он хочет «выполнить долг», поступить «как надо», как принято, чтобы никто не смог упрекнуть его, сказать, что бросил дочь. Но надо ли это мне? Ох, не надо, совсем не надо...»
Время до вечера Ксения провела в одиночестве и спокойных раздумьях. И чем меньше времени оставалось у нее до возвращения отца, тем чаще возникала и утверждалась мысль о том, что счастье ее не здесь и не в парижах. не в дубровниках, а там, где ждет ее одинокий, ворчливый и нежный дед — самый близкий, самый родной человек на земле. И наверное, только рядом с ним, в родном доме, оттает ее заледеневшая душа.
Вечером Ксения объявила отцу, что пока остается здесь. А потом — как случится, как будет угодно богу. Против ожиданий князь Белопольский встретил решение дочери спокойно и даже, как показалось Ксении, с чувством радостного облегчения. Они расстались легко, словно договаривались увидеться завтра же, хотя и Ксения, и Николай Вадимович понимали: их новая встреча «за далекими горами», потому что ни он ни она не испытывали в ней потребности...
Глава двадцать третья. ПОЕЗД НА ГЕНУЮ
1
В последних числах марта, за несколько дней до отъезда, Артузов собрал тех, кому поручалась охрана советской делегации, направляющейся на Генуэзскую мирную конференцию. Их было немного, всех он знал в лицо. Специальных инструкций им не требовалось. Артур Христианович решил просто побеседовать, сориентировать людей, подчеркнуть особые трудности задания, необходимость сугубой осторожности.
Артузов говорил:
— Враги понимают: «Генуя» — уже признание Советов. А это поражение Европы. И особо сильный удар по русской эмиграции: крах мечты об интервенции и реставрации старого строя, возврате фабрик и поместий, прекращение финансовой и военной помощи армии Врангеля в разных странах. Вы представляете, что это для них, товарищи? — Артур Христианович посмотрел на сидящих и задумчиво пощипал бородку. — Гибель. Крушение контрреволюционной эмиграции в полном смысле слова. Что она может противопоставить стремлению мыслящих европейских политиков и экономистов, нуждающихся в российских источниках сырья и рынке сбыта? Что противопоставить? Только засыл в нашу страну террористов, деятельность которых они стараются выдать как протест народных масс, готовящихся к восстанию против большевиков. Они говорят своим хозяевам и покровителям: смотрите, мы сильны, эмиграция способна на активные военные действия, — мы еще армия! Эти идеи всячески поддерживаются Торгово-промышленным и Финансовым союзами в Париже, из которых выделен специальный совет для организации активной борьбы с большевиками, выделен фонд в полтора миллиона франков и идет поиск лучших исполнителей. Мы хорошо знаем этих господ, членов совета: Густав Нобель, братья Гукасовы, Степан Георгиевич Лианозов; князь Белосельский-Белозерский, Павел Тикстон, Денисов. Мы знаем и так называемых уполномоченных этого совета в некоторых странах. Из них едва ли не самый серьезный — барон Сергей Торнау, живущий в Финляндии, но много разъезжающий по европейским столицам, и Георгий Евгеньевич Эльвенгрен, бывший доблестный штаб-ротмистр из лейб-гвардии «синих» кирасир, ну и другие. Не дремлют и врангелевские террористы. Газеты пишут о появлении савинковцев. В наше поле зрения вновь попала зловещая фигура Сиднея Джорджа Рейли — капитана английских королевских военно-воздушных сил, матерого разведчика. Там, где появляется он, обязательно зреет заговор. Теперь, в канун Генуи, основная задача контрреволюции — задержать советскую делегацию, уничтожить ее или хотя бы руководителей. Прежде всего Чичерина, Литвинова, Воровского, Красина. Сейчас я оглашу один документ. — Артузов достал из папки страничку убористого машинописного текста и поднял ее над столом. — «Мы — люди коммерческие. Нас интересует только активная борьба с большевизмом, и мы видим ее сейчас только в том, чтобы уничтожить всех главных руководителей этого движения. Развитие политических и партийных организаций нас не интересует. Мы привыкли смотреть на все по-коммерчески. Нам важны факты. Вы — люди активные и сильные. Мы даем вам возможность начать. Сделайте хоть одно дело, наш кредит вам сразу вырастет и для дальнейшего...» — Артузов усмехнулся. — Читаю далее: «Сейчас в связи с Генуэзской конференцией нужно торопиться. Мы ассигнуем на это дело пока семьдесят — восемьдесят тысяч франков, при условии, что эти деньги ни на какие политические, организационные или другие цели не пойдут, а только непосредственно на террористическую деятельность. Нас не интересуют мелкие служащие, которые мало известны. Только руководители...» — Это, товарищи, стенограмма выступления Густава Нобеля перед группой «наших друзей». Циничней и не скажешь: убивайте, убивайте — плата с головы!.. Недавно Владимир Ильич Ленин, беседуя с Феликсом Эдмундовичем, спросил: будут ли в безопасности наши делегаты в Генуе? Товарищ Дзержинский ответил, что покушения весьма возможны, а меры охраны со стороны устроителей в хозяев страны весьма сомнительны. Наблюдается оживление деятельности белой эмиграции. Отсюда и ваша главная задача, товарищи, — срывать все попытки террористических актов, бдительно охранять каждого члена советской делегации... Вы встречались с контрреволюцией и на фронтах гражданской войны, и у нее в тылу. У вас есть опыт, есть знание психологии врага, методов его работы. Партия и Государственное политическое управление надеются на вас, товарищи. Конечно, нам будут активно помогать наши сотрудники, много лет с риском для жизни работающие за рубежами страны. Их информация бесценна. Их глаза, уши, их ум незримо будут сопровождать вас. Вы должны сделать все, чтобы никто и ничто не помешало нашим дипломатам вести свое мирное сражение за круглым столом переговоров...
Среди собравшихся чекистов был и человек, которого в двадцатом году, в Крыму, называли «полковником Скандиным», — Константин Владимирович Сазонов, бывший тогда в знаменитой партизанской армии Мокроусова и работавший на связи с «Баязетом», не раз ходивший в тылы белых. Сазонов, легко раненный при взятии Севастополя, участвовал затем в разгроме махновских шаек и подавлении Кронштадтского мятежа, где был снова ранен и награжден орденом боевого Красного Знамени. Вылечившись, Сазонов вернулся на оперативную работу. Несколько месяцев он пробыл на границе с Польшей, организуя надежные «окна» и дважды проводя через них на запад нужных людей. Затем его отозвали в Москву, в аппарат Государственного политического управления. И вот назначение — сопровождать советскую делегацию. Задание представлялось Сазонову чрезвычайно ответственным. Он впервые оказывался участником дипломатической миссии. А в дипломатии опытный чекист, если сказать честно, был совсем не силен...
Двадцать восьмого марта советская делегация экстренным поездом выехала в Геную. На следующий день, рано утром, поезд прибыл в Ригу. Согласно протоколу, руководителей делегации встречали по высшему разряду — сам премьер-министр и министр иностранных дел Латвии, целая группа министров и высших чиновников из других Прибалтийских стран. Безучастные дипломатические улыбки, крепкие пожатия рук, ничего не значащие разговоры. Зато на привокзальной площади — горячие приветствия, дружеские возгласы из рядов появившейся внезапно рабочей демонстрации, которую тут же принялись разгонять полицейские.
Советские дипломаты отправились на Антоньевскую улицу в Советское представительство. Затем — встреча с посланниками Прибалтийских государств, обоюдный дипломатический зондаж в отношении позиции, которую займут стороны на мирной конференции. Чичерин, не очень надеясь на успех этих превентивных переговоров, не ошибся, ибо представители лимитрофов уклонялись от прямых ответов, ловчили или отмалчивались («Ясно, в Генуе они нас не поддержат»). Тем не менее он добился принятия двух немаловажных предложений: первое — все спорные вопросы будут решаться в дальнейшем только мирным путем; второе — формирование белогвардейских отрядов на территории Прибалтийских стран запрещается категорически. Об этом Чичерин говорил на пресс-конференции в приемной зале на Антоньевской, где собралось более сорока журналистов из Англии, Франции, США, Германии, Дании, Бельгии и Швейцарии. «Мейеровиц[39] попался на чичеринскую удочку» — писали французские газеты.
По артузовским каналам в Риге было получено весьма важное сообщение. В Берлине замечена активизация контрреволюционной террористической офицерской группы, предположительно руководимой Эльвенгреном. Группа базируется в отеле у Шарлотенбургбанхофа и неподалеку — в пансионате. Вооружена револьверами и бомбами, имеет подложные иностранные паспорта, фотографии руководителей советской дипломатической миссии, сведения о них, крупномасштабные карты Берлина. Благодаря связям в немецком министерстве иностранных дел — знает порядок пребывания нашей делегации в столице Германии, маршруты движения по городу, адреса возможных резиденций. Сообщались и приметы главных представителей теракта Эльвенгрена, полковника Озолина, Орлова (врангелевский резидент в Берлине, бывший царский прокурор), Бикчентаева из Варшавы и прибывших в последнее время из Белграда офицеров-боевиков Васильева и Клементьева...
А поезд уже снова был в пути. Его маршрут проходил по Восточной Пруссии, по Данцигскому коридору, к Берлину. И летели впереди состава шифрованные депеши, приводились в движение советские полпредства, консульства, официальные и неофициальные представители. На коротких остановках к составу подходили с добрыми пожеланиями рабочие делегации. Среди них умело терялись люди, незаметно передающие спецпочту и свежие газеты чуть не всех европейских стран. (Чичерин повторял: «Мы должны знать все, что пишут о Генуе».)
Встреча советской делегации первого апреля в Берлине превзошла все ожидания: колонна сверкающих «опелей», «мерседесов», полицейские в парадной форме, торжественный статс-секретарь МИД Германии Уго фон Мальцан в добротном пальто с меховым воротником-шалью и блестящем цилиндре, толпы людей, пришедших поглазеть на большевистских комиссаров в буденовках, косоворотках и шинелях. В час дня из вагона вышел Чичерин, в элегантном строгом пальто с бархатным воротником, в мягкой шляпе, без маузера — с портфелем и зонтиком в руке. Следом Литвинов — артистично-небрежный, в расстегнутом пальто, низко надвинутой на лоб мягкой шляпе, роговых очках, с добродушной улыбкой; Иоффе, которого немцы уже видели — он был представителем Советской России в Берлине, — из-за широкой бороды похожий на мужика, однако одет безукоризненно.
В правительственных кругах ждали русских. Несмотря на субботний день, министерство иностранных дел функционировало. Встреча с немцами, занимающими посты на высшем уровне, до Генуи должна была решить многое и на самой конференции. Чичерину стала известна расстановка сил: канцлер доктор Вирт — за нормализацию отношений между двумя странами, правда, со множеством оговорок; министр иностранных дел Ратенау, сторонник английской ориентации, готов рассматривать Советскую Россию лишь как рынок сбыта, как страну, которую следует колонизировать; Уго фон Мальцан занимал противоположную Ратенау позицию. По простой схеме это выглядело так: на левом крыле — Мальцан, на правом — Ратенау, между ними — канцлер Вирт. Чичерин, заручившись поддержкой некоторых влиятельных немецких промышленников, намеревался вступить в переговоры, имея целью отколоть Германию от других европейских стран и разорвать таким образом единую капиталистическую цепь. «Первый деловой человек, пришедший на русский рынок, — говорил он, — получит большие преимущества, следовательно, будет иметь и большие доходы. Для побежденной Германии, разоренной репарациями союзников, это очень выгодно...»
Уже вечером состоялась встреча. Вопрос о займе решили детально не обсуждать, говорить лишь об отказе от взаимных претензий и возобновлении дипломатических отношений. Переговоры начались 2 апреля — У го фон Мальцан был приглашен к Чичерину в отель «Эспланад». Уступчивость немецкий дипломат начал проявлять лишь в конце разговора.
Третьего апреля Чичерина и Литвинова поочередно приняли Вирт и Ратенау. Канцлер Иозеф Вирт — невысокий, полный, казавшийся добродушным и рассудительным, в прошлом учитель гимназии, — был трезвым политиком. Он сочувственно выслушивал «красных русских», но отвечал уклончиво, ссылался на трудности, переживаемые Германией, на слабость правительства. Министр Вальтер Ратенау являл собою полную противоположность канцлеру — высокий, сухопарый, инженер, экономист, социолог, сын основателя «Всеобщей компании электричества», он говорил красивым баритоном нескончаемо долго, витиевато и с удовольствием слушал себя. Изливался в дружественных чувствах, но проявлял твердость и неуступчивость. В честь высоких гостей немцы дали завтрак, дабы потом, как было сказано, с новыми силами вернуться к переговорам. Однако и после завтрака хозяева не торопились покинуть парадные залы, куда пригласили значительное число своих сотрудников и где был подан чай.
Четвертого апреля, во вторник, советских дипломатов принимал немецкий финансист Феликс Дейч. На завтраке присутствовало много известных литераторов и других знаменитостей. Хозяин был чрезвычайно любезен, предупредителен. Позднее прибыл фон Мальцан. После разговора с ним стало ясно: сил заведующего восточными делами правительства Вирта оказалось недостаточно. До Генуи немцы ни на какие уступки не пойдут, надеясь «умаслить» Англию. Впрочем, в качестве демонстрации «определенной близости и взаимопонимания» правительство заявляло о своей готовности отдать Советской России здание русского посольства на Унтер-ден-Линден…
Пора было уезжать. Но уезжать, по существу, было не с чем. И в Москву сообщать нечего. Литвинов нервничал. Вообще-то он с самого начала говорил, что из переговоров с немцами ничего не выйдет. И даже подшучивал: «Представитель знатнейшего аристократического рода России, конечно, без труда сможет подавить сына бедного английского крестьянина Ллойд Джорджа». Чичерин в долгу не оставался, говорил, что «английские симпатии Максима Максимовича известны всем — они определились с тех пор, как его уважаемый коллега женился на англичанке из приличной семьи Айви Лоу, а затем посидел в приличной английской тюрьме, пока его не обменяли на шпиона Брюса Локкарта». Литвинов напоминал аналогичную ситуацию: в восемнадцатом году и Чичерина пришлось обменивать на Бьюкенена — английского посла в России. Адольф Абрамович Иоффе, знавший нынешнюю Германию как никто другой, примиряя, убеждал своих товарищей в полезности нынешних, ничем не окончившихся берлинских переговоров: они-де окажут решающее влияние на позицию немецкой делегации в Генуе, когда немцы увидят там полную неуступчивость англичан и французов.
Вся советская делегация — от машинисток, стенографисток, различных экспертов и шифровальщиков до руководителей — сохраняла прежний московский ритм работы Наркомата иностранных дел и трудилась чуть не круглосуточно...
2
Да, на этот раз они, кажется, все продумали, взвесили, рассчитали. Большевистские эмиссары сами шли к ним в руки. Не надо было с риском для жизни переходить границу, тайком пробираться лесами и болотами в Москву и Петроград, страшась всего и каждого, организовывать покушения и диверсии. Берлин — огромный город, тут легко потеряться и замести следы. А кто, собственно, станет их преследовать? Поленте, шпитцели, фауманы?[40] Как бы не так! Только для проформы, делая вид, что исполняют свой долг. Какое им дело до приезжих большевиков?! И разве друзья из министерства иностранных дел не намекнули впрямую, что в самой Германии имеются определенные силы, которые желали бы отсрочки мирной конференции — по крайней мере, а еще лучше, если б Генуя вообще не состоялась. У боевиков есть оружие, бомбы и даже яды. Есть и целая фотоколлекция комиссарских изображений, планы и карты. В груди у каждого — огонь мести. Денег вот мало, но что деньги?! Их обещали после акции.
Каждый вечер они собирались в маленьком ресторанчике неподалеку от Шарлотенбургбанхофа. Заказывали по рюмке водки, пиво, ждали Эльвенгрена. Наконец появляется Георгий Евгеньевич — рослый, широкогрудый, узкое, сухое, англизированное лицо, маленькие усики, прямой пробор, волевой подбородок, — его можно было бы назвать красивым, если б не большие оттопыренные уши, мясистый нос и вечно брезгливое выражение лица. Эльвенгрен, кавалер двух «Георгиев», считавшийся опытным конспиратором и террористом, был руководителем операции. Он придирчиво и несколько высокомерно (это обижало многих) расспрашивал о планах аттентата. Они не отличались изобретательностью, и он отвергал их один за другим. В конце кондов, не придя ни к чему определенному, решили дождаться приезда большевиков, проверить данные, полученные от немцев, а уж потом разрабатывать подробный план нападения. Появление в группе черного спортивного «опеля» существенно облегчало, по общему мнению, задачу — с точки зрения и внезапности удара, и быстрого отступления, и связи между дублирующими друг друга террористами. Клементьев целыми часами осваивал «опель», бесконечно крутился по улочкам вокруг отеля «Эуропише Палас», где обычно останавливались представители Москвы. Он хотел освоить все пути подходов и отходов для своей группы.
После приезда большевистского поезда выяснилось, что большинство советских дипломатов поселилось в отеле «Эксельсиор» — на противоположной стороне Потсдаммерплатц. Труды Клементьева пошли прахом. Кроме того, красным русским были предоставлены машины, принадлежащие не то полиции, не то министерству иностранных дел, со специальными номерами, позволяющими им ездить вне всяких правил, с любой скоростью. Звучный, мелодичный сигнал мгновенно останавливал движение и пропускал их через перекрестки и все полицейские кордоны. Погоня за этими машинами или мысли об автокатастрофе исключались абсолютно. Немцы, как всегда, оставались немцами и делали все основательно, методично и обстоятельно. Полиция взялась охранять красных с такой тщательностью — мышь не пролезет! — словно это были королевские особы. Площадь перед гостиницами «Эксельсиор» и «Бристоль» имела чуть ли не тройное оцепление. Повсюду торчали агенты полиции. В довершение ко всему Эльвенгрен внезапно обнаружил, что за ним идет слежка. Двое неизвестных, поочередно меняясь, чуть не четыре часа сопровождали его по улицам, и только в районе тылов площади Потсдаммербанхоф ему удалось оторваться, скрывшись за пакгаузами. Судя по тому, как плохо эти двое знали Берлин, — они не из полиции и даже не немцы.
Агенты (нем., жарг.) Последнее обстоятельство заставляет нас задуматься, — сказал, не скрывая своей озабоченности, Георгий Евгеньевич, и глубоко посаженные его глаза под мясистыми надбровьями блеснули. — Если за мной охотились коммунисты, вся наша операция под угрозой.
— Не кажется ли вам, господин ротмистр, что ваши предположения лишены конкретности и остаются лишь предположениями, не более, — недовольно заметил Орлов, пожилой грузный человек лет шестидесяти, с потным лицом, старающийся, однако, сохранить прежнюю сановность.
— Не кажется, господин судейский, — отрезал Эльвенгрен. — Мы должны подстраховаться. Мы не имеем права ставить под угрозу всю операцию. Нам не простят этого.
— Может, вы их и сюда привели? — обеспокоился Озолин и сделал странный жест головой, словно вывинчивая ее из тугого воротничка. — Надо бы проверить, господа? А? Береженого бог бережет.
— Разрешите, господин полковник? — вскинулся молодой, с румянцем во всю щеку, Клементьев, — Я мигом разберусь, что к чему. Кто там кого представляет.
— Нет, — вновь взял на себя инициативу Эльвенгрен. — Вас часто видели на «опеле». И со мной вместе. Пусть лучше поручик Васильев. Если его не затруднит.
— Слушаюсь! — приземистый одутловатый Васильев с готовностью вскочил, щелкнул каблуками. Все в нем выдавало кавалерийского офицера — подтянутая, широкая в плечах и тонкая в талии фигура, посадка головы, длинные руки и чуть кривоватые ноги. — За счастье почту! — Он выхватил пистолет и, поставив его на предохранитель, сунул под мундир за пояс.
— Нет, нет! — поморщился Эльвенгрен. — Не так близко. И вообще лучше без этого... Чтоб не привлекать внимания перед операцией.
— Может, сюда привести? — Судя по всему, Васильев, присланный вместе с Клементьевым из Белграда, был хороший офицер, но порядочный дурак. — Разрешите? Здесь и допросим? Он у меня мигом заговорит!
— Но, как докладывал Георгий Евгеньевич, их же двое, — не преминул напомнить Орлов. — Двоих вы тоже притащите?
— Только с вашей помощью! — почему-то страшно оскорбился Васильев. — Я требую...
— Господа, господа! — тут же встал между ними Эльвенгрен, и прямые плечи его поднялись. — Шпаги в ножны, господа! Идите, пожалуйста, господин Васильев. Может, и предмета спора давно нет. — Проводив глазами уходящего и выдержав паузу, Эльвенгрен заметил мстительно: — А вам, господин прокурор, не могу не заметить: напрасно вы все время провоцируете боевых офицеров.
— Я? Провоцирую?! — вскричал Орлов. — Да кто вам дал право? Я требую!..
— Что вы требуете? — повысил голос Эльвенгрен. — Вы обязаны безоговорочно подчиняться мне, а не требовать.
— Я добровольно... Я не подчинен вам, — бормотал ставший багровым Орлов. — Могу и уйти в любой момент, чтобы не подвергаться вашим оскорблениям.
— Поостерегитесь, господин Орлов, — с явной угрозой сказал Клементьев. — Мы тут не в бирюльки играем.
— Именно!. — добавил неразговорчивый, угрюмый Бикчентаев — черноволосый, крупноскулый, с раскосыми безжалостными глазами.
Внезапно, неизвестно откуда появившись, выступил господин с обыденным, донельзя стертым, с кулачок, морщинистым лицом. Приблизившись, он поклонился всей компании и, многократно униженно извиняясь, попросил Эльвенгрена уделить ему две-три минуты. Они отошли и зашептались о чем-то. Затем Георгий Евгеньевич подвел незнакомца к своим и представил его:
— Господа! Господин Далин, доверенное лицо генерала Климовича. Прошу любить и жаловать. Прибыл с целью координации наших действий. Пожалуйста, господин Далин.
Собравшиеся за столиком осматривали посланца Климовича с пренебрежительным недоумением: очень уж неказистый человечек предстал перед ними. Далина, однако, это ничуть не смутило. Он начал убежденно, точно давно знал этих людей и имел право их поучать:
— Раздоры даже по ничтожному поводу губили не одну боевую группу, господа. Вспомните, в качестве достойного примера, хотя бы историю провала группы полковника Хаджи-Лаше в Стокгольме. Единоначалие. Строгое выполнение приказов старшего. Конспирация. В этом сила и непобедимость террористических объединений.
Собравшиеся недовольно переглянулись. Раздалось даже чье-то короткое и недоуменное восклицание, но Эльвенгрен поднял руку, устанавливая тишину, и тут только, словно обратив внимание, что гость продолжает стоять, пригласил его к столу. Далин взял стул от соседнего столика и присел, бесстрастно продолжая:
— Я более суток присматривался к вашим действиям, господа. И, простите за откровенность, ничуть не удивлен, что теракт не удался в первый же день. Непрофессионально работаете, господа. Не обижайтесь. Одной ненависти к большевикам мало. Нужны определенные навыки, сумма приемов, методы.
— Да, но мы ведь не служили в департаменте полиции! — буркнул Озолин, сделав свой характерный жест головой.
— И не обучены, — поддержал его Клементьев.
— Вы не обидите меня, господа. Меня невозможно обидеть. Каждому — свое. Вы доблестно воевали на фронтах, мое дело — сыск, тайные сражения, тихие, незаметные. Однако волею судеб мы призваны творить сейчас одно общее дело. Так что уж доверьтесь и извольте дослушать. Я буду краток. Момент внезапности упущен. Ваша суета замечена большевиками. И германцами — полиция перекрыла все доступы к гостинице, охраняет красную делегацию, — лучше не придумаешь. На улицах их не перехватить. А как только закончатся переговоры, — они могут закончиться уже завтра, и дай бог, чтоб безрезультатно! — поезд отправится. Покушение надо «ставить» на вокзале и готовить уже сегодня, сейчас. По моим данным, Чичерин отбудет в Италию с Потсдамского вокзала. Мы должны ждать большевиков непосредственно на перроне. Более того — неподалеку от салон-вагона, в котором расположится вся их верхушка. Вот, господа, план Потсдамского вокзала.
Далин взял подготовку к операции в свои руки. Члены группы Эльвенгрена сразу почувствовали профессионала. Были внимательно изучены все подходы и выходы на перрон, определены места, где должен находиться каждый, последовательность действий, дублирование функций одного бомбометателя другим, взаимостраховка, пути отступления на случай провала, способы связи, места встречи после аттентата. Расходились по одному, чтобы никогда не появляться больше в этом ресторанчике. Далин вышел вместе с Эльвенгреном. Он сам взялся проверить, нет ли слежки за руководителем группы. Все прошло благополучно...
Четвертого апреля террористы в условленное время собрались в районе вокзала. Далин проверил знание данных им инструкций, оружие, иностранные паспорта, настроение каждого. Им удалось загодя проникнуть в здание, а затем, когда состав подали, выбраться и на перрон, хотя полиции было уже предостаточно и публику туда не пропускали. Более того, узнав каким-то образом, где должен был остановиться салон-вагон, Далин поставил там самых надежных и ловких: Васильева, Клементьева, Бикчентаева. Оставалось лишь ждать момента, когда на перроне появятся руководители советской делегации.
Но время шло, а советская делегация не появлялась. До отхода поезда оставалось семь минут... Пять... Две минуты... Минута... Террористы недоуменно переглядывались, нервничали. Что-то явно произошло, но что и где? Неужели их предали?.. Прошла минута, но состав стоял по-прежнему. Еще минута, еще. Пять минут! Такого страшного опоздания не знал Потсдамский вокзал, отличавшийся необыкновенной пунктуальностью работы всех служб. Эльвенгрен, не выдержав, пошел посоветоваться с Далиным. Он нашел его внутри здания, возле аптечного киоска, как было определено, и они вместе попытались выяснить причину задержки. Остановленный ими носильщик ничего не знал. Ничего не знал и железнодорожный служащий. И только из случайно услышанного разговора двух полицейских офицеров они узнали, что отправление поезда отложено почему-то на десять минут. Эльвенгрен поспешил на перрон, но его не пропустили. Группа лишилась руководителя. Георгий Евгеньевич стал было громко возмущаться, но осторожный Далин сумел быстро увлечь его в сторону.
Спустя десять минут поезд плавно тронулся. Перрон был пуст. И салон-вагон пуст. Они увидели это сквозь огромное вокзальное окно. Большевистские дипломаты так и не появились. Далин терялся в догадках. Эльвенгрен ушел снимать с постов своих бомбометателей. Операция снова не удалась, и он с тоской думал о том, как сможет оправдаться перед своими хозяевами, которые, конечно, не дадут им больше ни копейки...
3
— А произошло вот что, — рассказывал своему товарищу Скандин-Сазонов уже в поезде, направлявшемся к австрийской границе. — Министерство иностранных дел Германии после переговоров, не приведших, как известно, ни к чему, пригласило советскую делегацию на обед. Чтобы подсластить пилюлю. Наши отправились. Зачем хозяев обижать?! Ну протокол, естественно: дипломаты во фраках, лакеи во фраках. Вроде и полицейские во фраках. Все на высшем уровне — улыбки, речи, обмен любезностями, надежда на скорую встречу и продолжение диалога в Генуе. И гости так довольны, что и уходить не хотят. Засиделись и к поезду не торопятся. Не выгонишь же! Начальнику Потсдамского вокзала по телефону приказывают задержать поезд на десять минут. Скандал на всю Германию! А господин Чичерин и в ус не дует, не торопится... Проходит десять минут. Начальник вокзала напоминает: что делать? К господину Чичерину направляют гонца: «Нельзя дальше поезд задерживать. У нас не принято поезда задерживать — простите уж за такое невежливое напоминание. Очень и нам расставаться не хочется». Ну и так далее. А Георгий Васильевич отвечает: «Да, очень приятный обед получился. Не заметили, как и время пролетело. Если можно, вы отправляйте поезд, а наша делегация нагонит его на автомобилях, не беспокойтесь, пожалуйста». За точность ответа Чичерина не ручаюсь — немецкий знаю слабовато, но смысл таков был, это точно... На ближайшей станции мы догнали состав и пересели из моторов в салон-вагон. Вот и вся история. Утерли носы эльвенгреновским террористам...[41]
В Австрии как-то незаметно проник в поезд корреспондент местной газеты «Нойе фрайе Прессе» Лео Ледерер. Более того, проявив редкостное упорство, он уговорил Чичерина, и тот разрешил сесть к нему в купе. Скандии стал было строго выговаривать охраннику, но тот ответил, что приказал сам нарком, сказавший, что для дела беседа с журналистом может быть полезной, и он сам примет меры предосторожности. Чичерин и Лео Ледерер проговорили более четырех часов. Позднее Ледерер поведал человечеству о том, что его больше всего потрясло: Чичерин — высокоинтеллектуальный человек, не похожий на традиционного комиссара. В купе у него оказалась кипа газет на всех европейских языках, которыми народный комиссар иностранных дел свободно владеет. Кроме того, Чичерин любит цветы. Чичерин подробно изложил корреспонденту позицию советской делегации в Генуе, но о ней Лео Ледерер писал несколько общо и не очень обстоятельно. Ночью на итальянской границе австриец вышел. Дальше ехали без всяких происшествий. Во время прохода миланских тоннелей вагоны наполнялись паровозным дымом и нестерпимым запахом гари...
На станции Нови Лигуре советскую делегацию встретил глава экономической миссии РСФСР в Италии, генеральный секретарь делегации Вацлав Вацлавович Воровский — он был худ и бледен, сутулился, еще не совсем, видно, оправился от болезни.
В десять утра шестого апреля советская делегация прибыла в Геную, на главный вокзал «Принципе». Несмотря на ранний час, на густое оцепление из рослых полицейских карабинеров в треуголках, мундирах с фалдами, черно-красными лампасами на брюках, встречать большевиков пришло очень много народу — рабочие, портовики, грузчики, представители печати — «стампы», просто любопытствующие темпераментные генуэзцы. На рукавах обслуживающих конференцию — шелковые голубые повязки с белыми пятиугольными звездами. Чичерин появляется на ступеньках вагона. Это вызывает сенсацию. Коммунисты поднимают над толпой красное знамя, раздаются крики: «Эвива! Эвива!» Полицейские кидаются к знамени. Начинается драка. Охрана оттесняет толпу, но разгонять ее без особого приказа не решается. Не решаются на активные действия ни молодчики Муссолини, ни белоэмигранты, находящиеся здесь же.
На вокзале к советской делегации присоединяется Александр Николаевич Эрлих, инженер-строитель в прошлом, сотрудник АРКОСа, отлично знающий условия жизни в Италии. Он назначен комендантом, отвечающим за охрану дипломатов.
Поездка не окончена. Делегации размещаются в пригородах Генуи: Сан-Ремо, Пельи, Рапалло, Нерви. Для наших дипломатов выделен первоклассный помпезный отель «Империал» в Санта-Маргерите. Это в тридцати километрах, примерно час на поезде. Зато вокруг прекрасный парк, рядом море.
Снова в путь. Паровоз, тянущий три вагона, мчится с дикой скоростью по извилистым склонам прибрежья Восточной Ривьеры. И, не сбавляя хода, подкатывает к маленькому вокзальному зданию Санта-Маргериты. Деревянный перрон только что полит водой. Замерла охрана. Привокзальная площадь на всякий случай очищена от встречающих. К вагонам почтительно приближаются лишь префект, полковник карабинеров, начальник полиции и начальник железнодорожной станции. Словно приклеенные улыбки, рукопожатия... Начинается выгрузка. На грузовик с трудом поднимают тяжелый контейнер. Там, взятая по приказу Чичерина, целая библиотека — редкие книги, собрание дипломатических актов времен Бориса Годунова, Петра, Екатерины. Все это может понадобиться на конференции. Дипломаты, советники, переводчики, эксперты, секретари рассаживаются по машинам и автобусам. Колонна трогается. За полицейской машиной идет «фиат» — черный лимузин на высоких рессорах, собственность советской делегации, переправленный заблаговременно с нашим же шофером для приватных разъездов.
— Не очень-то нас здесь и встречают,- — говорит кто-то в автобусе. — Это не Генуя.
— А знаете, кто тут всегда живет? — отвечает одна из переводчиц. — Миллионеры, коронованные особы, крупные жулики и карточные игроки.
— Проститутки и сутенеры, — добавляет кто-то.
— Не забывайте — белоэмигрантские террористы и савинковцы, — заключает Скандии.
Посреди парка на холме видно высокое здание с большими сводчатыми окнами, террасами, балконами, окруженное высокой каменной оградой, — отель «Империал». Море рядом, в сотне метров. Перед оградой и воротами охрана — карабинеры, берсальеры, агенты полиции в штатском.
— Сто карабинеров, рота гвардейцев да отряд тайной полиции, — продолжает всезнающая переводчица. — Не многовато ли?
— Отнюдь, — возражает ей один из экспертов. — Они ведь не нас, а от нас, коммунистов, призваны охранять итальянцев.
Кортеж легковых автомашин въезжает за гостиничную ограду. Грузовик подвозит ко входу контейнер. В мгновение полицейские бросаются к нему, открывают борт, снимают контейнер и с величайшей осторожностью вносят в вестибюль. Следом, толкаясь, кидается целая группа карабинеров, берсальеров. Кто-то начальственным голосом кричит: «Осторожно! Осторожно! Опускайте!» Кто-то, приложив ухо к доскам, требует тишины.
Вбегает возмущенный Эрлих. И категорически требует, чтоб все посторонние немедля покинули гостиницу: присутствие посторонних — нарушение экстерриториальности. Незваные гости нехотя покидают вестибюль, оглядываясь, не вскрывают ли русские контейнер.
— В чем дело, господа? — повышает голос Эрлих.
— Синьор докторе, — спрашивает, решившись, один из солдат. — Правда ли, что в этом контейнере привезли господина Ленина?
В ответ раздается смех советских делегатов...
А вот еще факт. В одном из номеров обнаружено письмо: «Остерегайтесь электрических аппаратов, установленных в ваших комнатах, а также горячих напитков, изготовленных кем-либо помимо преданных вам ближайших людей. Мужество и осторожность. Кольра». Провокация или предупреждение? Какие следует принимать меры? Кто этот Кольра — друг или враг?
Эрлих докладывает Чичерину о прибытии вооруженных рабочих крупных итальянских заводов — туринского «Фиата», миланского машиностроительного «Бреда», судостроительной верфи «Ансальдо» и других, — добровольно вызвавшихся охранять советских дипломатов.
— Вот вам свидетельство пролетарского интернационализма, — удовлетворенно говорит Чичерин. — Столько у нас друзей... Хорошо бы погулять по Санта-Маргерите. Помнится, здесь, на главной улице, превосходные лавочки... М-да... Но если откровенно — отсутствие прямой связи с Москвой занимает меня сейчас более всего. Придется, вероятно, связываться через Лондон и Берлин, а представляете, сколько времени и труда будет уходить на это?
— Может, добьемся чего-то, — успокаивает его Боровский.
— Весьма сомневаюсь, — отвечает Чичерин. — Надо требовать внеочередной передачи радиотелеграмм. Добиваться гарантий, равных с другими делегациями условий работы. Уверяю вас, все официальные агентства буржуазных правительств монопольно будут распространять клевету. Мы должны категорически протестовать, Вацлав Вацлавович. С первых же дней! С первых дней!..
4
К девятому апреля все тридцать четыре делегации приехали в Геную и расселились по Восточной Ривьере. Англичане заняли отель «Мирамаре» (Ллойд Джордж уединился на вилле «Альбертис» в Куарто-деи-Милле); французы — в отеле «Савой», итальянцы — в «Реджио»; немцы заняли отель «Эден» в Рапалло, поблизости от советской делегации.
Генуя — главнейший после Рима порт Италии — выглядела очень празднично. На узких улочках, террасами спускающихся с холмов Лигурийских Апеннин к морю, к торговой гавани, полно народу. Все торопятся вниз, к старинным дворцам, виллам богачей с помпезными мраморными фасадами и колоннадами, к церквам. На главной улице транспаранты: «Conferenza Internationale economica di Genova». Повсюду флаги и эмблемы конференции — на стенах домов, на витринах магазинов и ресторанов, на автомашинах, автобусах и пароходах. В порту и рабочих предместьях плакаты на итальянском языке: «Да здравствует Ленин!», красные флаги. В переулках копятся группки русских эмигрантов, выкрикивают: «Долой! Долой! Долой! Addasso!»
Середина апреля, но уже жарко, душно. Экспансивные генуэзцы с нетерпением ждут, когда начнется «зрелище века». Накануне Чичерин давал пресс-конференцию. Банкетный зал отеля оказался переполненным журналистами, которые сидели повсюду, даже на подоконниках. В конференции участвовали: Красин, Литвинов, Иоффе, Воровским. Чичерин говорил о позиции Советского правительства, о царских долгах и долгах правительства Керенского, о том, что дипломаты, представляющие интересы революционных рабочих и крестьян, будут решительно бороться с любыми попытками превратить Россию в колонию. Воровский — о войне и мире, гибели целого поколения людей, о страданиях русского народа, разоренного войной и голодом, о контрпретензиях России. Французскую газету «Юманите» представлял Марсель Кашей, немецкую «Роте Фане» — Вильгельм Пик. Двадцатилетний Эрнест Хемингуэй приехал корреспондентом канадской газеты «Торонто дейли стар». Газеты печатали портреты советских дипломатов.
И вот наступило наконец десятое апреля. С утра чуть не вдвое были увеличены наряды карабинеров и гвардейцев. Повсюду ходили парные патрули. С полудня толпа начала собираться на площади Христофора Колумба, где находился старинный дворец Сан-Джорджо — место проведения мирной конференции. Первой мирной конференции с участием революционной России.
Дворец, сооруженный в тринадцатом веке из красного кирпича, много раз перестраивался. В четырнадцатом веке банк Сан-Джорджо, реставрируя дворец для себя, пристроил к нему еще два зала — так называемый «Зал капиталов» и «Зал сделок». В последнем, вызывая всевозможные остроты недоброжелателей, и должна была проходить конференция. «Зал сделок» — большой, прямоугольный, двусветный, с огромными сводчатыми окнами, выходившими по фасаду на море. Вдоль окон — книжные шкафы и ниши. В нишах — статуи знатных генуэзцев, капитанов и банкиров. Для представителей прессы — а их около полутысячи — построена широкая деревянная галерея. Для делегатов, экспертов и переводчиков — стол, центральные места за которыми отведены странам — устроителям конференции.
Итальянская знать задолго до начала открытия конференции заполнила дворец Сан-Джорджо. Это, так сказать, почетные гости: расшитые золотом мундиры, золотые кресты на кроваво-красных (кардинальских) рясах, золото и бриллианты на туалетах декольтированных дам. В два часа к подъезду начинают съезжаться делегации. Почетная стража — карабинеры и моряки — берет «на караул». В два сорок пять пополудни зажигаются все огни. В переполненном зале, кажется, яблоку негде упасть. В два пятьдесят во главе итальянской делегации появляется Луиджи Факта, премьер, небольшого роста, краснолицый, седоволосый. Сознавая свою значимость, занимает председательское место. Входят немцы, предводительствуемые канцлером Виртом. Следом в зал входят англичане. Впереди — сияющий Ллойд Джордж, коренастый шестидесятилетний крепыш, с львиной гривой на большой голове и усами-скобками. Впрочем, если приглядеться, походка у него стариковская, он заметно припадает на одну ногу. Зал встречает Ллойд Джорджа аплодисментами: он — демагог и политикан — один из наиболее упорных сторонников конференции, его фантастический взлет к богатству и славе импонирует зрителям «спектакля века»... Как только стихают рукоплескания, появляется французская делегация, возглавляемая министром юстиции Луи Барту — другом Пуанкаре и крупным политическим деятелем — низеньким, шустрым, весьма довольным собой, с воинственно задранной бородой. Поправив очки на крупном носу, он садится справа от председателя.
Пустуют стулья между делегациями Сербии и Румынии. Нет советских делегатов. Зал настороженно затихает. До трех часов осталось всего несколько минут... В это время представители революционной России, выйдя из вокзала «Принчипе», пересекли площадь, украшенную флагами стран — участниц конференции, и уже входили во дворец. Народный комиссар иностранных дел Чичерин, во фраке с белым пластроном и в цилиндре, заместитель наркома Литвинов, в черном костюме, скрывающем его полноту, народный комиссар внешней торговли Красин, Генеральный секретарь ВЦСПС Рудзутак, Воровский, Иоффе, представители Украинской, Армянской, Азербайджанской, Грузинской, Дальневосточной и других республик. Шестьсот пар глаз следят за тем, как они друг за другом невозмутимо идут по залу. И вот тишина на какое-то мгновение взрывается шумом, возгласа ми: «Большевики!», треском кинокамер, вспышками магния фотографов. Ллойд Джордж, привстав, в лорнет с любопытством разглядывает Чичерина. Советская делегация занимает свои места. Ровно в три часа раздается звонок с председательского места: Луиджи Факта приветствует делегатов стран, приглашенных в Геную. Конференция начинает работу. «Мирная битва народов при Генуе началась, — пишут вечером газеты. — Русские начали состязаться с Европой!»
В пять часов двадцать девять минут председательствующий объявляет:
— Предоставляется слово главе российской делегации, народному комиссару по иностранным делам Георгию Чичерину.
В зале воцаряется полная тишина. Чичерин начинает на блестящем французском языке.
— ... Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, — говорит он в своей речи, — российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является необходимым для всеобщего экономического восстановления. Российское правительство придает поэтому величайшее значение первому пункту Каннской резолюции о взаимном признании различных систем собственности и различных политических и экономических форм, существующих в настоящее время в разных странах...
Экономическое восстановление России как самой крупной страны в Европе является условием экономического восстановления всей Европы, — заявляет Чичерин. — Советское правительство создает юридические гарантии для экономического сотрудничества.
Вслед за тем Чичерин вносят предложение о всеобщем сокращении вооружения. Это уже переход запретной линии, переход в наступление. Спустя три года после подписания Версальского договора капиталистические государства держали огромные армии, наращивали их мощь, продолжали вооруженные конфликты...
Барту заявляет протест: господин Чичерин нарушает решение говорить только об экономике. Разгорается дискуссия между Чичериным и Барту. Позиция Франции весьма уязвима. Чичерин «загонял Барту в угол», и тот вынужден был заявить, что его страна против разоружений — следовательно, за новые войны. Ллойд Джордж выступил в роли «примирителя». Прежде чем разоружаться, необходимо прийти к соглашению, провозгласил он. Сравнив Генуэзскую конференцию с тяжело груженным кораблем, Ллойд Джордж сказал: «Я прошу господина Чичерина не прибавлять груза, впереди нас ждет непогода, а перегруженному кораблю трудно бороться с волной...»
Факта закрыл прения. Первый пленум закончился. Правая пресса начала оголтелую кампанию против большевиков, требовала отзыва французской делегации, нападала на Англию и Италию.
После выступления на открытии конференции Чичерин стал знаменитым. Ему аплодировали — узнавали повсюду. Его портреты украшали не только первые полосы всех газет, но и витрины магазинов, кафе и ресторанов.
Ярко освещенные улицы центра города были заполнены толпой. Повсюду слышалось пение, музыка. Взлетали, рассыпались разноцветными букетами огни фейерверков. То тут, то там раздавались возгласы: «Viva ia Russia!»
Газеты в те дни писали:
«Британский премьер... создал для большевиков всемирную даровую трибуну. Они этой трибуной успешно воспользовались. Своим участием в конференции в качестве равных среди равных большевики достигли политического престижа, который им нужен...»
«Из Генуи по российской эмиграции прокатился девятый вал. Большевики заняли положение официально признанного правительства. Кто теперь станет говорить с Рябушинским, Милюковым, Черновым, Мартовым как с представителями России?..»
«До сих пор слава на конференции принадлежит большевикам. Они не сделали грубых ошибок и маневрировали с непревзойденной ловкостью. Барту был их первой жертвой... Если их тактика так же мудра, как сильна их позиция, они могут обеспечить себе весьма значительный триумф. Франция одна способна противостоять им, но если ее делегаты неблагоразумны, она, в ходе сопротивления, может добиться собственной изоляции...»
«Конференция открыла счет победам советской дипломатии» — признавали все.
Эрнест Хемингуэй писал в «Торонто дейли стар»: «При открытии Генуэзской конференции имела место сенсация... Произошло это, когда все запланированные речи уже были отбарабанены и большинство газетчиков покинуло зал, чтобы передать на телеграф свои заранее подготовленные отчеты об открытии.
Внезапно надышанный толпой воздух зала, где в продолжение четырех часов не смолкали речи, прорезал словно электрический разряд. Глава советской делегации Чичерин только что вернулся на свое место за зеленым прямоугольником столов... Возглавляющий французскую делегацию мосье Барту вскочил и разразился кипучим потоком слов. Барту ходит вразвалку, но говорит он со страстной силой и горячностью французского оратора. Барту кончил говорить, и переводчик, который обслуживал конференцию начиная с первой сессии Лиги Наций, начал звонким голосом переводить на английский язык: «Если этот вопрос о разоружении будет поднят, Франция абсолютно, категорически и окончательно отказывается обсуждать его как на пленарных заседаниях, так и в любом комитете. От имени Франции я заявляю этот решительный протест...» Чичерин встал... Он заговорил по-французски. Толмач звонким голосом переводил. В паузах не слышно было ни звука, кроме позвякивания массы орденов на груди какого-то итальянского генерала, когда тот переступал с ноги на ногу. «Что касается разоружения, — переводил толмач, — то Россия понимает позицию Франции в свете речи мосье Бриана в Вашингтоне. В ней он заявил, что Франция должна остаться вооруженной из-за опасности, создаваемой большой армией России. Я от имени России хочу снять эту опасность... Разоружение — это капитальный вопрос для России».
22 апреля 1922 года, принуждаемый королем Александром, выступил наконец с заявлением и генерал Врангель: «За последние дни в известной части прессы поднят шум по поводу якобы готовящегося нового военного выступления генерала Врангеля. Версия эта настолько нелепа, что ее не стоит и опровергать. Я неоднократно уже заявлял, что единственная моя цель — сохранение и обеспечение жизни моих старых соратников, дав им возможность, не будучи в тягость приютившим их дружественным странам, обеспечить трудом свое существование до той поры, пока господь не даст нам возможность снова послужить родине. В настоящей политической обстановке о каких-либо приготовлениях к вооруженному выступлению говорить не приходится. Все мои усилия направлены лишь к тому, чтобы улучшить материальное благосостояние моих товарищей по оружию... Одновременно начавшаяся в последние дни и ведущаяся по разным мотивам травля моих соратников и меня в Польше, Чехословакии, Болгарии, Сербии и Англии, травля, ведущаяся как частью прессы, так и некоторыми левыми группами, имеет одни общие источники — и материальные и духовные...»
Глава двадцать четвертая. БЕЛГРАД. ФОН ПЕРЛОФ РЕШАЕТ ДИЛЕММУ
Фон Перлоф в последнее время разительно изменился. Он располнел, от его подтянутости не осталось и следа, обозначился живот, под острым подбородком появилась жировая складка. Генерал явно сдал, с тех пор как его патрон Врангель перебрался в Сремски Карловцы и, по его выражению, «без пользы и дела просиживал штаны» в своем штабе. Перлофа теперь больше интересовало собственное будущее, судьба и размах деятельности частного сыскного бюро, одним из владельцев которого он являлся. Шаброль, не спускавший глаз со своего компаньона, отлично понимал, что это лишь искусная маскировка. Перлоф по-прежнему находился в курсе всех перипетий врангелевской политики. Несмотря на временное возвышение Климовича, Перлоф знает очень многое, и не только знает — продолжает делать то, чем занимался всю жизнь: руководит операциями «Внутренней линии», проникшей в среду многоликой русской эмиграции в разных странах. Получив извещение Венделовского, подтвержденное Центром, о наличии у Христиана Ивановича секретных документов о связи штаба главнокомандующего с реакционными кругами и правительствами ряда стран, которые изъявили желание сесть с Советской Россией за стол мирных переговоров в Генуе,
Шаброль тщательно готовился к изъятию, к «выемке» этих документов. Кое-что в этой операции было недоработано, рассчитано на импровизацию. Людей мало — прикрытие слабое, и Шаброль нервничал.
Они встретились под вечер, согласно договоренности, в конторе по розыску потерявшихся родных, которая располагалась теперь в первом этаже трехэтажного доходного дома, недалеко от центра, на Сараевской улице. В первой комнате два клерка, согнувшись, еще сидели над бумагами. Оба по виду — типичные заурядные филеры. Средних лет женщина с усталым, некогда красивым лицом неумело, но старательно печатала на машинке. Застоявшийся табачный дым и запах сожженных бумаг («Интересно, что они здесь жгли, почему?») наполняли комнату. Никто не поднял головы, не посмотрел на вошедшего.
Шаброль прошел через еще одну, уже пустую, комнату и оказался в директорском кабинете, обставленном хорошей старинной, мебелью. В добротной золоченой раме, под стеклом, искусно подделанное свидетельство о многолетнем существовании частной сыскной конторы. На колесиках кофейный круглый столик для избранных, посетителей. Ничего лишнего. Фон Перлоф в генеральской форме ждал Шаброля. И почему-то заметно нервничал, разбирая бумаги.
— Как дела, компаньон? — напуская на себя беспечность, спросил Шаброль, падая в кресло. — Мы еще не горим? Но у вас кончаются деньги? Вы взволнованы Генуэзской конференцией?
— Нет причин радоваться.
— Я знаю, почему вы грустный. Вы в полном параде — вам предстоит дорога, а ехать не хочется. Угадал? Видите! Сколько раз говорил, не скрывайте ничего от меня: бесполезно.
— Ну, раз вы все знаете, так и рассказывать нечего. Я недоволен тем, что меня решили использовать как курьера.
— Тут два ответа: либо вам, мой компаньон, поручают особую почту, либо вы окончательно вышли из доверия генерала Врангеля.
— Не будем об этом, Шаброль. Я не очень здоров.
«Хитрит, — определил Шаброль. — И хочет избавиться от меня. Ну, это у тебя не получится. Не должно получиться. Интересно, где документы? Здесь, в сейфе? Вряд ли. У меня же есть второй ключ, он не станет рисковать. Скорее всего дома, в отеле. Он должен их кому-то отдать или переправить сам».
— Берусь вас вылечить, и весьма срочно, мой генерал. С сегодняшнего дня вы будете получать половину всех наших доходов. Таков приказ, ибо мы накануне важных событий. Считаю — мы обязаны отметить подобную новость? Не жмитесь, не жмитесь, мой генерал! Я приглашаю вас в «Албанию». Я!.. И попробуйте отказаться.
— Но я действительно уезжаю. Завтра, поутру. — Развитие разговора было неприятно Перлофу, но тут уж он ничего не мог поделать: в последнее время проклятый француз словно парализовал его волю. — Вернусь, тогда и посидим, где угодно. — Нога его дергалась, выдавая нервозность.
— Завтра? Поутру? Уезжаете? О-ля-ля! - — с подкупающей наивностью воскликнул француз. — Но я не женщина, мой генерал! Я не имею желания занимать вас на всю ночь. Но если вы не поужинаете со мной, я обижусь, серьезно.
— Черт с вами! — согласился фон Перлоф. — Компаньон все же!
— И такой выгодный! — добавил со значением Шаброль, приглядываясь к генералу.
Тот суетливо прибирал на столе, все еще раздумывая над тем, принимать предложение француза или нет. Какая-то мысль занимала его, или он просто тянул время? Поколебавшись, Перлоф достал из сейфа черный портфель.
— О? — удивился француз. — Вы нарушаете главное правило конспирации, мой генерал! Берете с собой документы?
— Какие там документы?! Счет от портного и за гостиницу, — раздраженно ответил Перлоф. — И не учите меня азбуке. Мне нужен завтра портфель, не стану же я возвращаться за ним?!
— Вопрос исчерпан, генерал, — засмеялся Шаброль. — Где мне, коммерсанту, учить вас! Разве только в делах гастрономических.
— Не прибедняйтесь, «коммерсант», — пробурчал Перлоф. — Все ваши достоинства мне хорошо известны.
— Не все! Не все! — француз пропустил компаньона вперед.
— Давайте пройдемся, — предложил генерал. — Голова трещит. И никакого аппетита.
— Я все беру на себя: и ваше настроение, и аппетит.
Они поднялись по Сараевской улице, вышли на улицу Князя Михаила и направились в сторону Теразии. Сияли витрины магазинов. Из раскрытых дверей кафе и ресторанов слышались скрипки венгерских цыган, голоса певцов, исполняющих модные западные мелодии, неслись аппетитные запахи жарящихся на вертелах молодых поросят и ягнят.
— Вот что надо народу, — сказал фон Перлоф. — Музыки, еды и немного радости. Мира! А вы все воевать хотите.
— «Вы»? — изумился Шаброль. — Интересно, кто это «вы»?
— Ну, пусть будет «мы».
Они заговорили о делах бюро и о падающем числе клиентов. Большинство беженцев, разбросанных по разным материкам и странам, вероятно, успокоились как-то, примирились с потерями. Кто нашел своих — повезло. Не нашел — все, можно крест ставить. Есть, конечно, и исключения, но большинство рассуждает именно так. Придется половину агентов увольнять, а то и совсем закрывать «лавочку». Шаброль успокаивал компаньона, «лавочка», как он изволил выразиться, еще послужит им верой и правдой не один год, скоро они переберутся в Берлин или Париж, где, без сомнения, бюро станет приносить верную прибыль. Генерал поинтересовался было, о каких новшествах, собственно, идет речь, но Шаброль, беспричинно засмеявшись, потащил компаньона в ресторан «Албания».
Ужин, начавшийся с гигантского омара, оказался, как и предвидел фон Перлоф, обильным, шумным и по-французски бестолковым. Много ели и пили, скрипач-виртуоз, словно привязанный, не отходил от их столика и, склонившись к самому уху генерала, наигрывал душещипательную цыганскую мелодию. Шаброль пригласил к столу певичку-француженку. Ее фарфоровое личико не выражало никаких чувств и чуть оживлялось лишь тогда, когда официант приносил новую бутылку шампанского. Фон Перлофу певичка не понравилась, показалась вульгарной, однако присутствие за столом дамы обязывало. Постепенно он расковывался и оттаивал. И произнес даже тост, превозносящий не то добрую красоту, не то прекрасную доброту новоявленной знакомой, которая начинала ему нравиться, и он рассматривал ее пристально, в упор. Но не пьянел. И каждую минуту касался ногой портфеля, чтобы удостовериться, на месте ли он. Шаброль временами танцевал с этой певичкой и шептался с ней. Еще более удивило Перлофа то, что французская куколка вышла на помост и слабым голоском спела сентиментальную песенку на немецком языке. Фон Перлоф запретил себе выпить хотя бы еще глоток и запросился домой, ожидая сопротивления от подгулявшего компаньона. К его еще большему удивлению, Шаброль быстро расплатился, горячо поблагодарил и поцеловал в щечки певичку, пожал руку метрдотелю (вот она, галльская демократическая фамильярность!) и, разом протрезвев, пошел к выходу твердой походкой, раскланиваясь налево и направо. Швейцар предупредительно распахнул перед ним дверь. Но прежде чем шагнуть, Шаброль сказал генералу одно слово:
— Портфель.
Фон Перлофа будто кипятком обдало. Он был совершенно уверен, что портфель украден, — на это много времени не требуется! — и еще более удивился, увидев портфель на прежнем месте.
— Испугались? — подзадорил его Шаброль. — А говорили, ничего нет. Бежали, будто там все ваше состояние.
— Не люблю ничего терять, — оправдывался фон Перлоф. — Знаете, это говорит моя немецкая кровь — аккуратность, бережливость и тому подобное.
— А вы, оказывается, шалунишка, генерал. Юбочка произвела на вас впечатление. Не отпирайтесь, я все видел.
— Забыл поблагодарить вас за прекрасный ужин, Шаброль.
— Благодарить будете после, — многозначительно ответил тот. — У меня к вам серьезный разговор.
— Но я же должен уехать.
— Слышал. И тем не менее. Мы должны решить все сегодня.
— Говорите. Пожалуйста!
— Фи, генерал! Мы — рядом, а вы предлагаете вести разговор на улице, точно мы не деловые люди, не компаньоны, а чистильщики сапог.
— Хм... Почему именно чистильщики сапог?
— Первое, что пришло в голову... Шумит — выпил лишнее. Поедем ко мне — кофе пить?
— Но вы действительно рядом со мной! Какой же смысл ехать?
— Но вы же не зовете меня! Ждете даму, шалун? Или у вас тайная встреча — признавайтесь! Я к себе поеду. — Шаброль играл чуть выпившего гуляку, обижающегося по любому поводу.
— Никого я не жду, вот вам крест.
— Тогда — к вам?
— Да, пожалуйста!..
Перлоф снимал двухкомнатный номер на пятом этаже гостиницы «Москва», находящейся в нескольких шагах от Теразии. Гостиница была большая, украшенная по фасаду цветными изразцами. Углом она выходила на две улицы. Внизу находился ресторан. В теплое время года часть столиков выносилась на тротуар и отгораживалась от улицы цветами, густой зеленью, пальмами в деревянных кадках на подставках. Сидя здесь за чашкой кофе, можно было, оставаясь невидимым с улицы, наблюдать за публикой, фланирующей мимо. Гостиница была излюбленным местом остановки коммерсантов разных рангов, жуирующих путешественников, карточных шулеров и представителей разных разведок мира. «Москва» пользовалась недоброй славой. Поэтому и цены здесь были умеренные.
Взяв ключ у поклонившегося портье, Перлоф предпринял еще одну попытку закончить поскорее вечернюю встречу с компаньоном. Он предложил выпить по чашечке кофе с ликером у ресторанной стойки, ссылаясь на то, что с Миланом, который приготовлял кофе здесь, ему соревноваться рано.
— Если вы такой скупой, Перлоф, — не на шутку обиделся Шаброль, — я заплачу и за кофе. И ваш хваленый Милан, как борзая, принесет его нам в номер. Кстати, он будет участвовать и в нашем конфиденциальном разговоре как необходимый свидетель. Не возражаете? Говорят, он работает на англичан.
— Ладно, ладно, м’сье, — извиняющимся тоном сказал Перлоф. — Вот лифт, прошу.
Они зашли в тесную кабину под красное дерево с зеркалом и с лязгом захлопнули решетчатую дверь. Обе половинки внутренней двери сомкнулись. Кабина, издав странный звук, плавно, чуть постанывая и поскрипывая, поползла вверх.
— Так в чем дело? — спросил Перлоф.
— Ямщик, не гони лошадей — так, кажется, говорят ваши соотечественники?
По коридору пятого этажа они шли молча. Фон Перлоф никак не мог открыть номер. Словно почувствовав вдруг опасность, он насторожился. Пропустив Шаброля, он, нашарив выключатель на косяке, дал полный свет. На подоконнике сидел... Венделовский.
— Добрый вечер, Христиан Иванович, добрый вечер, м’сье, — любезно сказал он.
Перлофу не надо было ничего объяснять. Он понял, что это сговор. Сговор против него. Но почему здесь вместе оказались Венделовский, которого он всегда подозревал и не перестал подозревать, и этот француз, называющий себя Шабролем, разведчик, заставивший и его, руководителя «Внутренней линии», работать на себя? Анализировать времени не было. Перлоф решил всю инициативу предоставить гостям.
— Итак, кофе, м’сье Шаброль? — спросил он, обращаясь к французу и демонстративно игнорируя Венделовского.
— Кофе отменяется, — весело ответил Шаброль.
— У нас не много времени, — добавил Венделовский.
— Что вам от меня надо, господа? — спросил фон Перлоф.
— После того, что вы уже совершили, не так и много, Христиан Иванович. — Шаброль сделал приглашающий жест, и они сели за круглый стол посреди номера. И лишь Венделовский не изменил своей позы на подоконнике, словно держа обоих под прицелом. — Нам нужны подлинные документы вашего штаба. К сожалению, вы говорили правду. В портфеле их не оказалось.
— Вы подменили портфель?!
— Мы просто открыли его. Где же документы?
— Я не знаю, о чем вы говорите, Шаброль.
— О том, что Врангель решил не доверять даже своим проверенным дипкурьерам, — вставил Венделовский.
— Этот господин тоже работает на вас?
Шаброль кивнул. Спросил:
— Документы здесь?
— Да что вы имеете в виду, черт возьми?! — сорвался Перлоф.
— Письма от имени Врангеля, — вставил Венделовский.
— Помолчите! — крикнул фон Перлоф. — Не с вами разговор.
— Отчего же? — флегматично заметил Шаброль. — И он имеет право голоса... А вы не волнуйтесь, Перлоф. Ничего чрезвычайного не происходит. Вы оказываете мне очередную услугу, за которую будете, как всегда, — он подчеркнул это как всегда, — вознаграждены. И все. Почему вы кипятитесь?
— Я хочу знать,что делает здесь этот русский?
— Он мой сотрудник. Такой же, как вы. А документы действительно нужны. Очень. И сейчас. Назовите их, Альберт Николаевич.
— Инструкция для переговоров с министром-председателем Королевства сербов, хорватов и словенцев, письмо Хольмсену от имени Врангеля, письма Гирса генералу Миллеру и князю Волконскому, — быстро перечислил Венделовский.
— Но это... Это невозможно! — Перлоф вскочил и забегал по номеру. — Если они уйдут, я проваливаюсь мгновенно! Климович принюхивается. Он сразу поймет! О документах знают пять человек. Я пропал. Так разведчики не поступают.
— Хорошо, — согласился Шаброль. — Давайте сообща подумаем, как уберечь вас.
— Сделаете фотокопии? — с вызовом бросил Перлоф.
— К сожалению, генерал, на этот раз нам нужны подлинники.
— Которые вы хотите кому-то предъявить? Кому? Ллойд Джорджу? Клемансо? В Генуе?!
— Но, Христиан Иванович, Христиан Иванович, вы теряете голову. Столько вопросов сразу.
— Да, вы правы, м’сье. Да!.. А если я откажусь? Все ведь имеет пределы! Вы уберете меня?.. — он метнулся было в спальню, но Венделовский, мгновенно отделившись от подоконника, перекрыл дверной проем. Перлоф вернулся, понуро сел за стол. Сказал подавленно: — По-видимому, я вам не нужен, Шаброль?
— Ну что вы. Христиан Иванович! — горячо возразил француз. — Напротив. Надеюсь, наше сотрудничество еще более укрепится. Мы многое сделаем вместе, уверен. Я не зря говорил о прибавке вам ежемесячных сумм. Вы станете богатым человеком, генерал.
— Я не представляю, м’сье, как вылезу из истории с документами, если передам их вам. Это — гибель. Я не имею в виду физическую гибель — я солдат и каждый час готов к смерти, — я говорю о своем крахе как специалиста, за которого никто и гроша ломаного не даст.
— Есть ряд способов сохранить ваше реноме, Христиан Иванович. Можем инсценировать ограбление и взлом сейфа, связать вас, усыпить хлороформом — мало ли что?!
— Надо подумать, — казалось, фон Перлоф успокаивается. — Однако для оценки событий мне хотелось бы знать, куда пойдут документы? В чьих интересах будут использованы?
— У меня очень мало времени, м’сье Шаброль, — снова напомнил Венделовский. — К сожалению.
— Еще пять минут, Альберт Николаевич. — Шаброль кинул быстрый, недовольный взгляд в его сторону и подвинулся к Перлофу. — Я скажу вам... Документы будут использованы в интересах вашей родины, генерал. И ее многострадального народа.
— Вы хотите перепродать их большевикам? — стараясь скрыть потрясение, переспросил Перлоф. — Ведете двойную игру, Шаброль?
— Почему же? — просто ответил француз. — Мы с вами работаем на Советскую Россию. Это и хотел я вам сегодня поведать, когда говорил, что предстоит важная беседа.
Перлоф понял, что он пропал. Но ничем не показал этого: ни один мускул не дрогнул на его лице, и нога не подвела, и шпора не звякнула.
— И вы думаете, я добровольно отдам вам документы? — спросил он.
— Документы уже у нас. Выемку произвел Альберт Николаевич Венделовский, пока мы ужинали. Дело уже не в них. — Шаброль сделал паузу. — Дело в вас. Мы предлагаем вам сотрудничество — работу на Россию. И переезд в Париж.
Венделовский подошел к картине, висевшей в проеме между окнами, и, сняв ее, открыл замаскированный тайник. Сейф был пуст.
— Профессионально сработано! — Фон Перлоф сказал это совершенно спокойно и даже равнодушно. — Чувствуется хорошая школа.
— Иначе нам нельзя, — усмехнулся Венделовский. — Против больших мастеров работать приходится.
— Итак, я предлагаю вам, генерал, продолжить сотрудничество на всех прежних условиях. Плюс патриотизм, если он у вас есть. России нужна ваша помощь.
— Это весьма неожиданно, — фон Перлоф словно одеревенел. — Согласитесь, я должен подумать.
— Сколько?
— Ну, до утра.
— Даю вам четверть часа. Больше не могу, не обессудьте, генерал. Обстоятельства сильнее нас.
— Разрешите мне побыть одному, по крайней мере, Шаброль. Или как вас теперь называть?
— Так и называйте, генерал. Итак, пятнадцать минут... Я не беру вас за горло. Не захотите работать на Россию, мы поможем вам уехать, исчезнуть. И не пытайтесь бежать: вас надежно охраняют.
— Я понимаю, — фон Перлоф вышел в спальню и притворил за собой дверь.
А через несколько минут там сухо щелкнул пистолетный выстрел.
Мертвый генерал лежал поперек кровати. Рука его не дрогнула. Пуля попала в висок.
— Наверное, под подушкой у него был пистолет, — сказал Венделовский. — А я там не проверил.
— Да, мы пережали. Рановато оборвалась игра с ним. Он нам бы еще пригодился, точно.
— Но кто мог подумать?
— Он — разведчик, Альберт Николаевич. Надо было предусмотреть это.
— Все равно он не стал бы с нами сотрудничать.
— Черт его знает: время меняло и не таких, как фон Перлоф.
— Зато задание Центра выполнено, документы у нас. Они стоящие, — сказал Венделовский, все еще находясь под впечатлением только что произошедшего. — В Генуе разорвется бомба!
— Ну, если бомба, тогда стоящие, — согласился Шаброль. — Посмотри, вон записка на тумбочке. Что там?
«Если вы настоящие люди, не оставьте в беде Анастасию Мартыновну Мещерскую, мою племянницу, — прочел Венделовский. — Она в пансионате «Эксельсиор» у Дубровника — без средств к существованию». Все, Шаброль.
— Учтем!.. А как быстрее переправить документы? Чтоб господа дипломаты и пикнуть не смогли о фальшивке.
— Может, через Берлин? Завтра я еду.
— Долго. Не годится, — сказал Шаброль. — Это переложить наши с тобой заботы на плечи товарищей. Я сам повезу их в Италию. Съезжу туда-обратно быстро, чтоб успеть на похороны компаньона и подумать о дальнейшей судьбе нашего частного сыскного бюро.
— Так как? — переспросил Венделовский.
— Решено, — ответил Шаброль. — Надо только сделать фотокопии и срочно переправить их в Москву. Мало ли что ждет меня утром.
— Типун тебе на язык!
— Думаешь, я суеверен? Ничего подобного! Просто точно знаю, господин Климович станет и дальше разматывать «баязетовскую» ниточку. На такого нарвались! И ты поберегись: смерть Перлофа наверняка приведет его к Издетскому, а тот, откупаясь, может продать и тебя.
— Сомневаюсь. Он у меня вот где! — Венделовский сжал кулак.
— Не можем мы недооценивать своих противников. Сегодня же пошлю шифровку в Центр: Перлоф вышел из игры весьма внезапно, а это может сказаться на всей нашей работе! Знаешь ли ты свой маршрут?
— Нет, только до Берлина.
— Видишь, врангелевцы не хуже нас с тобой конспираторы. Как мы свяжемся?
— Приеду в Карловцы, пришлю тебе обычную депешу.
— Ни в коем случае! Можешь вернуться с «хвостом». Рискованно. — Шаброль задумался. — Знаешь, я, конечно, согласую это с Центром, но думаю, пока идет Генуэзская конференция, контакты следует прекратить. Тем более задание выполнено. В случае чего я сам тебя найду. Или мой человек. Пароль: «Я хорошо знаю вас по Киеву». Ответ: «Никогда не жил в Киеве, я — москвич». — «Значит, ваш брат жил в Киеве». — «У меня в семье только сестры». Запомнил?
— Запомнил.
— Тогда выезжай себе в Берлин, Альберт Николаевич. И никакой инициативы. Уходим. Ты — первый. Успеха тебе.
Они пожали друг другу руки, и Венделовский выскользнул в коридор. Шаброль внимательно осмотрел обе комнаты, вытер носовым платком дверные ручки, подоконник и запор на окне, через которое влез Альберт Николаевич, спинки стульев, взял черный портфель Перлофа, ключ от номера и вышел следом...
В ЦЕНТР ИЗ БЕЛГРАДА ОТ «ДОКТОРА»
«Высылаю фотокопии документов врангелевского штаба:
«Нач. штаба
Главнокомандующего
20 апреля 1922 г.
В. секретно!
Ваше превосходительство!
Препровождая при сем копию инструкции для переговоров с Министром-Председателем Королевства СХС, преподанной российским Посланником в Белграде, сообщаю Вам, что Главнокомандующий приказал на основе этой инструкции предпринять надлежащие шаги во французском Военном министерстве и получить в наикратчайший срок по возможности письменное согласие министерства на осуществление соображений, значащихся под литерами а) b) с).
При получении такого благоволите немедленно передать адъютанту Главнокомандующего, который будет ожидать в Париже Ваших распоряжений. Подпись».
«Его Превосходительству
Генерал-лейтенанту Хольмсену
При исполнении возлагаемого на Вас поручения, Главнокомандующий приказал руководствоваться:
1) Соображениями Председателя Совещания Послов М. Н. Гирса, на которого Главнокомандующим возлагается аналогичное поручение;
2) Заявлением Министра-Председателя Н. Пашича российскому Посланнику о том, что он всецело разделяет высказанное мнение и со своей стороны немедленно по прибытии в Геную уведомит о нем Председателя французской делегации, а начальнику технического отдела Генштаба полковнику Бацковичу прикажет сделать соответствующее представление начальнику французской Военной Миссии относительно соображений, значащихся под литерами а) Ь) с).
С получением письма благоволите уведомить меня по телеграфу. Примите уверения в отличной преданности и совершенном уважении.
Генерал-лейтенант Миллер».
«Нач. штаба Главнокомандующего
русской армией
8 апреля 1922 г.
№ 347/сж
Копия
С. секретно!
Инструкция русскому Посланнику для переговоров с Министром-Председателем Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев.
В основу переговоров должны быть положены нижеследующие соображения:
1) По получении нашими агентурными источниками, а также по переданным нам Сербским Генштабом сведениям усматривается, что состояние румынской армии совершенно не соответствует тому положению, которое нам представляли во время переговоров, предшествовавших заключенному соглашению. Если усилиями французской Военной Миссии материальная часть армии и доведена до удовлетворительного состояния, то дух войск оставляет желать много лучшего. Нация устала и настроена миролюбиво. Рассчитывать на армию не приходится, особенно после 2 — 3 недель военных действий, когда пройдет первый ныл.
2) Учитывая вышесказанное моральное состояние армии, приходится допустить возможность временных неудач. Однако таковые грозят катастрофическими последствиями. Малейшее отступление в Добруджу и приближение красных войск к болгарским границам вызовут немедленный коммунистический переворот в Софии, а вслед за тем — националистический в Европейской части Турции. Позиция Венгрии при таких обстоятельствах сомнительна, и с большей долей вероятности можно предвидеть повторение опыта 1919 года. Для Югославии создается затруднительное положенье, и вместо предусмотренных соглашением добровольческих формирований стране придется мобилизовать контингент и начать военные действия. Для Франции эти обстоятельства означают крушение ее престижа и влияния в Центральной Европе, а для остальных стран новые испытания.
Во избежание подобных потрясений настоятельно необходимо:
a) Французскому Правительству обратить внимание на состояние румынской армии и приложить все усилия к подъему ее боеспособности.
b) ввиду почти полной невозможности достижения этой задачи, ввиду краткости времени, остающегося до начала военных действий, перенести всю тяжесть операции на русскую армию, с каковою целью Французскому Правительству необходимо:
a) настоять перед Румынским Правительством на увеличении в 15 000 человек численности русской армии, допущенной на румынскую территорию.
b) сделать представление Правительствам Малой Антанты и Венгрии на разрешение учета русскими военными агентами бывших чинов русской армии.
c) оказать давление на Болгарское Правительство в смысле прекращения пропаганды, разлагающей находящиеся там части русской Армии и приведения к тому, что части эти окончательно вышли из нашего повиновения.
d) временно до получения от российского Посла в Вашингтоне отпущенных им сумм для русской Армии оказать краткосрочный кредит для довольствования и приведения в боевое состояние 15 000 человек.
е) Министру-Председателю Королевства СХС надлежит указать, что мы, памятуя его безграничную любовь к России, твердо надеемся, что в эти решительные минуты он согласится дать разрешение на перевод в Королевство отборных частей из Болгарии в количестве 7000 человек и, как и ранее, своими выступлениями перед Французским Правительством и ныне не откажется поддержать нашу просьбу в Париже на благо всего славянства.
Генерал-лейтенант (подпись)
С подлинным верно (подпись)».
«Ambassade de Russie»
Paris
«Его Превосходительству
ген,-лейтенанту Е. Миллеру
Ваше Превосходительство!
Со слов российского Посланника в Белграде и по донесениям ген. Хольмсена, Вам, вероятно, уже известно о полном успехе моих переговоров с французским Правительством.
Я считаю настроение Французского Правительства в связи с происходящим в Генуе настолько благоприятным, что не только эти, но и любые другие предложения будут легко приняты, что и нужно постараться временно использовать и, не теряя времени, изменить намеченную линию, страдающую своей нерешительностью. Об этом я подробно пишу В. Н. Штрандтману.
Если Главнокомандующий признает это удобным, я для обмена мнений по этому поводу и сокращения времена готов на будущей неделе выехать в Белград на самый короткий срок, избегая, однако, всякой огласки, которая совершенно нежелательна и может лишь повредить делу. Отсутствие мое из Парижа не должно превысить пять-шесть дней.
Я с большим удовольствием исполнил пожелание Главнокомандующего и передал румынскому Посланнику признательность Генерала.
Прошу принять уверения в совершенном почтении и таковой же преданности.
Гирс»
«Ambassade de Russie»
Paris
«Его Светлости князю П. Волконскому!
Ваша Светлость!
Настоящее письмо будет Вам передано генерал-лейтенантом В. Марушевским, отправляющимся в Будапешт для переговоров с Венгерским Правительством. Я передал Главнокомандующему Ваши соображения относительно неудачи этого выбора, но он с ними не согласился, правильно полагая, что время колебаний миновало и что в отношении здешнего Правительства нужно стать на позицию полной лояльности, прекратив всякие попытки заигрывания в сторону Берлина, что стало явно бессмысленным... В этом направлении надлежит действовать и Вам, учитывая, что генерал Марушевский по-прежнему сохранил прекрасные отношения с некоторыми здешними и что перед поездкой он имел собеседования со своими друзьями.
В Будапеште наличие Миссии у Генерала, очевидно, долго скрыть не удастся, и Вам надлежит, как только найдете нужным, заверить тамошних и румынского и сербского Посланников, что эта поездка предпринята с ведома их Правительств и с согласия Французского.
Как только удастся рассеять опасения Венгерского Правительства о наших соглашениях и предстоящих действиях и получить его принципиальное согласие на наше предложение, уже Вам известное, ген. Марушевский отправится к Главнокомандующему за окончательными инструкциями и в Ставке пробудет некоторое время. За его отсутствие Вам надо будет руководствоваться выработанным Вами совместно с Генералом планом действий и поступающими указаниями из Ставки. Вышесказанное Ваше предложение кажется мне сейчас совершенно не осуществимым. О ходе переговоров прошу ставить меня в известность.
Прошу принять уверения в моем почтении и преданности.
М. Гире».
Во время операции Перлоф застрелился. С оригиналами сегодня выезжаю Геную.
Доктор».
В ЦЕНТР ИЗ СОФИИ ОТ «0135»
«В последнее время, поняв, что Врангель ему не помеха, Кутепов действовал особо дерзко и нагло. В ответ, побуждаемые левыми кругами и прессой, власти внезапно заняли отель «Континенталь» и арестовали Начальника кутеповской контрразведки полковника Самохвалова. При обыске обнаружены компрометирующие документы: планы военных укреплений, расположение воинских частей, жандармских пикетов, электрических станций и водокачек, списка агентов, каналов связи. соединяющих Софию, Тырново и Белград. Самохвалов заявил, что действовал с ведома Болгарского правительства, его организация существует лишь для охраны главкома на случай его приезда в Софию, ибо местные коммунисты открыто заявили, что не ручаются за его безопасность. При обыске найдены приказы Врангеля, изобличающие его в подготовке государственного переворота в Болгарии. Самохвалов заявил, что документы подброшены. Один из апрельских приказов был дан Врангелем из Дубровника, между тем Врангель и Шатилов в Дубровнике не были, а находились в Сербии, что можно легко проверить через военно-дипломатическую миссию в Белграде. Одновременно произведен обыск и в русской военной миссии. Оказалось, генерал Вязьмитинов, не имея разрешения болгар, посылал шифрованные телеграммы Врангелю. Арестованы два болгарских чиновника телеграфа, сотрудничавшие с Вязьмитинооым.
В Тырново произведен обыск на квартире Купепова. Конвоиры, поднятые по тревоге, с винтовками и пулеметами выступали на защиту командира корпуса, однако Кутепов совместно с начальником болгарского гарнизона остановил готовое произойти столкновение и приказал им сдать оружие болгарам. Топалджиков по телефону пригласил Кутепова в Софию, гарантируя ему возвращение. Кутепов был задержан в отеле «Болгария» на три дня. Его допрашивали в присутствии Шатилова и Вязьмитинова, а для успокоения войск заставили послать в Тырново телеграмму о задержке по неотложным делам. После объявления об аресте Кутепов вынул револьвер и положил на стол. Топалджиков спросил, зачем он это делает. «Я не отдаю вам своего оружия, а передаю, — сказал Кутепов. — Ибо долг русского офицера, не выполнившего своего долга, застрелиться». В защиту выступало «Русское дело»: «...Из галлиполийских рядов, пришедших в Болгарию с открытым сердцем и спокойной душой, выхвачен их живой нерв, вырвана душа. У армии отняли ее вождя (как сие понравится Врангелю?), отделили от нее большого, достойного человека, высоко и гордо державшего честное галлиполийское знамя. Генералу Кутепову мы обязаны тем обаянием, которое создалось и живет вокруг чистого галлиполийского имени. Пройдут черные дни, и фигура ушедшего от нас русского генерала выявится со спокойной и определенной ясностью. Мы будем ждать. Мы дождемся справедливого суда над черными днями».
Узнав о событиях, Врангель направил Стамболийскому телеграмму. Указав, что Болгарское правительство изменило России, Врангель писал: «Радушно встреченные населением, русские люди воочию убедилась, сколь чужд был болгарский народ предательству правительства страны. Болгарское правительство, в сознании своего бессилия, ищет опоры у тиранов России и в жертву им готово принести русскую Армию. Преследуемые клеветой и злобой, русские воины могут быть вынуждены сомкнуть ряды вокруг своих знамен. Встанет вновь жуткий призрак братоубийства. Бог свидетель, что не мы вызвали его». Это прозвучало угрожающе. Газеты вышла с заголовками: «Врангель объявляет войну!», «Ультиматум русского главнокомандующего». Болгарское правительство выступило с заявлением: «Врангелевцы нарушили гостеприимство, создали шпионскую организацию, из документов и архивов которой видно стремление осуществить государственный переворот в контакте с болгарскими монархическими кругами». На улицах Софии, Тырново и других городов прошли массовые митинги, требующие роспуска врангелевской армии и высылки из страны, сохранения мира и дружбы с Советской Россией. Гости недооценили хозяев. Из страны высланы генералы Шатилов (у него нашли письмо, где он скорбит о глупости Самохвалова, хранившего при себе важные документы), Попов, Кутепов (командование передано Витковскому), Вязьмитинов, полковник и Лисовский и Алатырцев, князь Голицын, адъютант Кутепова и другие. Витковский, лишенный связи с Врангелем и Кутеповым, подал жалобу прокурору Тыновского окружного суда против притеснений, обысков и арестов, введения комендантского часа, запрещения ездить по железным дорогам, заявив, что «из всех перечисленных фактов выявляется крайнее бесправие русских в Болгарии, что создает беспримерный случай в истории культурных государств».
Кутепов должен был выбрать место высылки. Он определил Венгрию. Оказалось, есть и румынская виза. Отъезд был отложен. Однако, во избежание эксцессов, в 11 вечера к нему явились два болгарских офицера и объявили, что его отправляют на греческую границу. Кутепов в вагоне второго класса, отправился до Адрианополя, а оттуда через Салоники — в Белград. С ним — жена и полковник Думбадзе. Несмотря на то что в гостиницу к нему никого не пропускали, Кутепов сумел переправить приказ по армии, в котором содержится требование сохранять дисциплину и спокойствие.
Врангель вновь показал Кутепову и всем его сотрудникам их полную несостоятельность. В Софию для устранения недоразумений прибыл начштаба Врангеля генерал Миллер. Повсюду повторяет, что галлиполийцы «должны быть сохранены для будущей России, ибо, как только падут большевики, эти контингенты явятся единственной организующей силой русского народа». Миллер заверяет: «Русские контингенты ни при каких условиях не будут участвовать в политической жизни страны; генерал Врангель издал об этом специальный приказ; его телеграмма Стамболийскому — не ультиматум, она неправильно понята, он лишь указал на несправедливое отношение к русским, — а то спокойствие, которое сохраняется войсками, служит полным доказательством их дисциплины и подчинения всем распоряжениям главнокомандующего».
Болгарское правительство ограничивается полумерами. Витковскому предписано сдавать оружие, переводить армию на самообеспечение при помощи создания «рабочих артелей» по местам расположения. Подобная форма наиболее удобна для полулегального существования армии. В переговорах специально подчеркнуто: взаимоотношения между чинами армии остаются старыми, что, «временно оставив родные ряды, солдаты и офицеры остаются русскими воинами». Сохраняется и внешняя эмблема армии — форма. На сегодняшний день в Болгарии находится: 15 тысяч военных и 21 тысяча гражданских лиц.
«Баязет» благополучно отбыл из Варны. «Мишель», сопровождающий связную, вернулся в Софию. По его сообщению, в районе Пловдива они были задержаны болгарскими жандармами, среди которых находились француз и двое русских. Судя по описанию, один — Далин. Связная отравилась. «Мишелю» удалось бежать, однако считаю дальнейшее его использование здесь невозможным. Для анализа причин провала группы в Болгарии данных мало. Полагаем: действия Климовича, предпринятые без участия «Внутренней линии».
0135».
Приложение I.
Газета «Работнический весник», публикующая ряд документов о тайных связях кутеповцев с болгарскими монархистами, разоблачающих контрреволюцию; приказ Донского атамана о регистрации казаков; распоряжения болгарских военных властей, желающих облегчить участь врангелевских воинских контингентов; приказ № 37 «Боевой дружины спасения России», которая вступила в переговоры о совместных действиях против большевиков; фото, где Кутепов изображен совместно с лидерами Народно-прогрессивной партии и епископом Стефаном.
Приложение 2.
Заявление генерала Врангеля:
«...Мы будем бороться не за монархию или республику, а за Отечество, за его свободу и честь. На этом основном положении и объединились вокруг меня русские люди самых различных политических течений — от монархистов-конституционалистов до народных социалистов, образующих орган, имеющий характер национально-государственного центра... Это не есть правительственный орган, как тенденциозно стараются изобразить его некоторые враждебные нам группы. Это только национально-государственный центр, по примеру аналогичных центров, имевшихся у других народов, вынужденных оставить свою родину. Ни на какие правительственные функции он не претендует... Мне и моим соратникам приписываются германофильские симпатии. Это столь же нелепо, как и попытки усмотреть в моей работе военную подготовку... В рядах моей армии я никого насильно не удерживаю. Подчинение добровольное и всякие рассказы о белом терроре и тому подобное — сознательная ложь...»
Резолюция на информации:
«Срочно принять меры к отозванию «Мишеля», обеспечению связью «Доктора».
Из дневника профессора Шабеко
«Париж! О Париж! Прекрасный свободолюбивый город! Стоишь ли ты по-прежнему мессы, или и здесь мне уготовано очередное разочарование? Найду ли я правду, понимание, поддержку? И — главное! — управу на шайку грабителей, засунувших руки в кладовые народного добра. Грабителей, к которым в числе главнейших принадлежит, увы, и мой сын...
Но мир не без добрых людей! По приезде все сложилось для меня чрезвычайно удачно: чудесным образом разрешилась проблема, чуть ли не самая большая и трудная, — в первые же дни нашлась крыша над головой. Мансардная каморка на рю Дарю, которую благородно предложил мне разделить с ним бывший мой ученик по университету Лев Федорович Федоров-Анохин, не узнанный мною по причине едва ли не саваофовской бороды, отращенной на чужбине за три года. Дитя первой, спокойной еще, одесской эмиграции, он осел в Париже и обзавелся работой, о которой можно лишь мечтать, — зная дюжину языков, получил должность корректора в русском отделе издательства «Зерна». Нашел он и для меня переводческую работу — небольшую правда, низкооплачиваемую, разовую — сделать перевод трех искусствоведческих статей с французского на русский и двух с латыни на русский (боже, кто ныне интересуется подобными статьями?). Окрыленный парижскими успехами и получив мизерный аванс, я кинулся в дело, ради которого, собственно, и оказался здесь...
Не стану описывать всех мытарств — физических и нравственных — и всех своих блужданий по всевозможным конторам, агентствам, благотворительным обществам, редакциям газет и так далее и тому подобное. Вскоре страшная в своей простой достоверности картина предстала моему взору. Крупные воры, действуя грубо и нагло, по-прежнему хозяйничали в чужом доме, грабя, уничтожая, не щадя ничего на глазах либо равнодушной, либо изумленной, но одинаково безучастной публика. Не она помогла мне, но сами воры, в стане которых, как и следовало ожидать, начались трения и открытые распри по поводу дележа добычи. Risum teneatis, amici?![42] Первый скандал разразился по поводу частного лица. В числе закладчиков Петроградской ссудной казны оказался министр финансов И. А. Вышнеградский. Им были помещены в казну достаточные ценности и бумаги на владение значительным количеством земель. По случайности часть квитанций, свидетельствующих о принадлежности закладов, сохранила дочь Вышнеградского Н И. Гартвиг, живущая в Белграде, вдова бывшего царского посланника, которой не так-то просто было заткнуть рот. Она представила квитанции на землю, на огромное серебряное блюдо, подаренное ее отцу сослуживцами, на большое число сувениров и ценных подарков, — все с именными надписями. Тут уж и не заменишь, и не откупишься! Вышел полный афронт: в казне имущества Н. И. Гартвиг не оказалось.
А тут прибыла очередная партия заморских купцов, рассчитывающих на приобретение дешевого золота и серебра. Испугавшись скандала и огласки, они заявили «Торговому дому Врангель и К°», что ценности покупать не станут — лишь лом, в котором уж точно никто не узнает своего имущества. Был заключен договор и выделена группа из вернейших офицеров-преторианцев, числом до полусотни. И работа закипела. Ломались новые часы, ножи и ложки, самовары, портсигары и кофейники, чаши и кубки, гнулись подносы, гибли модели памятников, церковная утварь, ризы, иконы, выковыривались драгоценные камни, слоновая кость, — всего не перечислишь! Серебро и золото сбрасывалось ссыпом в ящики, остальное прилипало к рукам ретивых «рабочих». Говорят, обнаглевшие офицеры открыто торговала в Каттаро и Белграде камнями, хрусталем, костью, часами, табакерками, портсигарами и другими подлинными произведениями искусства. Из уст в уста ходили неизвестно кем сочиненные стишки: «Отправилась в Каттаро Маруся в путь, кто может там ждать удара, гнев сушит грудь. Ах, в генеральском ранге ль такой скандал? Мои солонки Врангель, увы, украл...» Небольшая поэзия, но сказано верно!
Была вынуждена и вмешалась наконец югославская прокуратура, произведены обыски, на квартирах у «рабочих» найдено много ценностей. Несколько дел передано в суд для успокоения общественного мнения (не воруй у вора!). Некий офицер Богачев, к примеру, сел на восемь месяцев в тюрьму, что, естественно, никоим образом не приостановило «работу» господ Гензеля, Сахарова и стоящего где-то поблизости, в тени, Леонида Витальевича Шабеко. Однако первый тур окончился Общественные страсти стали утихать, направляемые прессой на более актуальные проблемы, из которых скорый крах большевиков в России оставался наиглавнейшим.
И вдруг газетная заметка «Тайна загадочного ящика» потрясла русскую эмиграцию. Один из чинов компании «Руссо-Серб» (подставной агент Врангеля при продаже ценностей, как выяснилось доподлинно), некий М. Белоус, недурно заработавший на продаже серебра, публично предъявил своим вчерашним коллегам обвинение в том, что они, воспользовавшись его временным отсутствием, вскрыли в помещении «Руссо-Серб» ящик его стола и украли какие-то ценные бумаги. Не ограничившись газетой, Белоус обратился в полицию. Начались допросы, сыск, казавшиеся невинными и пустяковыми: кому понадобились бумаги неизвестного Белоуса? Дело, однако, приняло внезапно иной оборот, когда следователь стал допрашивать заведующего финансовой частью штаба главнокомандующего, небезызвестного мне барона Тизенгаузена:«На какую сумму продали каттарского серебра? Сколько уплатили куртажных? Где хранится договор о продаже?» Г-н барон встал было в позу невинно оскорбленного: какое, дескать, все это имеет отношение к делу Белоуса? Однако следователь, резко оборвав Тизенгаузена, проявил поразительное знание предмета и заявил, что, по его данным, лишь коммерческая прибыль «Руссо-Серб» от продажи части казны составила чуть не четверть стоимости драгоценного лома, а это представляет более двадцати двух тысяч фунтов стерлингов, приобретенных таким образом из воздуха. Барон почувствовал, запахло паленым. Выяснилось, М. Белоус обвиняет «Руссо-Серб» не только во взломе, но и в неправильном дележе добычи. Ему дали лишь 940 фунтов стерлингов, а полагалось чуть не втрое больше. Что же касается 3800 фунтов, израсходованных на представительство и уменьшивших его гонорар, ему, дескать, до этого нет дела, да и были ли такие расходы — неизвестно, ибо расписок нет и кому пошла шикая сумма — неизвестно... Поднялся вселенский шум в газетах. И опять Врангелю повезло: Белоус оказался сговорчивым. Получив еще 450 фунтов (негласно, разумеется, но сведения об этом проникли в печать), он заявил, что претензий к «Руссо-Серб» не имеет, и дело было прекращено. Оказалось, Врангель не имел отношения к сделке, которая проводилась Павлом Дмитриевичем Долгоруковым и Николаем Николаевичем Львовым — моими соратниками, если вспомнить подложное письмо, написанное Леонидом от имени Кривошеина, сыгравшее едва ли не решающую роль при бегстве с родной земли, которое иначе чем трагической ошибкой и не назовешь.
Итак, в пути за правдой, справедливостью и реабилитацией собственной чести и доброго имени совершил я в Париже чуть не кругосветную одиссею. И были на пути моем бушующие моря и обманчиво тихие гавани, свои сциллы и харибды, и медоречивые сирены. Путь завершен. От господ бывших российских сенаторов и министров до политических шарлатанов, от господина Милюкова до господ, именующих себя «социалистами» и «революционерами». Одни смотрели на меня как на назойливую муху, другие — как на сумасшедшего, третьи отшатывались, точно от прокаженного. Мои гневные тирады оставалась гласом вопиющего в пустыне...
Однажды, закончив день, состоявший из одних только хождений, ожиданий назначенных встреч, выстаиваний перед наглухо закрытыми дверями и, в конце концов, долгих и ничего не содержащих разговоров с людьми, из которых иные знали меня, иные слышали, иные встречала даже весьма гостеприимно (перепутав меня с Леонидом, очевидно), я вернулся «домой», разбитый физически и духовно... Поставив слово «до-мой» в кавычки, я отложил перо и подивился несносности своего характера: разве не подлинным домом — теплым и гостеприимным — стала для меня мансарда Льва Федоровича? Разве здесь не ждал меня всегда добрый, бескорыстный человек? В тот вечер на столе стояла бутылка бургундского, хлеб и сыр, в ознаменование дня моего рождения, о котором я и не думал. Подобная забота и участие растрогали меня, чуждого сантиментам, до слез, повергнув в смятение. Вечер провели мы в беседе и милых сердцу каждого воспоминаниях: Петербург, родное здание Двенадцати коллегий, державное течение невских вод, взмывающие вверх крылья Николаевского моста. Dixi et animan levavi.[43] Тогда, помнится, и родилась идея статьи о деле ссудной казны — гневный и прямодушный рассказ о грабежах, о забвении святого принципа частной собственности — одного из краеугольных камней свободы человеческой. Ночью думал о статье. А утром, проводив друга с выражением крайней признательности за вчерашнее суаре, засел за работу, решив не вставать из-за стола, пока не закончу, и с забытой радостью чувствуя твердый карандаш в руке, четкость и злость необыкновенную. Ненависть моя получала, наконец, выход, а в выражениях я не стеснялся. Sus aux ennemis — с врагом можно делать все!.. Постепенно, однако, стал понимать я, что статья, имеющая определенный смысл и конкретных адресатов из «Конторы Врангель и К°...», стала как бы независимо от автора превращаться чуть ли не в воззвание ко всей русской эмиграции, в разоблачение мерзостей тех, кто считает себя богами и вершителями судеб, оказавшимися на деле намного ничтожней великих событий, кои они развязали, не предвидя последствий. Я ниспровергал «богов», которые оторвали армию от родной земли, кинули на чужбину, довели чинов ее до положения париев. Да! Это был крик души. Это был манифест русского беженца, чистящего башмаки на улицах, продающего газеты, служащего швейцаром, управляющего таксомотором, но главным образом — безработного, бесправного, обманутого. Пусть не кажется нашим вождям и их покровителям, что русский забудет свою национальную гордость, перестанет ощущать себя человеком, у которого родина — Россия. Так же, как не забудет он русских берез на краю поля, запахов вспаханного чернозема, волжских красот и вольных песен, рожденных на волжских берегах.
Прочитав сие в тот же вечер. Лев Федорович сказал полушутливо: «Откуда такие мысли, Виталий Николаевич? Уж не говорит ли вашим языком комиссар Чичерин, племянник знаменитого Чичерина, чьи лекции в Московском университете, вероятно, слушали вы либо ваш учитель Ключевский?». Увидев, что мне не до шуток, чуткий Лев Федорович избрал иную тактику для успокоения меня и даже процитировал Марка Аврелия: «Измени свое мнение о тех вещах, которые тебя огорчают, — и ты будешь в полной безопасности от них», надеясь отвратить меня от дела бесперспективного и по нынешним временам далеко не безопасного. Мы заспорили. И впервые закончили разговор, недовольные друг другом.
Статья, однако, была написана. Надо было ее публиковать. Началась вторая моя одиссея — по редакциям газет и журналов. И — скажу сразу — была она ничуть не легче предыдущей. В двух «ведомствах» мне вернули сочинение мгновенно, чуть не вытолкав взашей и обозвав «ренегатом». В третьем фальшиво улыбающийся рыжеватый господин посоветовал мне оставить статью и наведаться через недельку-другую, ибо стесненные материальные обстоятельства заставили его уволить большое число сотрудников, а оставшиеся едва управляются с текущими номерами. Я обратился в газету «Общее дело» к Владимиру Львовичу Бурцеву, которого имел честь знать еще в Петербурге, хотя и недостаточно коротко. И не очень стремился к этому, ибо, отдавая должное его уму и проницательности, не одобрял его деятельности, направленной целиком к раскрытию тайных агентов одного из политических лагерей, работающих в стане другого, из, которой дело Азефа, разоблаченного им, без сомнения вскружило ему голову...
Я застал господина Бурцева в жалкой каморке, служащей ему одновременно редакцией и жильем. Вид его был ужасен, да и мой, судя по всему, тоже: мы с трудом узнали друг друга. Я сказал ему о цели визита. Бурцев ответил — в этой истории его интересует лишь деятельность Тизенгаузена, Павла Долгорукова и присных — шайки расхитителей казны, к которой главнокомандующий не имеет никакого отношения, ибо помыслы его благородны, бескорыстны и направлены на сохранение и на благо армии, оказавшейся за рубежом. Несмотря на явно бедственное свое положение, господин Бурцев оставался по-прежнему самоуверенным, самовлюбленным, тщеславным, горячим и властным. Хотя и изменившим довольно свои политические взгляды в сторону утверждения монархических принципов. Мы заспорили. Многоуважаемый Владимир Львович обвинил меня чуть ли не в измене национальным интересам, столь характерной в последнее время для русской эмигрантской интеллигенции. (В этой связи был, конечно, упомянут и писатель А. Н. Толстой и его письме к Чайковскому.) Я возразил: пренебрежение господина Бурцева к отечественной интеллигенции напоминает мне высказывание фрейлины Вырубовой, цитировавшей не раз мнение Николая II Романова. На просьбу напомнить это высказывание я произнес: «Когда «папа» говорит «интеллигенция», у него бывает такая же физиономия, какая бывает у моего мужа, когда он говорит „сифилис" ». Взбешенный Бурцев сдержался, однако, и справедливо заметил, что нам обоим, кои причисляют себя к русской интеллигенции, не пристало обращаться друг к другу в подобном тоне, тем более, что из-за недостатка времени принужден он вернуться к основной теме беседы. И резюмировал свою позицию весьма четко: он готов напечатать мою статью. Однако хотел бы видеть ее касающейся лишь казны ее непосредственных расхитителей. Я сказал, что подумаю. На том и расстались...
Дома меня ждали две новости. По сообщению Льва Федоровича, навещал меня Леонид, ожидал более часа и ушел, оставив в качестве презента к юбилейной дате золотые часы с трогательной гравировкой. Было бы окончательной глупостью в моем положении выбросить их в мусорный ящик. Еще глупее — носить. Завтра же продам их: переводы мои окончились, а новых пока не видно.
Второе известие, исходившее от милейшего Федорова-Анохина, поразило меня в самое сердце. Он получил приглашение от редакции и намерен выехать в Берлин, где ему, благодаря старым связям, приготовлено место редактора по отделу международных новостей. Видя мое расстройство, Лев Федорович принялся утешать меня и обещал, коли я захочу, вызвать меня в Берлин, добившись должности и имея уже для нас обоих приличную комнату. А пока могу я спокойно проживать здесь, на прежнем месте, за которое заплачено чуть ли не за два месяца вперед. Заметив, как угнетен ученик мой, видя мое расстройство, я, желая отвлечь его, завел разговор о предметах исторических, отстоящих от нас чуть ли не на два столетия Постепенно увлеклись мы оба и забыли жизнь нашу сегодняшнюю, тягостную...
Проводил Федорова-Анохина. Вокзал, спешащие люди, что-то ищущие, куда-то стремящиеся, — суета, ужас. Вернулся в пустую каморку с четким ощущением, что никогда больше не встретимся. Тяжко. Грустно. Противно...
Часы продал и проедаю, стараясь быть экономным, памятуя, что «все излишнее вредно» — omne nimium nocel!
Легко было нам уехать из Крыма! А возвратиться? Не так просто, не так дешево... По моим подсчетам, следует иметь более тысячи франков. Сюда входит стоимость советской визы (самая дешевая из затрат в пути) — всего 33 франка. Затем виза германская, транзитная — 65 франков, литовская, транзитная — 100, латышская — 60, билет 3-го класса от Парижа до Риги — 610 франков и от Риги до Москвы — 140. Плюс минимальные затраты на пропитание в пути — вот и набирается тысяча. Можно морем. Билет Париж — Марсель — 107 франков, от Марселя до черноморских портов — 700 — 900 франков (с питанием) — та же тысяча. Есть еще путь по железной дороге. Через Германию до Штеттина, а оттуда на пароходе до Петрограда. Тут, видимо, образуется экономия, ибо требуется лишь одна германская виза. Узнать стоимость немедля!..
Между тем мне стало доподлинно известно, что «Торговый дом Врангель и К°...» вновь успешно продолжает свои операции по распродаже ссудной казны. Недавняя шумиха принудила югославские власти издать приказ прокурорскому надзору выяснить все обстоятельства хранения и продажи ценностей и при нужде казну опечатать. Однако благодаря просьбе главнокомандующего и вмешательству короля Александра приказ этот уже отменен, и Гензель, Сахаров и иже с ними, усилив конспирацию, приступили к продаже наиболее ценного имущества, стоимость которого доходит до ста миллионов франков.
Статья для «Общего дела» до сих пор не переписана. Да и что в ней толку? Лучшая идея — направить обращение в адрес Генуэзской конференции. возможно, там она станет достоянием гласности мировой общественности.
Три дня назад, вечером, подвергся нападению возле дома. Злоумышленников не заметил: напали сзади, было темно, удар по голове чудесным образом не отправил меня к праотцам, — его, видимо, смягчила фетровая шляпа. Пришел в себя на рассвете. Украдены деньги. В комнате произведен форменный погром. Более всего жалею теплое пальто, купленное загодя на распродаже... Сильные головные боли. Мысли путаются...
Не могу находиться дома: кажется, головная боль, усиливается, становится нестерпимой. Весь день брожу без цели и устали по Парижу. И только мысль: два состояния осталось мне переживать в старости — одинокую нищету и позор. Позор оттого, что ношу ту же фамилию, что Леонид Шабеко, о котором, как о крупном коммерсанте, пишут с уважением даже французские газеты... Человек за слою короткую жизнь проживает несколько жизней. Зачем? Ведь каждая — это сумасшествие... Еда — это хлеб... Дождь — холод... Духовная пустота — страдание. О боже! За что?..
Под дождем ночами ходят люди... Люди-чудаки... По городу бродят, чудаки... Реклама. Повсюду реклама. Она как солнце... Скоро наступит день, когда солнце погаснет. Останется реклама. Она заменит людям газеты, книги. И слова... Люда перестанут здороваться, говорить друг с другом... Если квадрат сжимать со всех сторон, получится круг. А если раздувать круг, накачивая его? Водородом либо гелием?.. Обре-ме-ни-тель-но. Все? Все! Все мне обременительно. Ab ovo... ovo... Abovo... Ab ovo![44] История как наука не имеет абсолютно никакого смысла...
Где я? Что со мной? Сплю я или тяжело болен?.. И почему так болит голова?.. Надо идти? Или позвать людей на помощь? А если я уже мертв? И это кружится надо мной, опускаясь, потолок склепа... Да, мы все уже давно мертвецы.
Смилуйся, боже! Сохрани мне ясность хоть на пятнадцать, хоть на десять минут...
Человек может жить без еды, питья, без одежды. Оказывается, человек может жить и без родины — бесправным рабом. Его можно купить, как вещь. И заставить даже убивать себе подобных. Но пока человек способен думать, он остается человеком. Если человек теряет и это — жить не стоит...»
Утром, привлеченный сильным запахом газа, сосед русского чудака, студент-алжирец, вызвал консьержа, и вдвоем они взломали дверь.
Казалось, профессор Шабеко спит в кресле у стола. Перед ним лежал раскрытый дневник, а поверх — записка большими неровными, точно подпрыгивающими буквами. «Господа Врангели, Милюковы, Марковы, Романовы! Ухожу от вашей бездарности» — было написано там по-русски и по-французски.
— Надо вызвать полицию, — испуганно сказал консьерж. — Это второй русский самоубийца в нашем доме. С ними одни хлопоты... Совсем заполонили Париж...
Глава двадцать пятая. ГЕНУЯ. ДВОРЕЦ САН-ДЖОРДЖО. ХРОНИКА МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
1
Одиннадцатого апреля на конференции начала работа комиссий и подкомиссий. Советская делегация получила документы так называемого лондонского совещания экспертов. Республике Советов предлагалось в ультимативной форме признать все обязательства, взятые на себя царским и Временным правительствами отношению к иностранным державам и их подданным, признать полную ответственность за все убытки, понесенные иностранцами. Советская делегация заявила решительный протест, отстаивая принцип равноправия во всех комиссиях и подкомиссиях, грозя покинуть Геную. Завязалась дипломатическая борьба, долгая и упорная.
Четырнадцатого апреля Ллойд Джордж пригласил себе на виллу «Альбертис» на холме Куарто-деи-Мил советскую делегацию. Прибыли Чичерин, Литвинов, Красин. Как бы случайно там же оказались руководите французской, итальянской и бельгийской делегаций. В ответ на повторное предложение признать все долги советские дипломаты выдвинули требование возмещен убытков от интервенции, составляющих 39 миллион рублей.
Ллойд Джордж пригрозил: если соглашение о долгах не будет достигнуто, союзники «сообщат конференции, что им не удалось договориться и что нет смысла дальше заниматься русским вопросом». Над Генуей сгущались тучи — в прямом и переносном смысле погода испортилась. Подул холодный ветер, заштормило море. Моросил мелкий дождик. Ввиду пасхальных праздников в работе конференции был объявлен перерыв.
Семнадцатого апреля весь мир узнал о договоре, заключенном в Рапалло между Советской Россией и Германией. Это известие потрясло дипломатический мир с силой разорвавшейся бомбы. Неофициальные переговоры, проводившиеся по пути в Берлин, дали свои плоды в Генуе. Это была огромная победа советской дипломатии, прорыв единой цепи капиталистических держав, блокирующих нашу страну.
Не придя ни к чему в переговорах на вилле «Альбертис», советские делегаты отнюдь не опровергали слухи о том, что соглашение с англичанами (в первую очередь) и французами — дело будущего. Слухи эти, рассчитанные главным образом на немцев, достигли цели. Немцы всполошились, обсуждая перспективы столь нежелательного для них сближения России и Англии, которое грозило им полным отстранением от дележа русского рынка. Сведения о готовящемся соглашении подтвердили итальянцы в сообщении иностранным журналистам. Об этом же сообщил Вирту и Ратенау корреспондент «Фоссише Цейтунг» и специально приглашенный к обеду голландский дипломат Ван-ген... В два часа ночи лакей разбудил Мальцана, доложив, что его просит к телефону джентльмен с очень странной фамилией. Это был Чичерин. Разговор продолжался четверть часа. Народный комиссар иностранных дел просил руководителей немецкой и французской делегаций прийти в воскресенье на завтрак, чтобы обсудить возможности соглашения между Германией и Россией. Мальцан поспешил к Ратенау. Тот нервно бегал по номеру в пижаме, не в силах уснуть. Между ними состоялся такой диалог:
— Вы, вероятно, принесли мне смертный приговор?
— Нет, известие совершенно противоположного характера. — Мальцан рассказал о телефонном разговоре.
— Теперь, когда я знаю истинное положение вещей, я отправлюсь к Ллойд Джорджу, все объясню ему, и мы придем к соглашению.
— Это будет бесчестно, — возразил Мальцан. — Если вы это сделаете, я немедленно подаю в отставку и ухожу от государственных дел. Это был бы чудовищный поступок в отношении Чичерина, и я не могу принять участия в таком деле...
Ратенау сразу же собрал делегацию. Немцы, поднятые с постелей в предпасхальную ночь, провели совещание, которое получило название «пижамного». Соглашаясь с общим мнением: принять предложение русских, Ратенау тем не менее решил в последний раз испытать судьбу и конфиденциально просил соединить его с английским дипломатом Уайзом. Слуга Уайза ответил, что его хозяин еще спит и приказал не будить его ни при каких обстоятельствах. Ратенау сдался, усмотрев в развитии событий чуть ли не перст божий. Очевидцы рассказывают, что, когда Ратенау сидел уже в автомобиле, ему доложили, что звонит Ллойд Джордж, он, подумав, лишь махнул рукой: «Le vin est tire, il faut le boire!» — «Вино налито, надо его выпить!»
Через несколько часов Рапалльский договор был подписан...
На вилле «Реджио» — резиденция Факта — в срочном порядке собрались представители Англии, Франции, Италии, Японии, Бельгии, Румынии, Польши, Королевства сербов, хорватов, словенцев, Португалии. Восемнадцатого апреля девять этих держав направили резкую ноту канцлеру Вирту, требуя немедленного аннулирования Рапалльского договора. Газеты безумствовали. «Рапалло — несомненно самое серьезное мировое событие со времен перемирия 1918 года. Договор является по существу союзническим соглашением между Россией и Германией, — писала «Эко де Пари». — Франция должна ответить немедленным отзывом своей делегации из Генуи...» «Час действия настал! Пусть Германия не думает, что она извлечет выгоду из маневра, на который она решилась», — вторила «Матэн»... «В то время как союзники только обсуждают вопрос о признании Советского государства, Германия посылает в Москву своего посла» («Фигаро»)... «Этот договор является открытым тщательно обдуманным вызовом Антанте» («Таймс») «В Генуе наступило глубокое остолбенение» («Ревю де Монд»). И даже кадетские «Последние новости» поспешили подать свой голос: «Германо-советский договор — четвертая бомба большевиков в Генуе, еще один сюрприз Чичерина. Британский премьер должен считать свою игру проигранной... Генуэзский корабль получил пробоину».
Немцы готовы были уже уступить всеобщему давлению и снять свою подпись на договоре. Они обратились советской делегации с просьбой аннулировать соглашение, но получили решительный отказ. Двадцать третьего апреля, после еще одного совещания, канцлеру Вирту вновь была направлена нота. Барту грозил и негодовал. Но Ллойд Джордж но мог допустить закрытия конференции: провал в Генуе означал и его провал в Лондоне. Конференция продолжала свою работу. «Корабль» поплыл дальше. Советская делегация отвергла требования лондонского меморандума, но заявила о готовности идти на некоторые уступки, если Советская Россия получит экономическую помощь и признание де-юре. Советские предложения три дня обсуждались в комиссии экспертов, вызывая горячие дискуссии, которые ни на шаг, впрочем, не продвигали вперед дипломатические переговоры. Как не продвинул их и прием в честь глав делегаций, устроенный королем Италии Виктором Эммануилом на борту «Данте Алигьери», во время которого король, забыв про своих гостей, чуть не полчаса беседовал с Чичериным; ни банкет, который давал генуэзский муниципалитет в честь участников конференции; ни даже весьма конфиденциальная встреча Ллойд Джорджа с Чичериным, организованная незаметно для всех других (в том числе и для итальянских охранников, которых специально послали сопровождать автомобиль, отправившийся на прогулку) в небольшой таверне в горах над курортным городком Порто, где хозяйка-шотландка искусно готовила английские бифштексы.
Погода исправилась, теплый бриз дул с моря, небо вновь стало лазурным. Но встреча двух лидеров за завтраком, к сожалению, не вышла за рамки простой дипломатической беседы.
В мае работа конференции активизировалась. После ответа одиннадцатого мая советской делегации на меморандум союзников, отмечавшего, что это шаг назад по сравнению с совещанием на вилле «Альбертис», тринадцатого мая представители держав — участниц конференции собрались на очередное совещание, не пригласив советскую делегацию. Барту заявил с неколебимой решительностью: раз Советы не уступают, нам нечего тут делать. Газеты, состязаясь друг с другом, печатали сенсационные сообщения — все державы готовы исключить представителей Советской России из политической комиссии и обязать государства не заключать сепаратных соглашений с коммунистами. Наша делегация протестовала, характеризуя подобное поведение держав — участников мирной конференции как новую блокаду свободного и независимого государства. Шестнадцатого и семнадцатого мая политическая подкомиссия работала уже с участием советских представителей.
И сразу — новый инцидент!..
ИЗ СТЕНОГРАФИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Четвертое заседание 1-й подкомиссии первой комиссии. 17 мая 1922 года. 18 часов 30 минут:
«Председательствует Шанцер (Италия). Присутствуют делегаты: от Великобритании — Ллойд Джордж, от Польши — Скирмунт, от Румынии — Братиану, от России — Чичерин, от Швейцарии — Мотта, от Японии — барон Гаяши и виконт Ишии.
Шанцер: Доводит до сведения делегатов, что г-н Факта, слегка занемогший, просил заменить его в качестве председателя подкомиссии. Он дает слово Чичерину.
Чичерин: Желает прежде всего выразить глубокое сожаление русской делегации по поводу столь про дол ж и тельного перерыва в работах 1-й подкомиссии в целом. Подкомиссия эта была создана для того, чтобы позволить представителям России и главных держав путем совместных обсуждений прийти к общих решениям. Однако вместо такого общего рассмотрения вопросов представители других держав выработали без русской делегации свой меморандум от 2 мая. Составленный таким образом, этот меморандум мог рассматриваться только как односторонний, не представляющий почвы для соглашения, на который русская делегация может ответить только подробным изложением своей точки зрения. Такой образ действий по отношению к спорным вопросам ни на шаг не двинет вперед их разрешения. Принимая во внимание сложность проблем, касающихся финансовых разногласие между Россией и другими державами, природы и размеров предъявленных к России претензий и выяснения свободных кредитов, имеющих быть предоставленными ей, русская делегация предложила учредить для этой цели смешанную экспертную комиссию, назначенную конференцией и включающую на основе полного равенства представителей России и других государств. Несмотря на это, русский вопрос был и на этот раз рассмотрен делегатами других держав в отсутствие России. Предложение этих делегатов сводится к назначению другими державами совершенно новой комиссии экспертов, а советскими республиками — своей особой комиссии. Таким образом, хотят созвать настоящую конференцию, но на основах, отличных от генуэзских. На Генуэзской конференции все европейские государства, в том числе и Россия и Германия, были представлены на одинаковых условиях. На предложенной будущей конференции представители других государств соберутся без России, затем будет учреждена другая комиссия из советских представителей. Комиссия других государств будет работать то совместно с последней, то самостоятельно. Русская делегация констатирует, что этот план отнюдь не согласуется с ее предложением. Эта система двух отдельных комиссий уже была применена в Генуе, и она-то явилась в значительной мере ответственной за недостаточность достигнутых результатов. Теперь предлагают принять ее для будущих переговоров. Подобный результат не отвечает, к сожалению, надеждам, возлагавшимся на Геную. Русская делегация заявляет, что она не может принять на себя ответственность за это новое предложение. Мы убеждены, что все нынешние участники подкомиссии сознают неудовлетворительность этой системы, и нам жаль, что в этом вопросе они уступили государствам, которые предложили эту процедуру... Русская делегация не желает, однако, из-за формального вопроса оставлять неиспользованным возможный путь к соглашению и заявляет, что Россия примет участие в предложенной конференции. Мы пришли в Геную с намерением работать сообща, невзирая на различие экономических систем, над воссозданием Европы, но вместо этого другие державы предпочли разделить конференцию на два лагеря, кредиторов и должников, и хотят применить эту самую систему в будущем. Мы сожалеем об этом, но признаем это как факт. Русская делегация в особенности возражает против исключения Германии из числа государств, долженствующих участвовать в назначенной комиссии... тем более что участие Германии имеет практическое значение в вопросе о кредитах России, не затронутом Рапалльским договором...
Русская делегация принимает с удовлетворением предложение взаимного обязательства о ненападении, но она обязана заявить, что подобное обязательство может иметь силу и действительное значение для европейского мира только в том случае, если оно будет распространено на все советские республики, а также и на Дальневосточную республику. Русская делегация заявляет, что всякое нападение на союзную с русской республику равносильно нападению на Россию и вовлечет тем самым последнюю во враждебные действия. Русская делегация считает поэтому установленным, что статья в представленном проекте относится ко всем союзным с Россией республикам. От имени этих республик я заявляю, что это обязательство будет одинаково соблюдаться и ими. Мы желали бы, чтобы заинтересованные державы заявили, что они понимают это обязательство таким же образом. Русская делегация обращает внимание также и на тот факт, что в течение последних лет на советские республики были совершены нападения не только со стороны регулярных армий, но также и со стороны банд, образовавшихся под их покровительством и при их участии. Мы настаиваем поэтому на расширении статьи б путем упоминания в ней о нападениях, совершаемых бандами. Вопрос о нападениях на Советскую Россию со стороны банд представляет особенно животрепещущий интерес, если принять во внимание, что Российское правительство располагает документами, свидетельствующими о приготовлениях к нападению на советские республики, делаемые в настоящее время в юго-восточной Европе бывшими врангелевскими войсками. Не желая возбуждать дискуссии, я не буду читать этих документов. Русская делегация передает их в секретариат конференции, где каждый сможет ознакомиться с ними.
Исходя из этих фактов, русская делегация указывает, что обязательство о ненападении должно быть дополнено рядом мер, направленных против банд, атакующих советские республики: в Финляндии должны быть распущены «Скибд-скары» и другие подобные организации; в Польше — отряды пограничной стражи и «рабочие батальоны», состоящие из бывших белогвардейских солдат, должны быть распущены, и все эти солдаты отправлены в польские местности, удаленные от советских республик, а их начальники не должны допускаться на польскую территорию; из Болгарии, Румынии и Бессарабии должны быть удалены все врангелевские и петлюровские войска, готовящиеся в настоящее время напасть оттуда на Украину. Врангелевские войска, находящиеся в Югославии, должны быть немедленно разоружены, переправлены в более отдаленные страны. Русская делегация предупреждает конференцию, что без этих мер соглашение о ненападении рискует остаться призрачным...
Шанцер: Откладывая ответ на некоторые замечания, сделанные русской делегацией, тут же заявляет, что в качестве председателя подкомиссии он не считает себя вправе принять документы, только что врученные ему г. Чичериным. В самом деле, рассмотрение этих документов не лежит, по его мнению, в пределах компетенции конференции...
После Шанцера выступают Братиану, Скирмунт и снова Братиану. Разгорается бурная дискуссия о «белых войсках», «бандах», «личностях, связанных с генералом Врангелем», «антисоветских образованиях», «беженцах» и тому подобное, — в конечном счете спор идет о том, принимать разоблачительные документы, представленные Чичериным, или нет. Слово взял Ллойд Джордж, пожелавший «сделать несколько заявлений по поводу замечаний господина Чичерина». Он сказал:
«Чичерин бросил упрек, что некоторые державы помогали разбойничьим бандам врываться в Россию. Британское правительство положительно ничуть не повинно во всем этом. Оно нисколько не занималось Врангелем. Когда оно поощряло интервенцию в России, оно делало это открыто, заявив об этом в Палате общин и потребовав у нее необходимых кредитов. Оно ничего не скрывало в этом отношении, оно совершенно открыто посылало военное снаряжение. Затем оно заявило, что ничего больше не сделает, и оно сдержало слово. Он не намерен касаться документов, врученных русской делегацией комиссии, ввиду того что Шанцер объявил их неприемлемыми... ограничится указанием на общее замечание, сделанное Чичериным, замечанием, покоящимся, естественно, на содержании этих документов... Чичерин указал, что врангелевские силы были организованы с целью напасть на Россию. А суд я по тому, что известно о врангелевских силах, эти силы составляют гораздо большую опасность для той страны, где они в данное время находятся, чем для самой России... ни разу не слыхал про страну, где находятся врангелевские беженцы, которая не была бы счастлива уступить их, вместе со всем их добром, любой другой стране, имеющей охоту принять их. Страны, на которые намекал Чичерин, не суть государства, заключившие соглашение с Россией. У Франции нет соглашения с Россией, у румын, по-видимому, тоже нет. Юго-Славия не состоит в соглашении с Россией, и, следовательно, в данный момент эти страны не обязаны противодействовать попыткам организовать то или иное движение в России. Однако, если этот документ будет, они будут связаны. Они обяжутся впредь не поощрять набегов на Россию, не организовывать нападений на Россию, точно так же как и Россия сама обяжется не организовывать нападений против них. Всякая страна, которая после принятия договора о ненападении будет затем поощрять, организовывать или подстрекать к нападениям на Россию в период действия договора, окажется виновной в нарушении международного договора или виновной в нарушении обязательств чести... Нападение на другие страны, попытка обратить их в свою идейную веру или организация агитационных походов — будь то нападение под начальством Врангеля или кого-либо другого для обращения язычников в России, будь то организация Чичериным или Литвиновым армий миссионеров для обращения западных людоедов, — все это может вызвать только глубокие смуты. У каждого есть свои маленькие затруднения в собственной стране...»
Да, эта речь, названная председательствующим «столь красноречивой и столь современной», могла быть произнесена только Ллойд Джорджем — политиком и ловким демагогом. Однако чичеринские документы все же были приняты конференцией. Более того, они стали достоянием широкой мировой общественности — их напечатали газеты.
Секретные документы штаба Врангеля, доказывающие его тесную связь с рядом правительств и военных министерств стран Европы, непонятно как оказавшиеся, по мнению обозревателей, в самый нужный момент в руках коммунистических дипломатов и положенные на стол мирной конференции во время обсуждения вопросов о всеобщем ненападении, вызвали бурю в политических кругах и в прессе самых разных направлений.
«Это самый сильный удар, который большевики нанесли нам под занавес Генуэзской конференции», — писала одна итальянская газета.
Итак, усилия Шаброля, «Баязета», Венделовского и всех их товарищей не пропали даром! Советские разведчики выполнили очень важное задание Центра...
2
Утром восемнадцатого мая, в ресторанчике на одной из тихих улиц Генуи, неподалеку от церкви Санта-Мария ди Кариньяно, встретились четверо. Главного среди них, очень полного, одетого как типичный рантье, с мощными покатыми плечами борца, можно было часто видеть на конференции среди людей, обслуживающих французскую делегацию. Он казался весьма раздосадованным и даже гневным, нервничал и, несмотря на теплое утро, все ниже и ниже надвигал на лоб светлую шляпу из соломки. Его сосед справа был маленький и щуплый, с морщинистым лицом. В собеседнике слева угадывался бывший военный — по седоватому ежику, привычке сидеть очень прямо, подняв подбородок, развернув плечи и выпятив грудь. Четвертым был курчавый блондин с бессмысленными серовато-голубыми глазами. Он виновато сутулился, жалко и подобострастно улыбался, суетливо потирал руки. Кремовый чесучовый костюм, явно с чужого плеча, стеснял его в движениях. Сблизив головы, сидящие за столиком старались говорить тихо, хотя ресторанчик был пуст, а человек за стойкой, казалось, спит стоя.
— Такой провал, такой позор! — выговаривал со злобой по-русски толстяк. — Большевистские агенты, оказывается, давно сидят в ваших высоких штабах. Они преспокойно работают у вас под носом, mon Dieu! Делают все, что им вздумается, и крадут все, что вздумается!
— Но, господин... — начал было тот, с седоватым ежиком.
— Молчите, пан Издетский!
— Но почему пан?! Я — ротмистр и русский дворянин.
— Какое это теперь имеет значение?! — недовольно повысил голос полный, но тут же, спохватившись, зашептал снова: — Выкрасть и сделать всеобщим достоянием такие документы! Дать такой козырь Чичерину, mon Dieu! Куда смотрел Климович? Куда вы все смотрели?!
Трое понуро молчали.
— Это же непоправимый удар! Удар по всей вашей русской эмиграции. Начало ее раскола. Ее конца как боевой силы. Вы хоть понимаете это? А? Вы, например, Издетский!
— Я — человек маленький, м’сье. Я — курьер, не более. Привез вализу, увез вализу. И все.
— Зачем курьер? Зачем вы?
— Я не знаю, м’сье. Генерал Врангель приказал генералу Перлофу, тот — мне. А я выполняю приказ.
— А что нового у вас по поводу убийства этого Перлофа?
— Пока ничего обнадеживающего, — поспешно вставил щуплый человечек с морщинистым лицом. — Вероятно, действительно, самоубийство на фоне неудачных экономических операций. Генерал был тесно связан с французским коммерсантом...
— Знаю, знаю! Мы проверяли: за этим Ролланом Шабролем нет ничего. Все чисто!
— Но эта, их совместная контора... — недоверчиво начал Далин.
— Ну, контора, контора! — вновь оборвал француз. — Копеечное предприятие!
— Как сказать!..
— У нас там свой человек, — процедил француз. — Так что это не ваше дело, Далин.
— Вероятно, — ничуть не обиделся сыщик. — Может быть, тогда вас заинтересует мнение генерала Климовича?
— О чем?
— О конференции. Он считает, что не следовало вообще допускать ее.
— И это не ваше дело, Далин.
— Почему же? — не сдержался вдруг Дузик, посчитав, что собеседник перешел все границы и просто унижает их. — Большевистская делегация в Генуе продемонстрировала, если хотите знать, борьбу за интересы России. И даже ваш господин Барту был не в силах предпринять сколько-нибудь эффективные контрмеры. Попробуйте говорить теперь о расхождении национальных и государственных интересов России и советской власти. Вот откуда, действительно, начнется раскол нашей эмиграции.
Француз посмотрел с удивлением. На миг на его жирном лице мелькнуло даже некоторое почтение, — он не ждал от этого запуганного и жалкого человека столь осмысленных тирад. Но уже в следующее мгновение он снова взъярился:
— Не заговаривайте мне зубы, compris — понятно? Наведите лучше порядок в своих штабах! Порядок, исключающий инциденты, подобные тому, что случился семнадцатого мая. Как произошло все у вас в Болгарии, Далин? Вкратце — еще раз.
— Девица засветилась еще в Софии. — Далин, весь в своей стихии, подобрался, и даже морщинистое маловыразительное лицо его стало осмысленным, на нем промелькнуло гордое выражение, как у охотника, взявшегося рассказывать о выслеженном хищнике. — На нее нас навел агент, которого мы назвали «богач». Был отмечен и ее контакт с неким капитаном Калентьевым из Тырново, кутеповцем, ее поклонником будто бы. Впрочем, этот Калентьев сумел ловко исчезнуть и больше зафиксирован нигде не был.
— А не имелось ли контактов у Калентьева с Перлофом и Шабролем? А, господа? Может быть, раньше, еще в Турции? Это очень важно! Он ведь давно штабной работник?
— О таких контактах нам ничего неизвестно, — неохотно ответил Далин.
— А «Внутренней линии»?
— Нет. Мне ничего не известно! — ответили вместе Дузик и Издетский.
— Допустим... Продолжайте, сударь.
— В какой-то момент мы потеряли из виду и девицу, — продолжал Далин. — Она оставила свою квартиру и ловко скрылась. Мы обнаружили ее на следующий день на софийском вокзале. Не одну. Ее сопровождал неизвестный рыжеватый человек лет двадцати пяти, коренастый, одно плечо выше другого. Направлялись наверняка к морю. Мы дали им сесть, а в Пловдиве тихо сняли обоих с поезда. Однако дальше действовали не лучшим образом. И невезение, конечно... Вагон остановился не доезжая перрона. Мои сотрудники вели их по путям. В это время маневровый паровоз подавал состав. Мужчине удалось кинуться под движущийся вагон и скрыться. Девицу доставили, и я сам допрашивал ее. Она все отрицала, держалась смело, твердо и самоуверенно. Мне пришлось...
— Знаю, знаю! — поморщился француз. — Пережали, господин русский жандарм! Забыли, с кем имеете дело?
— Ваш человек был рядом, — пожал плечами Далин. — Он может подтвердить!
— Все, что надо, он уже подтвердил. Да и к чему? Калентьев исчез, второй упущен. Перлоф мертв. И тот, которого вы назвали «рыжим», наверняка не в софийском цирке выступает. Концов нет, сударь! Нет!
— Я уже докладывал о мерах, которые намечено принять генералом Климовичем по...
— О, оставьте вашу русскую... как это?.. болтовню! Cela ne nous regarde pas — это нас не касается! Взрывайте, убивайте, но перестаньте болтать, делайте хоть что-то! За самые красивые слова мы денег больше не платим! Так и передайте всем своим, и в первую очередь генералу Климовичу.
— Вы говорите слишком громко, нас могут услышать, — с неприязнью сказал Издетский.
— Это моя забота, ротмистр. Je n’ai rien dit d’extraordinare.[45] Громко я говорю там, где считаю нужным. А вы вот не забудьте передать господину Климовичу, господину Миллеру, Кутепову и еще кому считаете нужным, — пусть они поучатся у Гепеу. Да, да! Ма foi — честное слово, это прекрасная мысль! — поучиться всем нам у чекистов: они, как оказалось, совсем неплохие разведчики.
— У меня несколько другие заботы, — грубо буркнул Издетский. — Я должен ехать в Берлин и Белград.
— А меня готовят к отправке в Россию, — грустно вырвалось у Дузика.
— О-о? — без всякого участия произнес француз. — Я вам вовсе не завидую.
— Мне никто не завидует, — с тоской сказал Дузик. — Я никогда не был ни тайным эмиссаром, ни тем более — террористом.
— Ба! Значит, все разъезжаются? Значит, остаются лишь Климович и вы, Далин! Что ж! Будем работать с нами двумя! — и он засмеялся, довольный шуткой.
3
Девятнадцатого мая в «Зале сделок» дворца Сан-Джорджо состоялось последнее пленарное заседание Генуэзской конференции. Солнце светило ласково и тепло — совсем по-летнему. Море было бирюзовым. Бирюзовое небо сияло сквозь все окна.
После принятия резолюции начались заключительные речи. Первым выступил, конечно же, Ллойд Джордж. Не жалея образов и красок, чтоб доказать успех конференции и затемнить неудачи английской дипломатии, он сказал:
«Италия... угостила нас всеми видами погоды, ей подвластными. Мы имели, конечно, солнечные небеса, но нам достались также злые и холодные северные ветры; мы пережили также угрюмый и подавляющий сирокко; были и грозы, но сегодня все это закончилось голубым небом. Такова история конференции. Для хорошего урожая нужна всякая погода... Мы не достигли того, что ожидали наиболее экспансивные из нас, но мы достигли большего, чем то, на что надеялись или чего желали достичь скептики».
Чичерин, давая оценку работе конференции и отмечая значение первого совещания европейских стран, сказал ясно и трезво: конференция в Генуе не оправдала великих ожиданий, которые родила у народов всех стран, она далеко не всегда придерживалась принципа равноправия между советской и капиталистическими системами; она не дала возможности рассмотреть вопрос о разоружении, поднятый советской делегацией. «Блестящее изложение противоположных теорий, данное господином премьер-министром Великобритании, неожиданно затронувшим разделяющий нас вопрос, не сумеет обратить в его веру русский народ, точно так же как не удалось это сделать вторгавшимся белым армиям, — заметил Чичерин. — Господин премьер-министр Великобритании говорит мне, что если мой сосед ссудил мне деньги, я обязан ему уплатить. Хорошо, я соглашаюсь в данном особом случае — из желания примирения. Но я должен прибавить, что, если мой сосед ворвался в мой дом, убил моих детей, уничтожил мою мебель и сжег мой дом, он должен по крайней мере начать с возвращения мне уничтоженного...»
Эрнест Хемингуэй отмечал: глава русской делегации сражался в Генуе «логическими аргументами, историческими аналогиями, фактами, статистикой и страстными доводами». Он использовал трибуну для того, чтобы говорить «для Суда грядущих поколений».
В час дня конференция закончилась. И дипломатический нажим империалистов на Республику Советов не дал никаких результатов. Позиция Советского правительства, рост его престижа после Генуи нанесли сильнейший удар по белой эмиграции. «Не преуменьшая неприятного нам, мы должны сказать, что Генуэзская конференция была успехом для советской власти, — писала кадетская газета «Руль». — Она увеличила ее престиж. Она сделала ее участницей международных переговоров, вхожей в залу европейских конференций в качестве представительницы и распорядительницы России... Еще одно надо признать: с увеличением советского престижа потерпела ущерб русская эмиграция».
«Позиция русской делегации в Генуе, всецело совпадающая с национальными и государственными интересами России, лишила даже ее врагов возможности говорить на столбцах эмигрантской прессы о расхождении интересов России и советской власти» (газета «Накануне»).
Да, весь мир понимал, что «красные русские», сломив сопротивление Запада, добились на Генуэзской конференции очень многого. Они увозили в Москву Рапалльский договор. Югославы и болгары дали обещание распустить армию Врангеля на Балканах. Было принято решение созвать новую конференцию для дальнейшего урегулирования отношений между молодой Советской Республикой и другими странами. Советская Россия, не приняв условий мирового капитала, избрала свой, самостоятельный, независимый путь экономического развития...
Последний вечер в опустевшей гостинице «Империал» часть руководителей советской делегации, задержавшихся в Санта-Маргерите, провела в парке, а затем в баре. Слушали море. Воровский рассказывал о книге про Италию, которую мечтал написать и которую, увы, ему не суждено было написать, ибо вскоре выстрел белого эмигранта Комради оборвет его жизнь. Но тот вечер в Генуе был совсем тихий, благостный, мирный. Хотя каждый из присутствовавших знал и понимал: мир для Страны Советов еще не завоеван, не добыт. Впереди — новые битвы...
ЭПИЛОГ
1
Манифест
«Великий князь Кирилл Владимирович — внук императора Александра II и двоюродный брат императора Николая III — являющийся по праву первородства старшим в императорской семье Романовых, объявляет себя блюстителем Российского Престола.
Соглашаясь возглавить отныне движение, направленное к восстановлению порядка в России, он выражает надежду на то, что император Николай II жив и вернется к верховной власти.
Если же окажется, что его Высочества наследника цесаревича Алексея Николаевича, а также Великого князя Михаила Александровича нет в живых, Великий князь Кирилл Владимирович созовет Земский Собор, который и предложит утвердить его в законных правах... Великий князь отдает себе отчет, что Красная Армия является красной лишь по имени и что спасение России придет изнутри. Считая всякие междоусобицы вооруженных сил России братоубийством, он будет счастлив видеть Великого князя Николая Николаевича во главе всей русской армии... Для Великого князя Кирилла Владимировича существует лишь одна партия — партия патриотов России о самом широком смысле слова...»
На подлинном Собственною Его Императорского Высочества Великого князя Кирилла Владимировича рукой начертано: Кирилл.
С посланным верно — подпись:
член Государственного Совета
князь Голицын-Муравин.
Ницца 12 сентября 1922 года».
2
Заявление
«... Упоминание моего имени Кириллом Владимировичем в своем манифесте последовало без соглашении со мной... И я подтверждаю свою готовность стать во главе русского национального движения, когда меня позовет весь русский народ.
Великий князь Николай Николаевич.
Париж 16 ноября 1922 года».
3
Нота заместителя Народного комиссара иностранных дел РСФСР Министру иностранных дел Югославии Нинчичу
«Господин министр!
Российское правительство считает своим долгом обратить Ваше внимание на тот факт. что после поражения в 1920 году контрреволюционных банд бывших генералов Деникина и Врангеля, последний среди других ценностей, принадлежавших Российскому государству, при бегстве захватил с собой инвентарь Петроградской государственной ссудной казны, эвакуированной в 1917 году и состоявшей частью из ценностей, заложенных частными лицами, частью из государственных ценностей. Перевезя названное имущество в Кamтаро, Врангель для покрытия личных расходов приступил в конце прошлого года к распродаже его. Желая придать своим действиям подобие законности, он назначил смехотворный срок в два месяца для выкупа частных закладов их родственниками. Ясно, что почти никто не смог воспользоваться этой мнимой возможностью, так как бывшие собственники находились либо в России, либо оказались рассеянными по всему миру, зачастую в состоянии крайней нищеты. По истечении упомянутого срока Врангель приступил к продаже этих предметов в свою собственную пользу одной английской компании, причем в результате этой операции многие предметы большой художествен ной ценности оказалась расхищенными.
Российское Правительство констатирует, что своими действиями Врангель не только совершил акт чистейшего грабежа, но и лишил часть собственников этих вещей возможности воспользоваться декретами Российского Правительства, предоставляющими под известными условиями клиентам Ссудной казны право получать обратно заложенные вещи — право, которое клиенты Ссудной казны широко использовали в отношении инвентаря казны, оставшегося в России.
Доводя о вышеизложенном до Вашего сведения, Российское Правительство считает нужным констатировать, что эта злоумышленная операция бывшего генерала Врангеля, равно как и другие хищения, произведенные им, могли быть учинены лишь при условии воздержания со стороны Югославского Правительства от принятия каких-либо запретительных мер, которые могли бы помешать этому неслыханному действию и содействовать охране ценностей, принадлежащих Российскому государству или частным лицам.
Протестуя против этого положения вещей, ответственность за которое, а также за последствия его оно возлагает на Югославское Правительство. Российское Правительство добавляет, что оно требует, чтобы Югославское Правительство взяло под свою охрану остаток ценностей Петроградской ссудной казны. если таковой имеется, для того, чтобы они при первой возможности были переданы Российскому Правительству, которое поступит с ними в согласии с действующими о России законами.
Заместитель Народного Комиссара
Иностранных дел
Литвинов
4
Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об амнистии лицам, участвовавшим в качестве рядовых солдат в белогвардейских военных организациях
«Советская Россия свыше трех лет боролась с вооруженными врагами рабочих и крестьян и неисчислимыми жертвами и лишениями трудящихся победила их в открытом бою. Во время тяжелой и упорной борьбы советское правительство знало, что тысячи русских трудящихся путем обмана и насилия втянуты в борьбу с рабоче-крестьянской властью на стороне царских генералов, помещиков и фабрикантов. Этих обманутых людей вводили в бой за чуждое им дело, а когда им пришлось очутиться на чужбине, их выбросили на произвол судьбы. Они оказались сейчас выброшенными из родных сел, деревень и станиц. Жестокая судьба разбросала их по различным уголкам мира. Постоянные лишения, систематическое издевательство русских и заграничных белогвардейцев, каторжный труд. болезни и смерть на чужбине — вот удел тех, кто поддался провокации врагов рабочих и крестьян.
Много таких обманутых в настоящее время оказалось заточенными в лагерях в качестве интернированных, многие работают на принудительных работах. Они томятся там уже свыше года. Часть из*них была насильственно или путем обмана вновь завербована в белую армию разными авантюристами, не потерявшими еще надежды свергнуть рабоче-крестьянскую власть и восстановить господство помещиков и фабрикантов.
Советская власть не может равнодушно относиться к судьбе этих рабочих и крестьян, которые, поняв свои заблуждения, стремятся вернуться на родину, чтобы здесь своим трудом искупить свои ошибки и помочь восстановлению народного хозяйства.
Исходи из этих соображений и в несть четырехлетней годовщины Великой Октябрьской Революции Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета постановляет:
1) Объявить полную амнистию лицам, участвовавшим в военных организациях Колчака, Деникина, Врангеля, Савинкова, Петлюры, Булак-Балаховича, Перемыкин а и Юденича о качестве рядовых солдат, путем обмана или насильственно втянутым в борьбу против Советской России.
2) Предоставить им возможность вернуться в Россию на общих основаниях с возвращающимися на Родину военнопленными.
3) Обязать Народный Комиссариат по Иностранным делам, Народный Комиссариат Внутренних дел и Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию принять все необходимые меры к обеспечению за ними прав, даруемых им настоящим постановлением.
Председатель ВЦИКа М. Калинин.
Секретарь ВЦИКа А. Енукидзе.
Москва, 1921 год, 3 ноября».
5
Обращение X Всероссийского съезда Советов ко всем народам мира 27 декабря 1922 года
«X Всероссийский съезд Советов, высший законодательный орган РСФСР, от имени миллионов пролетариев и крестьян, еще раз подтверждает свою волю к миру и мирному труду.
Перед угрозой новых войн, перед бешеной пляской вооружений, которая происходит по воле капиталистических правительств, перед позором Версальского договора, перед колониальными махинациями буржуазных государств — рабочие и крестьяне РСФСР вновь поднимают свой предостерегающий голос...
Советская власть, вышедшая из революции, начала свою деятельность в 1917 году с призыва к справедливому всеобщему миру. С тех пор она неизменно подчеркивала эту основную линию своей внешней политики. Она обращалась в 1919 году с предложением мира к Соединенным Штатам. Она предлагала начать переговоры о мире со всеми «союзниками» в феврале 1919 года, когда полчища «великих держав» вторглись в пределы нашей революционной страны. Она неоднократно предлагала мир Польше и Румынии. В Генуе Советская Россия и ее союзники предлагали всеобщее разоружение. Когда это было отвергнуто, правительство пролетариата пыталось провести политику разоружения хотя бы в ограниченной сфере ближайших с Советской Россией государств, чтобы постепенно расширить круг разоружающихся. Но и это начинание было сорвано нежеланием соседей России идти на действительное сокращение своих армий.
Несмотря на все, сама Советская Россия приступила к разоружению и в короткий срок уменьшила свою армию с 5 миллионов до 800 тысяч и ныне продолжает сокращение, доводя свою армию до 600 000 человек. На деле доказала она свою преданность миру. Не на словах, не в резолюциях, не в обещаниях, а на деле.
Теперь, когда народы нищают от последствий империалистической бойни, когда нужна величайшая экономия материальных средств, вдвойне преступной становится политика буржуазных правительств, предпочитающих обнищание широких народных масс делу мира и мирного труда.
X съезд Советов, торжественно подтверждая свою линию мирной политики, зовет всех к поддержке этой линии. Пусть все народы требуют от своих правительств мира. Дело мира в руках самих народов. Чтобы отвратить опасность грядущих войн, должны объединиться усилия всех трудящихся всего мира. Измученному и исстрадавшемуся, разоренному и голодающему человечеству должен быть во что бы то ни стало обеспечен мир».
Конец второй книги
Примечания
1
Войдите (нем.)
(обратно)2
Проклятый парень (нем.)
(обратно)3
Судьба — отъявленная проститутка (фр.)
(обратно)4
По-солдатски (нем.).
(обратно)5
Желаю удачи! (англ.)
(обратно)6
Незашифрованная телеграмма.
(обратно)7
СХС — сербов-хорватов-словенцев.
(обратно)8
АРА — Американская ассоциации помощи.
(обратно)9
Последние галлиполийцы о течение двух лет небольшими партиями перевозились а Венгрию, и только в мае 1923 года их арьергард прибыл в Сербию. Так закончилась печальная история «Голого поля».
(обратно)10
Если угодно аллаху (Турецк.)
(обратно)11
Очень красивый господни! (Турецк.)
(обратно)12
Тысяча чертей! (Нем.)
(обратно)13
И так далее (лат.).
(обратно)14
Свершившийся факт (фр.).
(обратно)15
В добрый час (фр.).
(обратно)16
Дальше от Юпитера, дальше от молнии (лат.).
(обратно)17
Ничего сверх меры (лат.).
(обратно)18
Нет ничего слишком трудного дм смертных (лат.)
(обратно)19
Да свершится справедливость, хотя бы из-за этого погиб мир! (лат.).
(обратно)20
Быть по сему! (Лат.)
(обратно)21
Шифровальщик (англ.)
(обратно)22
Шпики; полицейские (нем., жарг.)
(обратно)23
Папочка (нем.).
(обратно)24
Прочь (нем.).
(обратно)25
Час пик (нем.).
(обратно)26
Болгарский земледельческий союз
(обратно)27
Именно хорватскими националистами — устяшями он был убит в Марселе 9 октября 1934 года.
(обратно)28
Я вам весьма признателен (серб.).
(обратно)29
Будьте настороже (серб.).
(обратно)30
Я этого не потерплю! (Серб.)
(обратно)31
Это чистая правда (серб.).
(обратно)32
Что делать? (Серб.).
(обратно)33
Запомните мои слова (серб.).
(обратно)34
Хорошо, поступайте, как хотите, но помните, что я не отвечаю за последствия (серб ).
(обратно)35
Это невероятно (серб.).
(обратно)36
Местечко в четырех верстах от города, где в старых вагонах располагалась наибеднейшая русская колония
(обратно)37
О, нет! (Фр.)
(обратно)38
Я понимаю! (Фр.)
(обратно)39
Министр иностранных дел Латвии.
(обратно)40
Агенты (нем., жарг.)
(обратно)41
Позднее Эльвенгрен, имевший террористическое задание, был арестован в Ленинграде. Под давлением фактов он раскрыл все, что знал о заграничных террористических центрах и кутеповских группах. По приговору Военного трибунала был приговорен к высшей мере наказание.
(обратно)42
Удержите ли смех, друзья? (Лат.)
(обратно)43
Сказал и облегчил тем душу (лат.).
(обратно)44
С самого начала (лат.).
(обратно)45
Я не скляял ничего необычного (фр.).
(обратно)


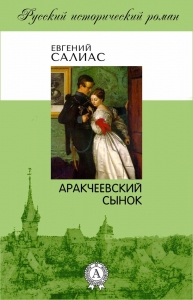


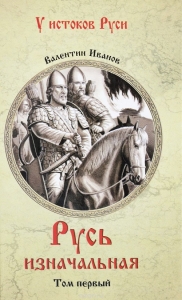
Комментарии к книге «Семь смертных грехов. Роман-хроника. Крушение. Книга вторая.», Марк Соломонович Еленин
Всего 0 комментариев