Виталий Кулик Ведьма полесская
Глава 1
Солнце уже начало клониться за полдень. Короткий зимний день, не успев заняться, спешил опять погрузиться в морозную спячку. Но времени до наступления сумерек оставалось ещё достаточно.
Он быстро шёл без остановок и отдыха вот уже, наверное, вёрст пятнадцать. Лишь в местах, где обнаруживал следы диких зверей, замедлял ход и внимательно изучал их. Усталости не чувствовалось. Молодой и крепкий организм Прохора без особого напряжения переносил длительные походы по выслеживанию и добыче зверя, в изобилии водившегося в диковатом и болотистом крае припятского Полесья. Короткие и широкие лыжи-снегоступы, сделанные своими руками, не давали глубоко вязнуть в снегу и были очень удобны для ходьбы по лесистой местности.
Сделав огромный крюк, Прохор убедился, что следов выхода стада из урочища нет. Ещё немного – и можно возвращаться домой. Задача, поставленная паном Войховским, почти выполнена: стадо диких кабанов прикормлено и выслежено.
Остановившись, Прохор обвёл взглядом вокруг. До завершения обхода осталось совсем чуть-чуть, какая-то четверть версты. К завтрашней панской охоте на диких кабанов всё складывалось благополучно. Что ж, хорошие вести приятно нести.
Прохор уже начинал подумывать о миске наваристых щей да о шкалике[1] горелки на панской кухне. Так уж было заведено у заядлого охотника пана Войховского Егора Спиридоновича.
Как и всех помещиков, Егора Спиридоновича прежде всего интересовала выгода и тугость своего кошелька, поэтому к крепостной черни он относился без особой жалости и заботы. Радел за них ровно настолько, насколько любой хозяин будет смотреть за своим инвентарём – и ни капли больше. Но всё же немаловажным плюсом пана Войховского в отношении к своим крепостным было то, что он не слыл азартным картёжником и никогда, изрядно подпив, не проигрывал их в карты, как это частенько случалось у других помещиков. А к крестьянам, которых привлекал для участия в охотничьих облавах, загонах и прочих мероприятиях по добыче зверя, Егор Спиридонович и вовсе проявлял завидную снисходительность. Он даже мог от души расщедриться, если ему удавалось подстрелить какой-нибудь великолепный экземпляр из богатого разнообразия полесской фауны, и для мужиков, что помогали в удачной охоте, нередко устраивался щедрый обед, да ещё и с доброй чаркой.
Длительное путешествие Прохора по свежему воздуху всё больше пробуждало в нём лёгкий голод, а мечты о вкусной похлёбке и вовсе заставляли парня ускорить шаг. Но мыслям о щах недолго пришлось занимать голову охотника. Почти в самом конце путь пересекала ровная цепочка следов, которые были хорошо ему знакомы ещё с самого детства. Внимательно рассмотрев их, Прохор понял, что о сытной вечере можно забыть. Да и завтрашняя охота вряд ли состоится.
Сдвинув аблавуху[2] повыше на макушку, он почесал пятерней взопревший лоб и с досадой тихо выругался: «Тьфу, чёрт! Ты в гору – он за ногу!»
Если бы Прохор, обнаружив следы кабанов, пошёл в обход с правой стороны, то уже через какую-то сотню шагов он бы обязательно наткнулся на эту волчью тропу. В таком случае уже не было бы нужды делать огромный крюк, обходя урочище с левой стороны.
Охотник озадаченно глядел на возникшее осложнение. Внешне было похоже, что прошёл один волк. Но Прохор как опытный следопыт по едва заметным признакам видел, что здесь след в след прошла стая: волков шесть-семь – не меньше! И шли серые за стадом не на прогулку, а с твёрдым намерением завалить добычу подоступнее. Волчий глаз безошибочно выберет из дюжины животных наиболее лёгкую жертву. При удачной охоте стаи добычей чаще всего становятся слабые или раненые взрослые особи, а также ещё не набравший силы и опыта молодняк.
Но теперь уж неважно, попадется кто в зубы хищникам или нет. Ясно одно: стада кабанов к завтрашнему утру здесь и в помине не будет. А это значит, что пан Войховский будет очень недоволен. К нему специально на эту охоту приехал очень близкий его друг и тоже заядлый охотник, пан Хилькевич. Прибыл гость со своим сыном. И интерес к этим гостям у Егора Спиридоновича особый.
Пана Войховского и пана Хилькевича связывала давняя дружба и, конечно же, здоровое соперничество в охотничьей фортуне. В этот визит оба помещика хотели поближе познакомить своих детей. Ведь у пана Войховского старшая дочь была уже взрослая, на выданье. Девушка умная и довольно приятной внешности, и родители были не против серьёзных отношений между их детьми. Им хотелось, чтобы у пары сложились тёплые отношения, а ещё лучше – взаимные симпатии. Ну а там, глядишь, дело и к свадьбе продвинется.
Обе семьи придерживались прогрессивных взглядов и хотели, чтобы их дети женились не по расчёту и не по указанию стариков, как в большинстве случаев это происходило в старые времена. Хотя, конечно, и теперь никто не будет в восторге от появления в доме нищего зятя или невестки-бесприданницы. В идеале же Войховский и Хилькевич желали, чтобы в браке их детей имели место достойная обеспеченность, знатность и любовь. Всё это было возможно, если их дети, к немалой радости родителей, понравятся друг другу и изъявят взаимное согласие на вступление в брак. И для начала, как казалось обеим сторонам, удачная охота будет отличным подспорьем в их затее.
Но, похоже, отличное подспорье для панов оборачивалось отличным поводом для панского недовольства молодым ловчим.
Отпугивать хищников не имело смысла: вместе с волками насторожатся и покинут эти места и кабаны.
Солнце уже зацепилось за верхушки далёких деревьев. Вот-вот начнут сгущаться сумерки. А обратный путь неблизкий, да и займёт времени гораздо больше. Хочешь, не хочешь, а возвращаться надо. Теперь уж с поганой весточкой.
Остановившись и немного поразмыслив, Прохор медленно поплелся к тому месту, откуда начинал обход. Вслед за испорченным настроением начала наваливаться и усталость. Вместо думок о щах в голове тревожно роились слова и оправдания, которые предстоит скоро сказать пану Войховскому. Прохору очень не хотелось подводить Егора Спиридоновича, пообещавшего гостям устроить захватывающую охоту на вепря. А больше всего молодому охотнику не хотелось встретиться с взглядом пана, полным укора и разочарования. Уж лучше бы Егор Спиридонович ругался и поносил своего холопа на чём свет стоит!
А вот и следы кабанов. Завтра стадо, возможно, будет оставлять за собой на один след меньше. С понурым взглядом Прохор пересёк взрыхленный снег и, не останавливаясь, вышел на свою лыжню. Сделав несколько шагов, он вдруг замер и резко обернулся. Что-то здесь было не так! Что-то он пропустил!
Прохор быстро вернулся к следам кабанов. Так и есть! Внимательно глянув на снег, молодой охотник не поверил своим глазам: за то время, что он делал крюк, поверх кабаньих следов появились ещё одни свежие отпечатки. Такого в здешних лесах Прохору ещё ни разу не доводилось видеть. «Это что за невидаль такая?» – пронеслось в голове парня, и сердце его взволнованно забилось. От величайшего изумления у хлопца глаза округлились. Нагнувшись и осторожно ощупав незнакомый след, Прохор недолго ломал голову. Хотя он никогда и не видел живого медведя, но, похоже, именно этот зверь недавно прошел здесь. Следы на снегу были большие и глубокие, что указывало на внушительные размеры и тяжеловесность хищника. «Ну и денёк сегодня: одни «сюрпризы»! Кому расскажи – век не поверит!» – озабоченно глядя на взрыхленный снег, думал молодой охотник.
Прохор ещё от деда слышал, что в здешних лесах когда-то давным-давно водились медведи. Сейчас же их здесь днём с огнём не сыщешь. Но все-таки бывалые охотники такую возможность не исключают. На Полесье, среди болот и лесов есть множество глухих мест, где ещё не ступала нога человека. И вполне вероятно, что этот медведь вылез из какого-нибудь богом забытого и человеком не найденного укромного уголка. Но ведь даже если бы он и появился в этих краях, то ему сейчас в самую пору лежать бы в тёплой берлоге, а не шастать по сугробам.
Молодой охотник продолжал сидеть на корточках перед диковинными следами и, глядя на них, пытался истолковать для себя, что бы это всё означало. Наконец, что-то надумав, он решительно вскочил и быстро пошел по медвежьему следу, только в обратную сторону.
Пробежав на снегоступах изрядное расстояние, Прохор обнаружил, что медведь несколько раз переходил с кабаньих следов на следы волчьи. Было заметно, что он часто топтался на месте, видимо, долго принюхивался и пребывал в неуверенности, на что-то решаясь.
Прохор отлично знал образ жизни и повадки диких животных. Сопоставив всё увиденное со своими знаниями и опытом, он пришел к выводу: медведь-шатун, скорее всего, пришлый, а задумка у голодного зверя под стать талантливому стратегу.
Из книги на снегу, прочтенной следопытом, выходило, что волчья стая шла охотиться на кабанов. Прохор отлично знал, как мастерски волки устраивают совместную охоту, в которой всё строго распределено: одни гонят добычу, а наиболее опытные и матерые нападают. Медведю, более крупному и мощному, такое не под силу. Он одним ударом лапы мог бы сломать хребет взрослому кабану, но для этого нужно сначала приблизиться к добыче на довольно близкое расстояние. А зимой для медведя это практически невозможно. Из всего и выходило, что медведь, интуитивно чувствуя скорую кровавую резню, шёл не за кабанами, а за волчьей стаей, чтобы в случае удачной её охоты, попытаться отнять добычу у серой шайки. И если уж он решился на такой опасный шаг, значит, либо был уверен в своей силе, либо голод вынудил его рискнуть своей шкурой. А возможно, здесь находило место и то и другое. В любом случае добычу свою волки вряд ли отдадут просто так!
Сейчас зверь находился где-то недалеко и, скорее всего, останется здесь надолго – живой или мёртвый. Сможет отнять у стаи добычу – будет с пищей и живой. Не хватит силёнок на свою задумку – недолго протянет голодный и с изорванной волками шкурой.
«Да-а-а… – тихонько протянул Прохор, – похоже, здесь и в самом деле назревает кровавая пирушка. И будет это, судя по всему, ночью или ранним утром. Что ж, вот теперь не медля к пану Войховскому. Вместо охоты на вепря может получиться охота на более достойного и редкого зверя». Тихо поразмыслив вслух, Прохор вскочил на снегоступы и почти бегом помчался к имению пана Войховского. Возбуждение от сравнительно близкого присутствия грозного зверя и исходившая от него опасность придавали парню силы.
Вот уже пройдена большая часть обратного пути.
Почувствовалась усталость. Прохор сбавил темп и пошёл медленнее. Мысли о предстоящей охоте плавно сменились невесёлыми думами о тяжкой доле и убогой жизни крепостного селянства. Думал Прохор и о своей судьбине, и о дальнейшей жизни. Как она сложится и что его ждёт впереди? Постепенно мысли клонились к воспоминаниям из детства, к своим родным и близким…
Глава 2
Семья Чигирей была крепостной, и все они, от новорождённых и до глубоких старцев, являлись собственностью пана Войховского Егора Спиридоновича.
Ещё после раздела Речи Посполитой около полумиллиона белорусских крестьян оказались в собственности русских помещиков. Егор Спиридонович был сыном одного из дворян, который в числе первых получил во владение поместье на новых землях, вошедших в состав Российской империи.
Русские помещики, вступая во владения бывшими панскими фольварками[3], часто брали с собой и свою челядь. Поэтому наряду с устоявшимся местным обращением «пан» зачастую можно было услышать и «барин». Но это больше касалось восточной части Белоруссии.
Имение пана Войховского находилось чуть восточнее центра Полесского края, недалеко от волостного селения Петриков. Вокруг простирались уникальные, можно сказать, девственные природные просторы. Редко разбросанные хутора и деревеньки полешуков[4] терялись среди первозданных лесов и болот, и, казалось, были оторваны от всего мира. И даже служивые люди царя Российского как-то говаривали Егору Спиридоновичу об одном из близлежащих уголков этого края: «В Лясковичах были по делам ревизским… Селение настолько обособленно, что имеет вид неприметного застенка матушки природы. Ни туда попасть, ни оттуда выбраться. Там и царь, и бог – местный помещик Киневич…» На что пан Войховский, кивая в знак согласия головой, отвечал: «Особенность жизни у полешуков такова, и никто из них не горит желанием самопроизвольно покинуть родные места. Безмерно любят они свой край. Огромное Полесье у них одно на всех, но у каждого в сердце есть ещё и своё маленькое полесье – отчий кров. Люди свыклись с укладом такой жизни и что-то менять не помышляют. Да, цивилизация в эти уголки не скоро доберётся со своими соблазнами и искушениями, которые очень быстро развращают человека… Так что этот народ по-своему счастлив в единстве с Богом и природой».
Так и крепостная семья Чигирей, отпрыском которой был Прохор, свято чтила Бога и своего существования в отрыве от природы вообще не мыслила.
Отец Прохора, Чигирь Григорий Максимович, служил у пана Войховского и объездчиком лесных угодий, и смотрителем всего охотничьего снаряжения. Он оберегал лес от самовольных порубок, браконьерства, а зачастую по мере надобности сам добывал дичь к панскому столу. Григорий Чигирь также ухаживал за охотничьими собаками и занимался всеми подготовительными хлопотами перед охотой. Делал всё толково и со знанием. В общем, нес службу исправно, за что не имел серьёзных нареканий со стороны панской милости.
В детстве Прохор испытывал к батьку двойственное чувство. Как и все крестьянские дети, он побаивался его строгости, но в то же время Прохор и обожал его за то, что батька с особой заинтересованностью приучал сына к своей работе. А мальчишке это очень нравилось.
Гришак – так в деревне звали Григория Чигиря – не прочь был пропустить и шкалик-другой горелки. Но в стельку батька напивался редко, а уж если такое случалось, то дома учинялся настоящий разгоняй. Доставалось всем, но больше всех от таких завихрений Гришака страдала его женка. Несмотря на это, Гришак слыл хозяином расторопным. Семья имела хоть и не зажиточный уровень, но и не бедствовала, не перебивалась с хлеба на воду. Хотя, как и у большинства крестьян-полешуков, у Чигирей было в жизни немало тяжёлых моментов, когда всей семье приходилось давиться пушным хлебом[5].
Любовь к природе родного края была заложена в роду Чигирей самим Богом. Ещё покойный дед Прохора, будучи мальчишкой, перенимал все азы и премудрости лесной жизни у своего отца, тоже связавшего свою жизнь с лесом. И так повторялось вот уже несколько поколений. Уже в пору юности сыновья становились опытными охотниками и хорошими работниками во всём, что касалось не только леса, но и вообще всего крестьянского уклада жизни. Менялась панская власть, менялись управляющие и приказчики, а вот что касалось службы, связанной с лесом, то Чигирей никто менять и не подумывал, потому что работников лучше, чем они, не было.
Как некогда дед брал с собой, тогда ещё малолетнего Гришака, так и Гришак начал примерно с такого же возраста брать Прохорку с собой на обходы лесных угодий. Такие походы для мальчишки всегда были наполнены интересными встречами с обитателями лесного царства. И каждое такое событие сопровождалось не менее интересным рассказом или пояснением о повадках, жизни и об особенностях увиденной птицы, зверька или редкого растения.
Но особо необыкновенные впечатления остались у Прохора от охотничьих походов с ночёвкой. Обычно батька и дед шли с ночевкой на токующую пернатую дичь к утренней зорьке, и Прошка, которому в ту пору было чуть больше десяти годков, едва ли не со слезами упрашивал взять его с собой. Уж больно заманчиво было провести время у костра в ночном лесу. Конечно, почти все охотники обходились без ночёвок, не было в этом такой уж необходимости. Но и дед, и отец Прохора находили в таких вылазках отдушину от будничных селянских забот. В такие часы они чувствовали себя единым целым с окружающим миром природы. И если Прошке выпадала такая удача напроситься на охоту, то он с интересом наблюдал за взрослыми и старался помогать в сооружении небольшого куреня[6], разведении костра, устройстве подстилки из веток для ночлега. Ему это нравилось, он постигал и учился этому с удовольствием. Но самое интересное начиналось, когда все подготовительные хлопоты оставались позади, а на костре аппетитно шипели шкварки сала или зажаривался добытый по пути рябчик; в угольях доходила печеная картошка.
Наступала пора смачной вечери у огня и неспешных разговоров взрослых о всяких охотничьих былях и небылицах. Вот тут-то Прохорка забывал обо всём на свете и с замиранием слушал интереснейшие истории.
Большей частью говорил дед. И особую колоритность его рассказам у костра придавали всевозможные звуки и шорохи ночного леса. Сам же лес обступал костёр тёмной стеной с причудливыми фигурами и тенями. Молодая сосёнка на краю опушки в отблесках пламени выглядела затаившимся лешим с раскинутыми руками-ветками; густой лозовый куст казался диковинным и зловещим зверем, приготовившимся к прыжку на сидящих у костра людей; белеющая в вышине, в просвете темных веток, небольшая часть берёзового ствола до ужаса напоминала лицо мертвеца. И чем темнее был вечер и ярче костёр, тем более таинственным и угрожающе-сказочным становилось всё вокруг. Но не одними тенями завораживал ночной лес.
Где-то на другой стороне опушки тоненьким звуком жалейки[7] раздавалась осторожная перекличка затаившихся на ночь птичек. Стрекот или жужжание первых пробудившихся насекомых, в отличие от зловещих теней, навевали людям у костра мирное успокоение. Но вот, словно эхо, далёкое, а потом вдруг совсем близкое, почти над головой, резкое уханье филина заставляло всех вздрогнуть; от внезапного резкого крика или предсмертного писка какой-либо зверюшки, попавшей в когти хищника, в жилах стыла кровь, и сердце заходилось в сильном трепете. Изрядно перепугавшись от таких жутких звуков, взрослые крестились и всегда говорили что-нибудь пугающее.
– Свят, свят, свят… Леший кого-то потянул в болото… – серьёзно произносил Гришак.
– Точно, – соглашался дед, – потянул. А может, и кикимора над кем-то измывается. Места-то тут глухие…
Прошка от таких объяснений заметно ёжился, а по телу в разных направлениях целыми дюжинами бегали мурашки. Дед же, незаметно глянув на внука, спешил бодро добавить:
– Но мы втроём, и у нас огонь, ружьё и молитва. Нам и сам чёрт нипочём, – уверял он, но это запоздалое сообщение уже как-то мало успокаивало хлопчика.
Дед и батька вели разговор вроде как между собой, напуская на лица чересчур уж серьёзный вид. Но Прохорка хоть и был ещё пацанёнком, а сразу смекал, для чьих ушей предназначались такие высказывания, явно отдающие трепетным волнением. И в такие минуты он старался выглядеть спокойно, но как-то уж самопроизвольно получалось, что он сильнее жался к батьку и обязательно так, чтобы дед со своими повествованиями был напротив.
Такие, почти сказочные вечера оставляли неизгладимые впечатления в душе мальчика. И зачастую бывало страшно, и под утро зябкая прохлада не давала спать, но для Прохорки отправиться опять в такой поход, было сравни празднику. Ведь слушать деда было истинное удовольствие. В такие вечера в лесу дед мог лишь вскользь коснуться темы о всякой нечисти, а так в основном рассказывал только интересные истории и весёлые казусы, дабы не наводить сильного страху на своего внука, к которому он особенно трепетно относился. И многие сверстники очень завидовали Прошке, что у него такой дед.
Да, дед Чигирь славился на всю округу как удивительный рассказчик. Но коньком его повествований была щекочущая нервы и душу тема колдовства, нечистой силы и всего такого прочего.
В престольные праздники, когда работать считалось большим грехом, люди, одевшись понаряднее, ходили в церковь, праздно прогуливались по селу, заходили к кумовьям и родственникам отметить такой день чаркой горелки да кислым ржаным блином со шкваркой. Кто таких угощений не нажил – лузгали семечки на лавках или дымили самосадом, приветливо здороваясь и тут же с ехидцей обговаривая проходивших мимо более зажиточных односельчан. Когда же время подходило к вечеру, то многие стягивались на окраину деревни, к хате деда Чигиря, ибо знали, что он обязательно уважит их просьбам и расскажет что-нибудь душещипательное. Такие вечера составляли добрую часть духовной пищи селян, ведь только в сельской местности фольклор имел особое, значимое место в жизни людей.
Ещё засветло первыми, как всегда, появлялись дети. Занимая места на лежавших у хаты колодах, до блеска отполированных портками, они тоже готовились к страшилкам. Словно стая воробьёв, многочисленная детвора деловито рассаживалась на лучших местах, хотя все, конечно же, знали: взрослые придут и всё равно сгонят их с занятых мест, а то и вовсе отправят домой, если с ними не будет кого-то из старших домочадцев.
Дед Чигирь, зная, что на колодах уже собралось изрядное количество сельчан, с нетерпением ожидающих его речей, не спешил с выходом. Удивительный знаток человеческой души, он любил сначала потомить всех неопределённостью, чтобы потом более театрально, как бы с неохотой произвести свой выход. Но и мужики не лыком шиты! Они уже давно раскусили дедову тактику и особо не волновались: старый Чигирь сам не упустит случая заворожить публику своими рассказами.
Прохор сейчас с улыбкой вспоминал, как в ожидании дедовых повествований многие сельчане пытались тоже завладеть всеобщим вниманием, рассказывая разные истории и ведя, по их мнению, умные беседы. Но вскоре эти «умные речи» быстро иссякали и неуклюже комкались от скудости языкового слога. Подавляющему большинству крестьян было в тягость вести длинные речи, да и суровая жизнь от них этого не требовала. Так что все разговоры сводились к обыденным темам: погода, урожай, панское да селянское житие-бытие.
Некоторые же просто пытались пересказывать уже известные истории старого Чигиря. Но, казалось бы, интересная история деда Чигиря в исполнении другого рассказчика получалась пресной, без завораживающей изюминки. После таких неудачных попыток разговор снова, по второму кругу деловито протекал в ведении «умных речей». А вот если ещё и деревенские бабы начинали вмешиваться в «серьёзные» разговоры, то, в конце концов, тема разговоров резко меняла русло в сторону пересудов, сплетен, а то и вовсе начиналась перебранка прямо тут же у костра.
Но вот уже сумерки заметно начинали перевоплощаться в тёмный вечер. В пылающий костёр чаще подбрасывались заранее заготовленные ветки и сучья.
Дождавшись своего часу, наконец появлялся и дед Чигирь. Выходя из хаты, он зачастую дожевывал на ходу специально брошенную в рот корку хлеба или кусочек овсяной ковриги.
– Вечер добры всем! – кивал головой старик.
– Добры!
– Добры! – раздавалось со всех сторон.
– Што это вы тут галдите на всю округу? Даже вечерю не доел. Дай, думаю, пойду гляну: што тут народ так шумит? – говорил дед, ещё больше шамкая губами, чтобы было видно, что его оторвали от вечери, которую на самом деле он давным-давно уже съел.
– Да это Ульянка с Авдотьей спор учинили! Всё никак не выяснят, чей мужик лучше! – моложавый селянин ухарского вида с громким смехом поддевал непримиримых соперниц во всём, о чём только можно было поспорить.
– Ы-ы, зубоскал! – тут же взъелась на смельчака одна из молодиц. – Тебе до моего Антипки ой как ещё далеко!
– А до моего Петра и того дальше! – не смогла промолчать и другая молодица.
– Ха! А чего это до твоего Петра «и того дальше»?! – категорически не соглашалась с такой оценкой первая.
– Потому как мой Петро лучше!
И опять заново начинался бесконечный спор. Это забавляло и тешило всех, кроме самих присутствовавших здесь виновников словесной перепалки – Петра и Антипки. Такое всеобщее внимание вводило их в крайне неловкое положение. И надо ж вот было такому случиться, чтобы самым тихим и безропотным мужикам попались такие взбалмошные и шумные женки. Ну, в этом случае в иронии судьбе не откажешь.
– Ладно, бабоньки, угомонитесь! – вроде как намереваясь примирить сцепившихся молодиц, молвил всё тот же мужик бравого вида, но потом вдруг, решая всё же восстановить истину, со скрытым подвохом добавлял: – В таком гвалте вы никогда не добьётесь толку. Ну, вот как рассудить, который из семьянинов лучший? Каждая из вас знает всё только о своём мужике, а о достоинствах другого лишь догадывается. А тут надобно, чтоб кто-то их обоих знал как облупленных…
– А к чему это ты гнёшь? – подозрительно прищурив взгляд, подалась на говорившего мужика одна из соперниц.
– А к тому, что вот вы, наверное, и не догадываетесь, а на селе всем уже давным-давно известно, что Фроська обоих ваших тихонь изучила вдоль и в поперёк. И ведь ваши ненаглядные Антип с Петром сами до Фроськи украдкой бегают на всякие там сравнения. Вот идите к ней, и она тут же рассудит, чей мужик лучше! Фроська-то толк в таких сравнениях знает!
Фроська – молодица трудолюбивая и как хозяйка во всём умелая, но уж очень славилась на всю округу своим ненасытным темпераментом. Хотя и мужик у неё был нормальный и поколачивал частенько, но, как говорится, горбатого могила исправит. Так и Фроська, несмотря на все воспитательные меры, подгуливала с кем попало, где и когда попало.
Все посмеивались, отводя в сторону глаза и пряча довольные физиономии чтоб, не дай бог, самим не нарваться на острый язык взбеленившихся баб. А напуганные таким несусветным оговором несчастные мужики втягивали головы в плечи и в оправдание лишь пробовали что-то сказать, растерянно хлопая выпученными глазами. Но вместо оправданий получались невнятные мычания, и их затравленные взгляды в ожидании приговора были устремлены на своих грозных женок.
Но со временем и до рьяных супружниц доходило, что их разыгрывают, а тут уж в долгу они ну никак не могли остаться! Да ещё если под угрозой посмешища стояла честь их мужиков!
– Так мы уж давно справлялись у Фроськи, – задиристо отвечала одна из баб. – Наши мужики-то в первых рядах доблестью славятся и всё одно наравне идут, а вот про тебя, – баба демонстративно тыкнула пальцем в сторону охальника, – так Фроська и говорить не хотела. Сказала, что только языком молоть горазд, а в остальном – евнух! – И безнадёжно махнув рукой на наглеца, баба вдобавок ещё и гордо тогда отвернулась, будто там и глядеть было не на что.
Тут уж дружный хохот заставлял и бравого мужика сконфузиться. Да-а, видать, зря он тогда затеял подшутить над первыми склочницами на селе.
Но вот вскоре после полной капитуляции опрометчиво поступившего мужика, его облик быстро потерял разудалый вид, а шум понемногу стих. Несколько неуклюжих попыток оправдания за поднятый шум – и бабы тоже мирно замолкали. Мужики, перекинувшись с дедом Чигирём двумя-тремя незначительными фразами, выжидающе посматривали на его кудлатую бороду.
– Дед, а что сталось с тем парубком? – не выдержав, давал наводящий вопрос один из селян.
– С каким парубком? – непонимающе переспрашивал старый Чигирь.
– Ну, тот, которого черти извести хотели. Запрошлый раз поздно уже было, и ты, дед, обещал, что в следующий раз доскажешь, чем дело закончилась.
– Хм… А чем закончилось?.. – хмурился дед, вспоминая прошлую историю.
– Ни на того черти напали! Смелый и хитрый оказался хлопец, да ещё и заговоры от ихней братии знал. Так что пришлось тем чертям, несолоно хлебавши, катиться назад к себе в болото. Во, как оно было…
Хотя такой быстрый и простой конец истории и разочаровывал всех, но начало было положено. Дед Чигирь ненадолго замолкал. У костра тоже воцарялась тишина. Все догадывались, что в голове старого Чигиря рождается новая жуткая история. Догадывались – и не ошибались.
И вот в мертвой тишине таинственно начинал вещать голос старика, с первых же фраз завораживая слушателей. Затаив дыхание и стараясь не пропустить ни единого слова, все неотрывно взирали на рассказчика. Напряжение нарастало. Казалось, что во тьме вокруг огня витали упыри или ведьмы, зловещие мертвецы или неведомые чудища из рассказов старого Чигиря. В такие мгновения отчётливо слышались лишь писк комаров, охотящихся за человеческой кровью, подобно персонажам звучащей истории, да слабое потрескивание костра, по праву своей значимости осмелившееся вплетаться в новую страшную историю.
У всех захватывало дух. Дети, ещё не достигшие отроческого возраста, жались к матерям, у которых у самих от страху округлялись глаза; мужики сидели с застрявшими в бороде или повисшими на губе потухшими самокрутками; молодежь испуганно переглядывалась, ища заранее с кем бы после возвращаться домой. Все теснее жались друг к дружке, и никто не хотел сидеть с краю.
Маленькому Прохору тоже тогда становилось жутко и страшно, но его ещё и распирало чувство гордости за своего деда.
Иногда история старого Чигиря заканчивалась далеко за полночь, но никто из неподвижно сидевших всё это время слушателей, включая и самых младших, ни разу не зевнул, ни разу не клюнул носом. А после все расходились тесными кучками – напуганные, но довольные.
Прохор, как сейчас, помнит момент, когда после одного из таких вечеров, спросил у деда:
– Дед, а откуда ты столько страшилок знаешь? Их тебе кто-то рассказывал?
– Не, внучек, никто не рассказывал. Половину всего выдумал твой дед, – отвечал старик и, видя разочарование внука, с улыбкой трепал его вихрастую макушку.
– Ну а как же с другой половиной? Кто-то ж тебя научил? – никак не унимался мальчик.
С морщинистого лица старика тогда вдруг сошла улыбка. Взяв Прошку за плечи и глядя ему в глаза, дед твёрдо, чтобы это запомнилось надолго, произнёс:
– А другой половине, внучек, научила меня жизнь. И не дай бог познать тебе такой науки на своём пути.
Старик задумчиво вздохнул. Не отрывая серьёзного взгляда от любимого внука и, словно что-то предчувствуя, старый Чигирь добавил:
– Хотя… жизнь, Прошка, – шибко[8] сложная штука, и кто его знает, что нас ждёт впереди. Но… ко всему надобно быть готовым. Всяко ведь может статься…
После этого разговора дед начал часто объяснять, показывать и рассказывать Прохорке много разных и странных слов, действий, вещей. Дело в том, что старый Чигирь славился не только своим умением интересно рассказывать. Во всей округе его знали как умелого знахаря. Люди обращались к нему со всевозможными просьбами, жалобами, хворями и прочими напастями.
Знахарство было обычным и неотъемлемым явлением в жизни сельской глубинки, и без этого не могло обойтись ни одно хозяйство. Зачастую в деревне или на селе проживали несколько знахарей, и, естественно, люди охотнее обращались к тем, у кого чаще получался положительный результат. Этому во многом способствовала и молва, как всегда, преувеличенная и приукрашенная. А это уже напрямую зависит, через какое количество пересказов она пройдёт.
Старый Чигирь в помощи никому не отказывал. Если мог – помогал. Если не мог, то успокаивал и говорил, что Бог обязательно поможет.
Как-то раз после ухода одной посетительницы дед грустно произнёс, глядя ей вслед:
– Жаль… Молода ведь ещё.
– Деда, так ты ж сказал, что всё будет добре! – заметил находившийся рядом Прохорка.
– Сказал, сказал… – задумчиво произнёс дед и тут же грустно добавил: – Отойдёт она вскоре… Не поможет ей уже ничто. Но всё равно… без надежды человеку нельзя. Худо, брат, без надежды-то жить… особливо, когда эта жизнь сама же тебя за горло и давит…
Прошка хотя и был тогда совсем ещё мальчишкой, но уже точно знал, что дед его связан с какими-то неведомыми силами. А таких людей называли колдунами. И слово это очень нравилось мальчику.
– Деда, а почему тебя называют знахарем, а не колдуном? – спросил однажды он деда.
Дед удивлённо взглянул на внука и, чуть поразмыслив, ответил:
– Запомни, внучек, что знахари, в отличие от колдунов, в основном помогают людям. Ну а колдуны большей частью норовят зло сотворить. Хотя, конечно, и они могут помочь человеку… но, видать, душа у них не лежит к этому. Теперь тебе понятно, почему твоего деда кличут знахарем?
– Угу.
– Ну, вот и ладно.
После того разговора для Прохорки уже слово «знахарь» звучало более красиво и значимо.
И так уж получилось, что именно Прохору дед многое передал из своего умения и знания. Проницательный взор деда именно Прохора выделил из множества внуков за его тягу к познаниям, за его крепнущую силу воли и духа. И главное за то, что старый Чигирь видел в Прошке искру божью, которой обладал и сам.
Однажды в осеннюю пору дед внезапно занемог. Несколько дней он тихо лежал на полатях в глубоком полузабытье. Все домочадцы уже догадывались, что дед – не жилец. И, как будто делая обыденную работу, взрослые с грустью, но деловито готовили холстины, тесовые плахи для гроба и другие необходимые вещи для похорон.
Прохорка подолгу сидел возле любимого деда. Ему было очень жалко его, было непривычно и дико видеть всегда бодрого деда угасающим и безмолвным. Мальчишка по-настоящему боялся остаться без такого заботливого опекуна.
Однажды дед Чигирь пришёл в себя; сознание старика прояснилось, и он слабеющей рукой протянул Прошке свой необыкновенный нательный крестик.
– Возьми… Не расставайся… с ним. Он будет оберегать…
Совсем ослабшая рука упала, и еле слышный голос деда замолк навсегда. У Прошки на ладони остался странный крестик деда Чигиря, которым старик очень дорожил и о котором никогда ничего не рассказывал.
Как-то раз, недели через две после похорон деда, Гришак заметил у Прошки крестик. Он долго держал его на ладони, предавшись, судя по всему, каким-то давним воспоминаниям. А затем, уединившись с Прошкой, он и приоткрыл тайну необычного крестика.
– Твой покойный дед, Прошка, лишь однажды разоткровенничался об этом крестике, – тихо говорил Гришак. – Это было давно, тебя тогда и в помине не было. Да где там в помине! Я сам тогда ещё только портками зад прикрыл. Ну, взрослеть, значит, начал. Вот тогда-то в ночном он и поведал мне историю об этом крестике…
Давно это было… Хранцуз тогда на Москву пёр, поспешал безмерно. К нам-то сюда в глухомань да болота они, можно сказать, и не заявлялись. Не до нас им было. Ну, а кали их назад погнали, вот тут-то и полешукам пришлось поволноваться да вилы с топорами в руках подержать. Оголодали сильно хранцузы, забирались в самые дальние и глухие хутора, выискивая, чем бы похарчеваться. А кто ж просто так хлеб свой отдаст? Да ещё и чужеземному супостату! Вот и случались иногда стычки с отрядами хранцузов, отбиравших у мужика всё, что на глаза попадалось: зерно, скотину, муку, теплую одежду – ничего не оставляли. И выхода иного как биться насмерть ни у кого не оставалось. Или с голоду подыхать, или в схватке голову сложить – всё один конец! Ну так если уж и суждено голову сложить, так не грех за собой и одного-двух ворогов прихватить. Отчаянно отбивали мужики своё добро. Хотя, по правде сказать, и на тот раз наши места большей частью бог миловал. Как-то стороной такая напасть прошла, но деду твоему всё же пришлось раз свидеться с чужеземцами…
Зимой дело было. Дед твой в ту пору нечасто в лесу бывал, потому как холода стояли крепкие. Но однажды его вдруг словно на верёвке потянуло в лес. Ну… глянуть всё ж надобно как там, да что там в его обходах творится. Вот он и наткнулся в тот день на израненного и обессиленного человека… вернее, на троих. Только двое кончились уже: холод и голод взяли свою дань. Ну а третий живой ещё был. Шибко отощавшим и измождённым оказался незнакомец, уж и говорить не мог. И чего их нелёгкая занесла аж в наши края – одному богу вестимо! Наверное, от погони уходили… тут уж надо переть, не разбирая пути. Вот и сбились в горячке с него…
По одёжке-то дед и признал в них хранцузов. Сначала добить хотел живого, но потом словно какая-то сила отвела его руку. А дальше и вовсе дед странно себя повёл. Схоронил раненого в лесном курене, утеплил, как мог, пристанище то хилое да огонь жаркий развёл. Одёжками тёплыми укутывал несчастного, травами отпаивал, еду приносил…
Дед одному лишь мне потом всё рассказал. Сильно диву давался, что это на него тогда нашло… Лишь потом только, спустя некоторое время он догадался в чём причина. Ну а тогда не до размышлений деду было. В общем, хоть и был тот человек ворогом, да сжалился дед твой над немощным, а потом вроде бы даже как и привязался к тому хранцузу. Перепало ему добре… Другой человек в таких передрягах вряд ли выжил бы, а тот выкарабкался.
Толмачём оказался хранцузик, по-нашему непогано швердекал. Акрыял он, да и в свои края засобирался, а деду за помощь оставил этот вот крестик. «На, – говорит он ему, – за доброту твою награду прими. Это самое дорогое, что есть у меня. Непростой это крестик. Более двух веков ему будет, и силу чудодейственную он имеет. Кто праведно им владеет, оберегать будет того, а кто украдёт иль силой отымет этот крестик – на несчастья себя обречёт! Мне-то давно уж, наверное, суждено было умереть, да, видимо, этот крестик отводил все время такую беду… Мне не жалко крестика. Доброму человеку дарю… Ну, а я… Устал я. Как даст Бог, так пусть и будет», – с этими вот словами и отдал тогда хранцуз крестик. Дед понимал, конечно, что для хранцуза эта штуковина очень дорога и не хотел принимать такой дар. Да уж очень настойчив был чужеземец… Говорил, что обиду дед причинит ему отказом…
Хотя и был хранцузик тот супостатом, а вот душа и сердце у него были добрые, благородных кровей даже быть может. Эх, нашим бы людям задушевности такой… Вот такие, брат, дела… – с грустью закончил говорить Гришак, держа в руках подарок спасённого дедом Чигирём француза. Затем, протянув крестик Прошке, он уже более бодро добавил:
– Так вот и появился этот крестик у деда твоего…
Держа на ладони диковинный крестик, Прошка задумчиво смотрел на него, а потом вдруг спросил:
– А что с хранцузом тем сталось?
Гришак на мгновение задумался и как-то неуверенно ответил:
– Окреп и ушёл… К себе додому ушёл.
Не сказал тогда батька маленькому сыну, что француз тот и до соседнего повета[9] не успел дойти, как его поймали. Хоть и был в одёжках дедовских, да всё равно распознали в нём француза. Поймали да без всякого разбирательства до смерти и забили… Озлобленные мужики забили. Всё припомнили чужаку, все свои беды и несчастья выместили на нём, как будто он один был причиной всему этому. Никто не вступился тогда за несчастного. Не было уже с ним и его крестика в тот роковой час…
Такой вот странный крестик оказался в руках Прохорки, и вступал мальчишка тогда в отроческий возраст.
Впоследствии советы и наука деда Чигиря, а может, и этот крестик-оберег не раз помогали Прохору во многих затруднительных моментах в его ещё только начинающейся самостоятельной жизни. И он был премного благодарен деду за его подарок и наставления.
Глава 3
В окнах господского дома мерцал свет зажженных свечей. Пан Войховский и его гости ожидали возвращения Прохора не позже обедни и уже начали сильно беспокоиться, не стряслось ли чего в лесу.
Но вот на псарне радостно залаяли собаки, узнавшие Прохора и учуявшие волнующие запахи леса и пороха. В доме тоже заметно оживились.
– Ну, наконец-то! Мои гончие Чигирей ни с кем не спутают, – с облегчением вздохнул Егор Спиридонович.
– Вероятно, заблудился ваш хвалёный следопыт. Хорошо, что хоть к ночи обернулся, – с сарказмом заметил пан Хилькевич.
– Да полно вам, Семён Игнатьевич. Лучше Прохора и его отца здешних лесов никто и знать не знает, – махнув рукой, возразил пан Войховский.
В нетерпении потоптавшись и не удержавшись, Егор Спиридонович пошёл сам встречать Прохора. Увидев его в целости и сохранности, но изрядно уставшего, он распорядился живо напоить хлопца крепким чаем, заваренным липовым цветом, а самого же Прохора с некоторой тревогой спросил:
– Что долго так? Уж не сбился ли с пути, иль стряслось чего?
– Есть что рассказать, Егор Спиридонович. Сейчас только дух маленько переведу да с мыслями соберусь, чтоб лучше всё истолковать.
– Ладно, пей чай и, не мешкая, в залу проходи. Заждались уже.
Спустя четверть часа охотники с нескрываемым интересом слушали рассказ Прохора, лишь изредка перебивая его уточняющими вопросами. Втайне уже каждый мечтал заиметь в качестве трофея медвежью шкуру. Такого шанса в их охотничьем счастье может больше и не повториться. Все сразу принялись бурно обсуждать план завтрашней охоты на косолапого; решали, как удачнее и безопаснее обложить медведя, тем более – шатуна. Опыта в такой охоте ни у кого не было, но каждый что-то когда-то об этом слышал, и сейчас все вместе принимали решение, как лучше действовать. Охотники, конечно же, прекрасно понимали и то, что всё предусмотреть невозможно и задуманное мероприятие сулит немало опасностей и риска.
Обсуждение плана предстоящей охоты закончили, когда часы пробили полночь. Пан Войховский дал дворовым, ожидавшим решения господ, дополнительные распоряжения. До утра им нужно было найти и изготовить несколько прочных и надёжных рогатин; необходимо было также известить и дополнительно привлечь к охоте ещё двух-трёх мужиков покрепче да посмелее.
За час до рассвета от имения пана Войховского отъехало трое саней-розвальней, с панами-охотниками и мужиками-загонщиками. Охотничьи собаки все пока были на поводках.
Прибыв на место, охотники разделились на две группы. Прохору и молодому паничу Андрею Семёновичу поручили выступить в обход. Егор Спиридонович в напутствие сказал Прохору:
– Ты там посматривай, чтоб чего худого не вышло.
– Угу, – кивнул в ответ Прохор. – Всё будет добра.
Прихватив с собой четырёх мужиков с рогатинами и собаками, они отправились в путь.
Пан Войховский, пан Хилькевич и Гришак начали тихо занимать позиции, через которые вероятнее всего могли пойти звери. Вот только какие звери, до сих пор никто не мог знать. Вероятно, это будут волки. Меньше всего можно было ждать встречи с кабанами, ну и, конечно же, всем охотникам очень уж хотелось, чтоб на мушку их ружья попал медведь.
Ещё в нескольких местах расставили мужиков. При появлении на их участке какого-либо зверя, они должны будут просто поднять шум и постараться отпугнуть его на стрелков.
Прохор и Андрей, добравшись до другой стороны урочища и растянувшись с мужиками в цепочку, начали движение вглубь. Шли недолго; вскоре один из мужиков подал знак, что обнаружил звериные следы. Осмотрев их, Прохор сделал вывод:
– Кабаны неслись во всю прыть и рассеялись на большое расстояние. Волчьих следов преследования нема. Ну-ка, Лазбень, что это означает? – спросил он одного из мужиков.
Рослый, массивного телосложения селянин по кличке Лазбень долго голову не ломал и выдал первое, что взбрело на ум:
– Наверное, спешили куда-то. Вот если б и волчьи следы были, то, знамо дело, от них и убегали.
– Правильно, Лазбень, – с ироничной улыбкой согласился Прохор. – А я вот думаю, что стадо неслось врассыпную, унося ноги всё же от волков. А серые не гнались за кабанами, потому что им не было уже в этом нужды: прихватили всё же разбойники себе добычу. Что ж, в таком разе некогда рассуждать. Двигаемся дальше, а там видно будет.
Пройдя ещё с четверть версты, охотники, наконец обнаружили и волчьи следы. Ещё через несколько десятков шагов следов стало такое множество, что по ним уже трудно было определить картину произошедших здесь событий. Во многих местах снег был окроплён алыми пятнами крови.
Спущенные с поводков собаки возбуждённо рыскали по лесу. Часто останавливаясь и внюхиваясь в следы, они глухо рычали и вздыбливали шерсть на загривках, чуя близкое присутствие зверя.
В воздухе стоял целый букет смешавшихся запахов: мускус диких кабанов сливался с солоноватым запахом псины извечных врагов собак – волков. Из этого тандема рождался и расплывался по лесу трагический, сладковато-приторный запах крови, приводивший охотничьих собак в неистовство. Опыт и инстинкт подсказывали им, что развязка вот-вот наступит. Чувство близкой встречи со зверем распаляло охотничий азарт у своры. И они уже давно могли бы найти этого зверя, будь то кабан или волк – без разницы. Охотничьи собаки, не раз участвовавшие в таких мероприятиях, знали, что и как надо делать. Им это было знакомо, и у них это было заложено в крови самой природой. Но среди прочих запахов, витавших в воздухе, чуткие ноздри улавливали до сих пор незнакомый едкий запах хищника, с которым псам ещё не приходилось сталкиваться. И чутьё подсказывало: зверь опасен.
Вот поэтому, носясь по лесу, собаки всё же не решались удаляться от людей на большое расстояние.
Прохор и молодой Хилькевич осторожно продвигались по лесной чаще. Они держались недалеко друг от друга как, впрочем, и все остальные.
И вот впереди раздался шум схватки охотничьей своры с каким-то зверем. Буквально в тридцати-сорока шагах от охотников слышался злобный лай, рычание и визг. Но из-за деревьев и зарослей почти ничего толком невозможно было разглядеть.
Люди бросились на шум.
– Неужто в медведя вцепились? – на ходу Андрей вопросительно глянул на Прохора.
– Сейчас узнаем.
Буквально продравшись сквозь цепляющиеся ветки, Прохор и Андрей почти одновременно выскочили к месту, где кружился клубок из сцепившихся животных. Вскинутые ружья уже готовы были выплеснуть смертоносный свинец в медведя, но на мушках плясали лишь остервенелые оскалы собак, всей сворой насевших на поверженного в неравной схватке волка.
Подбежавшие мужики начали оттаскивать собак. Войдя в раж, те никак не хотели уступать свою добычу, всё ещё пытавшуюся из последних сил сопротивляться. Вцепившись мёртвой хваткой в одну из собак, изорванный волк словно пытался вцепиться за последний шанс на жизнь.
Вскоре собак оттащили, и на окровавленном снегу остался лежать волк – гроза и хозяин окрестных лесов.
Люди широким кольцом обступили зверя.
– А волк-то – не сеголеток. По всему видать: матёрый. Что ж он так легко дался собакам? – с ноткой сожаления спросил Андрей, глядя на израненного волка.
– Да-а, – тихо протянул Прохор, – такие в вожаках ходят, да, кажись, отгулял казак жизнь свою вольную.
Осмотревшись вокруг и подойдя вплотную к зверю, Прохор уже с уверенностью сказал:
– Не мог он в полную силу за себя постоять. Гляньте, как ноги задние вывернуты, да и следы вон на снегу говорят, что перед этим попало сильно ему по хребтине. И пока непонятно кто его так приголубил – кабан иль медведь. Во всяком случае, заполз бедолага в заросли, надеялся раны зализать да побегать ещё по лесным просторам. Только вот сломанный хребет не залижешь… Собаки прямо-таки выволокли его из убежища. Да-а-а… не повезло тебе, волче.
Люди плотнее обступили истерзанного зверя, и всем собравшимся почему-то вдруг стало жалко умирающего волка. В его угасающих глазах не было больше ни враждебной ярости, ни страха перед окружившими его врагами. На гордой морде истекающего кровью волка отражалось лишь глубокое презрение к лающим победителям.
В народе иногда можно услышать историю о том, как плачут животные, но почти никто никогда этого не видел своими глазами, поэтому все считали такие истории выдумками чудаков. И каково же было потрясение людей, когда все явственно увидели, как из желтых глаз волка на снег упала одна единственная капля. Может это был растаявший снег, а может и слеза – никто с полной уверенностью сказать не мог. Но всем почему-то подумалось, что если это была и слеза, то волк плакал вовсе не от боли и тем более не от страха…
Безмерная печаль в желтых глазах зверя начала медленно, но неотвратимо покрываться пеленою безразличия, которая холодной ладонью закрывала и саму жизнь. Ах, как же не хотелось умирать в самом расцвете сил! До последнего момента в печальных глазах ещё теплилась надежда! Но неумолимая пелена небытия заслонила и эту последнюю искорку, навсегда оставив лишь выражение скорби. Безграничной скорби… Не бегать ему больше по заснеженным полям, не трепетать от охотничьего азарта, не испытать счастья заботы о щенках-малышах. Что ж, оборвалась жизнь волчьего вожака. Не в пору оборвалась! Не успел вволю нагуляться! Слишком смелым и отчаянным был атаман…
Прохор грустно вздохнул.
– Нехай пока тут лежит. Никуда он уже не денется, а нам дальше идти надо. Да смотреть в оба теперь, – предупредил он всех, но ещё раз глянув на умирающего волка, тихо добавил: – С лихвой настрадался, надо избавить его от мучений. Лазбень… ты знаешь, что делать.
– Ага, – с готовностью согласился мужик, вытаскивая из-за кушака топор и приближаясь к волку.
Есть в мужицком лексиконе такое слово «хрясь», означающее сочный размашистый удар. Именно хрясь и раздалось в затихшем лесу. Жуткий звук вобрал в себя и глухой удар обуха по голове, и треск костей, и громкое непроизвольное клацанье зубов от обрушившегося удара, и старательный резкий выдох человека: «Ы-ых!». Такая вот незавидная кончина выпала на долю лесного смельчака.
Несколько мгновений люди ещё стояли в задумчивом молчании. Глядя на бездыханного волка, они почему-то на этот раз вовсе не разделяя неистового торжества своих друзей – собак.
Ещё раз проверив есть ли порох на полках в кремниевых ружьях, охотники начали осторожно продвигаться дальше по лесу. Немного удалившись от оставленного волка, мужики опять спустили собак с поводков. Теперь собаки вели себя ещё более настороженно.
Вскоре охотники увидели место, где волки зарезали дикого кабана.
– Долго серые возились здесь с ним. А кабан-то толк в обороне знал. Глядите, Андрей Семёнович, как вытоптан снег у этого дерева… – молодой охотник указал рукой на комель вековой сосны. – Когда волки начали наседать со всех сторон, и стало ясно, что убежать от них не удастся, кабан искал защиты у дерева. Прижавшись задом к толстому стволу, он в какой-то мере обезопасил себя с тыла. И это была его последняя и отчаянная попытка спастись… – Прохор по ходу тихо растолковывал паничу то, что видел на снегу.
– А вон там стая всё же и завалила свою добычу, – сказал в свою очередь Андрей, указывая чуть дальше на большое кровавое пятно и клочья шерсти вокруг.
– Точно. Если уж стая почувствовала скорую расправу – ни одно дерево уже не поможет.
Приблизившись к кровавому месту, охотники наконец-то увидели здесь и следы медведя. Догадаться, что тут произошло дальше, было нетрудно.
Видимо, когда стая уже начала рвать издыхающего кабана, в их трапезу вмешался медведь. Завязалась схватка. Каждая из сторон знала, чем и ради чего рискует. И победа досталась тому, у кого другого выхода просто не было – или пан или пропал.
Андрей сам всё это понял и возбуждённо произнёс:
– Заявился косолапый без приглашения на пир, да ещё и кровавый хоровод устроил.
– Ага, почитай, так и было. Дал по хребту самому смелому, а остальные, покружив вокруг да попробовав на зуб крепость медвежьей шкуры, решили, что своя шкура всё ж дороже.
– И тушу утащил в более укромное место. Волкам такое не под силу.
– А им это без надобности. Где завалили, там и проглотили. Благо вокруг всё их владения. Хозяевами, значит, себя чувствовали. Ан, нет! Не вышло! Ещё один владыка объявился. Да только и на этого владыку управа найдётся. Я верно говорю, Лазбень? – спросил Прохор у подошедшего мужика.
– Дык… видать, так. А як же ж инакше? – не поняв суть вопроса, смущенно ответил Лазбень, а потом, заметив кровавое пятно, с неподдельным удивлением спросил: – О, а де ж кабан девся?
– За волками погнался, – усмехнулся Прохор.
Тоже не скрывая улыбки, Андрей с интересом глянул на чудаковатого мужика. Подошли и остальные селяне.
Пока охотники разглядывали следы да тихо переговаривались, собаки с некоторой опаской, но подстёгиваемые охотничьим инстинктом, делали свою работу. Намного в стороне от того места, куда были обращены настороженные взоры людей, лесную тишину опять разорвал их яростный лай, временами переходящий в надрывный рёв, и на этот раз прерываемый грозным звериным рыком. Теперь никаких сомнений не было: собаки нагнали спешно уходящего медведя.
И снова продираясь сквозь заросли и петляя средь толстых стволов вековых деревьев, люди бросились на шум.
Охотничьи собаки, обнаружив грозного и незнакомого зверя, сначала держались на почтительном расстоянии, оглашая округу своим лаем и оценивая на что способен этот зверь. Но, видя перед собой неповоротливого увальня и подбадриваемые своим численным превосходством, они быстро осмелели. Наиболее ярые уже решались по волчьей тактике, напав сзади, тоже проверить на зуб крепость медвежьей шкуры.
Медведь же, вдоволь насытившись, не имел никакого желания опять вступать в стычку. Тем более на этот раз – с оголтелыми и шумными тварями. Звериный инстинкт подсказывал, что за этой бешеной сворой обязательно появится самый опасный враг – человек!
Пока что шатун отпугивал собак грозным рыком и вялыми выпадами в сторону слишком самоуверенных псов. Он был готов без всякого сожаления уступить остатки своей трапезы этой пестрой стае и с миром удалиться подальше от поднятого невообразимого гвалта. Но, видимо, этих бестий не интересовали останки кабаньей туши: все, как один, кружили вокруг медведя. Это противоречило канонам лесной жизни, и инстинкт зверя уже не подсказывал, а просто бил тревогу, что нужно немедленно уходить. Да и чутье уже ясно улавливало запах особо опасного противника. Человек хитёр и коварен, не чета этой обезумевшей своре. И это уже сулило настоящую угрозу. Теперь уж точно не до жиру, быть бы живу!
Подстёгиваемый смертельной опасностью, зверь приступил к решительным действиям. Проворным броском он достал одну из зазевавшихся собак. Стремительный взмах могучей когтистой лапой – и далеко в сторону с диким визгом летит поверженный враг.
Не ожидавшие такой прыти от, казалось бы, неуклюжего лохматого зверя, собаки на мгновение умолкли. Отскочив на безопасное расстояние, все словно завороженные не могли оторвать глаз от жуткого зрелища: их собрат, дико крутясь, норовил достать зубами свой развороченный бок. В шоковой горячке он пытался вырвать оттуда впившуюся нестерпимую боль. Содранная шкура и вывернутые наружу ребра являли собой ужасающую картину. Окропляя снег кровью, несчастный с хриплым рёвом исполнял танец смерти, обезумев от боли и вида вываливающихся своих кишок. И вся свора была на какое-то мгновение словно загипнотизирована этой предсмертной пляской.
Воспользовавшись замешательством в стане врагов, шатун с невероятной для его размеров быстротой ринулся в густые заросли.
Прохор и Андрей уже видели одну из собак, мелькнувшую в просвете деревьев и веток. Дикий визг и хрип другой собаки, судя по всему, серьёзно раненой, был почти рядом. Осталось обогнуть островок густых зарослей – и медведь будет на мушке.
Так уж получилось, что эти злополучные заросли Прохор огибал с одной стороны, а Андрей – с другой. Молодой панич совершенно опешил, когда, почти обогнув препятствие, вдруг нос к носу столкнулся с огромным медведем, выскочившим ему навстречу. Пути человека и зверя пересеклись. Эта встреча для обоих была настолько неожиданна, опасна и трагична, что они замерли в растерянности, не сводя друг с друга непримиримых взглядов и не решаясь сделать малейшее движение. Зрачки обоих были расширены до предела, и в них отражались угроза и страх, обескураженность и ужас. Но самое главное и трагическое, что вдруг стало понятно разуму человека и инстинкту зверя, это то, что если одному из них предписано судьбой дальше идти по жизни, то другому именно сейчас и здесь придётся закончить этот свой жизненный путь. И эта обречённость ещё больше сковывала обоих холодным ужасом.
Звериный инстинкт самосохранения сработал намного быстрее, чем умозаключения человеческого рассудка, подавленного смертельным ужасом. Медведю, постоянно борющемуся за выживание, не пришлось долго соображать. Звериное чутье в одно мгновение оценило ситуацию и дало команду: «Убей или будешь убит!»
Прохор выскочил на просвет среди деревьев. Собаки, увидев человека и наконец словно спохватившись, понеслись в сторону зарослей. Медведя нигде не было видно. Андрея – тоже! И тут Прохора хватило как обухом по голове: молодой панич наверняка сейчас столкнётся со зверем, и что из этого выйдет – одному Богу вестимо. Но сам Прохор одно знал точно: если с Андреем Семёновичем произойдёт беда, виноват будет он, и уж это ему с рук просто так не сойдёт. Не мешкая, крепостной охотник бросился напрямик через гущу на помощь паничу.
И вот взору Прохора предстало жуткое зрелище: человек и зверь стояли почти рядом, один против другого и, казалось, не обращали абсолютно никакого внимания на крики спешащих к ним мужиков и на стремительно приближающийся лай собак. Но почему панич не стреляет?!
Прохор вскинул ружьё. Сердце бешено колотилось. Для точного выстрела слишком большое расстояние и… слишком большое волнение!..
Андрей всё же среагировал на вздрогнувшее напряжение медведя и почти одновременно с броском зверя вскинул ружьё. По воле счастливой случайности, единственное, что он увидел на мушке – это оскаленная пасть разъярённого хищника. Самая подходящая цель! В последний и решающий миг Андрей успел нажать на курок, и в его сознании холодным липким ужасом разорвалась… тишина. Вместо выстрела – оглушительная тишина!!!
У молодого панича молнией успела проскочить мысль: «Это конец!» Тело и волю окончательно сковал дикий ужас. Андрей стоял с направленным в медведя бесполезным ружьём. Не в силах даже пошевелиться, он с ужасом продолжал смотреть через прицел на разъярённого зверя и видел там свою смерть. И тут неожиданно, с задержкой, всё же прогремел выстрел. С кремниевыми ружьями такое иногда случается. Андрей лишь успел подумать, что на его счастье, он в оцепенении не опустил ружьё. В шоке молодой Хилькевич не почувствовал ни отдачи, ни дымной гари пороха. Не слышал он и вырвавшегося горестного оханья мужиков. От неимоверного пережитого ужаса и от сильнейшего удара когтистой лапой человеческое сознание не выдержало и покинуло бренное тело. Последнее, что резануло рассудок Андрея, – это слишком тошнотворный утробный смрад из пасти зверя…
Медведь уже завершал свой бросок, и занесенная для смертельного удара лапа с выпущенными когтями уже готова была поставить жирную кровавую точку на жизни этого тщедушного и перепуганного человечка. Зверь был уже настолько близок к цели, что мог отчётливо различить в расширенных от ужаса глазах напротив отражение своих огромных клыков, готовых сомкнуться на шее жертвы. Человек не убегал и не предпринимал никаких попыток защититься. Выставленная небольшая странная палка не могла остановить всю мощь и силу дикой свирепости. И когда зверь уже ожидал ощутить под своей лапой возбуждающий хруст костей жертвы, в его голове вдруг разорвались мириады молний. Огненно-разноцветные круги в один миг нестерпимо обожгли всё тело. Ослепительный свет, резанувший глаза, так же мгновенно угас. Угас вместе с жизнью…
Падая замертво, медведь по инерции всё же нанёс слабеющий удар по плечу человека. Клыкастая пасть зверя в смертных судорогах хватала воздух в каких-нибудь двух-трёх вершках от шеи подмятого охотника. Сражённый наповал медведь шатун теперь уж никогда не узнает, удачный был его бросок или нет…
Первыми к лежащему под медведем Андрею Семёновичу подбежали мужики. Всё ещё опасаясь зверя, они с усилием скинули рогатинами мелко подрагивающую в предсмертных конвульсиях тушу с подмятого охотника. Видя окровавленного и находящегося в беспамятстве панича, все испуганно суетились, и никто толком не знал, что конкретно надо делать.
– Андрей Семенович! Андрей Семенович! – нервно закричал подбежавший Прохор. Упав на колени и стараясь привести панича в чувство, он судорожно растирал снегом его лицо.
Андрей начал наконец приходить в себя. Тихо простонав и открыв глаза, он некоторое время непонимающе смотрел на склонившихся над ним бородатых мужиков. Словно из подземелья до него доносились обрывки фраз:
– Кажись, жив. А ведь могло…
– Слава тебе, Господи. Будет жи…
– Андрей Семенович, ну как себя чувствуете? – уже весьма осмысленно понял последние слова Андрей.
– Ничего… вроде цел, – тихо ответил панич и тут же сморщился от боли, попытавшись самостоятельно подняться.
– Лежите, лежите, – придержал его Прохор, – а я сейчас плечо погляжу.
Он быстро разорвал подол своей рубахи и перевязал плечо Андрея. Кровоточащие царапины были хоть и глубоки, но для жизни и здоровья не опасны.
Мужики в неописуемой тревоге перешептывались, поглядывая то на панича, то на страшное бурое чудище. И смятение их было понятно: не дай бог с паничем что-то серьёзное – всем мало не покажется. Хотя, конечно, основная вина ляжет на Прохора.
Вскоре послышались голоса и шум приближающихся охотников, которые оставались стоять на номерах. Нарушая все писаные и неписаные охотничьи законы, они, напрасно выстояв в засадах больше часа, двинулись навстречу загонщикам. Но такое крайнее решение панство приняло ещё вчера вечером, так как все желали стать обладателем редкого трофея. И все посчитали такой вариант хотя и опасным, но зато уравнивающим шансы на первый выстрел по медведю. По мнению старших панов-охотников, сжимая кольцо людской цепью, они почти одновременно выйдут на зверя. Прохор делал робкую попытку отговорить от такого плана, но пан Хилькевич в резком тоне напомнил холопу, кто есть кто. Так и порешили. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Всё вышло не так, как задумали светлые панские головы.
Вот показался пан Войховский. Увидев, что Андрей ранен, он остановился с расширенными от испуга глазами. Следом, тяжело сопя, двигались Семён Игнатьевич и отец Прохора – Гришак. Стягивались к этому месту и шедшие вместе с ними мужики.
И вот тишину предсказуемо разорвал истошный крик пана Хилькевича:
– Андрюшенька! Сыночек! Господи, как же это… – Семён Игнатьевич рухнул на колени перед своим сыном. Лихорадочно осматривая и ощупывая его, он не верил своим глазам, что его сын ранен. Руки и голос пана Хилькевича дрожали от волнения. Сердце вот-вот могло дать сбой. Видя перед собой бледное лицо Андрея и проступающие через повязку алые пятна, Семён Игнатьевич вдруг остро ощутил дикий ужас. Он вдруг с какой-то трагической ясностью понял, что мог сейчас потерять своего единственного сына, свою любимую кровинушку. Он понял, что страшная беда прошла совсем рядом, мимолётно лишь задев его своим прикосновением. Крайне взволнованный пан Хилькевич не мог унять своих чувств.
– Отец, всё обошлось. Не надо так переживать. Я сразил его одним выстрелом, – уже Андрей пытался успокоить отца.
– Как же так сталось, что он достал тебя? Как такое могло случиться? – ощупывая пораненное плечо сына, с тревогой спрашивал Семён Игнатьевич.
– Случайность, отец. Сам не пойму. Мы с Прохором только разделились, а тут из зарослей он и выскочил прямо на меня.
– А-а-а! – вспомнив вдруг о Прохоре, пан Хилькевич со злостью прорычал.
– Так этот хвалёный охотник всё же оставил моего сына наедине с медведем!
– Не оставлял я Андрея Семеновича. Так получи…
– Молчать, быдло! Семь шкур спущу! – гневно перебил Прохора пан Хилькевич и, выхватив у одного из мужиков кнут, в ярости несколько раз стеганул опешившего парня. Глянув на своего друга, он со злобным укором добавил: – Да-а-а, Егор Спиридонович, понадеялся я на ваши заверения насчёт этого холопа, а зря! Наверняка струсил сукин сын в решающую годину. Небось схоронился в сторонке, да ещё и со злорадством наблюдал, как медведь панскую душу губит!
Каждое слово пана Хилькевича больнее плети стегало самолюбие Прохора, калёным железом жгло сердце. А тут ещё и Егор Спиридонович с укором добавил:
– Что ж ты, Проша, за Андреем Семеновичем не присмотрел. Строгий давали тебе наказ, чтоб рука об руку шли, страховали друг дружку, а ты не уследил за этим. И то, что Андрей Семенович ранен – твоя вина. Будешь наказан… – Голос Егора Спиридоновича сквозил разочарованием и укором. Это ещё больше ранило душу парня.
– Егор Спиридонович, так я ж…
– Всё, Прохор, молчи… не надо никаких оправданий. Подвёл ты меня. Сильно подвёл. Если б не хладнокровие и смелость Андрея Семеновича – большая беда приключилась бы. Ружьё верни. Оно теперь тебе без надобности, – твёрдо сказал пан Войховский и, повернувшись к мужикам, приказал: – Немедля подогнать сюда сани. Андрея Семеновича срочно к доктору надо везти.
Горький комок несправедливости и обиды подкатил к горлу молодого охотника. Лучше бы Егор Спиридонович кричал и матерился. Прохор никогда не считал себя трусом, и ему до глубины души было обидно слышать такие обвинения в свой адрес. Да, в пылу охотничьего азарта он потерял из виду панича, но до последнего момента думал, что тот бежит за ним. Он сделал всё что мог и виноватым в случившемся себя не считал. Хоть бы слово в оправдание дали сказать. Да ведь пан всегда прав, и ничего тут не поделаешь. Такова уж доля мужицкая: всегда быть крайним и виноватым.
Прохор не стал лезть со своими доводами и оправданиями, а молча отдал одному из мужиков самую дорогую для него вещь – ружьё.
Пока мужики, орудуя топорами, выбирали и расчищали дорогу для подъезда саней, Семен Игнатьевич и Егор Спиридонович, немного успокоившись, начали с интересом осматривать добытого зверя. Это был великолепный экземпляр.
Семён Игнатьевич не удержался и легонько пнул медведя носком сапога, словно желая ещё раз убедиться в том, что никакой опасности уже нет. Его в этот момент одолевало двоякое чувство: с одной стороны была гордость за своего сына, что справился с таким зверем, а с другой – страх, что всё могло быть наоборот.
Как и любого охотника, пана Хилькевича и пана Войховского также очень интересовало, куда попала пуля. Часть головы медведя заплыла кровью, но бывалые охотники без труда определили, что пуля вошла не точно в лоб, а чуть ближе к уху.
– Молодец. Хороший выстрел, – сказал Егор Спиридонович, как бы желая смягчить вину перед гостем за нелепую оплошность своего крепостного.
– Да… попади пуля в другое место – и неизвестно как всё обернулось бы, – согласился Семен Игнатьевич.
Вскоре, сопровождая Андрея, его отец и Егор Спиридонович тоже спешно отправились в имение.
Прохор всё это время, понуро опустив голову, стоял в сторонке. Стоял один в глубоком смятении. Несправедливое унижение переполняло горечью душу парня.
– Ладно, сын, не принимай близко к сердцу. В жизни всяко случается, – пытаясь поддержать Прохора, грустно сказал подошедший Гришак.
Прохор промолчал на утешение батьки. Ему вообще хотелось сейчас уйти куда-нибудь в самую глубь леса и побыть одному.
Гришак, словно сам в чём-то провинился, с жалостью глянул на Прохора. Он не знал, какими словами сейчас можно поддержать сына.
– Хорошо, что хоть одними царапинами обошлось. Авось всё и перегорит у панской милости… А панич всё же молодец. Не струхнул… – начал было опять говорить Гришак.
– А я, по-твоему, что?! Я струхнул?! – Прохор вдруг резко и со злостью перебил батьку.
– Я хотел просто сказать, что рука у него не дрогнула. Расстояние, конечно, небольшое – тут не промажешь… Но ведь и не заяц же на тебя прёт. Метко пулю вогнал в голову. Только вот я не пойму: коли медведь шел на Андрея, то отчего дырка в его голове у самого уха. Может, он…
– «Может», «не может»! – в отчаянии зарычал вдруг Прохор. – Ничего не «может»! Потому что в медведя стрелял я! Я этому барчуку жизнь спас, а меня кнутом за это. И рот в оправдание даже не дали открыть.
Прохор ещё что-то резкое выкрикнул в сердцах и, махнув рукой, бросился прочь куда глаза глядят. Ему казалось, что сейчас только лес может понять и успокоить его раненную душу.
Гришак долго ещё стоял с раскрытым ртом, стараясь осмыслить услышанное. Его тоже обуревало двоякое чувство. Он был несказанно рад, что его сын всё же справился с панским наказом и оправдал доверие Егора Спиридоновича. Но теперь, когда опасность позади и панич чуть ли не герой, ни один пан не захочет признать другой сюжет событий. Мало того, так с таким поворотом можно попасть в ещё более суровую опалу.
– И принёс же чёрт этого медведя на нашу голову, – в сердцах произнёс Гришак и, тихо выругавшись отборным матом, поплёлся к мужикам помочь погрузить на сани медвежью тушу.
Глава 4
Имение пана Хилькевича находилось примерно в полутора десятках вёрст от местечка Каленковичи[10]. Семён Игнатьевич по меркам Полесского края считался помещиком средней руки. В крепостных у него числилось около сотни душ. Более половины этих крестьян жили в селе Черемшицы, а остальные – в окрестных небольших деревеньках, больше походивших на хутора.
Черемшицы раскинулись на небольшой возвышенности в живописнейшем уголке белорусского Полесья. С одной стороны к самым хатам подступал смешанный лес с множеством вековых деревьев. С другой стороны раскинулись луга и сенокосы с островками ивовых зарослей, сгущающихся по мере приближения к небольшой речке, притоку Припяти. Речка изобиловала множеством тихих затонов и заболоченных берегов, переходящих местами в обширные и непроходимые топи. Лишь у самой деревни берег был песчаный и твёрдый. Видимо, первые поселенцы не зря выбрали такое место для своих хат, поставив их на возвышенности. Это позволяло им быть рядом с водой и в то же время не страдать от неё во время паводков.
Речка хоть и не широка, но полноводна – местами, в омутах, взрослый человек мог по шею погрузиться в её глубине. Вода кишела рыбой; у берегов и на мелководье стояли стены камыша, рогоза, тростника, где гнездилось множество водоплавающей птицы; плывя по течению, можно было увидеть с дюжину бобровых хаток, а также иногда и самих хозяев этих удивительных жилищ.
Белорусские селяне не мыслили своего существования без леса и неисчислимых рек и водоёмов. Грибы, ягоды, рыба, древесина, смола и многое другое были огромным подспорьем и необходимостью в их нелёгкой жизни.
Полесский край издревле изобиловал великим разнообразием зверя и птицы. И почти всё здешнее панство увлекалось охотой. Одни время от времени, другие и недели не могли выдержать, чтоб не побродить с ружьём по охотничьим просторам или не порыбачить летним утром на живописных затонах. Среди крестьян тоже было немало охотников, ну а рыбку сноровисто выловить различными снастями на Полесье умели даже дети.
Крестьянские избы, неровно стоявшие по обе стороны широкой наезженной дороги, образовывали центральную улицу Черемшиц. Во многих местах виднелись перекрёстки с небольшими, в три-четыре хаты, улочками, что и вовсе придавало селу вид поселения с беспорядочно разбросанным жильем. Весной соломенные крыши селянских хат утопали в буйной зелени и в дурманящем аромате черёмухи. Летом липы радовали медовым запахом. Зелень щедро дарила земле свежесть и прохладу. Осенью взор очаровывали золотистые уборы деревьев. Осенняя пора по красоте – это удивительное, даже можно сказать, сказочное время природы. Каких только оттенков не увидишь на растительном ковре, вобравшем в свою цветовую палитру весь спектр радуги! Но всё же осенью этот живой ковёр прошит одним основным цветом, собранным за летние дни – солнечным.
И каждое время года на Полесье по-своему прекрасно.
Сейчас же на дворе стояла зимняя пора – канун рождества. Ясный, с лёгким морозцем день придавал праздничности и хорошего настроения. Ничто не предвещало ненастья или тем более сильной вьюги. Коты не сворачивались клубками, пряча носы в тёплый пух; настырные воробьи и юркие синицы не залетали под стрехи и повети, ища убежища. Люди и животные не предчувствовали никаких резких перемен ни в погоде, ни вообще в жизни.
Но с наступлением сумерек в село вместе с темнотой начала заползать необъяснимая тревога. Сначала незаметно, вкрадчиво. Многие даже и не поняли, когда и отчего у них начало меняться настроение, находила непонятная раздражённость. И чем дальше, тем это ощущалось более остро. А вместе с ночью на село и вовсе опустилось крайнее беспокойство; под заснеженными крышами людских хат полновластной хозяйкой воцарилась зловещая напряжённость; в души людей и животных закралось холодное и липкое чувство надвигающейся беды. А затем всё вдруг замерло, затаилось, словно хищник перед прыжком. И людям теперь не давала покоя одна лишь мысль: что-то должно случиться!
Не было слышно ни задорного лая собак, ни звонкого смеха девчат, спешащих в какую-либо хату на посиделки, чтобы за разговорами да песнями коротать долгие зимние вечера; не раздавались и басовитые, с прокуренной хрипотцой, мужские окрики, вроде как для порядка адресованные домашней скотине или замешкавшимся домочадцам. А домочадцев-то этих в каждой избе как семечек в подсолнухе. Вот и получалось такое, чего раньше никогда не бывало: людей под каждой крышей уйма, а в избах непривычная тишь.
В тревожном предчувствии мучительно медленно тянулось время. Ночь ещё не вступила в полную силу, а многие селяне в каком-то нетерпении уже подумывали о скорейшем наступлении утренней зорьки.
Но никто не властен изменить ход времени, и оно идёт с абсолютным равнодушием к томительным ожиданиям или скоротечным опозданиям. Жизненный ритм время отмеряет всем одинаково! И всё зависит от того, как к нему приспособиться, как суметь подстроиться под этот ритм. Вот и сейчас время шло своим размеренным ходом, не обращая внимания ни на людские тревоги, ни на их радости.
В слеповатые селянские окошки давно уж заглядывали далёкие звёзды, словно наблюдая все ли на Земле в порядке. Казалось, что своим таинственным величием они специально подчёркивали всю мизерную сущность человеческого бытия.
А напряжение нарастало. В установившейся давящей на сознание тишине уже явно ощущалось присутствие какой-то неведомой силы. Враждебной силы!
Но особая тревога и необъяснимый страх витали под крышей хаты Петра Логинова – панского приказчика. Дурное предчувствие шептало, что именно в его дверь может постучаться беда или, в лучшем случае, большая неприятность.
– Чует сердце что-то недоброе, – тревожно, почти шёпотом, канючила Марфа, жена приказчика.
– А чего может статься? Дома все живы-здоровы. На службе у Семёна Игнатича тоже, кажись, всё ладно. Хоть и в отъезде пан Хилькевич, да все наказы исполняются, – придавая голосу уверенности, ответил Петро.
– Хоть бы Семён Игнатич скорей воротился. Сколько ж можно по охотам да по гостям мотаться? – тихо продолжала причитать Марфа.
– Это уж не твоего бабьего ума дело. Когда надо будет им, тогда и воротятся.
Неожиданно на дворе начал набирать силу поднявшийся ветер. Робкие вначале дуновения быстро перерастали в шквалистые порывы. Небо вмиг затянулось тучами, скрывшими своими чёрными крыльями звёзды и бледное лунное светило. Ветер всё крепчал, и вскоре за разукрашенными морозом окнами начало твориться что-то невообразимое.
Такая резкая и внезапная перемена в погоде ещё больше нагнала необъяснимого страха на людей. Тяжёлые завывания ветра, сменявшиеся то глухими стонами, то лихим посвистом не давали спокойно отойти ко сну ни старым ни малым. Прохудившиеся облака начали усердно осыпать землю снежными хлопьями. Подхватывая падающие снежинки, ветер долго кружил их в дьявольском хороводе, заметая дороги и забивая снегом все щели в селянских постройках.
Примерно в полночь всё буйство непогоды так же внезапно затихло. И опять над крышами селянских хат воцарилась тишина. Это была уже какая-то необыкновенная, звенящая тишина. Многие, так и не уснув, молча лежали с открытыми глазами. Боясь даже шепотом нарушить установившееся безмолвие, люди с тревогой гадали: «К чему бы это? Хоть бы не ввалилось какое лихо в нашу хату». И все как один мысленно просили Бога не покидать их в такую тревожную годину.
Вдруг нагнетённое напряжение в избе Петра, словно оглушительным громом разорвалось от тихого и осторожного стука в окошко. От неожиданности все, за исключением двоих всё же уснувших малолетних детей, вздрогнули.
У Марыльки – старшей дочки Петра – бешено забилось сердце. Марфа горестно охнула и ещё больше перепугалась от своего непроизвольно вырвавшегося вскрика. Сам же Петро лишь слегка вздрогнул. Хотя и старался он держаться спокойно, но в душе лавиной разрастался тревожный ком.
– Кого там черти принесли в такой час? – скрывая дрожь в голосе, недовольно проворчал он и, встав с полатей, медленно направился к единственному окошку, в котором вместо бычьих пузырей стояли кусочки стекла.
Сквозь маленькие залепленные снегом оконные стёклышки ничего не удалось разглядеть. Да и облака ещё не рассеялись, закрывали собой лунный свет. Так ничего и не увидев, Петро стоял в темноте и в нерешительности нервно чесал волосатую грудь.
Повторный стук, теперь уже более настойчивый и громкий заставил опять всех вздрогнуть. На этот раз стучали уже в дверь.
– Кто там?! Чего надобно?! – стараясь придать голосу побольше строгости, спросил приказчик.
– Петро, открой. Это я! – раздалось из-за двери.
– Кто «я»? – Петру голос показался знакомым, но кому именно он принадлежал, приказчик вспомнить никак не мог.
– Да Кондрат я, Сыч. Неужто не признал?
Только теперь узнав в ночном гостье односельчанина, Петро облегчённо вздохнул и, отодвинув засов, открыл дверь. Морозный воздух клубами хлынул в хату.
– Ну что там стряслось? Чего это в такой поздний час понадобилось тревожить людей?
– Особенного ничего и не случилось. Просто велено передать, что Семён Игнатьевич с сыном завтра возвращаются. Прасковья Фёдоровна приказала, чтобы к их приезду всё было готово.
– А чего готовить-то? И так всегда всё готово, – удивился Петро странному приказанию Прасковьи Фёдоровны, супруги пана Хилькевича.
– Ну, я наказ передал, а там уж поступайте, как заблагорассудится, – каким-то отрешённым тоном произнёс Кондрат и, неотрывно глядя Петру в глаза, тихо попросил: – Дай воды попить, человече. Приморился я крепко, пока до тебя добрался в такую-то непогоду…
Даже сквозь кромешный полумрак от тяжёлого взгляда ночного гостя Петра пробил неприятный озноб. Хотя, насколько он знал Кондрата Сыча, это был обыкновенный крестьянин – безобидный и горепашный мужик. И всё-таки, чтобы побыстрее избавиться от позднего вестового, приказчик без слов прикрыл за собой дверь и молча направился к кадке с водой.
Марылька всё это время напряжённо вслушивалась в разговор, пытаясь понять, что происходит. Она отчётливо слышала почти каждое слово батьки, говорившего с порога, а вот голос ночного гостя, стоявшего на улице, так ни разу и не расслышала. И у неё создалось впечатление, что батька разговаривает сам с собой. Но по интонации и выражению высказываний явствовало, что за порогом всё-таки кто-то есть.
Вот Марылька ясно различила шаркающие в темноте шаги батьки, подошедшего к кадке с водой. Затем тихий всплеск – это он набрал ковшиком воды. Скрипнула дверь, и послышались тихие слова батьки:
– На. Пей и уходи. Не лето, чай, на дворе. Холод вон по всей хате уже гуляет.
Медленно тянулась установившаяся пауза. Видимо, посыльный пил воду. Но вот опять раздался уже раздражённый голос Петра:
– Ну что ты обнюхиваешь эту воду, будто конь какой? Не облизывайся, не горелка это, – начал закипать приказчик. – Ну вот! А говорил: «Пить хочу». Давай ковшик – и пошёл отседова!
Через мгновение дверь захлопнулась. Послышался звук брошенного на лавку деревянного ковшика и недовольное ворчание приказчика.
Петро ещё раз без всякой причины выглянул в окошко и, опять ничего не увидев, направился к полатям.
Марылька смутно различала силуэт батьки, осторожно передвигающегося в темноте. Ей не терпелось узнать, кто и зачем приходил. Она хотела уже спросить об этом, но мать её опередила:
– Петро, уж не стряслось ли где чего худого? Кому это в такой час неймётся?
– А-а, так… Ничего важного. У нас любят устроить переполох при ловле блох, – попробовал отшутиться Петро, но какой-то тяжёлый осадок от этого не исчез, и он уже всерьёз добавил: – Пан Хилькевич завтра приезжает, так Прасковья Федоровна беспокоится, чтоб всё в порядке было к их приезду. Аж ночью посыльного спровадила. Вот бабы!
– А-а, – облегчённо протянула Марфа. – А приходил-то кто?
– Сыч приходил. Кондрат. Только странный он какой-то был. Небось отправить отправили, а разбудить забыли.
Агафья хотела было ещё что-то спросить, но так и замерла с открытым ртом. Расширенные от ужаса глаза смотрели в темноту, и воля женщины была скована неописуемым страхом. Петро ничего этого не заметил.
Марыльку тоже обуял ужас, и у неё вырвался крик:
– Тата, ты что говоришь?! Сыча ещё на Покров похоронили! Как ты мог так обознаться?!
– Да не обознался я! Он же… – огрызнулся Петро, словно его в чём-то винили, и тут же осёкся, осознав наконец чудовищную сущность произошедшего.
Холодная испарина покрыла лицо и тело приказчика. Разум отказывался верить в то, что произошло. Но в то же время Петро начал осознавать, что только сейчас он возвращался в настоящий мир. Перед этим, как только он отворил дверь, на него снизошла какая-то пелена, окутавшая туманом сознание и убравшая из памяти и похороны Сыча, и то, что он давно уже покойник.
Ясность мысли окончательно восстановилась, и от этого Петру стало ещё хуже. Панический страх ввёрг семью приказчика в какое-то безмолвное оцепенение.
Марылька, до боли закусив войлочное одеяло, еле сдерживала вырывающийся крик страха. Ей хотелось лишь одного – проснуться. Ей хотелось, чтобы это был всего лишь сон, кошмарный сон!
Марфа, как ни странно, не паниковала и по-бабьи не выла; не причитала и не рвала в истерике на себе одежду. Ей сейчас было не до покойников и не до живых: глубокий обморок на время избавил перепуганную женщину от всех волнений и страхов.
Сам же Петро, сидя на полатях и сжимая голову руками, словно оправдываясь, начал нервно бормотать:
– Как же так? Что ж теперь делать? Господи Иисусе… И голос его не сразу признал… и воду обнюхивал, словно зверь какой. Не! Не может такого быть! Темно – вот и обознался. Спросонья да в темноте всяко ведь бывает…
Обознался или не обознался панский приказчик – неведомо, но в его хате до утра тускло мерцала лампада перед иконами, и все, кроме детей малых, стояли на коленях и до исступления читали «Отче наш» и другие молитвы, какие только знали. До рассвета на темных стенах избы мелькали огромные тени от людских фигур, неистово отбивающих поклоны Николаю Чудотворцу и Пресвятой Богородице.
Чуть начало светать, и Петро, накинув тулуп и натянув валенки, вышел из избы. Морозный воздух приятно наполнил грудь свежестью. Глубоко вздохнув, он с надеждой и упованием на милость божью сразу глянул на небо, где уже занималась утренняя заря. В который уж раз попросив у Бога защиты, Петро переводил дух и с волнением собирался опустить взор на землю. От того, что он там увидит, можно сказать, зависела его дальнейшая судьба…
У приказчика ещё теплился луч надежды, что он всё же обознался, недосмотрел или напутал что-либо. Любая такая оплошность была бы ему сейчас за счастье. Ведь по народным поверьям мертвецы даже снятся всегда неспроста. Если что-то дают или просто говорят, то это можно истолковать как добрый знак. А вот если зовут или просят что-либо, то ни в коем случае нельзя откликаться и давать им что просят, особенно пищу или личные вещи. А полешуки в поверья верили слепо и непоколебимо старались придерживаться всех общепринятых условностей.
Смертный страх, влезший в хату Петра Логинова, был ещё более ужасен тем, что вселился к нему на постой не во сне, а наяву. Ну никак не могло всем одновременно такое присниться! А надежда-то теплилась, хоть махонькая да поддерживала семью приказчика. А вдруг поутру всё растолкуется просто и до смешного незамысловато! А вот, поди ж ты, с переполоху надумали бог вед чего! Эх, если бы это было так…
И вот сейчас настало время окончательного определения.
Петро опустил голову, но до конца произносимой им молитвы не решался открыть глаза. После ночной вьюги всё было покрыто свежим снегом, словно незапятнанным холстом. И дело всё в том, что если Петру являлась какая-либо нечисть, то следов, по его разумению, не должно быть. А если приходил человек, и приказчик просто обознался, то тут уж как не крути, а следы будут.
Наконец закончив молитву и собравшись с духом, Петро открыл глаза. Первое, что пронеслось в голове – это Бог услышал его мольбы. На белоснежном покрывале приказчик ясно увидел следы. Но злой рок тут же нанёс свой коварный удар! Присмотревшись, Петро понял, что перед ним… следы копыт! И какое бы существо здесь не наследило, всё равно оставалась непосильная загадка для человеческого разума: следов, указывающих, откуда это существо пришло и в какую сторону ушло – не было. На снегу виднелась цепочка оставленная копытами лишь от окна и до дверей. Петру сделалось худо…
Панский приказчик полулежал на завалинке, откинувшись на бревенчатую стену избы. Впавшие за бессонную ночь глаза безучастно глядели в никуда. Под ними словно роковой взмах птицы-пророчицы расходились черно-синие разводы. Шапка свалилась с головы, обнажив совсем поседевшие за ночь пряди волос. Человек находился в отрешённом состоянии. Его душа уже не имела сил противиться напору сверхъестественных событий, не поддающихся людскому пониманию.
Петро слыл мужиком не робкого десятка. Но сейчас у него внутри словно надломился какой-то важный стержень; словно какая-то сила вмешалась, влезла в самую душу и загасила огонёк, дающий жизненную энергию…
Марылька и Марфа долго приводили в чувство Петра, а за это время впечатлительную Марфу и саму пришлось раза два обливать водой. Но, слава богу, все хоть и были сильно напуганы, но зато живы и умом не помешаны.
На панский двор приказчик явился лишь к обедне. Осунувшийся, он словно тень прошёлся по двору. Челядь и дворовые вяло занималась каждый своим делом. Намётанный глаз Петра сразу выделил тех, кто только делал вид занятости. В другое бы время нерадивые работники тут же получили б хорошую трепку, но сегодня приказчику было не до них. Да и самому придётся сейчас оправдываться перед Прасковьей Федоровной за поздний выход на службу. Но, к счастью, и до Петра тоже никому не было дела, и он осторожно начал расспрашивать дворовых, нет ли новостей от пана Хилькевича. Как оказалось, никто ничего не слышал о сегодняшнем приезде Семёна Игнатьевича. Даже Прасковья Федоровна удивилась, почему вдруг именно сегодня должны приехать пан Хилькевич и Андрюшенька – она только так называла своего сына; они ведь собирались поохотиться и погостить до конца этой недели, а сегодня лишь только среда.
– А что это ты, Петро, сегодня странный какой-то? И выглядишь совсем неважно. Уж не прихворал ли часом? – с некоторой тревогой поинтересовалась Прасковья Федоровна.
– Не. Всё в порядке. Пойду гляну, чем на конюшне мужики занимаются, – вяло промямлил Петро. Ему сейчас ничего не хотелось объяснять Прасковье Федоровне и, найдя простой предлог, он поплёлся к конюшне под её пристально-обеспокоенным взглядом.
Обходя и проверяя работу крепостных, приказчик лишь изредка вяло давал дополнительные указания или замечания. Сегодня он не кричал и не изгалялся по пустякам над селянами, чего раньше почти никогда не бывало. Все крепостные отлично знали крутой нрав Петра и почти все – жгучую «ласку» его кнута. Вспыльчивость панского приказчика вынуждала селян как можно меньше вступать с ним в пререкания. Ну а если кто серьёзно провинится, то мало ему не покажется. В деле наказания Петро толк знал. Хотя и роптали частенько крепостные, но в то же время и отлично понимали, что при его должности таким и надо быть, иначе с нашим мужиком порядка не будет. А Петро по пустякам никогда не лютовал.
Пан Хилькевич одобрял и поощрял жесткие методы работы с холопами. Он, как и все остальные помещики, признавал для строптивого мужичья только кнут. Дай слабину – на голову сядут.
Сегодня же все были удивлены странным поведением приказчика. Многие, ожидавшие средненькой взбучки и не получившие её, просто не узнавали Петра Логинова.
Находясь в панском имении, Петро немного отошёл душой. Общение с людьми отвлекало его от мрачных дум. К концу дня впервые за всё время он не просто не хотел идти домой – он боялся туда возвращаться. Когда же на дворе начало смеркаться, то деваться было некуда, и Петро всё же решился идти до хаты. Но не успел он выйти и со двора, как вдруг залаяли собаки, за воротами послышался шум и лошадиное фырканье. Знакомые голоса и звон бубенчиков заставили дворовых живо засуетиться: Семён Игнатьевич и Андрей Семёнович нежданно возвратились домой.
Из дома вышла удивлённая Прасковья Федоровна в сопровождении кухарки. В считанные мгновения прислуга была уже готова к встрече своего «благодетеля». Петро тоже направился встречать пана Хилькевича и молодого панича.
Открылись ворота, и санная повозка въехала во двор.
– Здрасте, Семен Игнатич!
– Здрасте! – раздавалось со всех сторон.
– Вечер добры, Семен Игнатьевич, – поздоровался и Петро. – Что так скоро? Вы же собирались до воскресных деньков погостить да поохотиться.
О преждевременном возвращении пана Хилькевича из гостей Петро спрашивал не из праздного любопытства. Ведь ему ночью было сказано, что сегодня Семен Игнатьевич приедет и, выходит, это была правда. Больше никто в имении об этом не знал. И такая правда ещё больше угнетала Петра.
Пан Хилькевич не успел или не захотел отвечать на вопрос приказчика, но эта тема заинтриговала и Прасковью Федоровну. Поздоровавшись с супругом и сыном, она поинтересовалась:
– Ну, как погостили, Семен Игнатьевич? Мы вас, конечно, заждались, но не думали, что вернётесь так скоро. Иль угощения пана Войховского пришлись не по душе? А может, охота сорвалась?
– Да всякого отведали. И охота была, и хлеб-соль по душе пришлись, и в картишки вволю наигрались.
– А как там дочки Егора Спиридоновича? – Прасковья Фёдоровна как бы невзначай затронула сильно интересовавший её вопрос.
– О, дочки пана Войховского умницы! А старшая, Наталья Егоровна, так вообще – сама учтивость. Вот кому-то счастье улыбнётся, – задорно сказал пан Хилькевич и бросил многозначительный взгляд на сына.
Заметив это, Прасковья Фёдоровна радостно улыбнулась, как будто всё уже было решено. С трудом скрывая от прислуги свою заинтересованность в этом вопросе, она с нетерпением произнесла:
– Что ж, пойдёмте скорее в дом. За чаем и расскажете всё подробнее.
– Не спеши, мать, ведь мы и необыкновенный трофей привезли! – похвастался Семён Игнатьевич и, немного замявшись, добавил: – Да… вот Андрюша на охоте поцарапался. Ничего страшного, но мы решили, что дома царапины быстрее заживут.
Прасковья Фёдоровна встревожилась было, но пан Хилькевич и Андрей уверили её, что такой пустяк не стоит волнений.
Прислуга суетилась вокруг повозки, снимая с неё вещи и перенося в дом. Дошла очередь и до большого куля, туго перевязанного пеньковой верёвкой.
– А вот это можете развязать, – приказал пан Хилькевич. Он никогда не отказывал себе в удовольствии послушать восхищенные возгласы и удивлённое цоканье столпившихся зевак, рассматривающих добытые охотничьи трофеи. И тем более сейчас, когда все будут поражены, впервые увидев шкуру настоящего медведя. Да ещё недавно обитавшего в здешних лесах.
На шумок подошли ещё несколько мужиков, а вместе с ними и дед Лявон – самая колоритная фигура в Черемшицах.
Об этом мужичке в двух словах и не скажешь. Родом Лявон был из сельской волости Автюцевичи[11]. Одно лишь это обстоятельство уже выделяло его из остальных селян, ибо Автюцевичи славились на всю округу как самобытные и непревзойдённые выдумщики с природной смекалкой, особенно в юморе.
По годам Лявон был и не настолько стар, но так уж повелось, что все его называли дедом Лявоном. В натуре этого самобытного самородка всегда пульсировала ярко выраженная авантюрная жилка. Врождённый талант на выдумки и склонность к артистизму делали его незаменимой фигурой на всевозможных гуляньях и весёлых обрядах. Даже на посиделках молодёжи ему всегда были рады. Лявон был и большим любителем опрокинуть чарку-другую, после чего он, тоже с врождённой способностью, обязательно вляпывался в какую-нибудь историю или переделку – трагическую, по его мнению, для него самого, и комическую – для остальных. Это кратенько об основных чертах его характера и нрава. Внешне же Лявон смахивал на этакого хитренького, но безобидного живчика. Один его вид вызывал добрую улыбку и излучал энергию умиротворения и хорошего настроения. Кроме всего прочего, дед Лявон считал себя одним из наиболее грамотных и просвещённых среди крепостных.
Слуги, развернув грубую дерюгу, расправили и раскинули на снегу звериную шкуру. Её размеры, длинная шерсть, а также огромные когти поражали воображение присутствующих. И каждый из селян с ужасом подумал примерно одно и то же: «Не приведи Господь наткнуться на такое чудище в лесу!»
– И кто же подстрелил этого великана? – поинтересовалась изумлённая Прасковья Федоровна; ей очень хотелось, чтобы это был её сын.
– Медведя уложила молодёжь. Наш сын Андрей и сын тамошнего лесника… помогал, – слукавил Семен Игнатьевич и, о чем-то вдруг вспомнив, добавил:
– Толковый малый.
Хотя на дворе уже начало заметно темнеть, но вокруг медвежьей шкуры всё ещё раздавались возбуждённые «охи» да «ахи». Мужики щупали и мяли в пальцах бурую шерсть; мерили шагами шкуру, а когда выходило малое число, принимались перемеривать пядями. Некоторые даже пробовали незаметно тоже добыть себе трофей – выдернуть внушительных размеров медвежий коготь.
– Енто не медведь, а целый слом, кажись, – деловито раздался голос деда Лявона. – Аккурат и по размерам подходит и по масти. – Дед Лявон важно обвел всех взглядом, словно желая ещё больше подчеркнуть значимость своего заявления.
– Ну, ты опять, Лявон, со своей придурью лезешь. Какой тебе ещё «слом»?! Может, корова, а? – поддел деда один из панских слуг.
– Э-э-э, темнота затюканная! Сломы – ета такие великие животные, як гора. А живут они в тёплых краях, де снега люди сроду николи не бачили, потому как лето там круглы год, – гордо блеснув своей эрудицией, Лявон тоже нагнулся и, как заправский знаток-охотник, потрогал медвежью шерсть.
– Может быть «слоны», а не «сломы», а, дед Лявон? – поправила старика, собравшаяся было уже идти в дом, Прасковья Федоровна.
– Дане, барыня, сломы! Бо яны всё ломять. Спереди у них велизарные клыки торчат, а вместо носа труба висит. Вот тольки запамятовал якой длины шерсть. А по масти, точно говорю, вот як ентая буде, шэрая. Ну… или бурая.
– Лявон, так на слонах же нет шерсти. Разве что на твоих «сломах», – засмеявшись, весело произнесла Прасковья Федоровна.
Такое неверие сильно задевало самолюбие Лявона. Да ещё и при целой дюжине мужицких ушей. В таких ситуациях старый балагур ещё больше заводился. Идти на попятную было не в его правилах.
– Вы, Прасковья Федоровна, конечно, грамотная. Вам видней. Нехай для вас буде и слон, а для меня жывёлина та была сламом – и здохнеть сламом. Во як. А там, де яны водяцца, людям вяликая шкода ад их бывае. Вот пасеють жыта или бураки, а ентые сломы тут як тут. Изгородь своими клыками зломять и едят всё подряд. А што не съедят, так нарошно вытопчут.
Деда Лявона уже понесло, и чем больший он видел в глазах слушателей интерес, тем складнее привирал да сочинял на ходу. Вот и сейчас, войдя в словесный раж, дед Лявон без всякого угрызения совести нес очередную ахинею о слонах.
– Особо опасны сломы зимой, кали всё засыпле снегам и еды им не хватает. Як учуют, што какая-нибудь баба дала корове или поросятам еды, сразу ломять хлевы и абъедають скотинку.
– Дед, так ты ж говорил, что они живут, где тепло и снега где нема, – улыбаясь в усы, заметил один из мужиков.
– Так! Нема! Но они ж на месте не стоят, и бывает такое, што часто заходят и в соседние губернии, а там и погода уже другая. Со мной на контрактах был мужик са Смаленскай губернии, так к ним у губернию зимой целае стадо ентых сломов зашло. Во де люди страху натерпелись! Сломы чуть всю губернию не стоптали. Люди спасались, хто як мог, во!
– Ну а на что им люди? Ты ж говорил, что они бураки едят!
Лявон лишь глянул на «тупоголового» мужика и уже через мгновение выдавал «наиправдивейшее» объяснение.
– Ну вот што ты таки непонятливы? Вот если б ты от чего-либо спасався, што б ты в первую очередь с собой хватал?
– Ну… – задумался мужик, – детей, наверное… женку.
– И-и, женку… – с нескрываемой иронией покачал дед головой. – Дурень! Яна и без твоей помощи вперёд тебя утекла б! А есци што будешь, а?
– Хлеба взял бы… – ответил мужик и, вдруг сделав паузу, догадливо протянул: – А-а-а!
– Ага! – перебил его Лявон, – поздно уже было б! Пока б ты своим куриным розумом соображал, сломы и хлеб твой уже съели б и тебя, недотёпу, стоптали б!
– Во даёт дед! – кто-то аж расхохотался.
Деда Лявона сбить с мыслей и ввести в неловкое положение нестыковками в рассказах было практически невозможно. Любое замечание вызывало у него волну новых выдумок и невероятных объяснений. Что ж, многим любые объяснения деда Лявона было послушать за милую душу.
Уже совсем стемнело. Медвежью шкуру унесли. Эпопея о жизни диковинных животных закончилась. На все возникшие вопросы о «сломах» дадены «исчерпывающие» разъяснения и ответы. Мужики, просвещённые в этой области фауны, весело расходились с яркими впечатлениями и с отличным настроением.
Не стал долго задерживаться на панском дворе и приказчик. Отдав кое-какие распоряжения дворовым, он быстрым шагом направился домой. Свернув на улочку, ведущую к своей хате, Петро различил впереди трусившую фигуру деда Лявона и ускорил шаг.
– Ну что, Лявон, не выгорело чарки на панском дворе? – поравнявшись с дедом, спросил приказчик. Ему хотелось в разговоре отвлечься от чёрных мыслей, одолевавших его наедине. – А то на радостях да за приезд пана могло б и перепасть что-нибудь.
– Ага, там перепадёт – батогом по бокам! Да ещё и на завтра пригласят на опохмелку явиться! – обрадовавшись важному попутчику, бодро ответил Лявон.
– А про слонов-то этих, ты откуда знаешь?
– Так я ж по молодости, когда на подряде был, многому научился. Даже грамоте обучен был. Вот книжку про этих сломов там и читал. – Лявон не мог удержаться, чтобы хоть что-нибудь да не приврать.
То, что Лявон был на подрядных работах, было сущей правдой. Да не где-нибудь, а в самом Менске[12]. Тогда многие помещики отдавали своих крепостных внаём. Для этой цели ездили специальные люди, заключая с панами выгодные для обеих сторон контракты по найму рабочей силы. Вот только условия, в которых жили и работали наёмные рабочие, мало кого интересовали. Многие крепостные, попав в каторжные условия, не выдерживали и возвращались домой с подорванным здоровьем или вообще гинули вдали от семьи.
Но Лявону повезло. Он сначала попал на строительство железной дороги, а потом вместе ещё с тремя мужиками был отобран для работы у небольшого городского начальника, живущего в самом Менске.
Лявона, кроме всего прочего, как магнитом тянуло ко всему новому и непознанному. Неизвестно каким образом, но он завёл знакомство с гувернером господских детей, от которого и почерпнул свои познания в грамоте и общем кругозоре.
Вернувшись в село, Лявон чувствовал себя на голову выше всех остальных крепостных. Выучив полтора десятка букв и умея с горем пополам прочитать из них слова, состоящие из одного или двух слогов, он важно расхаживал по дворам и хвастался, что может справиться даже на должности писаря. На самом же деле, хотя Лявон и выучил половину букв, но вот написать хотя бы одну из них он даже и не пробовал. Но зато талант рассказчика у Лявона проявлялся вовсю. Сначала более-менее правдивые рассказы о городской жизни, о его работе там, о похождениях и приключениях интриговали слушателей и придавали Лявону значимости в глазах односельчан. Но со временем запас историй иссяк, и, чтобы поддерживать к своим рассказам интерес, он начал понемножку привирать и сочинять. Уже известные всем повествования Лявона обрастали вдруг новыми фактами и развязками. Все, конечно же, понимали, что слушают старую сказку в обновленном облачении, но и знакомую сказку Лявон преподносил с таким артистизмом, что и в сотый раз любо-дорого было её послушать.
– Так, так, – уверял дед приказчика, – в городе я большую книжку про сломов прочитал. Правда, давно это было. В той книжке про всяких диковинных зверей написано, – ни капельки не смущаясь, врал Лявон.
Петро не стал оспаривать слова насчет чтения книжек, да ещё и больших. Он просто заметил, что в речах Лявона всегда можно найти зерно истины. Пусть оно и страдает в облачении всевозможных фантазий, но суть остаётся верной. Взять хотя бы этих слонов. Ну и что, что Лявон немного не так их называет. Но они ведь существуют! И живут в тёплых краях, и ростом они почти с хату, и клыки огромные есть. Всё это Прасковья Федоровна сама подтвердила. Так что не так прост этот дед Лявон. Может просто надо уметь его слушать и научиться выбирать зёрна из плевел.
– Да-а-а, Лявон, повезло тебе, что немного свету повидал.
– Я гляжу, Кузьмич, грызет тебя тревога какая-то, – неожиданно и уже совсем серьёзным тоном произнёс дед Лявон. – Ежели не секрет, поделись. В таких случаях выговориться надо, душевный груз разделить с кем-то. Авось и полегчает.
Петро даже приостановился. Ему самому уже давно хотелось кому-нибудь всё рассказать, совета спросить. Но пока не решался. А тут раз – и твои помыслы и страхи кто-то читает, как «Отче наш». Ну, старик! Ну, удивил!
– Послушай, дед… а пошли-ка ко мне. По шкалику выпьем, грибочками солёными закусим, – неожиданно даже для себя, предложил Петро.
Тут уж и дед Лявон от такого неожиданного предложения чрезмерно удивился. Сам приказчик в гости к себе звал! Дед принадлежал к тому типу людей, для которых такие предложения дважды повторять не надобно.
– Хм. А чего ж не пойти? Пошли, коли не шутишь! – с радостью согласился Лявон.
Солёные огурцы и грузди были отменной закуской. Выпитая горелка приятно согревала нутро. При свете чадившего каганца[13] и зажженной лучины Марфа и Марылька внимательно поглядывали на Петра, стараясь понять, что происходит. Такого ещё никогда не было, чтобы панский приказчик привёл домой и вместе пил горелку с каким-то баламутом, самым нищим и непутёвым мужиком на селе.
А хозяин тем временем, выпив с гостем ещё по чарке, вдруг спросил у Лявона:
– Вот скажи мне, дед… Ты прожил уже немало, кое-где побывал, кое-чего повидал… А не приходилось ли тебе видеть или слышать о такой живности, чтоб по небу летала как птица, а на ногах вместо лап росли копыта… ну, точь-в-точь как у козы.
– Ха! А чего ж не слыхал! И слыхал, и встречал! – бодро с готовностью ответил дед Лявон, довольный угощением. Он теперь на любой вопрос отвечал бы только утвердительно.
Через несколько мгновений в изворотливом на выдумки мозгу Лявона уже были готовы несколько вариантов ответа. И он выбрал самый, на его взгляд, захватывающий и сулящий непременной просьбы хозяев продолжить эту тему, ответ.
Все домочадцы, услышав концовку беседы и затаив дыхание, напряженно ожидали, что скажет гость. А подвыпившему Лявону главным было заинтриговать хозяев, чтобы подольше задержаться в тёплой избе, да ещё и за столом. Сделав таинственно-испуганную мину на лице и, словно собираясь с духом, он подался вперёд и громким шёпотом выдохнул:
– Ведьма!
Сам Лявон о ведьмах, конечно же, много всякого слышал, для Полесья это не такая уж редкость. А вот чтобы воочию увидеть или повстречать летающую или ползающую нечисть, да ещё и с копытами вместо ног – не приходилось. Но хитрый дед живо заметил, что его задумка сработала.
Петро застыл как громом поражённый, щёки его побледнели; вскрикнула испуганно Марфа, уронив на пол веретено, которое держала лишь для того, чтобы занять руки; вздрогнула и Марыля, затаив дыхание. Лишь малые дети продолжали беззаботно дурачиться за печкой. На их долю ещё хватит всяких волнений и невзгод. Всё впереди…
Чтобы произвести ещё большее впечатление на испуганно застывших хозяев, Лявон решил дальше развивать удачно выбранную тему:
– Ведьма, ведьма, – словно убеждая в правдивости своих слов, таинственно повторил он. – А ещё я знаю точно, што пришлая старуха тоже якшается с нечистым, а посему – тоже ведьма. И живёт у черта на куличках, як и полагается ведьме. А сколько за последнее время бед сотворилось? Раньше такого не бывало. Вон у Архипа малец по льду игрался, да и ногу сломал. Он который уж год с детьми на реке зимой играется – и ничего. А чего тогда вдруг беда приключилась? А оттого, што Архип перед этим ехал от кума, добра выпивши, да чуть не придавил Химу конём. Думал, баба наша деревенская перед ним – спьяну-то не разобрался! Объехал Химу, да ещё и оттолкнул её в снег. У нашего мужика на такое всегда геройства хватает. Вот и поплатился детским увечьем… Во какие, брат, дела!
Дед Лявон сумел в трёх словах намешать правды с домыслами и, приукрасив рассказ своими умозаключениями, замолчал с чувством исполненного долга. Затем он важно обвёл всех взглядом и, удовлетворившись произведённым на слушателей эффектом, заслуженно потянулся к налитой чарке.
Петро предполагал такой ответ, но в глубине души всё же надеялся, что Лявон расскажет о каком-нибудь неведомом существе, в которое он с радостью бы поверил. Но слова деда Лявона лишь подтвердили его страшную догадку. Ответ старика, словно ножом полоснул Петра по сердцу. Оно бешено забилось в предчувствии перемен к худшему. Приказчик уже и сам твёрдо догадывался, чьи это козни и за что. А ведь было за что…
Глава 5
Старуха Серафима появилась в окрестностях Черемшиц года полтора назад. Откуда она пришла и кто она такая, никто толком сказать не мог. А поселилась пришлая старуха в заброшенной охотничьей избушке, которая стояла в глухомани, как раз на меже панских и казенных угодий. Избушка была давняя, порядком обветшавшая, и никто на неё не претендовал. Вот в это, затерянное среди лесов и болот примитивное жилище и забросила судьба странную пожилую женщину.
Впервые люди начали замечать незнакомую старуху в середине лета, когда выходили работать на дальние наделы. Некоторые видели её, когда заготавливали дрова и хворост в лесу. Чаще других рассказывали о странной отшельнице пастухи. Они не раз наблюдали, как Серафима, не обращая ни на кого внимания, собирала всякие травы, коренья, цветы и прочую растительность.
Но впервые люди заговорили с этой старухой во время второго сенокоса. А случилось так, что один из косцов – совсем ещё мальчишка, впервые вставший в ряд мужиков-косцов, – сильно поранился. Стараясь идти в ритме с мужиками, его ещё неокрепшие руки изрядно устали, и при очередном отменташивании[14] косы парнишка не рассчитал и основательно располосовал себе кисть. Рана оказалась глубокой и сильно кровоточащей. Перепуганные мужики суетились вокруг подростка и советовали остановить кровотечение каждый по-своему. Но лучше дедовского способа, как помочиться на рану и просто её перевязать, никто ничего предложить не мог, да и не знал. Пока одни толпились возле паренька, а другие в спешке запрягали лошадь, чтобы скорее отправить его в село, никто и не заметил, как среди этой суматохи появилась пришлая старуха. Все вдруг притихли и молча уставились на неё.
Не обращая ни на кого внимания, Серафима уверенно направилась к пострадавшему.
Мужики послушно расступались.
Старуха склонилась над пареньком. Взглянув на рану, она перевела свой колючий взор на бледное лицо подростка; тот был до смерти перепуган видом своей разрезанной плоти и обилием сочившейся крови. Холодный пот буйными каплями выступил на искаженном, больше от перепуга, чем от боли, лице.
– Не бойся, милок. Ничего страшного нет. Ты только закрой глаза и не гляди на рану. Всё обойдётся.
Мягкий, успокаивающий и в то же время уверенный тон старухи возымел свое действие. Хлопец закрыл глаза и почти сразу же перестал дрожать. Говоря языком докторов, он был для начала мастерски выведен из шокового состояния.
Серафима достала из своей торбы несколько больших лопуховатых листьев какого-то растения. Они были свежие, видимо, совсем недавно сорванные. Растерев в руках, старуха приложила их к ране и, крепко зажав узловатыми пальцами, начала невнятно что-то бормотать.
Столпившиеся вокруг мужики завороженно наблюдали за происходящим. Никто даже слова не проронил.
Через некоторое время Серафима разжала руку и осторожно отняла быстро увядшие листья. Кровь из раны уже не сочилась. Одобрительно кивнув головой, Серафима опять приложила к ране более свежие листья. И опять что-то прошептав, повторила те же действия. На этот раз края раны выглядели обветренными и подсохшими, как будто порез произошёл день назад.
– Ну, вот и ладненько, – сказала старуха, удовлетворённая результатом своих действий. – А теперь не стыдись. Как многие тут советовали, так надо и сделать. Помочись на рану – это не помешает, да и засыхающую кровь заодно смыть надо. И не волнуйся, самое страшное уже позади.
Скрипучий, но спокойный голос старухи придал пареньку уверенности.
Повернувшись к косцам, Серафима безошибочно остановила взгляд на его батьке.
– Надо перевязать рану чистой тряпицей и приложить вот это. – Она протянула растерянному мужику ещё несколько широких листьев, похожих на огромные подорожники.
– Благодарствую… благодарствую от души. Уж не знаю, что и было бы без твоей помощи, бабка, – смущенно залепетал мужичок.
– Э-э-э, человече, это с виду я бабка, а по годкам, поди, моложе тебя буду. Так-то вот, – с какой-то одной ей понятной грустью сказала Серафима.
Остальные мужики, потрясённые чудотворным эффектом, стояли как завороженные. Никто не шелохнулся, никто не промолвил ни слова. Они во все глаза смотрели на странную старуху. А она в свою очередь, обведя всех пристальным взглядом, будто запоминая каждого, мирно произнесла:
– Ну, да ладно, мне идти пора. А кличут меня Серафимой. Ежели ещё помощь какая понадобится, не откажу. Где живу – знаете. А теперь, прощевайте.
Мужики, словно очнувшись, быстренько засуетились, и торба Серафимы провисла под тяжестью доброй краюхи хлеба, лука, варенной картошки, кусочка сала и другой нехитрой снеди. В общем, мужики щедро поделились взятым с собой на покос обедом.
После этого случая по округе пошла гулять молва о необычайных способностях старухи Серафимы. И ожила тропинка, ведущая к заброшенной охотничьей избушке; потянулся к Серафиме люд со своими хворями да болячками. Вот тогда-то все были вновь удивлены. Выяснилось, что живёт-то Серафима не одна, а с дочкой, редкостной красоты девицей.
Наконец и поесть могли вволю отшельники, и покосившуюся избушку кто-то в благодарность починил, и крышу подлатали. Нашлись и печники, соорудившие небольшую печку. Обзавелись старуха с дочкой и кое-какой домашней утварью. После таких преображений жизнь в избушке стала довольно-таки сносной.
Нельзя сказать, что старухино шептание всем помогало, но надежду, очевидно, давало основательную. А если человек верит в чудо, то оно может и произойти.
Прошло лето. Серафиму уже знали во всех окрестных сёлах и хуторах. Многие называли её просто Химой. Мало-помалу у Химы начали появляться клиенты и с более деликатными, а иногда и с просто коварными просьбами: одним надо было, чтоб худоба[15] велась, другим – милого присушить, иль у соперницы отбить. А третьим и вовсе было невтерпёж навести порчу на ненавистных или зажиточных соседей. Последняя просьба обычно вызывалась двумя-тремя причинами: ссоры, злоба и главная – зависть. Некоторые люди готовы на многое пойти из-за этой самой зависти. Готовы пожертвовать и своим здоровьем, и всем самым дорогим лишь бы не видеть радость и счастье у других, лишь бы куму, свату или брату было хуже, чем им самим.
Хотя и скрытно обращались к старухе с такими просьбами, но от людского глаза не ускользнуло, что Хима исполняет их с явным удовольствием. И чем ужасней заказ, тем охотнее она бралась за него. Это многих напугало и оттолкнуло от старухи, а некоторые – нелюдимые и вечно чем-то недовольные – наоборот, зачастили к Серафиме.
Также людям бросилось в глаза и то, что дочка Серафимы ни под каким предлогом не соглашалась помогать матери в её ремесле. На все просьбы сделать какое-либо снадобье или что-то приготовить к ритуалу, девушка отвечала, что не хочет брать грех на душу и вообще старалась скорее покинуть избушку при появлении клиентов. Отношения матери и дочки были натянутыми и непонятными. Это обстоятельство озадачивало любопытных посетителей и порождало различные толки.
Да, если бы Серафима была просто знахаркой или, на худой конец, хотя бы удачливой бабкой-шептухой, всё было бы доступно крестьянскому пониманию. К таким людям селяне относились не то чтобы дружелюбно, но даже с некоторым почтением. В отношении Химы всё было по-другому. От неё веяло страхом…
Но даже страх глаза и рты всем не закроет. Всё подмечалось, и всё чаще в бабских беседах и пересудах проскальзывала мысль, что старая Хима наверняка крепко знается с дьяволом.
А тут участились странные случаи в самих Черемшицах и окрестных хуторах: то внезапно без всяких причин сляжет совершенно здоровый человек, то у чьей-то коровы пропадет вдруг молоко или куры перестанут нестись, а у некоторых крепких семьях сплошной разлад на пустом месте выходит. Естественно, все подозрения сразу ложились на Химу, все злобные экивоки были в её сторону. Всякие неприятные случаи, конечно, и раньше бывали, до появления Химы, но тогда мало обращали на них внимания, да и сваливать вину на кого-то одного не выходило.
Это бабы могли лишь посудачить да посплетничать по такому поводу, а мужики были настроены более решительно. Кроме пустых разговоров, от них уже слышались и явные угрозы, что если и дальше будет так продолжаться, то кто-нибудь из пострадавших точно пустит «красного петуха» в лесной избушке. Но доказательств о причастности Химы к людским бедам никаких не было, и дальше слов никто ни на что не решался. Пришлую старуху теперь уже просто боялись.
Вот с этой старухой, на свою беду, и пришлось два раза столкнуться панскому приказчику. Первый раз Петро встретился с Серафимой в конце лета.
Однажды, спеша на поле, где шла уборка жита, он в скверном настроении скакал на лошади по лесной дороге. Оставалось совсем немного пути: сразу за лесом начинался панский луг, а рядом и поле с хлебом. На повороте Петро внезапно едва не наскочил на неизвестно откуда появившуюся Серафиму. От такой неожиданности конь приподнялся на дыбы, и приказчик еле удержался в седле. Петро был взбешён: то нагоняй от пана получил, то дополнительно работы навалили на его плечи, а тут ещё и эта чёртова шептуха под ногами мешается.
– Ты что, карга старая, посторониться не можешь?! Или тебе кнут по спине давно не гулял! А ну, прочь с дороги! – со злостью заорал приказчик.
– Прости старую, соколик. Нерасторопная стала. Не заметила, – сама растерявшись вначале, виновато произнесла Хима. – Но и ты ж, милок, гляди куда скачешь. Неровен час расшибёшься, – уже более невозмутимо закончила она.
Спокойный тон старухи и особенно последние её слова окончательно вывели из себя Петра. Вскипевшая злость неукротимо рвалась выплеснуться.
– Ах ты, ведьма! Ты ещё поучать меня вздумала?! – приказчик направил коня на Серафиму и замахнулся нагайкой. И лишь в последний момент он опомнился и опустил занесенную руку.
Ни на шаг не сдвинувшись с места, старуха замерла. Она в упор смотрела на всадника. Морщинистое лицо сильно побледнело, а зрачки её расширились до такой степени, что глаза казались просто чёрными. Она молчала и не сводила колючего взгляда с панского приказчика. Петру стало немного не по себе, и он, ещё раз зло выругавшись, буркнул в адрес Химы:
– Ладно, бесовское отродье, недосуг мне теперь возиться тут. Но я ещё с тобой разберусь.
Стеганув коня по крупу, приказчик с места пустил его в галоп. Отъехав шагов на сорок, Петру непреодолимо захотелось вдруг оглянуться. Он поддался необъяснимому желанию и повернул голову. Ничего сверхъестественного приказчик не увидел. Старуха по-прежнему стояла на том же месте и всё ещё провожала его своим странным чёрным взглядом.
Гарцуя на коне, всадник не мог рассмотреть с такого расстояния, что губы старухи шевелились. Со стороны казалось, будто она кому-то что-то быстро рассказывала. Но рядом с Серафимой никого не было и слов не разобрать. Она просто что-то шептала…
Второй раз Петро встретился с Химой через несколько недель после случая на лесной дороге. Это уже была даже не встреча, а самая настоящая стычка.
В сентябре, когда селяне уже заканчивали убирать с панских грядок картофель, Петро ехал проверить, как идет работа. Пан Хилькевич невесть откуда привёз какой-то новый сорт клубней и занялся их разведением, а приказчику поручил вести строгий надзор за их сохранностью. Лишь нескольким крепким хозяевам Семен Игнатьевич дал весной для пробы по полведра таких же семенных картофелин.
И вот невдалеке от привычных фигур крестьянских баб приказчик вдруг заметил Химу. Она стояла на краю поля и о чём-то разговаривала с мужичком, отвозившим подводой картошку на панский двор. В руках старуха держала плетеную из ивовых прутьев корзинку. У приказчика сразу закралось подозрение: «Уж не панская ли картошка в корзине?»
Петро решительно направился к старухе. Он уже отлично знал, кто она такая, но никакого трепета и тем более страха перед ней не испытывал. Его коренастая, ладно сбитая фигура и жилистые руки говорили о недюжинном и крепком здоровье, которым Бог наградил Петра. А служба его, хотя и хлопотная, но вместе с тем давала уверенность в завтрашнем дне. И надеялся Петро во всём прежде всего на себя. Его мало волновали всякие там наговоры-заговоры и прочая такая чепуха.
В прошлый раз приказчик не стал связываться с этой старухой. Он спешил, и ему некогда было показать этой ведьме, кто здесь главный. Но, вспомнив тот случай, он решил, что если у неё сейчас в лукошке будет хоть несколько картофелин, то придётся именно здесь и сейчас проучить её. И в назидание другим, и за растаскивание хозяйского добра, и вообще, пора поставить эту старуху на место. Благо предлог будет, а заодно и селяне будут свидетелями того, что Петро Логинов не лыком шит, и коленки у него не дрожат перед какой-то прибившейся старухой. Слишком уж много о ней недобрых слухов ходит в последнее время, а некоторые крестьяне просто опасаются в одиночку в лес выйти. И кому как не ему, Петру Логинову, надо навести в этом порядок?
По-молодецки осадив на скаку лошадь возле Серафимы и мужичка, всадник бросил пристальный взгляд на лукошко. Как он и предполагал, в корзинке лежало несколько отборных картофелин.
– Так-так, ведьма старая, хозяйское добро тянешь? Сама украла или кто помог? – говорил Петро хотя и не громко, но зловещие нотки его голоса угрожающе дрожали в каждом слове. И во всём облике приказчика сквозило явное злорадство: попалась чертовка. Теперь-то он отыграется за всё. Вспыльчивый нрав Петра начинал стремительно набирать обороты.
– Я кого спрашиваю? Или, может, глухой хочешь прикинуться?! – выкрикнул он.
– Не глухая… и картошка это не панская. Варька Кутниха пожертвовала. Я с мальчонки ее испуг сняла, вот она меня и отблагодарила, – как всегда, без страха, но тоже со злостью прошипела Серафима. Ей уже порядком надоели угрозы и придирки приказчика.
То, что семье Кутнихи давался картофель такого сорта для пробного выращивания приказчик отлично знал. Но его здравый рассудок уже был не в силах образумить вспыльчивого нрава.
– Так ты ещё и врать мне вздумала, чертово отродье! – закричал Петро и пинком ноги выбил из рук старухи лукошко. – А ты чего трясёшься?! Небось вместе картошку крали?! – досталось и без того перепуганному мужичку.
– Дык я, ета… Я ж не крав… Я ж, ета… приехав тольки, – заикался мужичок, и от переполоха у него нервно вздрагивала всклоченная как деркач[16] борода.
– Не лай зря на человека. Я же тебе сказала: картошку мне дала Кутниха. А захотела б панской попробовать – ночью выкопала б.
Серафима тоже наливалась ненавистью. Чтобы унять волнение, она нагнулась и начала собирать разбросанные клубни. На рожон ей не очень-то и хотелось сейчас нарываться. Людей вокруг много… да и всё-таки панский приказчик – не простой холоп. Но уж больно дерзок и нахрапист!
– Это кто ж лает?! Так ты меня ещё и собакой обзываешь! Ах ты, сука! На тебе! – С этими словами Петро несколько раз со всей яростью стеганул плетью по согнутой спине старухи.
От внезапной обжигающей боли Серафима непроизвольно вскрикнула. Чего-чего, а такого она никак не ожидала. Спина мгновенно разогнулась, горя нестерпимой болью. Злосчастные картофелины с остатками простой земли Кутнихиного надела так и остались лежать на панском более плодородном торфяном поле. Но взбеленившемуся приказчику было уже не до таких мелочей.
– А теперь, ведьма, слушай меня внимательно, – гарцуя вокруг Химы, угрожающе процедил Петро. – Даю тебе три дня – и чтоб духу твоего в наших краях не было. Убирайся туда, откуда пришла. И сучку свою не забудь. Нечего всякой нечисти нашу землю топтать!
Селяне, бросив работать, с ужасом наблюдали за происходящим. Все понимали, что здесь, на их глазах, сошлись кремень и кресало, и каждый опасался, чтобы искры этой стычки не обожгли и их самих. А то, что кому-то из двух сторон несдобровать, сомнений ни у кого не вызывало. Это уж точно!
Серафиме деваться было некуда. Она и так вдоволь наскиталась по чужим углам. Вот и сейчас, не успела обжиться – уже кому-то поперёк дороги встала. Ну, уж нет! Если кому-то она и встала на дороге, пусть обойдёт! А такое, что вытворил сейчас этот приказчик-скотина, она просто не в силах простить.
И опять странный чёрный взгляд уперся в Петра. Только на этот раз в расширенных зрачках старухи сквозил расчётливый холод мести.
– Что ж, теперь и ты послушай меня… – казалось, очень уж спокойно и даже вкрадчиво отвечала старуха. – Прав ты, голубь мой сизый… Земелька наша хоть и не мала, да теперь нам будет тесно вместе ходить по ней. Придётся кому-то оставить её грешную… земельку-то. Ох, и зря ты поднял руку на старуху немощную. Каяться будешь сильно, да поздно будет… – старуха говорила, и в её тихом голосе звучала зловещая угроза.
Серафима невероятным усилием воли сдерживала в себе бушующий ураган ярости. Она успокаивала себя мыслью, что всю эту ярость выплеснет потом, чуть позже и по-другому.
– А пока благодарствую за угощеньице, – продолжила Хима и потрогала покрасневший след от кнута на своём запястье. Зыркнув на Петра взглядом, полным ненависти, она выдала свой приговор:
– Как говориться, долг платежом красен. Вот и за мной теперь должок. Страшный должок…
Последние слова старуха произнесла почти шепотом, но таким тоном и с такой злостью, что Петро внутренне содрогнулся; противный холодок забрался под самое сердце. До приказчика вдруг дошло, что эта угроза может быть и не простыми словами. Хотя он и не особо верил во все эти проклятия да заклятия, но тут вдруг понял, что переборщил с этой ведьмой. Мало ли чего на свете бывает! А вдруг всё-таки его выходка аукнется бедой для него самого или для его семьи. Но не просить же теперь прощения у этой карги, да ещё и прилюдно! А-а, авось пронесёт…
Два этих события произошли в конце лета и в начале осени. И вот сейчас, в канун Рождества, сидя за столом с баламутом Лявоном, Петро понуро вспоминал о тех роковых случаях и жалел, что так вышло. Сильно жалел… «Авось пронесёт» не проскочило. Теперь он окончательно уверовал в причастность старухи Химы к ночному визиту покойного Сыча.
– Скажи, Лявон, а управа какая есть на проделки ведьмы… ну, или хотя бы оберег какой или что-нибудь такое? – упавшим голосом спросил Петро. Он и сам прекрасно знал из народных поверий, чем и как можно защититься и от злых духов, и от чёрта, и от ведьмы, и от прочей нечисти. В народе веками накапливались такие знания и наблюдения, сохраняемые не только в фольклоре, но даже и в церковных писаниях. Раньше это всё было для Петра какое-то далёкое, сказочное, не касавшееся его лично. А тут вдруг – на тебе! Коснулось! Да ещё как!
И Петру сейчас хотелось услышать что-нибудь конкретное, что можно было бы тут же и применить. На худой конец, он нуждался хотя бы в поддержке веры в себя. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь зажег в нём огонёк надежды, что не так уж всё плохо и можно избавиться от грызущих заживо тревог. А рядом был лишь только неунывающий балагур Лявон, которого и в серьёз-то никто в округе не воспринимал.
Но у балагура Лявона голова работала исправно. Если бы дед не дружил с ней, то вряд ли смог так ловко выкручиваться из многочисленных переделок, в которые регулярно попадал. Хотя насчёт этого получается палка о двух концах. А чего ж тогда попадал в такие казусы, если с головой дружбу вёл? А от матушки природы! Талант, так сказать, и на переделки, и на их расхлебывание.
Дед Лявон никогда не томил собеседника долгими соображениями на заданный вопрос. Вот и сейчас, не раздумывая, он с ходу утвердительно ответил, в уме планируя дальнейшее развитие затронутой темы.
– Ну, а как же! На сук покрепче всегда найдётся и топор поострее. Я так кумекаю: если есть люди, способные зрабить заклятие, то должны быть и такие люди, которые могут и снять эдакое заклятие. Или я штось не так разумею, а?
То, о чем поведал старик, Петру и самому было известно. Он уже немало об этом думал.
– Так, так, Лявон, твоя правда. Всё ты верно разумеешь, – согласился приказчик и пододвинул ближе к деду миску с грибами. – Да ты закусывай, дед, не соромейся.
– Ага, закусываю. Отменные грузди. Сам, наверное, засаливал?
– Сам.
– В самый раз для таких гостей как я.
– Это от чего ж? – не понял Петро.
– А от того, что к этим грибкам мне б зубы ещё – вооще объеденье было бы, – сказав это, старик хитро зыркнул на Петра.
Если Лявон когда-нибудь и помрёт, то явно не от скромности. Захмелев от выпитой горелки, он уже в открытую дал понять хозяевам, что хрустящие солёные грузди ему не по зубам, а вот белые грибки иль маслята – как раз подойдут.
– Марыль, выбери там белых, чтоб деду по зубам пришлись, – сказал приказчик старшей дочке.
– Это из той большой дежи, что в самом углу клети стоит? – уточнила Марылька, уже держа в руке деревянную миску.
– Не. Набери из той, что поменьше, отборных.
– Кузьмич, не утруждай дочку. Я уж как-нибудь и с груздём управлюсь, – вслух воспротивился Лявон, а в мыслях решение приказчика одобрил полностью.
– Ладно, дед, не переживай за девку, с неё не убудет. Да и я не забеднею. А вот тебе спасибо.
– А мне-то за что?
Петро призадумался и как-то неопределённо ответил:
– Да просто… за то, что поговорил вот со мной. Вечер долгий скрасил…
Лявон лишь пожал плечами.
– Ну, дед, давай на посошок выпьем. Да и за наступающий праздник – тоже. А Марфа сейчас тебе ещё и гостинец соберёт… к Рождеству. Ну, будь здоров, дед, и ещё раз спасибо тебе, – сказал приказчик и с какой-то безысходностью лихо опрокинул чарку.
Раз выпала на долю Лявона такая удача, то надо её сполна и хватать. Не дожидаясь повторного приглашения, дед тут же, следом за Петром тоже осушил свою чарку. Видя, что застолье подходит к концу, он усердно налёг на закусь. Блины, мёд, грибы были сейчас вкуснее вдвойне, потому что подходил момент расставания с этими яствами. Старик так хватал еду, словно до этого и не видел её на столе.
Глядя с какой жадностью Лявон напоследок уплетает закуску, Петро всё понял и опять повторил женке:
– Марфа, собери там деду с собой что-нибудь. Да не жалей, пусть дед Лявон на Рождество и о нас доброй думкой помянет.
Замер Лявон, жевать перестал, хотя рот и был забит едой. Понял свою оплошность старик. И впервые ему стало неловко за себя, за то, что не смог сдержаться.
– Ежь, дед Лявон, ежь. Я же от всего сердца, – грустно, но как-то по-свойски сказал Петро.
И задумался тут старик. Крепко задумался! Ну, вот как не поверить в чудеса! Лявон и так на седьмом небе пребывал от свалившейся на него удачи побывать в гостях у самого приказчика, а тут ещё и Марфа суетится – к Рождеству гостинец назревает. Нет, с Лявоном такого фарта давным-давно не случалось. А тем более сейчас, в стариковском возрасте, когда до него никому, кроме старухи Гарпины и дела-то нет. Да и вообще никто не знал, что у старика происходит в душе, когда он остаётся один. Все воспринимали весельчака Лявона таким, каким видели. Никому и в голову не могло прийти, что старик, часто сидя в уединении, с тоскливой грустью мысленно перебирал свою «развесёлую» не сложившуюся судьбину. Не послал бог ему детей, а значит и внуков. Не нажил он и добра никакого, да и не понятно с кем наживать-то было. Первая жена рано умерла, со второй недолго продержался в примах – распутная баба попалась. Вернулся с подрядных работ, послушал людей, да и не пошёл к ней: занято оказалось его место в тот день. А теперь вот под старость сошлись с Гарпиной – такой же одинокой и горемычной бабой, – да так уж и будет им на роду доживать свой век вдвоём, тихо и без ропота, с трудом перебиваясь с пушного хлеба на студёную водицу.
И подкатит иногда горький комок от таких думок, вздохнуть не дает старику. И такая же горькая тоска покроет влажной печалью выцветшие глаза. Смахнёт деревенский весельчак навернувшуюся скупую стариковскую слезу, да ещё и воровато по сторонам глянет: не заметил бы кто. Негоже жизнерадостному весельчаку Лявону плакать да на судьбину грех держать. Что ж, пусть все думают, что жизнь у него…
– Очнись, Лявон! Горелка разморила, что ли? – спросил Петро, удивившись странному выражению на лице старика.
– Дане… Это я так… Задумався.
– На вот, дед, возьми. Это тебе к Рождеству. Кошик[17] после праздника вернёшь, – сказала подошедшая женка Петра. Она держала в вытянутой руке корзинку с продуктами и грустно улыбалась.
– Э-э-э, дед, а глаза-то чего на мокром месте? – удивился Петро и вдруг понял: задело старика за душу уделённое ему внимание. Не то внимание, когда подшучивают над ним и смех вокруг. Взяло за живое, до слёз проняло простое человеческое участие. Ведь он для семьи приказчика никто. Нищий односельчанин! Всё! А надо ж вот…
Растроганный старик уже не стыдился застрявших на ресницах и на щеках росистых капель. И что-то выдумывать сейчас он был не способен. Держа в дрожащих руках корзинку, Лявон остановился у порога и сказал:
– Благодарствую за гостинец. Век не забуду. А тебе, Петро… к знахарю надобно. – Старик назвал приказчика просто по имени, без отчества. Так более доверительно и ближе. Он молча, с сочувствием, посмотрел Петру в глаза и тихо добавил:
– Я не слепой ведь. Вижу: беда с тобой приключилась. Не тяни долго. Хорошего знахаря ищи… Сильного.
– Так, дед. Спасибо тебе за всё, – совсем грустно прозвучал голос Петра.
Лявон снова недоуменно пожал плечами и, попрощавшись с Марфой и Марылькой, вышел на улицу. Приказчик тоже вышел следом. При расставании дед, ещё раз задержав взгляд на Петре и легонько дотронувшись до его плеча, сочувственно произнёс:
– Удачи тебе, Кузьмич… И нехай Бог поможет тебе…
Немало поездил приказчик пана Хилькевича по Полесскому краю в поисках маститых знахарей. Многие брались ему помочь, но никому не удавалось снять проклятие ведьмы. Все они говорили, что на большой злобе приделано и очень сильно. И не знали они, кто мог бы помочь Петру. Беспомощно разводя руками, лишь в одном едины были: молиться надо и на божье милосердие уповать.
Петро вначале ещё надеялся избавиться от проклятия, денно и нощно молился, просил у Бога защиты, не забывая, однако, поминать лихом Серафиму. Если бы он только знал всю правду о насланной на него беде! Даже кошмарный сон не преподнёс бы ему более изощрённой правды. Если когда-то и суждено Петру отдать богу душу, то уж лучше пусть уйдёт в мир иной в неведении…
Совсем стал седой Петро Логинов. Осунулся, исхудал неимоверно, силушку свою потерял без времени и взор уж затуманено смотрел из впавших глаз. Вроде ничего и не болело, но слабость до дрожи в ногах и руках одолевала его, безразличие ко всему появилось. А в последнее время стал приказчик в синюю даль часто всматриваться. В невидящем взгляде манящая искорка появлялась. К себе звала эта даль, за горизонт небесный…
Похоронили Петра Кузьмича Логинова перед самой Масленицей. Всё село провожало панского приказчика в последний и неизведанный путь. Сказать, что люди любили или жалели Петра, поэтому всем селом, многочисленными кучками, стояли на кладбище – нет. Так уж повелось в сельской местности, что похороны были для людей своеобразным зрелищем. А если хоронили почитаемого или известного на селе человека, да ещё безвременно умершего и при загадочных обстоятельствах, то уж тут всякому непременно хотелось не пропустить такое чёрное событие.
Среди селян, собравшихся на похороны, то тут, то там шепотом произносилось имя старухи-ведьмы. А в том, что она чёрная ведьма и что именно она свела в могилу Петра Кузьмича, ни у кого сомнений уже не оставалось. Было лишь многократно возросшее чувство страха и ужаса перед этим чудовищем.
Мужики, соблюдая неписаный закон жития не говорить о покойниках худо, тихо судачили о том, каков будет новый приказчик. К Петру приноровились. Хоть и вспыльчив да горяч был, но всё по делу. А дело своё он знал. А вот как будут жить крепостные с новым приказчиком – ещё погадать надобно.
Бабы тихо скулили в перерывах между пересудами. Глядя на заливающуюся слезами Марыльку, они и сами не могли удержаться от голошения. Сама же Марфа уже не голосила по мужу. Она до этого выплакала все слёзы и душу. В нервном ступоре Марфа лишь покачивалась над гробом, пугая всех своим отрешённым видом. Здоровье её, и без того незавидное, окончательно подкосила кончина Петра.
Утеря кормильца являлась самым страшным ударом для любой семьи, и поэтому односельчане искренне жалели Марфу и особенно Марыльку. В пору семнадцатой весны на её девичьи плечи свалилась непосильная ноша поднять младших детей. На ослабевшую мать надежды совсем мало. Теперь ей, стройной и красивой девушке, придётся вместо мечтаний о романтической любви, думу тяжкую думать о хлебе насущном; думать о том, как жить дальше, как одеть малышей, как их прокормить.
Многие близкие сельчане, уходя с похорон, задерживались возле девушки:
– Мать гляди, Марыля. Если помощь какая надобна будет, скажи. Ну а младшенькие… В общем… вся надежда на тебя.
После поминок девушка долго стояла у порога своей хаты. Слёзы текли по щекам. На сердце противно скребли кошки, а в душе было мерзко и пусто. Чувство вины за участь отца не давало Марыльке покоя. Ей казалось, что если бы она постаралась, если бы собрала всю силу воли и если бы предприняла хоть что-то, то, наверное, смогла бы спасти отца! Что ж, теперь уже поздно! Наверное, судьбе-злодейке так было угодно…
Марылька до конца ещё даже и не представляла, что будет дальше и как она сможет справиться с выпавшими на её долю испытаниями. Сейчас она не просто стояла у порога своей хаты, она стояла у порога другой жизни. Если бы можно было повернуть время вспять! Если бы можно… Но ничего изменить уже нельзя! И дороги назад уже нет!
А какие сомнения терзали несчастную девушку, было ведомо одной лишь ей…
Глава 6
До рассвета оставалось совсем немного времени. Небо из черно-звездного постепенно становилось темно-серым. Всё вокруг тоже прояснялось в темно-серых тонах. Лишь кое-где не растаявший снег выделялся светлыми островками среди лесного сумрака.
Прохор осторожно пробирался к месту глухариных токовищ. Он уже в который раз пытает счастья в охоте на глухаря, но пока всё безрезультатно. Видимо, сноровки у парня ещё маловато в этом деле. Весь его опыт заключался в наблюдении за действиями пана Войховского, для которого он дважды разведывал глухариные токовища и дважды сопровождал на охоте, а также нескольких попыток самостоятельно добыть эту осторожную птицу. Егор же Спиридонович оба раза удивлял молодого охотника своей грациозностью и мастерством, с каким скрадывал поющего петуха, и оба раза он завершал свои подходы удачным выстрелом.
Сегодня Прохор тоже должен был сопровождать пана Войховского на глухариную охоту, но ещё с вечера Егору Спиридоновичу что-то нездоровилось, и утром он остался дома. Хотя Прохор и сожалел по поводу незначительного недомогания Егора Спиридоновича, но в то же время он втайне был рад такому повороту. Ведь теперь ему представилась возможность ещё раз самостоятельно попытать охотничьего счастья. Пан Войховский от души пожелал Прохору на этот раз добыть своего первого и самого большого петуха. Трофей, естественно, должен пойти на панскую кухню.
Ещё после первой удачной охоты, весьма довольный добытым трофеем пан Войховский, не скупясь, учил Прохора тонкостям скрадывания глухаря, делился секретами этого редкого промысла. Так он поведал ему, что глухариная песня делится на две части. Сначала раздаются несмелые щелчки и «тэканья», при которых птица часто замолкает и прислушивается. Затем эти щелчки раздаются быстрее и смелее. Постепенно глухарь входит в песенный азарт, но охотнику двигаться на этой песне ещё ни в коем случае нельзя. Это – первый такт. И лишь когда упоённый пением бородач переходит ко второй части своего сольного выступления, вот тут-то надо быть начеку. Как только начинается своеобразное точение или, как говорят полешуки, «косовица», только тогда-то и глохнет на время глухарь. А называют эту часть песни косовицей, потому что уж очень звуки похожи на те, что раздаются на сенокосах. И ещё очень важно для охотника уметь определять начало и концовку этого периода пения, потому что именно за это время есть шанс приблизиться к птице на несколько шагов. Не рассчитал на мгновение – и всё насмарку!
Поверхностные сведения о том, что поющий глухарь не слышит, знают даже бабы и детишки. Отсюда и название этой редкой птицы – глухарь. Но то, что токующий глухарь теряет слух только лишь в определённые моменты пения, стало тогда для Прохора неожиданной новостью.
Увлекательнейшая весенняя охота на глухаря не оставит без ярких впечатлений ни одного охотника. Даже если и не удаётся добыть эту важную и осторожную птицу, то настоящий охотник всё равно будет доволен хотя бы тем, что услышит своеобразный гимн заре в исполнении краснобрового бородача.
Прохору не раз приходилось с замиранием сердца лишь провожать взглядом вспугнутых им улетающих косачей. Но на этот раз он почему-то был уверен, что фортуна будет на его стороне.
Вот уже и облюбованное глухарями место для состязаний. Обычно это лесные опушки, моховые болота, пролески или другие места, где есть немного простора на земле и стоят деревья-вышки, откуда можно оглядывать округу и на далёкое расстояние бросить вызов соперникам.
Дальше Прохор начал продвигаться с особой осторожностью. Он уже с вечера точно знал, что сегодня ток будет именно в этом месте. И маршруты скрадывания просмотрел заранее: отбросил упавшие сучья, чтобы их предательский треск не выдал его; кое-где загодя, чтобы птицы привыкли к окружающей обстановке, воткнул в землю срубленные молодые сосёнки с густой хвоей. Это давало дополнительные укрытия.
И вот в сером мраке раздались первые осторожные такты и щелчки глухариной песни. Заслышав их, охотничий азарт вытеснил из сознания Прохора все остальные чувства. Человек превратился в комок сосредоточенности и собранности. Движения молодого охотника стали мягкими и осторожными, как у рыси. Каждый его шаг был продуман и рассчитан; ни одного лишнего или неосторожного движения.
Набирая силу и уверенность, неслась навстречу заре хвалебная ода пробуждающейся жизни. По раздающимся звукам Прохор без труда определил, что поющий глухарь сидит на полузасохшей сосне с редкими, но огромными ветвями-сучьями. Такой вариант он предполагал, и это облегчало задачу. Главное сейчас – не нарваться на кряхтунов. Так называют молодых петухов, которые ещё не токуют, но уже пробуют свои голоса, издавая звуки, похожие на кряхтение и хрюканье. Они-то все отлично слышат и видят. Вспугнёшь кряхтуна или глухарку – снимется и токующий петух.
Пройдя ещё немного, Прохор замер. Дальше надо подходить только под глухариную косовицу. Улучив в пении птицы нужное коленце, охотник быстро сделал несколько шагов и замер. Буквально через мгновение кошение оборвалось. Токующий петух, придя в себя от песенного экстаза, замер, внимательно вслушиваясь в серый сумрак. Не уловив ничего подозрительного, он с ещё большим азартом начал опять токовать. Одиночные щелчки сменялись непрерывным тэканьем. Первые звуки «кишив» – и Прохор опять делает бросок вперёд. И чем ближе подбирался он к глухарю, тем более осторожно и скрыто приходилось делать следующие несколько шагов.
Вот уже на фоне светлеющего неба показалась и верхушка нужной сосны. Токующий глухарь находился там, но птицу пока не разглядеть. Прохор сделал упор для ружья на развилке веток. Расстояние до дерева позволяло сделать прицельный выстрел. Ближе подходить охотник не рискнул.
На далёком горизонте занималась утренняя заря. Медленно и величаво поднимался над весенней землёй огромный багряный диск. Всё живое радовалось утреннему солнцу, весеннему солнцу – символу новой жизни и любви.
Счастливая птица в упоении пела теперь уже почти без перерывов. Где-то здесь, рядом, находилась та, ради которой звучала эта песня, ради которой этот гордый косач готов был грудью биться с соперниками. Возбужденный глухарь уже не мог сидеть на месте. Спустившись пониже, он в нетерпении расхаживал по толстой ветви, высоко вытянув шею и распустив веером хвост. Восторгу птицы не было предела. Краснобровый красавец безумно радовался миру, своей избранной самочке, радовался своей гортанной песне. В этот момент он чувствовал в себе огромную жизненную силу и уже готов был дать бой любому, кто осмелится принять его вызов. Но откуда было знать этой гордой птице, что вызов её давно уже принят. Принят… человеком!
В самый разгар токования глухарю не суждено было услышать выстрел. Не суждено было до конца допеть свою оду любви. Смертоносный свинец оборвал глухариную песню на самой счастливой и ликующей ноте.
Непонятная и невыносимая боль резанула сердце благородной птицы. И если б могла она закричать голосом разума, то пусть бы услышал весь мир: «Как же так?! Почему?! За что?!» Но мир остался безучастным и равнодушным к непоправимой беде прекрасной птицы.
С громким шумом разлетелись остальные глухари. Возможно, уже на завтрашней заре самочки-глухарки будут слушать другую песню, забыв о сегодняшней, прерванной…
Прохор стоял над распростёртой птицей. Вместо потухшей искры божьей в застывших глазах глухаря отражался кровавый рассвет, принёсший ему такую печальную участь.
Но жизнь продолжалась! Солнце вставало, дарило свет и тепло всему живому. Мир пробуждался и радовался весне. Вот только для смертельно раненной птицы не нашлось больше места в этом огромном мире…
Глядя на добытый трофей, человеку вдруг стало грустно от мысли, что уже никто и никогда не увидит и не услышит это чудо природы. Прохор уже начал было даже немного сожалеть о своём метком выстреле. Но, что сделано, то сделано.
Путь в деревню неблизкий, но Прохору, если он не очень устал, всегда нравилось возвращаться домой длинными верстами. В эти часы он любил предаваться воспоминаниям и мечтам. Все сожаления по поводу добытого глухаря вскоре развеялись и уступили место воспоминаниям недалёкого прошлого.
Перед глазами Прохора уже в который раз вставали события злополучной охоты на медведя. Он помнил всё до мельчайших подробностей. Не мог забыть. Да и как забудешь, когда тебя без вины – плетью! Прохор хотя и был холопского происхождения, но чувство собственного достоинства у него было не на последнем месте. Несправедливость и унижение всегда сильно ранили ему душу. Так и тогда… Сгоряча не разобрались, обиду крепкую причинили… И подаренное ружьё отобрали. Ну, не подаренное… Егор Спиридонович ещё отцу вручил своё старое ружьё для несения службы. Прохор тогда ещё мальчишкой был. Повзрослев, он не только помогал Гришаку в работе, но и с ружьишком тем управлялся с завидным умением.
Правда, не прошло и недели после того случая с медведем, как пан Войховский вызвал к себе Прохора и, ничего толком не сказав и не объяснив, вернул ему ружьё. А Прохор и не лез с расспросами и оправданиями. Раз вернули, значит так надо. Да… скверное недоразумение вышло тогда на охоте. Хотя как поглядеть. Вся охота прошла с одним лишь выстрелом. И если бы медведь не зацепил молодого панича, то это было бы верхом охотничьего мастерства. Один выстрел на такого зверя… Хотя… Ну-ка, ну-ка стой! Только сейчас вдруг Прохор вспомнил, что когда он в горькой досаде ринулся напролом через лес, то потом неожиданно услышал ещё один далёкий выстрел. Тогда ему было всё равно. Да и сейчас, какая теперь уж разница, кто и куда там палил. Хорошо, что хоть больше ничем не аукнулась та история. Что ж, и на том спасибо…
Потом в голове Прохора мирно закрутился калейдоскоп мыслей о будущем. Мечтал он о добротной своей хате. Обязательно с хозяйкой-красавицей и с кучей детишек на печи. Часто мысли сбивались и прыгали в прошлое. Вспоминалось детство. И как всегда, Прохор с особой теплотой вспоминал своего деда.
Вот уж и панский дом видён. Но молодой охотник решил сначала зайти домой и похвалиться великолепным трофеем.
В крестьянской избе с интересом разглядывали большую птицу. Младшие дети расправляли глухарю крылья и в восторге выкрикивали: «Ого!» Осторожно потрогав пальчиком красные брови или взъерошенную бороду петуха, резко отдергивали руку и, дурачась, визжали, словно неподвижная птица могла их клюнуть.
– А где батька? – спросил Прохор у матери. Ему непременно хотелось, чтобы отец оценил добычу.
– Так он к пану пошёл… С самого утра конюх наведался, наказ панский передал, чтоб он в имение пришёл. Но мы что-то так и не поняли…
– Что не поняли?
– Так, кажись, как тебе надобно было к пану явиться. Тебя не было… Ну, вот батька и пошёл узнать…
– А-а-а, пустое, – махнул рукой Прохор. – Егору Спиридонычу не терпится узнать, с чем я с охоты возвернулся. Вот расстроится панское самолюбие! Ну ладно, мне всё равно туда надо. Там и батьку увижу.
У самого панского дома Прохор встретил отца.
– Чего Войховский вызывал? – сразу поинтересовался он.
– Так чёрт его знает… Он мне толком ничего и не сказал. Но я одно понял: тебе надобно куда-то то ли ехать, то ли идти… – Гришак говорил с нескрываемым волнением. Видно было, что он что-то не договаривает.
– Так, батя, давай рассказывай как есть. Что стряслось?
– Да ничего не стряслось! Просто предчувствие у меня дурное… – сказал Гришак и виновато глянул сыну в глаза.
– Говори, не тяни.
– Опасения меня одолевают, Проша. Боюсь, что надумал Егор Спиридонович продать тебя. Или ещё хуже того, чтоб в карты не проиграл. Хотя – не. Не водятся за ним такие грешки. Ступай сам к нему. Там всё и прояснится.
– Ладно, пошёл я, – насупившись, сказал Прохор и направился к дому пана Войховского.
– С богом, сынок. А! постой…
– Ну? – обернулся Прохор.
– Как поохотился-то? – казалось, без особого интереса спросил батька.
– Добре, – буркнул в ответ сын и поправил на плече увесистую торбу. – Одной глухариной песней в лесу меньше стало. Зато на панской кухне смажениной[18] будет смачно пахнуть.
В голосе Прохора к ноткам сожаления прибавилась и какая-то злость. Сильно взволнованный он вошёл на панский двор.
Возле дома, у самого крыльца, его уже ждал Егор Спиридонович. Он рассеянно выслушивал какие-то объяснения конюха Назара и бросал короткие, но пристальные взгляды на приближающегося Прохора.
– А-а-а! Прохорка! Давай проходи. Ну, рассказывай, как сегодня удалась охота? Есть чем похвалиться? – обрадовано воскликнул пан Войховский, но слишком уж наигранной была его весёлость.
Прохор молча скинул с плеча котомку и вынул оттуда свой трофей. Егор Спиридонович восторженно поцокал, но долго разглядывать глухаря не стал.
– Отнеси Маланье. Отличное жаркое выйдет. Молодец, – небрежно похвалил пан охотника и, замявшись, добавил: – А сам ко мне подымись. Известить тебя надобно кое о чём.
У Прохора тревожно защемило сердце. Странное поведение и тон Егора Спиридоновича не предвещали ничего хорошего. Застыв на месте, крепостной провожал беспокойным взглядом ушедшего в дом пана Войховского. Раньше никогда такого не было, чтобы Егор Спиридонович минимум с четверть часа не расспрашивал об охотничьей вылазке. Значит, всё-таки разговор будет не из приятных…
Крепостные, особенно семейные, жуть как боялись быть проданными другому помещику. Ведь если покупалась одна семья, то зачастую надо было перебираться поближе к другому имению. Это доставляло массу хлопот с переездами, с жильём, с привыканием к новому месту. В большинстве случаев, при покупке крепостных, семьи оставались на своих селищах, просто менялся хозяин. Но иногда бывало и наоборот. В любом случае крестьяне претерпевали некоторый страх перед грядущими переменами в их привычном укладе жизни. Ведь даже если у них объявлялся новый хозяин, то ещё неизвестно, с какими причудами и характером он будет. И сейчас, судя по всему, именно к продаже крепостного шло дело.
Если бы это касалось кого-то другого, то у пана Войховского не было бы никаких заминок. Чигири же состояли на особом положении, и Егору Спиридоновичу очень не хотелось доставлять им огорчения.
Прохор робко постучался в дверь.
– Заходи, заходи, – послышалось в ответ.
Зайдя в просторную залу, парень остановился у дверей и нервно переминался с ноги на ногу. Его насупленный взгляд вопрошающе буравил спину Егора Спиридоновича. А тот молчал, стоя у окна и как будто что-то там разглядывая. Наконец раздался его серьёзный голос:
– Прохор, я думаю, ты помнишь пана Хилькевича.
– А чего ж не помнить? Помню, – ответил Прохор, и сердце бешено заколотилось. Вот и начала аукаться та история. Самое страшное предположение Прохора, похоже, начало сбываться.
Егор Спиридонович повернулся к Прохору и без всяких отвлечённых речей прямо сказал:
– Вчера письмо от него получил… с просьбой. В общем… будешь теперь, Прохорка, служить другому пану. Тебя изволил Семен Игнатьевич у себя на службе иметь. Вот так-с, голубчик. Но ты не расстраивайся… не так уж всё и плохо.
Ошеломлённый Прохор не мог и слова вымолвить.
Видя, какое воздействие на хлопца произвело известие, пан Войховский уже мягче проронил:
– Вчера ещё сказать тебе хотел, да подумал, что не до охоты утром будет. И дома-то сам остался, чтобы предоставить тебе возможность напоследок отвести душу…
– Егор Спиридонович, как же так? Я ведь вам верой и правдой… – начал было проситься Прохор.
– Всё уже решено. Не рви напрасно сердце. Ничего изменить уже нельзя, – непоколебимый тон пана Войховского сразу превратил пыл надежды Прохора в горечь безысходности.
И парень вдруг ясно понял, что, попав в руки пана Хилькевича, будет там самым опальным, а посему и самым последним холопом. Таких ожидает незавидная участь. Вся самая тяжёлая и грязная работа не минёт его рук. Хотя Прохор работы и не боялся, но при одной мысли, что не ходить ему больше по лесу, не помогать пану Войховскому в проведении охоты, приводили парня в ещё большее отчаяние.
– Что ж, теперь всё понятно, – обречённо сказал он. – Пану Хилькевичу намного удобнее держать виновного под рукой. Скверно на душе – а вот и я! Получи недарека плетей не за дело! Авось на душе и полегчает. Премного благодарствую, Егор Спиридонович! Я…
– Дурак, – просто и без эмоций Егор Спиридонович прервал бедственную речь крепостного, но тут же, подойдя вплотную к Прохору, вдруг грозно прорычал: – Кто ты такой, чтоб указывать мне, как поступать? А?! Вот то-то, лучше уж помалкивай – тебе же спокойнее будет.
Прохор никак не ожидал от пана Войховского такого отношения. Конечно, они были птицами несоизмеримых полётов, но ведь сколько времени проводили вместе на охоте. И всякое бывало. В мороз и в дождь, в лесу и на болоте они оба знали, что, случись беда, помогут друг другу. А тут вот – на тебе! Ага, помог пан холопу!
Прохора душили досада и негодование. Но что он мог? Повлиять на решение Егора Спиридоновича не получилось. Сниматься с родных мест и перебираться на чужбину тоже не хотелось, тем более Прохор догадывался, какая там ждёт его встреча. В бега, что ль, податься? От таких невесёлых мыслей парень тяжело вздохнул и без разрешения сел на ближайший мягкий стул с резной спинкой. В другое время такое своеволие дорого обошлось бы крепостному, но сейчас Прохору было всё равно.
– Ну что ты уже приуныл, как красна девица без хлопца, – смягчившись и не придав значения тому, что он стоит, а его холоп уселся на дорогой стул, сказал пан Войховский.
– Радоваться нечему, – угрюмо буркнул Прохор.
– Ладно, Прохорка, теперь слушай меня внимательно. Никто тебя ни на какую расправу не отдаёт. Любезнейший Семен Игнатьевич в большом долгу перед тобой! Охоту на медведя помнишь?
– Да уж век не забуду. Помню и то, что Семен Игнатьевич уже «благодарил» меня. Кнутом. Да, видно, не до конца ещё благодарность его выплеснулась.
– Не горячись. Тогда пан Хилькевич за сына сильно испугался. На его месте любой метал бы гром и молнии. Так что я его очень даже понимаю. Сын-то Андрей у них – единственный. Не дал Бог больше детей.
– Мне от этого не легче.
– Ну, так вот слушай и не перебивай, может быть, и станет легче. В общем, не разобрались мы тогда толком, как всё было. Да и сам Андрей Семенович не мог сообразить, что и как там у вас получилось. Что с виду было, в то и поверили. Никто и предположить не мог, что ты, находясь на другой стороне зарослей, всё же успеешь прийти вовремя и с дальнего расстояния такой выстрел произвести.
Прохор от таких речей аж вскочил.
– Егор Спиридонович, так мне же и рта не дали открыть, да и после я вам рассказывал, как всё было. А вы ничего мне тогда не сказали. Значит, не поверили. Правда, ружьё вскоре опять дали.
– Поверил, не поверил, какая теперь уж разница! Знал я тогда, как всё на самом деле произошло. Ну, может, в мелочах ошибался… И я знал, и Семен Игнатьевич знал. Ещё в тот же день мы всё знали. За тобой посылали, а тебя носило где-то по лесу. Вот только сам Андрей Семенович лишь недавно узнал настоящую правду. Тогда он в шоке сильном был, недосуг соображать ему было, а мы скрыли…
– Егор Спиридонович, что-то вы окольными путями мне всё рассказываете. Не пойму я никак, к чему клоните.
– Я ж тебе говорил: не перебивай. Всему своё время. Ну, так вот, слушай дальше. Повезли мы тогда Андрея в имение. Вчетвером едем на возку, да четыре ружьишка рядом лежат. Семен Игнатьевич сына укрыл попоной и не стал больше расспрашивать ни о чём. Не хотел беспокоить, значит. Перекинулись мы с паном Хилькевичем незначительными словами и дальше едем. Вот тогда Семен Игнатьевич и заинтересовался твоим, вернее, моим старым ружьём. Осмотрел, курок взвёл, а полка то гарью пороховой покрыта. Стреляли, выходит, из твоего ружьеца. Но у пана Хилькевича сгоряча мысли в другом направлении пошли. «Так он что, на медведя с незаряженным ружьём шёл?!» – в ещё большем негодовании выкрикнул он. А я-то не понял что к чему, да и удивляюсь чрезмерно: «Не может быть такого!» – говорю. А он дуло отвёл и – стрик. Нет выстрела! Потом начал спокойнее соображать. Взял ружьё Андрея, боёк взвёл да и нажал на курок. Возничий наш едва с саней не свалился. И Андрей Семенович ещё раз перепугался. Оно-то, конечно, и так можно было определить, что заряд в стволе есть. Даже порох с полки весь не рассыпался. А Андрей приподнялся тогда и головой завертел: «В кого стреляли?» – «Лежи, лежи. Зайца вспугнули. Да где уж попадёшь в лесу по такому шустрику», – успокоил тогда сына пан Хилькевич, а сам поправил накидку и многозначительно на меня посмотрел. Вот так и вышло, что правду узнали и мы с паном Хилькевичем: Андрей в суматохе, наверное, забыл курок взвести. Ружьё вскинул, а выстрелить не смог. А твой выстрел в горячке принял за свой, с задержкой и без отдачи. Всё это понять можно… Ему в тот момент не об этом думалось, да и вряд ли он был в состоянии тогда о чём-либо вообще думать.
После выстрела возничий тоже ничего не понял, а позже мы условились с Семеном Игнатьевичем и Андрею ничего не говорить. Так всё и оставили: ружьё Андрея выстрелило в медведя, твоё – в зайца. Решили, что пусть молодой Хилькевич думает, будто он медведя застрелил.
Семен Игнатьевич тогда очень расстроился, что попусту тебя обидел. Обещал подарок дорогой тебе сделать. Наверное, ружьё имел в виду.
Мужики медведя освежевали, шкуру уложили, и рано поутру Хилькевичи уехали. А самое главное Семён Игнатьевич сказал мне тогда на прощание: «Егор Спиридонович, знаю, дорожишь хлопцем очень. Но гадко что-то на душе у меня. Зря обидел парубка. Как не крути, а выходит, что спас он жизнь моему сыну. В общем, хочу забрать Прохора к себе на службу. У тебя Гришак ещё в силе, а у меня людишки лес воруют, браконьерством балуют. Мне как раз и нужен такой человечек. Во всём ему помогать буду… Что скажешь Егор Спиридонович?»
Я, конечно, был несказанно удивлён таким поворотом и не готов был сразу дать ответ. Ну и сказал ему что-то вроде: «Я подумаю. Прохор самый толковый работник…» – и всё такое прочее. Но уж очень настойчив был Семен Игнатьевич. Мы тогда к окончательному решению так и не пришли. Уже сев в повозку, пан Хилькевич крикнул на ходу: «Письмецо пришлю! Отказа, Егор Спиридонович, не принимаю! До скорого!»
Вот так и уехал тогда пан Хилькевич со своим единственным сыном. Я уж думал, что он и позабыл о своём намерении, а вот выходит, что не забыл, – закончил свой рассказ пан Войховский.
Прохор сидел в глубокой растерянности. Такого поворота он тоже не ожидал. Это, конечно, в корне меняло ситуацию. Но ему, как и любому селянину, страшно было менять условия жизни, к которым он привык. Тут всё знакомо, тут его родные, тут он вырос. Там всё надо начинать сызнова.
– Егор Спиридонович, а может всё-таки не надо мне туда? – Прохор сделал ещё одну слабую попытку уговорить Егора Спиридоновича изменить своё решение. Голос его звучал неуверенно. Он знал, что если паны договорились, то никакой холоп не переубедит их в обратном. Прохор только одного не знал: пан Хилькевич на упорство Егора Спиридоновича пригрозил ему разрывом дружеских отношений, а главное, пообещал такую сумму за Прохора, что отказаться было бы просто глупо. Эти два условия в одночасье склонили пана Войховского к согласию.
– Ты, Прохорка, не горюй. Знаю, о чём думаешь. Так вот я тебе и говорю – можешь мне поверить – просторы охотничьи там намного интереснее и богаче наших будут. Почти девственные леса, заливные луга, речка… правда, небольшая. А болота кишат утками дикими. Но и это не всё. Семен Игнатьевич говорил, что у них там самые красивые девки. А как на праздники гуляют! Хороводы водят, у костров сидят! А какие песни поют! Короче говоря, готовься. В начале следующего месяца приказчик по моим делам в Каленковичи поедет, и ты с ним. А там тебя встретят и заберут. Ну, вот, кажется, и всё, – подвёл черту всему вышесказанному пан Войховский.
Этими словами он подвел черту и под периодом жизни крепостного селянина Прохора Григорьевича Чигиря, прожившего под родительским кровом двадцать лет.
Глава 7
Отчаяние переполняло Янинку. Вот уж около года прошло, как она с 1 матерью по воле злого рока опять оказалась изгнанной из обжитых мест. Серафима заверяла дочку, что это ненадолго, надо лишь переждать смутное для них время. Но это же время с каждым днём всё больше и больше искореняло надежду на возвращение к нормальной жизни. Словно воск, эта надежда таяла и слезами исходила, оплакивая лучшую пору жизни, которую девушка проводит в этой глухомани. Вокруг только лес и уныние, болота и тоска. А сколько ещё рассветов предстоит ей встретить здесь в одиночестве?
Янинка знала, из-за чего они оказались в этой глуши. Знала и не могла простить. Между ней и матерью всё чаще возникали ссоры и размолвки. Девушка едва ли не каждую ночь проливала горькие слёзы. Серафима становилась всё более озлобленной и раздражительной.
Янине иногда даже казалось, что мать вымещает на ней злобу за свою неудавшуюся жизнь. А то, что злой рок преследует Серафиму, так дочка на это уже давно ей сказала: «Кара божья за твои дела грешные!»
Сколько девушка себя помнит, столько и приключались с ними всякие гонения, вернее, гонения матери, а заодно, естественно, доставалось и дочке. Мать не любила рассказывать о значимых эпизодах своей жизни, потому что хвалиться было нечем. А всё, что случалось поганое, Серафима всегда преподносила это Янине совсем в ином свете, дабы обелить себя и свои деяния. Вот только первый и самый страшный случай был из-за деда. Янина тогда была маленькой и очень смутно всё припоминала, но отдельные моменты всё же так врезались в память, что она будет их помнить до конца дней.
Серафима всё время на расспросы дочки об участи деда рассказывала ей целую сказку-страшилку о зверстве и жестокости неотёсанных мужиков, напавших тогда на их хутор. Но Янинка подрастала, видела, чем занимается мать, и знала, чем занимался дед. Впоследствии у неё сложилось своё представление о том ужасном дне…
Давно это было. Жили тогда они на каком-то хуторе. Жили вчетвером: дед, Серафима с мужем и их маленькая Янинка. Батьку Янинка помнила смутно, но обрывочные воспоминания о нём остались самые светлые. Потом, как поняла она уже позже, батька, узнав, что тесть колдун, да такая же и женка, оставил их. Дед, и до этого не отличавшийся мягкостью характера, после ухода зятя совсем взбеленился. От злости старика доставалось почти всем, кому доводилось иметь с ним какое-либо дело. Крестьяне едкого старика побаивались и всячески старались избегать ненужных встреч с ним. Дочку и внучку старый ведьмак не то чтобы любил, но относился к ним терпимо, даже, можно сказать, с крестьянской заботой: обоим находил работу.
И вот однажды в один из знойных летних дней дед Янины возвращался из местечка пешком. Был базарный день. Старую лошадь, да ещё и с изъяном дед удачно продал – он знал, как это сделать – и в добром расположении накупил домой всякой всячины. Да не рассчитал маленько! Лошади-то уже не было.
Хоть и крепок был ещё старик, но уж больно тяжко давалась в тот день дорога. Добрый десяток вёрст ещё впереди, а в котомке за плечами под пуд[19] ноши, да над головой полуденное солнце нещадно палило. Очень трудно было старику в тот час. Но через некоторое время, на счастье старика, нагнала его подвода, а на ней три знакомых мужика из соседней деревни. Приостановили лошадь, чтобы путника подвезти, а когда увидели, что это за путник, отпихнули его, да коня в галоп пустили, чтоб отъехать быстрее и как можно дальше. Испугались козней колдовских. Думали на задрипанном конике уйти, чтоб, не дай бог, неприятность какую не нажить. Ан, нет! Наоборот вышло. Как раз и нарвались на неприятности.
Ярости старика не было предела. Весь путь проклинал мужиков на чём свет стоит и особенно того, кто лошадью правил; от злости аж кипел весь! Зато дорогу преодолел незаметно. Причинённая ему обида не давала уснуть до глубокой ночи. И всё это время ведьмак слал на обидчиков самые страшные проклятия, которые не заставили себя долго ждать.
То ли это было совпадение, то ли и в самом деле проклятия сбываются, но буквально на следующий день лошадь, на которой ехали мужики, околела. Правда, она уже и так совсем старенькая была, весной соху с трудом еле тягала. А тут её по жаре порядком прогнали, да не уследили, чтобы воды сразу после этого не пила. Вволю из дежки напилась, а это для любого живого существа в большую тягость. Вот и не выдержала лошадка. Кого винить? Знамо кого – ведьмак приделал. Голосили мужик с бабой по издохшему конику, а тут и другая баба заявляется. Хозяин её, что вчера тоже ехал на возку, ходить не может: ногу подвернул. Полез стреху подправить, да и кувыркнулся с лестницы. Тут уж дураком надобно быть, чтоб не догадаться, что не спроста всё это. Таких совпадений почти и не бывает! Побежали все вместе к третьему вчерашнему попутчику. Не успели добежать, а уже гвалт на полдеревни услышали, и дым валит из-за хлева у того мужика. Сначала, как увидели сполохи дымные, решили: хлев горит. Но, слава богу, оказалось, что детишки подпалили копну сена за хлевом.
Летом селяне печку топили, только чтоб хлеб испечь или щей каких сварить. Вот детки и умудрились незаметно вытянуть угольков. Начали играться с огнём, прячась от взрослых за стожком сена, а как в руки припекло, так и упали угольки в сухую траву. Хорошо, что хоть одно сено сгорело: стожок стоял поодаль от хлева. Опять же вопрос: кого винить? Вроде-то сами за детишками не доглядели. Так не-е-е! Лучше свалить вину на кого-то! Вот и выходило: не доглядели, потому что бес вмешался. А откуда он взялся? Тут тоже всё понятно: ведьмак наслал. И это уж не впервой такое происходило, когда ни с того ни с сего на людей лихо сваливалось. А в последнее время так и вообще неприятности сыпались как из рога изобилия.
И переполнилась людская чаша страха и терпения. Поднялись селяне всёй деревней да на хутор к колдуну ринулись. А когда валит народ толпой неуправляемой да многолюдной, тогда уж не только колдуна не испугается, а и сам чёрт нипочём будет. Разве что урядник смог бы попробовать остановить такую ораву. И то вряд ли.
– На огонь его!
– Всех спалить!
– Всё отродье бесово на огонь!
– Натерпелись лиха! Хватит! – из людской лавины неслись злобные выкрики, ещё больше распаляя ярость в толпе и придавая решимости даже самым суеверным селянам.
Гудела земля под грозной поступью людей; замолкали птицы, разбегались звери, напуганные вырвавшейся на волю злобой человеческой. Бабы голосили и визжали, мужики хрипели и ухали. И с каждым выкриком толпа зверела ещё больше. С тяжёлым надрывным свистом вырывался воздух из лёгких тех, кто молча спешил на расправу; их угрюмый и решительный вид навел бы ужас на любого постороннего человека. Безумием горели глаза каждого в отдельности, но в намерениях все были едины. Разъярённая толпа была одним целым! И эта дикая массовая ярость сравнима была лишь, может быть, с беспощадным стихийным бедствием.
Самые решительные мужики потрясали над головой вилами, топорами, кольями. В грязных жилистых руках в нетерпении пылали головешки и факелы, начавшие уже подымливать на исходе сил. Казалось, каждый ещё живой сполох пламени, теряя искры, подгонял толпу, спешил. Ведь каждая маленькая искорка просто мечтала породить исполинское детище. И, похоже, эти догорающие малютки все же успеют внести главную лепту в общее безумие…
Глянув случайно в окно, Серафима тогда первая заметила плывущую по полю чёрную людскую волну. Представшая взору картина внушала страх и ужас перед необузданной толпой. Мать Янины сразу сообразила: быть беде. От испуга подкашивались ноги. Глухо ойкнув, она опустилась на лавку. Но рассиживаться было некогда. Преодолевая противную слабость, Серафима выскочила из хаты и позвала деда, возившегося в хлеве.
Старый ведьмак тоже быстро смекнул, что к чему. Вывод ясен как день божий: толпе нужен он! Страх сковал тело и разум лишь на несколько мгновений.
– Быстро забирай Янинку, необходимые вещи и утекайте в лес! – трясущимися губами приказал старик, а сам бросился в избу к запертому сундуку.
Янине хорошо запомнился тот момент, когда мать бегала по хате, собирая лучшее из одежды, а дед стоял на коленках и в спешке пытался открыть замок непослушными от волнения руками. Сама же перепуганная Янинка стояла в то время посреди избы и тихо ревела. Она тогда не боялась каких-то там приближающихся чужих людей. Её пугало растерянно-суматошливое поведение матери и деда и особенно их страшное выражение лиц.
Наконец, сбросив в постилку все собранные вещи, Серафима схватила за руку маленькую Янинку и, окинув напоследок прощальным взглядом избу, ринулась к двери.
Янина до сих пор не может понять, почему тогда она боялась громко плакать. Ведь ей насчёт этого никто ничего не говорил, не приказывал. Но какое-то шестое чувство заставляло ребёнка сдерживать громкие рыдания, чтобы не накликать ещё большей беды.
Они уже выбегали за хлев, когда их догнал дед и отдал Серафиме какие-то вещи. У Янины в памяти запечатлелись лишь шкатулка и старая потрепанная книга в диковинных обложках. Дед тогда сказал матери:
– Береги это, дочка. С этим вы не пропадёте. И утекайте! Бегите вообще из этих мест. А я их задержу… Образумить попробую…
Как они бежали в лес, Янина не помнит. Но в памяти ещё один момент отложился довольно отчётливо.
Они с матерью, добравшись до леса и схоронившись в зарослях, издали наблюдали за своим хутором. Наблюдали за своей родной хатой, за последними минутами уходящего мира, в котором до сих пор жили и в который возврата уже не будет.
Что сталось с дедом, маленькая Янинка тогда не видела. Лишь спустя многие годы она поняла, какая участь постигла его. А тогда, стоя за густой листвой и чуть раздвинув ветви, они издали глядели, как люди, словно муравьи, заполонили их подворье. Дед, видимо, пытался образумить разъярённую толпу, что-то кричал и вскидывал к небу руки. Девочка с матерью не могли слышать, что он выкрикивал, но увидели, что это ещё больше взбесило людей. К несчастному сразу бросилось несколько мужиков с вилами. В этот момент ладонь матери легла на глаза маленькой Янинки…
Когда Серафима потянула за собой дочку, та всё же успела оглянуться. Над их хутором плясали огромные языки пламени. Клубы черного дыма, похожие на извивающееся чудовище, ползли ввысь, закрывая собой полнеба. Это ужасное зрелище сильно тогда напугало Янинку, и было последним, что врезалось на всю жизнь в память маленькой девочки…
Серафима, уходя подальше от опасности, брела с дочкой по дорогам и трактам белорусского Полесья. Ей до сих пор не верилось в то, что случилось. Ведя маленькую дочку за руку, она часто нервно вздрагивала и оглядывалась. Сказывалось неимоверное потрясение, и от этого Серафиме часто чудились зловещие голоса и крики настигающей их погони. Но чем дальше она уводила дочку от места ужасной расправы, тем спокойнее становилось у неё на душе.
Серафима шла, сама ещё точно не ведая куда. Только бы подальше! Питались в скитании как придётся и чем придётся. Иногда, жалея молодицу с девочкой, их подбирали попутные крестьянские возы. Несколько дней мучительных скитаний, десятки пройденных верст – и они добрались до местечка Мазыр[20], где, оглядевшись и устав от трудностей дорог, Серафима решилась наконец остановиться.
Найдя приют у одинокой вдовы и проведя в местечке около месяца, мать Янины окончательно убедилась в правильности своего выбора. Ей приглянулось это местечко, разбросанное на живописных холмах. Полноводная Припять несла свои воды прямо у подножья возвышенности, на которой стояла хата вдовы. Никогда раньше Серафима не видела такой большой реки; она была несказанно поражена природным величием и красотой этих мест.
Мизерная плата за жильё тоже сыграла важную роль в решении Серафимы. О себе она всем рассказывала почти правду: хата сгорела, родных, кроме дочки, никого нет. Возможно, вдова просто пожалела несчастных погорельцев и приютила их, чтобы и самой веселее было, да ещё и какую-то копейку на этом заработать.
В Мазыры Серафима сначала затаилась, вела себя неприметно, но в то же время с интересом присматривалась, как и чем живёт местечковый люд. Немного освоившись и пообвыкнув на новом месте, она с осторожностью взялась за своё ремесло. Встречаясь и разговаривая с соседями, она как бы между делом начинала намекать, что может помочь в излечении многих недугов, болячек и прочих напастей. «Если обученные лекари не могут дать рады в снятии простого испуга, что уж тогда говорить о более серьёзных недугах. Я вот не раз помогала людям избавиться от хворей, супротив которых доктора лишь руками разводили», – при каждом удобном случае Серафима вставляла в разговор примерно такие слова.
И вскоре стратегия Серафимы начала приносить результаты. С различными недугами к ней потихоньку потянулся простой люд, у которого не хватало средств на настоящего лекаря. Люди рассчитывались за свои визиты в основном продуктами, реже вещами и совсем редко – деньгами. Давали кто что мог, и она брала всё, что ей приносили.
Маленькой Янинке на новом месте очень даже понравилось. Она подружилась с местной детворой, и у неё начался один из лучших периодов жизни. Беззаботное детство лучилось яркими впечатлениями от весёлых походов на реку, где всей ватагой затевали интересные игры и забавы. Часто бывало, что, заигравшись, дети целый день не показывались дома. Спохватившись только к вечеру, многие из них боялись возвращаться к строгим родителям, ибо там непослушных детей уже ждала порка. За долгое отсутствие иногда доставалось и Янинке; всё-таки у Серафимы она была единственной дочкой, и мать сильно волновалась за неё.
Так шли дни за днями. Проходили месяцы. Годы незаметно скрадывались неумолимым ходом временем. Из маленькой девочки Янинка превращалась в настоящую девушку-красавицу, на которую даже мужчины постарше начали бросать заинтересованные взгляды.
Серафима же заметно постарела, но в ремесле своём стала более мастита и уверенна. У неё появились свои постоянные клиенты, и она давно уже бралась больше за помощь в тёмных делах. Для неё такие услуги обходились меньшим расходом сил, а оплачивались более щедро. Сама не зная почему, но ей черная магия давалась легче, а действия доставляли даже своеобразное удовлетворение. Наверное, дух дьявола был сродни её сущности. И чем больше Серафима занималась чёрным ведьмовским ремеслом, тем больше её затягивало в зависимость от такого занятия. Если к ней долгое время никто не обращался с просьбой навести порчу на недруга, на скотину или сделать ещё что-нибудь такое, то Серафима испытывала зудящую потребность в свершении таких колдовских действий. Со временем этот зуд перерастал уже в мучительные страдания, и она готова была сделать что угодно и против кого угодно – неважно, будь то чужой человек или близкий. А из близких у Серафимы только Янина. Но всё же она не настолько теряла голову, чтобы причинять вред своей дочери! У неё хватало силы и умения, чтобы жертвой мог стать просто незнакомый прохожий. Для этого Серафиме достаточно было только глянуть в глаза встречному, прикоснуться или обмолвиться несколькими словами, а остальное – по накатанной дорожке. И у несчастного вскоре начинались неприятности, приводившие ведьму в состояние эйфории от сладкого чувства тайной власти.
Но ремесло, коим Серафима так усердно занималась, не проходило бесследно и для неё самой. Хотя по годам она была не совсем ещё старой женщиной, но на лице появились глубокие морщины и складки, придававшие ей вид измождённой старухи. И все же, несмотря на то, что Серафима сильно внешне сдала, физической и внутренней жизненной силы у неё было ещё предостаточно. Вот только становилась она всё более раздражительной и злобной, особенно если её вынуждали быть таковой.
Вскоре отошла в мир иной хозяйка старенькой избы, в которой проживали постоялица с дочкой. Померла бабка внезапно: днём ходила, разговаривала, ни на что не жаловалась, вечером, перекрестившись, спать легла, а на утро уже и не встала. Одни завидовали: смерть лёгкую приняла. Другие шептались, что помогла ведьма, чтоб хатой завладеть, да самой всем распоряжаться. Ведь не раз замечали люди, что Серафима в последнее время всячески притесняла старушку-хозяйку.
В любом случае вопрос с избой надо было решать в местечковой управе. Но Серафима никуда не пошла и лишний раз мозолить глаза панству не хотела: о ней и так уже давно ходили нездоровые слухи. Никто из управы не трогал – и ей нечего самой туда соваться.
Но всё же после этого Серафиму начал сильно тревожить излишний интерес нового урядника. То зайдёт поинтересоваться, всё ли чинно у неё, то людишек расспрашивает о них: кто такие, да откуда здесь появились, а главное, чем занимаются и на что живут? И это спустя многие годы, проведенные в Мазыры, после которых уже сама Серафима по праву считала себя мазырянкой.
У колдуньи всё же была маленькая надежда на то, что молодой урядник интересуется её дочкой-красавицей, вот и ходит кругами тут, словно мартовский кот.
Но в последний раз урядник очень уж подозрительные вопросики задавал Серафиме. Спрашивал, не объявлялись ли какие родственники умершей хозяйки? Не приходил ли в хату кто-либо незнакомый, представившись родственником? И даже поинтересовался, не знает ли Серафима причину, по которой владелица хаты внезапно отошла в мир иной. От всех этих расспросов за версту несло неприятностями. А тут и сам пристав однажды вызвал к себе в участок Серафиму. И её особенно насторожил интерес пристава к незнакомцу, с которым колдунья, на свою беду, однажды встречалась.
Нутром почувствовав неладное, прозорливая Серафима на время притихла со своей колдовской деятельностью, решила выждать. Но покоя душа не находила, и всё это время колдунья сидела как на иголках. Народ не зря говорит, что знает кошка, чьё мясо съела. Так и Серафима догадывалась наверняка, почему к её особе проявлялся такой интерес. И умершая вдова вовсе не была тому причиной, да и красавица дочка тоже. А настоящая причина, таилась за событием полуторамесячной давности и за странным незнакомцем, о котором осторожно выпытывал урядник.
Явился как-то раз к ней человечек, прилично одет, чисто выбрит, словом, из невеличких панов. Но уж больно нервный такой, боязливый. Всё оглядывался да шепотом загадочно говорил. Нет, кабы сразу просьбу свою изложить внятно, так сначала вокруг да около всё речь вёл. Прощупывал, не ошибиться бы. Да колдунья таких людей насквозь видит и знает, чем дышат. Небось замыслил дельце подленькое, а смелости не хватает самому исполнить. Потом догадка Серафимы полностью подтвердилась.
Начал посетитель ныть да жаловаться, что начальник жизни не даёт, а затем и выложил с чем пришёл.
– Накинь мороку на него… Бумажку надобно нынче важную подписать. Пройдёт два-три дня – поздно будет. А ещё лучше, если после подписи он и вовсе сляжет. Великую выгоду от этого иметь будешь, – с жаром говорил посетитель, боясь получить отказ.
Серафима и в самом деле сначала не хотела браться за этот странный заказ. Ей ещё батька, обучая тонкостям колдовского ремесла, говорил: «Дочка, старайся не встревать в дела казённые. На нашем поле хватит работы и с людишками попроще. Главное, чтоб работа результат давала и душу радовала».
– Дане, панок, не хочется мне с людьми государевыми связываться. Как бы боком самой не вышло. Ты уж не серчай на нерешительную бабу. Не помощница я тебе в этом деле, – спокойно тогда ответила отказом Серафима.
Её слова возымели действие на посетителя, словно того окатили ушатом холодной воды. Человек присел на лаву и, не веря в отказ, застыл с открытым ртом. Наконец, всё осмыслив, он сокрушённо произнес:
– Ты не нерешительная баба. Ты просто дура. Двадцать целковых на дороге не валяются. Ладно, о нашем разговоре забудь.
Странный человечек уже встал и шагнул к двери, собираясь покинуть несговорчивую бабу. По его виду было видно, что он уже сожалел о том, что пришёл сюда. Вернее, сожалел о том, что раскрыл свою тайну, в которой, видимо, был замешан ещё кто-то.
Теперь Серафима стояла в растерянности. Она никак не ожидала услышать такую сумму за свои услуги. Чтобы заработать такие деньги, ей понадобиться не меньше года присушивать сердца рябых хлопцев к любящим прыщавым барышням, наводить порчу и проклятия, снимать сглазы и заниматься прочей ерундой. А здесь, видать, дело серьёзное, раз такую награду сулит этот человек. И Серафима решилась.
– Постой… Тебя, мил человек, кто направил ко мне?
Человек в черной свитке замер на пороге. Всё еще держась за дверную дужку, он оглянулся и пристально посмотрел на колдунью. Его суетливая настороженность пропала, глазки не бегали. На Серафиму смотрел суровый и решительный взгляд.
– Я знал, что ты согласишься, – спокойно произнес человек.
От такой разительной перемены в облике посетителя Серафима аж обмерла. Она считала себя непревзойденным знатоком человеческих душ и характеров. И тут такой конфуз: трусливое ничтожество, по её определению, смотрело сейчас коварным взглядом хищника.
– Я хотела спросить…
– Да брось ты… Вот тебе задаток. Сделаешь дело – получишь остальное.
Незнакомец назвал чин, фамилию и имя человека, на которого необходимо воздействовать, не оставив Серафиме никакого шанса на отступление.
– Да, чуть не забыл. Вот тебе ещё и это… для пущего результата, – с этими словами человек бросил на стол платок со следами крови. Ещё раз «одарив» растерянную Серафиму колючим взглядом, он спокойно добавил:
– Это его платок… Кровь носом шла. Тебе всё понятно?
Растерянная Серафима смогла лишь утвердительно кивнуть головой.
– Тогда и у меня всё, – с оттенком раздумья сказал мужчина, но вдруг будто что-то вспомнив, он жестко добавил: – И не вздумай дурить, «нерешительная баба»!
Последние слова незнакомца прозвучали с нескрываемым презрением. От былой неуверенности у него не осталось и следа. Решив, что говорить больше не о чем, посетитель круто развернулся и уверенно шагнул к выходу.
Немного опомнившись, Серафима тогда ещё раздражённо подумала вслед: «Может и этому пану устроить жизнь весёлую, чтоб свет не мил стал. Пусть знает, как с ведуньями обращаться!»
И тут же, приостановившись в дверях, посетитель обернулся. Его пристальный взгляд прямо-таки буравил совсем растерявшуюся Серафиму. И снова её душа затрепетала в тревоге, которая и не замедлила прозвучать.
– Если что-то пойдёт не так, ты и твоя дочка будете в Припяти, – очень тихо сказал незнакомец, но тихо прозвучавшие слова только подтверждали, насколько реальна была угроза. – Раки любят человечину… и место у нас уже прикормлено… Так что не дури и займись-ка лучше делом.
У Серафимы в ногах появилась дрожь, и они начали подкашиваться. Чтобы не рухнуть на пол, колдунья схватилась за край стола. Незнакомец, конечно же, заметил испуг Серафимы и хищно ухмыльнулся.
Не назвавший своего имени мужчина ушёл, а ведьма ещё долго стояла посреди хаты с трясущимися руками и губами. «Как бы и в самом деле не нырнуть в темные воды с камнем на шее…» – с ужасом подумала она и по «дружескому» совету начала готовиться к делу.
Серафима очень старалась в ту ночь. От напряжения внутренних сил рубаха на спине стала влажной. В тот раз ей пришлось проявить всё своё колдовское мастерство не только из-за хороших денег, но и из-за возникшей угрозы со стороны таинственного визитёра.
Имя человека, на которого Серафима наговаривала заклятие, было знакомо почти каждому жителю местечка. Это был важный чин из управы.
Колдунья с заказом справилась блестяще. И это благодаря платку чиновника. Ведь на крови получаются самые сильные наговоры и заклятия, против которых редкий человек мог устоять.
Оставшуюся часть платы за свою работу ведьма ждала со страхом. В мыслях она готова была уже отказаться от остальной половины денег, только бы не встречаться опять с заказчиком. Но дело сделано и деньги принесли. К великому облегчению Серафимы, их принёс какой-то беспризорный мальчишка.
При помощи колдовства необходимые бумаги были подписаны, в результате чего выгодный государственный заказ получил один из панов, ранее часто уличавшийся в неблаговидных делах и афёрах. Получив немалый кредит из казны, проходимец был таков. Началось разбирательство этого дела, явно шитого белыми нитками. Внезапно слегший чиновник, ничего толком сообщить ревизорам и следствию не мог. Он даже не понимал, о каком документе его спрашивают, и вообще ничего по этому делу вспомнить и прояснить тоже был не в состоянии. Всё это выглядело более чем странно.
Может для Серафимы всё и обошлось бы просто волнениями из-за слухов о каком-то скандале в управе, но кому-то из панов вдруг пришло в голову обратиться к знахарю. Многим идея пришлась по душе. Некоторые даже советовали обратиться к Серафиме, но у того, кто подал идею, были сомнения именно на её счёт. И даже больше! Высказывалось мнение о непосредственном причастии колдуньи к этому делу. Не откладывая, власти тут же приступили к осуществлению задуманного. Вскоре нашли нужного человека.
Знахарь оказался калачом тёртым; он долго и с явным притворством напрягал какие-то, «одному ему присущие» сверхъестественные способности. Попыхтев на целый червонец казённых денег, он в конце концов всё же выдал свой ответ, полностью подтвердивший подозрения комиссии: «Приделано. Ищите пришлую ведьму. Да глядите, изворотливая баба, и сила колдовская у неё большая. Как бы чего худого опять не вышло». Видимо, и в самом деле не зря пыхтел знахарь над заказом панства. А вот помочь ничем не смог! Мало того, так и честно сознался, что это не в его силах. Что ж, подозрения подтвердились, но их-то к делу не пришьёшь.
После этого полиция и начала наводить справки о Серафиме. И сразу же, как только Серафима попала в поле зрения местных властей и полиции, в один из вечеров, ближе к ночи, к ней как снег на голову опять явился тот странный клиент.
Колдунья не на шутку встревожилась неожиданному визиту, а тут ещё незнакомец без всяких объяснений холодно сказал:
– Велено избавиться от тебя… но будет лучше, если ты немедля покинешь местечко. Не хочу лишний грех на душу брать… да и пригодишься, думаю, ещё. Собирайся. Тебя и дочку перед рассветом будет ждать лодка. Переправитесь на тот берег, там вас встретят и проводят в надёжное место. Будете жить пока в охотничьей избушке. Схорониться хотя бы на время надобно, а там поглядим.
У Серафимы не хватило смелости ослушаться незнакомца. Уж лучше в охотничью избушку, чем в холодную воду с камнем на шее. Да и всё, что сказал таинственный незнакомец – резонно. Колдунья чувствовала это и сама. Ей надо опять спасаться бегством.
Пока Янины не было дома – по вечерам она уже часто и допоздна задерживалась, – Серафима собрала весь необходимый скарб. Сейчас, конечно, не было такой опасности и спешки, как двенадцать лет назад на хуторе, но всё равно она пребывала в состоянии близком к панике. Серафиме очень не хотелось опять срываться с обжитого угла и идти в неизвестность, хотя это и был единственный выход, чтобы избежать серьёзных неприятностей.
Около полуночи прибежала радостная Янинка, но, узнав ужасную новость, она впала в истерику. Ещё бы! Здесь в местечке много молодёжи и на её молодость и красоту уже многие смотрели с восхищением. Она и её подружка всегда были в центре внимания на молодёжных сходках.
Янина осознавала, что она более привлекательна, чем её подружка, но репутация матери многих ухажеров отпугивала. Девушка тогда даже подумала, что это может и к лучшему. Она достойна сказочного принца, красивого и смелого. Для себя Янина решила, что будет дружить только с тем кавалером, который не дрогнет, узнав, чья она дочь. И вот сегодня её провожал домой Михалко – парень, на которого заглядывались все девчата. Янинке он тоже нравился, хотя особого, волнующего трепета она не испытывала. Просто ей льстило, что такой видный хлопец из огромного числа девчат выбрал именно её. Девушка уже грезила романтическим будущим, а вместо этого – избушка в глухом лесу.
– Я никуда не пойду! – со слезами кричала она, мечась по хате.
– Пойдёшь, дочка. Не со мной, так в острог. Будут тебе там и хлопцы, и гулянки… Всего испробуешь, – грубо уговаривала Серафима воспротивившуюся дочь.
И в этот момент Янинка возненавидела то, чем занималась мать и к чему пыталась приобщить и её. Ей хотелось быть такой, как все, и жить такою жизнью, чтобы люди не указывали пальцем и не шептали вслед: «Вона пошла дочка ведьмы. Ишь, и пригожести себе наворожила…»
По воле случая семья Янинкиной подружки вела чересчур набожную жизнь, которая была полной противоположностью жизни Серафимы, ни разу не посетившей церковь. Подружку такая набожная строгость сильно тяготила, а вот Янине было невероятно интересно познавать отрывочные сведения из законов божьих и библейских заповедей. Её просто очаровывали истории жития святых. Девушка втайне от матери однажды даже заходила с подружкой в церковь. Ей было там страшновато и непривычно, но в то же время она была поражена великолепием церковного убранства и сверкающей утвари. Но особое впечатление на девушку произвели строгие лики святых. Янина долго не могла оторвать взгляд от одной из икон, и ей даже показалось, что изображенный лик хочет что-то ей поведать. И глаза на иконе уже вовсе не строгие! А если пристально вглядеться, то лучились они, как показалось девушке, пониманием и прощением. И Янинка тогда вдруг поймала себя на мысли, что в глубине души она искренне завидовала людям, свободно и открыто приходящим сюда.
Об этом своём тайном интересе девушка не посмела сказать матери, побоялась. Слишком велико было влияние Серафимы на дочь. Вот и в тот поздний час мать-ведьма быстро сломала ещё не окрепшую волю своей дочери.
В ту же ночь, под утро, Серафима и Янинка покинули местечко Мазыр. Как и обещал загадочный человек, их переправили на другой берег Припяти. Там их встретил молчаливый дедок и проводил до Каленкович. За всю дорогу он обмолвился лишь двумя-тремя фразами. На все расспросы пожимал плечами. В лучшем случае мог проворчать: «Скоро сами побачите». Или недовольно буркнуть: «Узнаете, всему своё время». Ну а от Каленкович и до самой избушки их привез уже другой мужик на подводе.
Вот так и появилась колдунья Серафима вместе с дочкой-красавицей в заброшенной охотничьей избушке, от которой до ближайшего селения Черемшицы аккурат вёрст пять-шесть наберётся.
Обживаясь на новом месте, Серафима часто погружалась в непонятное беспокойство. Хотя она и считала себя непревзойдённой в колдовском ремесле, но временами ей казалось, что она находится под пристальным вниманием более могущественного соперника, от всевидящего ока которого ничего не утаить. А в последние дни ей и вовсе не давало покоя неотвязное предчувствие: над ней сгущались грозовые тучи надвигающихся событий.
Глава 8
Повозка пана Войховского отправлялась в Каленковичи только в конце апреля. За это время у Прохора не раз зарождалась надежда, что, может быть, Егор Спиридонович всё же передумает и отменит своё решение. Но оно оставалось неизменным, и час отбытия настал.
Сборы не заняли много времени. Отправляясь к другому пану, Прохор с вечера приготовил лишь одежду, добротные сапоги в котомке, да пару новых лаптей на дорогу. Был готов и собранный матерью узелок с едой. Остальные вещи было решено забрать позже, с оказией, при очередном приезде кого-либо из панов в гости.
Ещё не пропели третьи петухи, а в избе Гришака уже мерцал свет зажжённого каганца. В хате царило тягостное напряжение от неизбежного скорого расставания.
Мать громко всхлипывала, растирая слёзы тыльной стороной ладони.
– Як же ты там без нас? – тихо причитала она. – Ох, недоброе чует моё сердце.
– Ну что ты каркаешь, баба бестолковая, – одёрнул женку Гришак. – Егор Спиридоныч твёрдо заверил, что никаких придирок Прошке чинить там не будут. Наоборот, сразу доверят должность обходчика. А это тебе не гусей пасти!
Он и сам сильно переживал, отправляя сына на чужбину. Хоть и не за тридевять земель, но всё равно… Кто знает, как там примут его и когда ещё придётся свидеться?
Слова Гришака не успокоили Агафью, и она ещё сильнее начала причитать:
– Господи, за что мне такое наказание? Сынок, ты хоть…
– Мам, перестань плакать. Не на войну же провожаешь.
– Да Господь с тобой, сынок! Какая война?!
– Ну так и я о том же! – засмеялся Прохор, а у самого на душе до того тоскливо стало, что хоть плачь. – Будет возможность, я вас обязательно навещу, – изменившимся от комка в горле голосом Прохор пытался успокоить родителей.
Гришак взял сына за плечи и грустно сказал:
– Поговаривают, царь волю крепостным обещает дать. Но это пока лишь слухи. Будем Богу молиться и за волю, и за тебя, сын. Ты уж не забывай там нас. Я вот думаю, что, если оправдаются слухи и будет воля, будем и мы снова вместе. Ну а теперь пора идти в имение.
Гришак и Агафья провели сына до панского двора, где уже была готова к выезду повозка. Пан Войховский, не поленившись встать в такую рань, давал последние наставления своему приказчику, при этом было видно, что он просто дожидается Прохора. У Прохора даже создалось впечатление, что и дел-то никаких у Войховского в Каленковичах нет. Наверное, надо было просто доставить проданного крепостного до условленного места и передать в другие руки. Ну что ж, затея не хитра.
– Доброе утро, – понуро поздоровался Прохор.
– Здорово, – кивнул приказчик.
– Доброе, – ответил пан Войховский и, грустно глядя в глаза бывшему своему крепостному, спросил: – Как настроение?
– Да какое уж тут настроение…
– Прохор, я искренне хочу, чтобы это утро для тебя на самом деле оказалось добрым. Мы столько верст отмерили, бродя вместе и по лесам, и по лугам, и по болотам… Знаю, что для тебя лес и охота – это жизнь. Но ты не волнуйся, у Семёна Игнатьевича эта твоя «жизнь» продолжится. Поверь, мне будет не хватать тебя, но сам понимаешь… у панов свои законы… свои обстоятельства, и надо им подчиняться. Ну, в общем, удачи тебе и с богом! И передавай от меня поклон пану Хилькевичу и вот это письмецо.
– Передам, – тихо промолвил Прохор и осторожно взял протянутый ему конверт.
Тронутый словами пана Войховского, хлопец окончательно поник. Ему так не хотелось покидать родную хату, родной край, к которым прирос душой и сердцем. Но, как сказал Егор Спиридонович, у каждого своя жизнь и надо подчиняться её законам.
Забросив свой негромоздкий багаж в бричку и на прощание поцеловав отца с матерью, Прохор сказал:
– Сильно не горюйте! Бог даст, свидимся! Прощевайте!
– С богом, сынок, – рыдая, мать вдогонку перекрестила повозку, увозящую её сына.
«Не горюйте! – в сердцах передразнил Прохор свои слова, а у самого слёзы так и наворачивались. – Как же тут не загорюешь, когда такое происходит?!» Хотя он и давал себе слово, что не станет оглядываться, но не сдержался, оглянулся. И так сиротливо издали выглядели его родители, что сердце сына зашлось от жалости и к ним и к себе.
А родительским сердцам было и того горше.
– Вот и нема уже с нами Прохорки, – тяжело вздохнул Гришак.
Постояв ещё немного, пока бричка не скрылась из виду, поникшие батька и мать медленно поплелись к своей избе. Издали глядя им вслед, Егор Спиридонович наполнялся гадким чувством вины перед своими крепостными. Такого с ним раньше никогда не было…
Выехав из имения пана Войховского ранним утром, Прохор с приказчиком к вечеру одолели большую часть пути. Заночевав в какой-то придорожной корчме, на следующий день они добрались до Каленкович лишь после полудня, основательно опоздав к намеченному сроку. Обещанной пролётки из Черемшиц на условленном месте возле церкви не оказалось.
– Прохор, у меня тут дело срочное… – сразу начал юлить приказчик, – сегодня надобно исполнить, а день уж на исходе. Ты подожди тут маленько… может, возничий ненадолго отъехал куда по надобности… А если никого и не будет, то спросишь дорогу на Черемшицы… да и забежишь своим ходом. Это, наверное, недалеко… Может, вёрст пять будет. Ну, бывай! Да письмецо от Егора Спиридоновича не потеряй! – уже на ходу выкрикнул приказчик и, круто вывернув повозку, помчался по своим делам.
Опешивший Прохор лишь только успел открыть рот, а говорить что-то было уже некому: повозка резво скрылась из виду, завернув за деревянную церковь. Молодой селянский хлопец стоял один в незнакомой местности и с растерянностью смотрел вслед последнему из людей, кого он знал, и кто хоть как-то связывал его с родным уголком. На душе у Прохора вдруг стало до того тоскливо и одиноко, что он готов был кинуться вслед за уехавшей повозкой.
На улице в эту пору было немноголюдно. Редкие прохожие не обращали никакого внимания на хлопца, топтавшегося в растерянности посреди улицы.
Прохор не знал, как ему быть. Но, вспомнив слова приказчика, он решил подождать ещё немного: а вдруг и в самом деле за ним приедут. Осмотревшись и увидев недалеко под деревьями лежащую колоду, он направился к ней. Самое время малость подкрепиться, а заодно и поразмыслить, что делать дальше, если он никого сейчас не дождётся.
Горбушка ржаного хлеба с салом да с едко-сладковатой луковицей казались проголодавшемуся парню царской снедью. Но не успел он прожевать и первый откушенный кусок, как, откуда ни возьмись, перед ним возник невзрачный мужичок в потрепанной одежде. Глаза его жадно смотрели на хлеб, а кадык под небритой щетиной дёргался, словно он сам уже глотал этот хлеб.
– Бог в помощь, – сказал мужичок в латанной-перелатанной свитке.
– Угу, – в благодарность кивнул головой Прохор и, проглотив еду, привычно добавил: – Говорил бог, чтоб и ты помог.
– Благодарствуем, в такой помощи мы никогда не отказываем! – протараторил быстро незнакомец, и его грязные руки тут же разломили краюху хлеба на две неравные части.
Сравнив их взглядом и, словно взвесив в руках обе половинки, мужичок уверенно, без всякого зазрения совести положил обратно на развернутую холстину меньший кусок. Сало было порезано небольшими ломтиками, но это не ввело незваного гостя в глубокие раздумья: сразу несколько кусочков скрылись в его давно не мытой руке.
Прохор всё это время сидел с открытым ртом и изумлённо наблюдал за бесцеремонными действиями мужичка. И тут только до него дошло, что странный незнакомец ловко его провёл, тонко рассчитав на селянскую простоту.
Дело в том, что так уж принято в крестьянской жизни: на пожелание бога в помощь отвечали, чтобы и сам желавший помог. Мужичок, видимо, тёртый калач: точно знал, как сорвать приглашение к обеду. Такие нигде не пропадут. Хотя по затрапезному внешнему виду было видно, что жизнь не очень-то его балует.
Прохор внимательно оглядел мужичка, уплетавшего его еду, и пришел к выводу, что это обыкновенный бездомный бедолага, промышляющий попрошайничеством да мелким воровством.
– Из местных али из хутора какого приблудился? – спросил Прохор.
– Угу, – теперь уже мужичок с забитым едой ртом кивнул головой.
– Что «угу»?
– Местный я, местный. Каленковицкий, – наконец прожевав, ответил мужичок.
Ещё некоторое время Прохор молча продолжал наблюдать за непрошеным гостем, который не обращал абсолютно никакого внимания на устремлённый на него пристально изучающий взгляд. Он не мог себе позволить отвлекаться по таким пустякам. В данный момент он выполнял наиважнейшую задачу – как можно плотнее набить брюхо.
Смирившись с исчезновением доброй части еды, Прохор мирно произнёс;
– Названия у вас тут красивые: Черемшицы, Калинковичи.
– Не Калинковичи, а Каленковичи.
– А я уж думал, что Черемшицы – от черёмухи, Калинковичи – от калины.
– Черемшицы – так, а Каленковичи – не, – особо не отвлекаясь, отвечал мужичок.
– А отчего ж тогда такое название у местечка?
– Долгая песня, – сказал гость и, внимательно глянув на Прохора, решил, что в благодарность за угощение он всё же сможет уделить ему немного своего драгоценного времени.
– Ну, да так уж и быть, слушай… – начал мужичок. – Мне когда-то дьяк один рассказывал – шибко грамотный был и знал много всего всякого… Ну так вот, он говорил, что давным-давно где-то был князь по прозвищу Каленик. И было у того князя два сына-смельчака и дочка-красавица. И в ту пору по землям нашим басурмане люто гуляли, разбой творили, убивали, грабили, людей в полон уводили.
Князь Каленик собрал дружину и встал на защиту православных, выслеживал отряды басурман и громил их нещадно.
Однажды возвратился князь домой после сечи с басурманами, а дом его разорён другим отрядом. Многие люди перебиты. Князь очень переживал за судьбу дочки и сыновей, оставленных для защиты дома. Всех мертвых переглядели – нет среди них ни княжны, ни братьев её.
И тут один уцелевший старик поведомил, что храбро сражались все защитники замка, но силы были неравны. Спасая сестру, братья с немногочисленной дружиной ушли к Припяти. Вскоре, заметив это, вороги кинулись в погоню. Словно стая волков, басурмане неотступно шли по следу, – складно говорил мужичок, не забывая при этом с завидным аппетитом уминать чужие харчи.
Видимо, спешка при еде, да ещё всухомятку не пошла рассказчику впрок. Он на мгновение замолк, глаза покраснели от натуги – и громкая отрыжка облегчила его нутро.
– Давно не ел, – оправдываясь, произнес мужичок.
– Ну, а что там с княжной сталось? – поинтересовался Прохор.
– О, княжна… Басурмане были наслышаны о красоте княжны, и, видать, их самый старшой – хан или как его там – решил силой взять её к себе в наложницы.
Вот на этом месте басурмане и настигли беглецов, – задумчиво сказал мужичок, кивнув головой на церковь. – До последней капли крови сражались сыны князя Каленика… до последнего дыхания… Вот.
А когда князь спешно прибыл на подмогу, то она уже и не понадобилась. Сложили сыны головы в неравном бою… Их изрубленные тела покоились рядышком, а вокруг во многом количестве лежали поверженные басурмане.
Пустился князь в погоню, чтоб дочку свою из полона вызволить, да вскоре и её нашёл. Лежала княжна в высокой траве… В лице ни кровинки, ни соринки, всё такая же красавица… только в девичье сердце вонзён кинжал, самим князем подаренный. И понял князь, что покончила с собой его дочь, чтоб не терпеть позора и унижения.
Вот тут и похоронил князь своих детей вместе и, вонзив меч в землю, выкрикнул: «Быть тут поселению! Каленковичами именоваться ему!»
Вот такую историю поведал мне дьяк, – закончил свой рассказ мужичок.
– Интересная история, жалобная…
– Жалобная, – согласился рассказчик. – Только вот дьяк говорил, что это, видать, сказка. А по правде всё куда проще. Через наши Каленковичи тракт проходит на Бобруйск. Так вот дорогу тут пробили в обход болота великого, и получился крюк, колено, так сказать. Вот отсюда и пошло, наверное, такое название. Хотя кто его знает, а может и вправду был князь Каленик…
Перебросившись ещё несколькими малозначащими фразами, мужичок вдруг спросил Прохора:
– А ты кто будешь-то? Что-то я тебя раньше тут не примечал.
– Я до имения пана Хилькевича добираюсь. В Черемшицы мне надобно. Слыхал про Черемшицы? Что скажешь про это село? Или не слыхал?
Мужичок странно покосился на Прохора и ответил:
– Ага, как же, не слыхал! Тут про эти Черемшицы все наслышаны! А я так вообще тут всё и про всех знаю! И меня каждая собака знает! А ты вот по какому делу до пана, коли не секрет?
– Да какой там секрет! Семён Игнатьевич теперь мой новый владетель.
– Паном Хилькевичем значит куплен. Я правильно уразумел?
– Правильно. Я раньше у пана Войховского был.
– Не знаю такого… Ну а как же ты один добираешься? Ведь и грамотка соответствующая должна быть, да и доставить кто-то должен до места. А вдруг ты заблудишься – подумают, в бега подался! А?
– Да у панов всё уговорено и грамотка соответствующая состряпана. Встретить меня должны были тут у церкви. Вон уж и солнце клонится к вечеру, а никого не видно. Семён Игнатьевич давно меня знает и место мне доброе определит. Так что в бега мне не резон подаваться. А до Черемшиц далеко ль будет? Меня сюда приказчик пана Войховского доставил, так он говорил, что вёрст пять будет.
– Ну, я ни о твоём Войховском не слыхал, ни приказчика твоего не ведаю. А вот то, что до Черемшиц не меньше пятнадцати вёрст будет, это я тебе точно скажу. Можешь поверить слову Васьки Кота! – убедительно заявил мужичок и с гордостью ткнул себя пальцем в грудь.
– Мне не привыкать, – вздохнул Прохор. – Вот подожду ещё малость, да и пройдусь пешочком, если, конечно, никого не дождусь. По темноте да по бездорожью ходить я привычен. Однако с дороги не сбиться бы. Ни к чему ночью лишние круги наматывать.
– Вот то-то и оно – не сбиться! Тракт народом да возами натоптанный, дорога видная, тут-то не собьёшься. А вёрст через десять свернуть надо будет на лесную дорогу, ведущую в Черемшицы… Вот где не сбиться бы! Да-а… Было бы сегодня воскресенье – обязательно шли бы подводы с базара. А так… не советую идти ночью, да ещё и в ту сторону. В последнее время слишком уж много народу у этих Черемшиц с дороги сбивается. Послушайся, хлопче, совета Васьки Кота. Переночуешь где-нибудь, а утречком и пойдёшь. Я бы тебя с собой позвал, но ещё сам пока не знаю, где голову приклоню на ночлежку. Хаты-то у меня нема. Так вот и живу…
– Если до Черемшиц пятнадцать вёрст, то, пожалуй, мешкать не стоит. Глядишь, пока ночь нальётся, я уж и большую часть пути одолею, – решительно сказал Прохор, свёртывая холстинку с остатками трапезы.
– Хлопче, я ведь неспроста отговариваю тебя переться супротив ночи в дорогу. Недобрая молва ходит про те места.
– Во как! И что ж там такого недоброго? – не поверив Ваське Коту, весело удивился Прохор.
Его собеседник придвинулся ближе и, словно заговорщик, таинственно начал речь вести:
– Люди в тех местах поодиночке боятся из дому выходить. Особенно в лунную ночь. А всё ведьма страху нагнала. Объявилась года полтора-два назад, на болотах тамошних осела. Говорят, сначала всё ворожила да шептанием всяким занималась, а потом, знамо, мало ей этого стало. Душу антихристу продала. А к ней всё равно людишки идут, да только не хворые да убогие, а с такой же темной душонкой. Вот и пошло лихо твориться по окрестностям. Так что не ходил бы ты, хлопец, сейчас никуда. И луна-то в эти дни вся блином округлилась.
– Та-а-ак! И что, никто не может найти управу на эту ведьму? – всё ещё не принимая всерьёз слова мужичка, поинтересовался Прохор.
– Говорят, что пробовали один помещик с приставом и ещё с кем-то из сельской общины сунуться к ней – по три дня потом дома на печи сидели, дрожа от страху. После этого и скумекали, что лучше не связываться с этой шельмой. Вот тебе и «та-а-ак!» – передразнил Прохора мужичок.
– И это тебе сам тот помещик с приставом рассказывали?
Прохору всё равно мало верилось в то, что рассказал ему Васька Кот, но, как говорится, дыма без огня не бывает. И в то же время он был уверен, что людская молва, как всегда, приукрасила и преувеличила какое-нибудь недоразумение с обыкновенной бабкой-шептухой.
– Ну что ты как Фома неверующий! Для твоего же блага предостерегаю. Потолкайся на воскресном базаре средь людей, все новости узнаешь! В последнее время только и разговоров про эту ведьму, – с жаром говорил Васька Кот, но видя, что ему всё равно не поверил и не испугался незнакомый хлопец, отвернулся к церкви и, перекрестившись, добавил: – Вот те крест, истинную правду говорю!
– На базаре небось крадёшь маленько, а? – будто и не слыша Васькиной клятвы, спросил Прохор.
Такой резкий поворот сконфузил мужичка, и он как-то сразу насупился, но врать не стал:
– Всяко бывает… особенно, когда есть дюже хочется.
«Не соврал, – невесело подумал Прохор. – Может и в самом деле переждать ночь где-нибудь в местечке?» Он вынул обратно уже спрятанную в котомку холстину с едой и молча протянул мужичку.
Тот еду взял и сокрушенно посмотрел на Прохора.
– Всё равно не ходи… молодой ведь. Не ровен час пропадёшь. Года ещё не прошло, как схоронили там панского приказчика. По делу иль просто так, не знаю, стеганул он ту ведьму кнутом и сам сгорел, как лучина.
– Да ну! Прямо так огнём и взялся?
– Не, не огнем. Это я так, к слову. Черемшинцы рассказывали, что мертвец к нему после того приходил в полночь. Перепугался приказчик крепко. И начал здоровый мужик сохнуть без причины. Ни лекари, ни знахари не помогли. Подробностей не знаю, но недолго он протянул. Детишки сиротами остались…
Наступила пауза в разговоре. Оба молчали; каждый думал о своём. Затем Васька Кот, вспомнив, что упустил важную подробность, живо заговорил:
– А у ведьмы-то той, говорят, дочка есть. Красивая девка… а с матерью своей не в ладах.
– Это отчего ж дочке с матерью не ладить?
– А бес их знает! Говорят, что девка к людям рвётся, а ведьма не пущает, к колдовству приобщить её хочет. И девка красивая, а жаль, что в лесу прозябает одна… Ей бы в обчество – враз бы за какого-нибудь пана замуж выскочила…
– Ты так говоришь про её пригожесть, будто сам видел ту дочку ведьмы.
– Видел, не видел, а раз говорю, значит, знаю.
Слова о дочке ведьмы почему-то запали в душу Прохора больше, чем все другие россказни Васьки Кота. Слухи о девушке на время отвлекли от мрачных мыслей о самой ведьме. Но время шло, и надо было на что-то решаться. Прохор знал, что если он смалодушничает и не доберётся сегодня до имения пана Хилькевича, то завтра ему будет очень противно за свою слабость. «Что ж, идти так идти», – окончательно приняв решение, подумал он.
– Ладно, Васька Кот! Рассказываешь ты мне тут страсти-мордасти, а время не терпит. Идти надобно. Авось не пропаду! – закидывая котомку за плечи, бодро произнес Прохор.
– Ну, как знаешь. Дело хозяйское. По какой дороге идти я тебе уже указал, так что, коль решил, ступай с богом…
Спустя четверть часа Прохор уже спешно шагал по наезженной возами дороге, оставив позади окраинные хаты Каленкович. Изредка попадались прохожие. Одних Прохор обгонял, другие – этих было большинство – шли во встречном направлении, к местечку. И чем дальше он отходил от Каленкович, тем пустынней становился тракт. А на дворе уж и сумерки начали сгущаться. Потянуло вечерней прохладой.
До первого хутора в две хаты Прохор добрался поздним вечером, почти ночью. В низких окнах одного из строений мерцал свет. Громко залаяла собака. Её дружно поддержала и соседняя дворняжка. Скрипнула дверь, и на пороге появился рослый бородатый крестьянин. Вглядываясь в темноту, мужик грозно спросил:
– Кого там принесло? Ни днём, ни ночью от вас покоя нема.
– Прости, хозяин! Нездешний я. До Черемшиц добираюсь. А как мне рассказали, то где-то тут свернуть надобно с тракта. Вот я и хотел уточнить. А то ночью-то и сбиться не мудрено.
Мужик что-то буркнул невнятное, потом довольно долго размышлял и наконец недовольно произнёс:
– В эту пору все добрые люди дома сидят. Не знаю, кто ты таков, но время для странствий выбрал неподходящее… А на Черемшицы сразу за хутором возьмёшь леворуч.
– А сколько вёрст ещё будет до этого села?
– Шесть с хвостиком. На полпути ещё один хутор будет. Но там люди диковатые живут. Даже и не пробуй достучаться, а то собак точно натравят. Но хутор будет тебе вехой. Как дойдёшь до него, значит на правильном пути, и идти останется ровно три версты.
– Ну, это для меня не дорога.
– Ты уж гляди, поостерегись там, в «не дороге», как бы ни заблудиться. А то тут сегодня одна уже проходила в ту сторону… Молодица. Теперь вот душа болит, что отпустил её одну. Правда, ещё светло было, однако…
– Благодарствую, батя.
– Иди с богом… – в который уж раз прозвучало такое напутствие Прохору за сегодняшний день.
Крестьянин с тревогой проводил взглядом растворившуюся в темноте фигуру путника и, тяжко вздохнув, прикрыл за собой дверь на крепкий засов.
Как он и указывал, в конце хутора влево от тракта ответвлялась дорога. Свернув, Прохор теперь шёл по малонаезженному пути. Идти по такой дороге оказалось легче: не было глубоких ям и колей, выбитых возами ещё в распутицу.
Вскоре поля и пролески закончились, и высокий тёмный лес уже вплотную подступал к дороге, закрывая собой даже лунный свет. Незнакомая мрачная местность и неотвязно липкие мысли о какой-то здешней ведьме навевали на сердце неприятное чувство страха. Быстро шагая и тревожно оглядываясь по сторонам, Прохор уже начал было сожалеть, что не согласился с Васькой Котом и не остался в местечке до утра. Ну какая разница, когда он прибудет к пану Хилькевичу? Днём даже и сподручнее было бы, людей не пришлось бы тревожить. Но теперь уже поздно что-то менять.
Лес неожиданно расступился, и под ночным светилом показались тёмные очертания соломенных крыш хутора, где, по словам крестьянина, живут очень уж неприветливые хозяева. Но всё равно идти стало веселее. Рядом с человеческим жильём настроение Прохора улучшилось. Он шел по верному шляху, да и идти осталось совсем ничего, так что задерживаться тут и тревожить хозяев не было нужды. Хлопец теперь лишь с ироничной ухмылкой вспоминал своё малодушие, когда сожалел, что не согласился переждать ночь в местечке.
Прохор уже представлял, какое произведёт впечатление, прибыв в панский дом поздней ночью. Его наверняка сочтут удалым храбрецом лишь только за то, что отважился идти в одиночку по незнакомым лесным дорогам в такой час. И молва о его смелости облетит село. Местные жители с многократно возросшим интересом будут искать повод, чтобы познакомиться со смельчаком и посмотреть, каков он из себя.
Находясь возле людского жилища, героические мечты на время вытеснили из воображения Прохора все волнения и страхи. Проходя мимо угрюмо темнеющей избы, ночной путник подумал, что неплохо было бы воды попить. Но время позднее и тревожить хозяев по пустякам он не решился, а то и в самом деле ещё собак натравят.
И тут вдруг Прохору почудилось какое-то всхлипывание. Остановившись и пристально оглядевшись, он с удивлением заметил на лавке под тенистым кустом черёмухи силуэт человека. Черёмуха только набирала цвет, но молодая листва уже надёжно укрывала лавку от лунного света. Прохор подошёл ближе и не поверил своим глазам: перед ним сидела, судя по всему, молодая женщина, с несчастным видом низко опустив голову. Её плечи вздрагивали; закрыв лицо руками, она тихо плакала. Но вот женщина опустила руки, поправила расшитый затейливым орнаментом фартук и тяжело вздохнула.
Замерев, Прохор наблюдал за странной незнакомкой, видимо, обитательницей этого хутора. И он был поражён не только необычностью представшей перед ним картины. Даже ночной сумрак не мог скрыть привлекательных и благородных черт лица незнакомки!
– Вот те на! И кто же это тут слезы проливает в такой час? – крайне удивился Прохор, решив обозваться.
Молодица, занятая своим горем, только сейчас заметила стоящего рядом человека. Испуганно икнув, она враз перестала всхлипывать и уставилась на Прохора глазами полными страха. Парень понял, что если её сейчас не успокоить, то крик ужаса будет слышен далеко за пределами хутора.
– Да не пугайся ты. Путник я. Иду до пана Хилькевича. А ты-то чего плачешь тут? Из дому что ль выгнали? Наверное, провинилась сильно или с гулянок поздно возвратилась? – насколько можно спокойно начал говорить Прохор всё, что шло на ум. Он специально в двух словах сообщил о себе и озадачил вопросами незнакомку, не давая ей опомниться и разразиться криком. Он также внимательно глянул на темнеющие проёмы окон ладно срубленной бревенчатой хаты. Судя по всему, жили здесь отнюдь не бедняки. «Да-а, что уж про чужих говорить, коль своих из хаты гонят!» – неприязненно подумал Прохор.
Услышав разговор, громче залаяла собака, до этого лишь иногда лениво подававшая голос. Где-то в хлеве что-то стукнуло, видимо, потревоженные домашние животные.
– Тише, всполошишь сейчас хозяев – с вилами выскочат, – испуганно зашептала молодица.
Видя перед собой обыкновенного человека, она немного успокоилась, но всё равно не сводила с Прохора тревожного взгляда. И только Прохор пошевелился, как тут же молодица испуганно сжалась.
– Не подходи – кричать буду, – на всякий случай предупредила она.
– Ладно, кричи, – спокойно сказал Прохор, – только шёпотом.
Молодица шутку поняла и чуть улыбнулась.
– Ага, тут попробуй закричи – ещё хуже будет.
– Не понял! Так ты что, не с этого хутора? – удивился Прохор.
– Сидела б я тут… – опять всхлипнула женщина.
– Ну и откуда ж ты тогда тут взялась?
– Оттуда, откуда и ты. Думала, дойду домой до темноты, да ногу вот подвернула. И спозднилась. На дворе темно уж стало… Страшно… Попросилась переждать на хуторе до рассвета, чтоб в сенцы хоть пустили – и слушать даже не стали. Сижу вот да от страху и обиды реву. Я что объем их иль обкраду? Совсем у людей жалости нет.
– А может, боятся чего хуторяне? – Прохор специально задал такой вопрос, переводя разговор на интересующую его тему. Ему хотелось подробнее узнать, что происходит в этом крае, почему отовсюду слышатся предостережения. И кто как не кто-либо из местных может более правдиво всё объяснить?
Незнакомка задержала изучающий взгляд на Прохоре и тихо произнесла:
– Так тут все запуганные. Ты, наверное, нездешний, коль ничего не знаешь?
– Ага. Я впервой в ваших местах. Но байку о какой-то ведьме уже успел услышать.
– Не байка это…
– Понятно… Ну а ты кто тогда будешь? Я сначала подумал, что ты с этого хутора, – поинтересовался Прохор и тут же вспомнил разговор часовой давности. – А, значит, это о тебе мне на том хуторе говорили. … Ну, тогда, как я понял, нам по пути. Ты ж, наверное, тоже в Черемшицы добираешься?
– Ага, – робко кивнула незнакомка.
Вот это удача! Вдвоём идти гораздо веселее. И Прохор с радостью предложил:
– Ну, тогда пошли вместе.
Молодая женщина всё ещё сидела в тени, но было заметно, как ей трудно решиться. Её испуганный взгляд словно искал подтверждения благонадёжности неизвестно откуда свалившегося попутчика. Но даже вдвоём она будет дрожать от страха перед Химой, которой, по её мнению, приписывают всяких козней больше, чем есть на самом деле. Возможность до утра корчиться от ночного холода на неприветливом хуторе тоже пугала. После долгих колебаний незнакомка неуверенно произнесла:
– Пошли…
– Ну, вот и добре. Да не бойся ты, не съем, – рассмеялся Прохор, видя сомнения молодицы. – А по дороге расскажешь подробнее, кто вас тут так запугал.
– Ну, уж нет! Нашёл мне, о чём говорить.
Молодица тяжко вздохнула и, поправив на голове хустку[21], вышла на лунный свет. У Прохора невольно аж дух захватило. Перед собой он видел не молодицу, а совсем ещё юную девушку.
– Пошли. Чего замер? – девушка виновато улыбнулась и добавила: – Только я быстро идти не смогу. Не бросишь меня в лесу?
Прохор ничего не ответил. Раскрыв рот, он зачарованно смотрел на молоденькую незнакомку. Внешний вид девушки говорил, что она из семьи довольно зажиточного крестьянина. Добротно скроенный гарсет[22] из недешевого сукна ладно сидел на девичьих плечах. Искусно отделанный вышивным орнаментом, он был надет поверх тонкой белоснежной рубахи с архаической вышивкой старинным орнаментом по вороту и рукавам. Длинная юбка-андарак[23], сильно стянутая в талии домотканым пояском, выгодно подчёркивала стройный стан. На волнующе-высокой груди девушки в такт с дыханием поблескивали стеклянные бусы, яркими искорками отражая в себе лунный свет. На голове, правда, повязан, как показалось Прохору, простой платок, но это придавало девушке совсем уж милый вид. Несмотря на юность, природа щедро наделила незнакомку крутыми и пышными бёдрами, соблазнительные формы которых не могли скрыть ни сумрак, ни затейливо расшитый андарак с фартуком. Перед Прохором стояла даже не девушка из семьи зажиточного крестьянина, а самая настоящая панночка. И Прохор, заглядевшись на незнакомку, некоторое время стоял, как зачарованный.
Совсем уж по-человечески понятный, сконфуженный вид незнакомца вызвал у девушки какое-то подсознательное спокойствие и доверие к этому растерявшемуся хлопцу.
– Ну что молчишь? Я спрашиваю: не бросишь меня одну в лесу? А то я лучше уж тут прокоротаю ночку холодную, – сказала девушка, в свою очередь забавно наблюдая за изумлением неожиданного попутчика.
– А-а… – опомнился Прохор. – Да как же можно оставить такую пригожую панночку в тёмном лесу?
Незнакомке явно польстили сказанные слова. Она чуть улыбнулась и выше подняла голову. Ей, видимо, тоже приглянулся статный хлопец, не сводивший с неё взора. Девушка с интересом неприметно продолжала наблюдать за ним и, совсем приободрившись, спросила:
– Мы кого-то ещё ждём или уже можем идти?
– Конечно, конечно… пошли, – встрепенулся Прохор и спросил: – А тебя как звать-величать?
Ответа не последовало. Шли в тишине; девушка задумчиво молчала. Лишь пройдя шагов пятнадцать, Прохор услышал её тихий голос.
– Марыля, – ответила незнакомка и, глянув парню в глаза, грустно добавила: – Близкие Марылькой кличут. Дочка приказчика Петра Логинова… покойного.
Глава 9
С наступлением весенних дней у крестьянина начинался один из тяжелейших и ответственных периодов и без того нёлёгкой его жизни – сев. Как только земля прогреется и деревья начнут одеваться в молодую листву, селяне от восхода до заката не покладая рук, не жалея ни себя, ни рабочую скотину, трудятся на земельных наделах. В эту пору не встретишь на улицах сёл и деревень праздно шатающихся или сидящих на лавке без дела крестьян. Все, на ком лежала забота прокормить семью, рвали жилы и гнули спины на своих и панских полях. Доставалось в это страдное время и тягловой скотине. Волам и лошадям, простоявшим зиму без особых нагрузок, теперь перепадало с лихвой.
Но как бы ни была тяжела и непосильна работа, а весна всё равно брала своё. И особенно весеннее настроение не давало покоя молодёжи. Пробудившаяся природа дурманила и звала на своё лоно деревенских девчат и хлопцев. Запах весны будоражил и не давал им уснуть даже после нелёгкого изнурительного дня.
У черемшицкой молодёжи вместе с посевной страдой начинался и сезон посиделок у костра за околицей. На этих вечорках девчата пели весёлые и грустные, жизнерадостные и задушевные народные песни. Бывало, заводили жалобную песню о несчастной любви или о тяжкой судьбине – и плыл над туманным гаем колоритный перелив грусти и тоски в девичьих голосах. И так брала песня за душу, что невольно комок к горлу подкатывал. В такую минуту никто не осмеливался прервать этот чувственный напев ни выкриком, ни даже тихо сказанным словом, ибо это был не просто напев – это плыл над припятскими просторами зов земли белорусской. Зов Полесья! У каждого, кто проникся сердцем к своему краю и по воле судьбы покинул родные места, этот зов стоял в душе криком журавлиным, и печальной лебединой песней звал в родные места.
Хлебосольный край не оставлял равнодушными и гостей добросердечных; влюблял в себя взором озёр голубых, умилял сердца детским взглядом васильков-синеглазок. И долго ещё потом в памяти гостей зов Полесья звучал приглашением в свои зори соловьиные и в хаты радушные с белыми аистами на крышах.
Обо всём этом воспевалось по всей сторонке полесской и особенно здесь, у черемшицкого костра. Наверное, как нигде в другом месте здесь могли понять чужую боль не только умом, но и сердцем.
В грусти народных песен отражалось всё наболевшее и выстраданное самим же народом и поэтому понятное и близкое каждому простому человеку. В такие моменты взгляды всех собравшихся были притянуты к чарующей пляске пламенных языков. Под душевный напев многие завороженно смотрели на костёр и пребывали в мечтательной задумчивости. Что выпадет в жизни на долю каждого из них и как дальше сложится судьба? Каждый, конечно же, мечтал о лучшем и надеялся на более счастливое будущее.
Но не одной грустью живёт человек. С языческих времён в народе бытуют и приумножаются весёлые обычаи и обряды, потехи и забавы, дающие человеку огромный заряд оптимизма в его тяжёлой жизни. Наполненные юмором песни и счастливо заканчивающиеся сказы питают людей верой в добро и надеждой на лучшее. Любые невзгоды и трудности человек легче перенесёт, если сможет отвлечься от суровой реальности и дать душе разрядиться неистовым смехом и весельем. Вот и на черемшицких посиделках задушевные напевы всегда сменялись радостными переливами частушек, песнями-шутками, весёлыми играми и задорными колкостями между девчатами и хлопцами. В такие минуты пробуждался от дремоты вечерний гай, вздрагивал от дружных взрывов смеха, хохота и пронзительного девичьего визга.
Не оставалось без внимания и фольклорное слово. У костра часто звучали интересные рассказы и повествования. Велись разговоры о жизни, по нескольку раз пересказывались смешные казусы и жуткие истории.
Вот такими развлечениями издавна славились черемшицкие посиделки. Сменялись поколения, мужали бывшие подростки, шли под венец повзрослевшие девчата. Им на смену приходили другие, вчерашние мальчишки и девчонки, и у костра за околицей никогда не затухала ярчайшая сторонка жизни селянской молодёжи.
На дворе стоял тёплый весенний день, а главное – воскресный день. Крестьяне старались не делать важной работы в такие дни, а в церковные и престольные праздники труд и вовсе считался большим грехом. Но почти на все правила бывают исключения. Так и народ говорит, что за труд на уборке урожая и на похоронах покойника Бог гневаться не станет. Помолившись, можно и хлеб убирать и могилу копать, ждать нельзя. Ну а что касается сева, то тут крестьянин старался руководствоваться возможностями и погодой. Успевал отсеяться в сроки – в красный денёк можно и отдохнуть.
Батька Любаши с севом укладывался в сроки и сегодня решил провести время в незначительных хлопотах, а волов дал соседу. Сосед своих не имел и был рад такой помощи. Малоимущим селянам, особенно тем, кто не имел своего тяглового скота, выхода не было, и приходилось делать важную хозяйственную работу, когда выпадала возможность. Вот и сейчас так. Воскресный день – соседу надо землю пахать. И пашет бедняк! И ведь не один он такой! Как вот у людей сложилось отношение к этому вопросу? Раз бедный, значит не грех работать даже в красный денёк. А если кто побогаче в такой день топором стукнет или лопатой копнёт, сразу будет пристыжен, что, мол, не чтит обычаев да грехами обрастает. Вот и выходит, что осуждали за многие грехи сами же люди. Сами грешили – сами осуждали! Очень удобно! А горемыке-бедняку на селе многое прощалось. Но не каждому! Людей не проведёшь: видят, что семья старается, трудится рук не покладая – ещё и помогут, чем могут. А лодырей да пустых людишек на селе страх как не чтут.
Взял вот сосед волов – попалась такая оказия – работай на здоровье, люди не осудят и Бог не прогневается. Знают, что мужик потом обливается, чтоб детки с голодом не особо знались. Да ещё и за волов должен заплатить хозяину либо отработать. Потому и сдавать рабочий скот в аренду было всегда обоюдовыгодно. Этим очень часто промышляли и паны.
У Любаши, как и у батьки, никакой неотложной работы не было, и она с нетерпением ждала вечера. Сегодня деревенские хлопцы и девчата надумали во второй раз после зимы собраться и посидеть у костра.
– Тата, я к Марыльке ненадолго сбегаю, – вроде как сообщая батьке о своём уходе или вроде как прося разрешения, сказала Любаша.
– По хозяйству управься и иди куда хошь, – равнодушно проворчал батька.
Похлопотав немного по домашнему хозяйству и справив неотложные мелкие дела, девушка направилась к Марыльке. Любаша уже давно начала уговаривать подружку пойти с ней к первому костру, развеяться. Она видела, как тяжело сейчас Марыльке и старалась всячески её поддержать. Важно не дать бедняжке замкнуться и остаться наедине со своим горем.
– Не могу я, Любаша. Слишком мало времени прошло. Да и люди будут обговаривать: батьку похоронила – и петь пошла. Не, Любка, не пойду, – смущённо отговаривалась Марылька, а у самой сердце щемило. Ей так хотелось посидеть среди сверстников, душой хоть чуточку оттаять.
– Дурёха, ну кто тебя петь заставляет? – обнимала подружку Любаша. – Мы с тобой вдвоём в сторонке тихонько посидим, послушаем, что девчата щебечут. Ну а песни заведут – не беда. Что тут такого? Мы же только слушать будем. Ведь это же не грех – послушать задушевную песню.
После длительных уговоров Марылька, в конце концов, дала согласие, но с условием, что Любаша тоже не будет петь и чтобы находилась всё время рядом. И ещё Марылька попросила отложить свой выход на вечорки хотя бы до следующего воскресного денька.
И вот неделя прошла. В условленный день, ближе к вечеру, Любаша зашла за Марылькой, а той дома не оказалось. Мать сказала, что она ранним утром пошла в Каленковичи по неотложному делу и скоро должна возвратиться. Осталось ждать не так уж и долго.
– Тёть Марфа, может, вам помочь что надо? По хате что сделать иль худобу помочь покормить? Марылька с дороги придёт – всё легче будет, – участливо спросила Любаша.
Девушка предложила свою помощь, зная, что, когда придёт Марылька, они быстрее соберутся идти за околицу.
– Спасибо, Люба, но я уже управилась. И детишкам поесть приготовила, и худобу покормила, – устало ответила мать Марыльки. – Если хочешь, присядь в хате, подожди. Марылька вот-вот должна вернуться.
– Угу, – согласилась Любаша и присела на краешек лавы.
Девушка обвела взглядом теперь уже осиротевшую без мужского внимания хату. Прошло всего лишь несколько месяцев, как не стало Петра Кузьмича, а в глаза сразу бросалось много работы, требующей умения и навыков мужика-хозяина. В глиняной печи появилась большая трещина, вокруг которой образовалась чёрная копоть; покосившиеся полати готовы были вот-вот рухнуть вместе с детворой; кадки с водой дали течь. Это и многое другое нужно было исправлять, чинить, переделывать. А во всём остальном хата Логиновых мало чем отличалось от других хат середняка крестьянина.
Как и большинство селянских изб, жилище бывшего приказчика разделялось на две половины – «чистая» и сени. У крестьян в «чистой» части проживала вся семья, зачастую из трёх поколений.
Основным и самым важным атрибутом любой селянской избы являлась большая глиняная печь, занимавшая почти четверть помещения. В холодные времена на печи почти никогда не было свободного места. Дети шумной стаей галчат теснились на горячей черене[24], с удовольствием уступая место лишь старым дедам и бабкам, получая взамен от них сказки и всякие интереснейшие истории. Но сейчас на улице было тепло, и печь сиротливо стояла в одиночестве.
За печью в селянских хатах сооружались полати и лежанки – деревянные настилы, служившие кроватью порой для всей семьи. Чуть повыше устраивалась широкая полка для лучины. Высоко над полатями на длинной жердине развешивалось бельё и одежда, а также большие вязанки лука, низки сухих грибов, пучки зверобоя, малинника и других известных всем лекарственных трав.
Вдоль стен, на глинобитном полу, важно занимали место широкие и длинные деревянные лавы. На них и под ними хранились разнообразные хозяйственные орудия труда: топоры, пилы, деревянные вёдра, небольшие дежки и прочий сельский инвентарь. Рядом с самой большой лавкой, почти всегда свободной, не заставленной разной утварью, главенствовал массивный стол на всю многочисленную семью. В освещённом углу, обычно напротив печи, высоко висели или стояли на специальной полочке иконы Богоматери, Спасителя и местно чтимого святого Николая Чудотворца. Перед убранными рушниками иконами в церковные праздники зажигались свечи. И звался такой угол «красный кут». В этом же углу, внизу под иконами, стояла дежка с тестом, из которого пекли хлеб.
В другом углу сделаны полки для посуды и мелких вещей. Чтобы занимать меньше места, эти полки размещались на уровне человеческой груди. А ниже, на полу, стояла более габаритная утварь: ступа, ручные жернова, сундук, плетенные из лозы и сосновой дранки короба.
Сундук в крестьянской избе служил своеобразным хранилищем наиболее ценных мелких вещей и новой одежды. Также в нём хранились отрезы ткани, вычищенные и аккуратно увёрнутые кожаные сапоги и женские чаравики (если таковы вообще имелись в семье). И вот сейчас глядя на это массивное хранилище наиболее ценных вещей, Любаша вдруг подумала: «Интересно, а пожитки дядьки Петра всё ещё там или их переложили куда-то отдельно?» Не найдя взглядом места, куда бы можно было сложить пока не нужные, но дорогие для семьи вещи, девушка без труда догадалась: «Всё там». На сундуке висел небольшой простенький замок, но, несмотря на свою простоту, он надёжно охранял добро по причине всё ещё державшейся строгой дисциплины, установленной бывшим хозяином.
Взгляд Любаши остановился на кроснах. Кросны – ручной ткацкий станок – представляли особую гордость почти каждой крестьянской хаты и её хозяйки. Такие самодельные ткацкие станки ставились в светлом месте, обычно у окна, так как работа на кроснах сопряжена со строгим наблюдением за нитями, узорами, мелкими деталями. Ткачество в домашних условиях требовало особого внимания и навыков. И это был самый сложный механизм в хозяйстве. Разглядывая кросны, Любаша замечала одну неполадку за другой: в одном месте стык перекошен, в другом – балка треснула, в третьем ещё что-то. На кроснах хотя и работали женщины, но следить за исправностью и ремонтировать их, конечно же, возлагалось на мужчин. Но в хате Логиновых мужчины не было…
На тёмной стене (стена без окон, обычно с входной дверью) висели косы, серпы, цепы и прочий ценный для крестьянина инвентарь средних габаритов.
На второй половине избы, в сенях, хранились крупные орудия труда: борона, плуг, соха, хомут или ярмо для волов. Также сени использовались для зимовки в них разной малой живности: гусей, поросят, ягнят, телёнка.
Разглядывая избу Логиновых, мало чем отличавшуюся по планировке от всех других крестьянских жилищ, Любаша вдруг обратила внимание на торчащий под потолком очеп. Очеп – это гибкая жердь, чаще всего берёзовая, которая комлёвым концом надёжно закреплялась в потолочную балку и проходила через дополнительный упор. Другой свободный конец получался длинный и достаточно упругий. Вот на этот конец вешалась детская люлька. Такое приспособление позволяло легко её раскачивать.
И глядя сейчас на этот сиротливый очеп, Любаша опять вдруг грустно подумала: «Не скоро, наверное, будет тут висеть люлька. Да и люльки что-то не видать».
Вообще же детские люльки были в каждой семье, и отношение в многодетных крестьянских семьях к этим необходимым предметам обихода было особое.
Изготавливались они разными способами и из самых разнообразных материалов: дерева (долблёные), ивовых прутьев и сосновых дранок (плетеные). Люльки обычно имели овальную или прямоугольную форму. Насколько помнит Любаша, в хате Марыльки когда-то висела долблёная люлька с незамысловатой резьбой по краям.
Важным моментом детской колыбели являлся полог, который, словно шатёр, возвышался над люлькой. Крестьяне были убеждены, что полог защищал дитя не только от комаров, мух и яркого света, но и от злых сил. В зажиточных семьях мать изготавливала полог из красочной и дорогой материи. Но в обычных крестьянских избах пологом люльки зачастую служила старая женская юбка.
Главным достоинством лёгких крестьянских люлек являлась возможность подвешивания их не только в избе, но и в поле или в другом месте, где приходилось работать.
Колыбель сама по себе была мощным языческим оберегом, но в это убеждение свою лепту вносили ещё и священники. Суеверные и набожные селяне строго следовали наставлению попов, из которого следовало, что класть детей в колыбель можно только после крещения в церкви.
Любаша закончила разглядывать избу и в нетерпении всё чаще бросала взоры в окошко.
Время шло. Ещё несколько раз бегло оглядев убранство хаты, Любаша уже начала беспокоиться. На дворе скоро опустятся сумерки, а Марыльки всё ещё нет. Усидеть на месте и постоянно выглядывать в окошко стало уже невмоготу.
– Пойду я, тёть Марфа. Марылька придёт – скажете, что я жду её. Она знает, – выйдя из хаты, сказала девушка хлопотавшей возле хлева Марфе.
– Добре, Любаша, ступай, а то и впрямь заждалась. Я передам.
Любаша вышла на улицу и сразу же увидела свою подружку, спешащую домой.
– Ну, наконец-то! – воскликнула она и бросилась Марыльке навстречу.
– Уф-ф! Приморилась. Ноги аж гудят. Всю дорогу почти бегом летела. Да в спешке ещё и ногу подвернула! – обрадовалась подруге и Марылька.
Любаша только сейчас обратила внимание, что Марылька заметно прихрамывала. Но это пустяки. В их планах хороводов сегодня не намечалось.
– Давай, покажись матери да собирайся скорей, – Любаша радостно подтолкнула подружку.
– Ага, я мигом.
Вскоре две подружки неспешно шли вдоль по улице. На дворе уже начала сгущаться темнота, но было хорошо видно, как за околицу, к кострищу, сбиваясь в кучки, стекалась сельская молодёжь. И у каждого, глядя на многочисленное шествие девчат и хлопцев, на сердце стояла какая-то волнующая торжественность.
Марылька с Любашей заняли место с краешку, на огромном дубовом стволе-выворотне, возле которого хлопцы и облюбовали место для костра. Видимо, когда-то давно в это могучее дерево попала молния и изрядно повредила ствол. Потрёпанная вершина, расщепленный ствол и начавшая разъедать изнутри дуплистая гниль, ослабили дерево, поэтому и не удалось устоять богатырю под натиском ветра.
Словно соскучившись за зиму по шумным вечерам, весело потрескивая, пылал молодой костёр. Собравшись только во второй раз после холодов и рассевшись обособленными кучками, хлопцы и девчата вначале несмело переговаривались, обсуждали давно известные события и недавние новости.
Марылька чувствовала себя неуютно. Она хоть и сидела тихо в сторонке, говорила почти шепотом и тем более не пела своим звонким голосом, но всё равно ощущала, что находится в центре внимания. Девушка часто ловила на себе сочувственные взгляды, и от этого ей делалось ещё более неловко. Она была уверена, что главная тема тихих разговоров – кончина её батьки, ведьма и, конечно же, она сама. Марылька также догадывалась, что одни её жалеют, а другие осуждают. И это портило ей настроение, оставляя в душе неприятный осадок.
– Да плюнь ты на всех! Поболтают и перестанут. Сегодня ты появилась тут или через год – всё равно пришлось бы через это пройти. Зато в следующий раз на тебя уже никто и внимания обращать не станет. Аж обидно будет! Вот увидишь, – Любаша подбадривала Марыльку и, судя по робкой улыбке на губах подружки, ей это удавалось.
– О! Вот это гость к нам пожаловал! – раздался чей-то радостный возглас.
Все как один одновременно повернули головы и устремили пристальные взгляды на выплывающую из темноты фигуру.
– Ух, ты! Наконец-то хоть один нормальный хлопец тут появился! – шутливо зазвенел бойкий девичий голос.
– Чур, девки, не перебивать! Сегодня этот хлопец мой! – ещё один девичий голос поддержал шутливый тон.
– Э-э-э, девка, не гляди, што я старый! Вот если тебя сегодня проведу до хаты, то ты потом год будешь за мной бегать! – ответил на шутливые выпады запоздалый посетитель.
Дружный смех радостно встретил появление в свете костра деда Лявона. Не успев ещё даже подойти и поздороваться, он уже всем поднял настроение. Приблизившись к костру и обведя собравшихся хитроватым взглядом, Лявон бодро поприветствовал молодёжь:
– Вечер добрый всем, кого сегодня не бачив!
– Здрасте!
– Вечер добры! – весело и радостно неслось с разных сторон.
– А я то, старый, гляжу – огонь пылает! Дай, думаю, схожу узнаю, по какому случаю костёр палят. Аж вон оно што, молодёжь гуляет. Ну и правильно, детки, гуляйте пока молодые да в силе. А нагореваться ещё успеете.
Все годы дед Лявон был частым гостем на молодёжных посиделках. Несмотря на огромную разницу в возрасте, его считали здесь своим и всегда были рады его беззлобным шуткам, подковыркам и особенно весёлым рассказам. Иногда ему даже перепадала чарка горелки, когда старшие хлопцы отмечали какой-нибудь праздник или приносили магарыч за такое событие, как сватовство, свадьба иль крестины.
Поговорив с дедом ещё немного о всякой всячине на обыденные темы, молодёжь с нетерпением ждала от него какой-нибудь занимательной истории.
– Дед Лявон, а ты, говорят, в молодости заправским парубком был. Всех деревенских девок перецеловал! Дед, ну вот не верится мне в это, хоть тресни! Люди опять, наверное, пустое мелют? – с расчётом подковырнул Лявона Василь, хлопец постарше, которому давно уж в пору и жениться было, а он всё верховодил черемшицкой молодёжью.
Василю не впервой было раскручивать деда Лявона на весёлый рассказ, и он знал, как его поддеть, чтобы услышать ту или иную историю.
– Да всяко бывало. Люди верно гутарят, почитай первым хлопцем на селе был. Не тебе, конопатому, чета. – Лявон, как всегда, не удержался, чтобы в свою очередь тоже не подковырнуть бахвала, а заодно и не прихвастнуть по поводу своей «героической» молодости.
Настроение у старика было хорошее. Он уже готов был рассказать этой «пузатой зелени» – так он часто в шутку называл молодёжь – одну из своих баек. Но, как и всякий заядлый рассказчик, Лявон тянул время. Ему льстило быть в центре внимания и нравилось, когда его всячески упрашивали.
Но ушлый Василь начал с другого боку:
– А вот ещё я слышал, дед, что ты, когда в примах был, целовался со своим соседом. Вот в это мне больше верится! Да и люди не всегда же врут, – допекал он деда Лявона.
– Ай, ну што ты, Василь, мелешь! Якое там «цалавався»? Типун тебе на язык! Небось слыхал звон, да не вразумел своей конопатой башкой про што он! – заерзал на бревне задетый дед Лявон.
– Ну, так ты и объясни вот нам, что там у вас получилось. А то ведь люди любят всё перевернуть. Я про что слыхал, про то и спрашиваю. И вообще, я сильно доверчивый человек. Всему верю. А может, и не брешут люди… – как бы рассуждая, Василь хитро зыркнул на Лявона. – Ну, признайся, дед, целовался с соседом?
– Ещё как брешут твои люди! И всё было не так, как говорят! – чуть ли не кричал Лявон, потому как уже начал сильно нервничать.
– А откуда нам знать, как у вас там было? – всё больше подбивал Василь деда, чтобы тот рассказал об одном из самых комичных своих приключений.
– Я вот знаю только то, что люди рассказывали: заманил соседа в хлев, и обниматься к нему лез. Да-а-а, и чего только на свете не бывает! Удивил ты меня, дед, удивил! И с виду вроде нормальный, а вот глянь ты…
Все собравшиеся у костра обратились во внимание, лишь хитренькими смешками нарушая разговор Василя с дедом. А Василь после своих слов и вовсе брезгливо поморщился и даже отодвинулся подальше от Лявона. Дед этого уже не стерпел.
– Хватит почитаемых людей оговаривать! Ты лучше расскажи всем, как сам спьяну к старухе Базылихе лез! Што?! Скажешь брехня?! – старик не на шутку распалился и уже аж ерзал на месте.
Все, конечно же, слышали историю, как в стельку пьяного Василя занесло к старухе. И что ему тогда стукнуло в голову, он и сам потом сказать не мог, но показалась ему в тот момент Базылиха писаной красавицей. И чуть дело до греха не дошло, да вовремя молодец спохватился, когда старуха гвалт подняла. А потом, проспавшись, уже почти ничего и не помнил, но долго ещё прятал стыдливо глаза и избегал острых на язык односельчан. Поначалу злился, когда напоминали ему то похождение, а ещё спустя некоторое время лишь отмахивался рукой да со смехом всё на беса сваливал.
Но, по сравнению с приключением деда Лявона, эта история относилась к цветочкам.
– Ладно, дед, признаю, было дело: напился, а ещё и бес попутал, вот и занесла нечистая не туда, куда надо было, – миролюбиво сдался Василь, хотя об этом постыдном поступке ему неприятно было вспоминать. – Но и ты тогда рассказывай, как всё на самом деле было, чтоб потом кривотолки не ходили.
Что ж, Василь не отнекивался, и деду, хочешь, не хочешь, а придётся объяснить этой саранче, из-за чего такая молва пошла. Да он и так, без всяких намёков, в который уж раз рассказал бы эту историю.
– Ладно, слухайте и запоминайте! И штоб не было больше сплетен всяких, – сдался наконец дед Лявон.
Все как по команде живо зашевелились, усаживаясь поудобнее. Вокруг костра быстро установилась тишина, готовая жадно поглощать в себя каждое произнесённое слово.
– А приключилось такое вот дело, – начал дед Лявон. – Давно это сталось… вас тогда и в помине никого ещё не было. Был я тогда уже вдовцом. Помыкался малость, да и пошёл к одной молодице жить.
– В примы, – подсказал Василь.
– Ну нехай буде «в примы», – раздражённо согласился Лявон; он готов был убить Василя за издевательские выпады. – Ну, так вот… Ага. Аксиньей её звали. Молодица ядрёная была, кровь с молоком баба. Хоть чуть и постарше меня была, но уж шибко пышные формы имела. Вот и позарился я на них. Многие мужики даже завидовали мне. И детишки её не помехой мне были. Двоих она тогда растила. Сперва жили мы, не тужили. Землица непоганая была, огород был, молоко и сало были, хлеб смачны пекла. Я во всём ей помогал. Хлев соломой перекрыл, на хате крышу подправил. Сена накошу, скотинку покормлю. Она тоже баба хозяйственная была. Насчет этого ничего худого сказать не могу. Что серпом могла жать, что на кроснах ткать, что в печи сварить – всё умела. Вот тольки дюже знойная оказалась. Мужики заглядывались на неё, а ей это сильно по душе приходилось. В общем, глаз да глаз за ней потребен был.
И была тады у нас корова. С виду – корова як корова. Молоко добре давала. Но уж шибко норовистая была. И хитрая! Точно, вся в хозяйку! А подоить её одна только Аксинья и могла. Никого другого и близко к себе не подпускала. Если придётся, то наши мужики все могут корову подоить, ну а я что, хуже всех? Попробовал несколько раз подоить, кали женка на барщине была, – с лихвой горя тяпнул. То хвостом мельтешит, то ногой по даёнке[25] взбрыкнёт, а то и вовсе убежит со двора.
И вот в один из летних деньков забегает к нам кума. Говорит, грибы пошли расти и зовёт Аксинью мою завтра с утра в лес идти. Ну, та и согласилась. Пошли они утром за грибами, а я по хозяйству корпаюсь. Вот уж и обеденное время подоспело. Коров на дойку пригнали, а грибников всё нет. Подождал я ещё немного, да и решил сам подоить эту шельму рогатую. А чтобы задурить скотине башку её хитрую, дай, думаю, тоже зраблю по-хитрому. Ну не может же такого быть, чтоб человек не перехитрил скотину! В общем, взял я, да и переоделся во всё Аксиньино. И хусткой обвязал голову, чтоб бороды не видать. Одни вочы оставил. И даже тряпок за пазуху напихал. У Аксиньи-то цыцки были – ого-го! Без них рогатая бестия сразу распознала бы подвох.
Подошёл я, значит, к хлеву, перекрестился, открываю ворота. Гляжу – рябая шельма таращит свои глаза на меня и аж жевать перестала. Видно, всё же заподозрила что-то. Ну, я вихлястой походкой прошёлся перед её мордой и думаю: пора за дело, пока она ещё до конца не допетрила что к чему. Только нагнулся к вымени, а на меня сзади кто-то прыг и давай сподницу[26] задирать. Я от переполоха аж онемел. В хлеве-то ворота прикрыты! Притемно! Не разобрать: хто да што! Думал, што чорт яки напал. А этот чорт уже и за пазуху норовит залезть. А я всё никак скумекать не могу, што ж это происходит: прицепилось што-то сзади и пытается задавить меня! И только когда тот «чорт» заговорил, да ещё и целоваться ко мне полез, до меня всё и дошло! Сосед! Пыхтит и разворачивает меня к себе. Это, наверное, штоб поцеловать. И таким это томным голоском: «Аксиньюшка, люба моя, я уж истомился с самого утра в хлеву тебя ожидать». Ну, думаю, вот и дождался!
– Дед, а что корова? – зная эту историю, Василь всё не унимался и задавал наводящие вопросы. Ему также приходилось покрикивать на тех, кто слишком громко хохотал и мешал слушать дальше.
– Хм, а што корове? Она таращилась удивлённо на нас, а у самой морда такая довольная была, што мне так и хотелось дать ей по той наглой морде даёнкой. Не её ведь за вымя таскали! Но сначала, думаю, надо с этим соседом разобраться. А как я с ним разберусь? Он на голову выше меня, да плечи, што в ворота еле пролазят. Ну, вот я тогда и решил, што одолеть я его в жисть не одолею, а вот огорошить – попробую. Увернулся, значит, я от его слюнявых поцелуйчиков, да и опустил хустинку с лица своего. А он-то всё ещё у меня за спиной. И никак, кобель, не поймёт, отчего это Аксинья упирается. По всему видать, не впервой корову вдвоём доили. Может, та и молока много давала, што для неё такие представления устраивали. Ага… на чём я там остановился? – переспросил Лявон.
От громкого смеха слушателей он даже немножко сбился с мысли, что крайне редко с ним бывало.
– Хустку опустил, чтоб борода видна была, – подсказали деду.
– Ага, точно. А борода у меня тогда пышная была да чернявая, не то што сейчас. Ну, опустил, значит, я тихонько с лица хусточку, сморщил рожу ужасную и глаза к переносице в одно место скосил. Поворачиваюсь к нему, а он и рад уж, думал, наверное, што Аксинья сейчас обнимать его будет! И снова, гидота, целоваться лезет. А я набрал полную грудь воздуха, да как зарычу зверем на него, да как вцеплюсь руками в его жиденькую бородку. Тут-то он и разглядел как следует личико «Аксиньи». А я рычу пуще прежнего да ещё делаю вид, што и загрызть его хочу. А у самого мысля мелькнула: если б со мной такое приключилось, то, наверное, сердце от страху сразу б разорвалось. Я в тот момент точно зверь-зверем был. А он стоит себе – и хоть бы што! Не вскрикнул, не дрогнул, с испугу к воротам не кинулся. Стоит на месте – и всё тут! Во, думаю, кремень мужик! Такого одними косыми глазками не испугаешь.
А в хлеве оглобля негожая валялась. Ещё до меня Аксинья притянула откуда-то, да и кинула там, авось пригодится. Ага. Деваться-то мне некуда. Надо ж начатое до конца доводить. Думаю, раз напужать не удалось, так хоть этой оглоблей со злости хрищену. Оттолкнул я его от себя, штоб оглоблю, значит, успеть схватить, и што-то мне в его облике странным показалось. В хлеве хоть и не так видно, как на дворе, однако ещё раз глянув на этого дояра, я сразу понял: задумка моя удалась на славу! Портки-то у соседушки от испуга шибко мокрые стали. Ну а тут и он сам начал в себя приходить. Оказывается, если людину врасплох сильно испугом взять, то он может на некоторое время онеметь и не двигаться. Вот соседушка и начал из такого онемения выходить. Тут уж и я не на шутку перетрухнул, ибо первое, што он проявил, это от страху истошно диким криком заорал. Испуг, значит, из него начал наружу лезть. Ну и с этим криком-воем, от которого потом у коровы понос приключился, рванул кобелина на двор. Теперь на моей стороне были все преимущества, потому как противник обратился в бегство. Но до оглобли я дотянуться уже не успевал: уж больно резво гад рванул. Да и гнаться следом было бесполезно. Единственное, што было под рукой – даёнка. Вот и запустил со всего размаху я этим ведром в широкие молодецкие плечи. И откуда силы столько взялось! Жалко, конечно… Такое ведёрко хорошее было, сам мастерил. Обручики ивовые не выдержали. Клёпки по всему двору разлетелись…
Вот, значит, как я вывел на чистую воду и жёнушку свою «верную», и соседа-кобеля, и корову-сводницу.
Все долго смеялись и живо обсуждали смекалку и «военную стратегию» деда Лявона.
– Дед, а расскажи ещё что-нибудь.
– Про огород, як в осень садили, – с разных сторон летели просьбы и заявки на очередную историю.
– Хватит уже. Час поздний. Пора и по хатам. А то утром проспите, а я виноват буду.
– Не проспим! Ну, хоть коротенько что-нибудь! – умоляюще ныли голоса.
– Ну, если коротенько, то слушайте. Наш Семён Игнатич на днях купил ещё одного крепостного. Да не простого, а молодого парубка, красивого и смелого. Насчёт красивого – это для девчат, а насчёт смелого – для наших оболтусов.
Услышав это известие, Марылька встрепенулась, даже, сама не зная отчего, забеспокоилась. Начала бросать по сторонам напряженные взгляды, порывалась встать и идти домой.
– Ты чего заёрзала? – Любаша легонько толкнула подругу локтем.
– Да так, ничего. Поздно уже, домой пора.
А вокруг разгорались страсти по поводу «местных оболтусов». Хлопцы смеялись и тыкали пальцами один на одного.
– Это кто ж тут оболтус? – как всегда, первый наигранно возмутился Василь.
– Хватает таких. Но не о тебе сейчас сказ, – словно от назойливой мухи, отмахнулся Лявон, ясно дав понять, кто здесь оболтус. – Помните, перед Рождеством пан шкуру медведя привёз? Так вот, этот хлопец ходил тогда с панами на охоту на вепря… А там, откуда ни возьмись, и выскочил тот здоровенный медведь. Охотников с ружьями поблизости не оказалось, так этот хлопец, чтоб не упустить зверя, задушил его голыми руками.
– Ну, дед, ты уже и загнул!
– Не верите – можете спросить у самого пана Хилькевича. Я ж даже шкуру того медведя проверял: ни одной дырки от ружейного заряда или рогатины. Только где шея, шкура продавлена, аккурат как человеческими руками. Во как! А хлопца этого Михаль нынче должен был забрать из Каленкович, да што-то там не получилось. Завтра уж точно будет в имении.
– Во даёт, старый!
– Про нового крепостного хлопца я намедни тоже слыхал. Вроде как объездчиком буде службу нести, – сказал один из деревенских парней.
– То-то ж. Дед Лявон никогда не бреше, – сделав такое важное заявление, Лявон встал, давая всем понять, что можно уже и расходиться.
Зашевелились и все остальные. Везде обсуждалась услышанная новость. Марылька с Любашей тоже встали и, поёживаясь от ночной прохлады, направились вместе со всей гурьбой к селу.
– Любаш, пошли быстрее! Мне домой спешно надо, – вдруг, ни с того ни с сего, взволнованно прошептала Марыля.
– С чего это вдруг? Сталось что? – удивилась девушка странному поведению подружки.
– Ничего не сталось. Просто мне надо сейчас быть дома.
– Уж не собралась ли ты, подружка, хлопца того встречать? – весело пошутила Любаша, но, наткнувшись на тревожный или гневный – при лунном свете не разберёшь – взгляд Марыли, тут же осеклась. – Ну, не сердись. Надо – так пошли.
И две девушки спешно шли по лунному лугу, быстро оставив всех позади.
А ночное светило, плывя по своему звёздному владению, находилось в самом зените, показывая глубокую полночь…
Глава 10
– Красивое имя. Под стать самой хозяйке… А про беду твою я уже наслышан. Мне жаль, что так случилось, – сказал Прохор своей новой знакомой.
– Мне тоже очень жаль… и очень тяжко.
Прохор и Марыля некоторое время шли молча, размышляя каждый о своём. Звёзды и весна вселяли в их молодые сердца необыкновенное чувство романтического трепета. Полночная луна щедро проливала холодный свет, озаряя путь, на котором сейчас находилась эта пара.
Ничто в мире не происходит просто так, случайно. Но в тот момент парню и в голову не могла прийти одна простая мысль: «А почему это сейчас, в таком месте и в такой час произошла эта встреча? Не странно ли?» Но пока никто не мог бы сказать, прихоть счастливой судьбы или воля злого рока свела его вместе с этой девушкой? Хотя нет! По крайней мере, два человека знали об этой встрече, но вот о последствиях никто из них даже и предположить не мог…
– Послушай, Марыля, – сказал вдруг Прохор, – я понимаю, что сейчас не время и не место, но мне очень хотелось бы услышать именно от тебя, что и как произошло с твоим батькой. А в то, что говорят люди, я как-то не очень верю.
– Ты мне имени своего так и не назвал, – словно не услышав просьбы Прохора, тихо сказала девушка.
– Прохор.
– Так вот, Прохор, для нас сейчас главное – добраться до села без всяких приключений. Я хоть и не богата годами, но в людях трошки разбираюсь и думаю, что с твоей стороны ничего худого не будет. А…
– Да ты ж меня совсем не знаешь! Тремя словами лишь обмолвились, а ты уже и разобралась! А вдруг я разбойник какой! – сильно удивился Прохор доверчивости девушки.
– Разбойник? – улыбнулась Марыля. – Это слова. Глаза твои говорят обратное. Ну а с батькой что случилось, то лучше как-нибудь в другой раз. Ты правильно заметил: не время и не место. Я лишь добавлю известными словами, что не надо будить лихо, пока оно тихо.
– Ты хочешь сказать, что если мы сейчас будем говорить о какой-то колдунье, то она может и явиться?
– А кто его знает? Только мы уже говорим о ней, и мне что-то от этого не по себе. Страшно. Наверное, надо было остаться всё же на хуторе. Хоть и не в хате, а всё ж людское жильё рядом – не лес вот этот тёмный, – сказала Марыля и с тревогой начала оглядываться.
Они сейчас шли по ночной дороге, по обеим сторонам которой мрачными стенами стоял старый лес. Идти одному тут было бы до невозможности жутко и страшно. Прохор был несказанно рад неожиданной попутчице, да ещё такой миловидной внешне и приятной в общении. А то, что Марылька заметно прихрамывала и не могла быстро идти, не беда. Рядом с ней Прохор чувствовал себя настоящим витязем и готов был хоть всю ночь напролёт сопровождать такую девушку, а если понадобится, то и защищать. Окрылённый присутствием такой пригожуни он уже не страшился и самого чёрта лысого!
Пройдя ещё с полверсты, Марылька стала хромать сильнее. Было заметно, что она стойко переносит боль, а виноватые взгляды на Прохора показывали её стеснение за причиняемое неудобство.
– Как нога? Болит? – поинтересовался Прохор.
– Угу. Вот не думала, не гадала, да беда такая напала, – остановившись и потирая ногу, скороговоркой нерадостно обронила Марыля.
– Может, перетянуть надо? Давай тряпкой обвернём.
– А, пустое. До свадьбы заживёт.
– А у тебя что, свадьба скоро?
От слов Марыли Прохору вдруг стало грустно. Он даже сам себе удивился: эту девушку он знает не больше часа. «Кто она ему такая? Да никто! И к чему тут вдруг это чувство сожаления, что девка уже занята! Белиберда какая-то! Да у меня ещё этих девок будет – пруд пруди!» – хорохористо подумал Прохор, но настроение от этого не улучшилось.
– Не. Это просто говорят так часто. А ты чего это вдруг скис?
– Да так… за тебя вот волнуюсь. Давай, может, посидим. Отдохнёшь малость, и дальше пойдём, – сказал повеселевший хлопец.
– Не стоит останавливаться. Тут уж осталось почти ничего. Дойдём.
– Ну, как хочешь. Тогда пошли тихонько, – сказал Прохор и, подойдя к девушке, протянул ей руку. – Обопрись на меня. Легче будет.
Как ни противилась Марылька передышке, но всё равно вскоре пришлось остановиться. Не пройдя ещё и четверть версты, она вдруг, как назло, оступилась на больную ногу и вскрикнула от боли.
– Черт! Ну, надо же! Одно невезение… – чуть не плача, с досадой чертыхнулась девушка.
– Хочешь, не хочешь, а надо дать ноге отдых и обязательно потуже перевязать. Скорее всего, ты потянула ещё и сухожилия.
– Ладно, давай передохнём. Я немножечко посижу, может, боль и поутихнет.
Оглядевшись, Прохор выбрал место, где должно быть посуше и, расстелив свою свитку, помог Марыле присесть. При этом он непроизвольно коснулся щекой её виска. Близость девушки и ржаной запах её волос приятно дурманили рассудок. Сердце учащённо забилось. Сдерживая себя, чтобы не прикоснуться губами к манящей белизне девичьей шеи, Прохор выпрямился и огляделся вокруг. Они были на небольшой опушке при самой дороге.
– Вытяни ногу, пусть отдыхает, а я попробую собрать сухого хвороста и разжечь костёр. Всё веселее будет, – пытаясь унять выдающее его волнение, сказал Прохор.
Направившись к ближайшим деревьям, он услышал встревоженный голос Марыльки:
– Далеко не отходи. Мне страшно тут одной.
– Не бойся. Я мигом.
Чуть ли не на ощупь Прохор быстро собрал целую охапку сучьев, веток и другого хвороста. Этого вполне хватало на небольшой костёр. Достав из поясной шабеты[27] кремень, кресало и трут, он умело и быстро добыл огонь. Вскоре на опушке уже весело потрескивал костёр, внося свою лепту романтичности в случайную встречу молодых людей.
Прохор присел рядом с Марылей. Ему всё труднее становилось сопротивляться неудержимому влечению к этой девушке. Прежде он встречался со многими девчатами и чувствовал себя с ними уверенно и свободно. Но и встречи те были для Прохора малозначимы и кратковременны. Они больше походили на дружбу, хотя девчата заглядывались на него отнюдь не просто дружескими взглядами.
С Марылей же Прохор сразу почувствовал, что эта девушка особенная. Он с воодушевлением шутил и поддерживал разговор, стараясь не показаться скучным или нудным. Но лишь только слова затрагивали тему сердечную, как парень начинал смущаться, терялся и боялся, чтоб не сказать что-либо невпопад. Любое робкое высказывание девушки, касающееся амурных дел, Прохор воспринимал на свой счёт, и от этого его ещё больше охватывало чувство неловкости. Он умилялся добродетели Марыльки и ощущал её превосходство в целомудренном отношении к жизни. Временами на Прохора находило такое чувство благоговения, словно он был собственностью этой прелестной панночки и, невероятно, но ему это нравилось. А она, такая красивая и нежная, снизошла до того, что позволила своему холопу общаться с собой на равных. Разыгравшееся воображение вызывало в нем ещё больший, почти болезненный интерес к попутчице.
При свете огня Прохор с нескрываемым интересом разглядывал девушку. Он всё пытался рассмотреть, какого цвета у неё глаза. Но, то ли света было слишком мало, то ли ещё что, но ему никак это не удавалось. Прохору нравилось всё в этой девушке. Простота и скромность Марыли в союзе с красотой и стройностью фигуры наверняка заставляли трепетно воздыхать не одного парубка. Странно, возникшее вдруг ревностное чувство сейчас сильно беспокоило парня, но он пока не осмеливался спросить у Марыли, есть ли у неё суженый.
Прохор тоже заинтриговал девушку своей непосредственностью и молодецкой привлекательностью. Окончательно освоившись и украдкой рассмотрев попутчика с мужественными чертами лица, Марылька с каждой минутой вела себя всё более уверенно и раскрепощённо. В её разговоре начали проскакивать кокетливые нотки. Это немного смущало Прохора, но весна и молодость сметали начисто все смущения и сомнения.
– Ну, как ножка прелестной панночки? – вглядываясь в глаза девушки и поддаваясь её игривому тону, спросил Прохор.
– Болит! И никто помочь не может бедной девушке.
– Так я ж говорил: давай перевяжем… Тугую повязку надобно наложить.
– Ага, говорил и тут же забыл.
– Жаль, что у меня нет подходящей латки. Ничего, сейчас от рубахи низ оторву.
Прохор с готовностью вскочил и начал спешно осматривать свою рубаху, выбирая, откуда лучше оторвать полосу ткани. Марыля не на шутку встревожилась такому рвению. Ведь на парне была добротная и красивая, с вышивкой, рубаха.
– Не балуй! Я пошутила, а ты и рад стараться! – рассмеялась девушка. – Да и нога уже почти не болит.
Насчёт боли в ноге Марылька, конечно, сказала неправду, дабы остановить Прохора от опрометчивого поступка. И это сработало. Руки парня замерли, а глаза всё равно с недоверием смотрели на неё.
– Глупенький, пошутила я, – опять повторила девушка, только на этот раз не с насмешкой, а, как показалось Прохору, ласково. – Ты и так мне помог, а то бы сидела сейчас где-нибудь возле того хутора и ревела бы от страху. А так я сейчас встану, и мы очень скоро будем в селе. Я уж буду стараться.
– Посидим ещё немножко, – со сладким волнением сказал Прохор и опять опустился рядом с Марылей.
Костёр уже догорал, а Прохору очень не хотелось приближать время расставания с этой обворожительной девушкой. До Черемшиц рукой подать, а там когда ещё придётся свидеться с глазу на глаз?
Марылька снова порывалась встать и идти. Прохор отговаривал.
– Так мы же только присели, а ты уже готова опять идти! Не! Ноге ещё нужен покой. Я сейчас ещё принесу хвороста, а когда и он догорит, тогда уж точно пойдём! Добре? – сказал он и, вставая, опять слишком близко наклонился к девушке.
Марыля протянула руку и, что-то проворковав, нежно провела тёплыми пальцами по щеке Прохора…
Это было что-то неописуемое. Восторг и ликование клокотали в душе парня, перерастая в неудержимую страсть. В сильном возбуждении Прохор уже не мог сдерживаться, а какой-то внутренний голос подсказывал, что девушка охвачена такими же чувствами. В порыве страсти он обнял её и начал жадно целовать. Марыля сделала лишь слабую попытку сопротивления, но через мгновение оба они уже были в плену сладкой истомы поцелуев. Опьяненный бурной страстью, парень долго с жаром целовал и ненасытно ласкал девушку. Она отвечала тем же. Наконец Прохор с шумным и учащённым дыханием оторвался на мгновение от пылающих девичьих уст. Таких восхитительных мгновений он ещё не испытывал. Переводя дух и любуясь юной красавицей, Прохор понял, что он уже в сладком плену взаимности, в который все стремятся попасть и из которого никто никогда не бежит. Окрылённый неожиданным успехом парень заглянул в глаза своей царицы.
Прохору почему-то с самого начала казалось, что глаза у Марыльки непременно должны быть голубыми. Или ему, наверное, очень уж так хотелось, чтоб именно васильковый цвет глаз был у такой девушки. И он уже готов был без раздумья окунуться с головой в этот васильковый омут. Всё ещё нежно держа прелестную головку Марыльки, Прохор чуть отклонился, чтобы лучше разглядеть обворожительные очи. Серебро лунного света, на миг запутавшись в её длинных ресницах, заблестело в дивных глазах, и… Прохора обуял дикий ужас! Его в упор пожирали желтые глаза зверя! Глаза ночного зверя!
От страху душа словно окунулась в леденящий холод. Сердце бешено заколотилось. Прохор резко вскочил.
– Ты чего?! – испуганно встрепенулась и Марыля. – Напугал только…
Прохор стоял и смотрел расширенными от ужаса глазами на сидящую девушку. «Господи! И надо же такому привидеться!» – лихорадочно думал он. Перед ним была всё та же прекрасная попутчица, напуганная его выходкой. Её взгляд с тревожным непониманием остановился на Прохоре. «И глаза у неё вовсе не ужасные. Очень даже красивые глаза…» – успокаивал себя хлопец, а мысли его хаотично метались и путались. Он бесплодно пытался понять, что же тут происходит, что же он увидел! Не придумав никакого веского объяснения, Прохор подавленно сказал:
– Пойду соберу чего для костра. Что-то зябко становится. – И не дожидаясь ответа Марыльки, Прохор опять направился к лесу. Ему нужно было время, чтобы осмыслить странное видение. Глаза никогда ещё его не подводили…
– Ну-ну, иди… ухажёр, – прозвучало вслед.
На этот раз слова были сказаны тихо и холодно. Прохор ничего не услышал…
В душе и сердце обеспокоенного хлопца ещё не успел стихнуть ураган страсти, а в разум уже настойчиво стучалась тревога. Прохора лихорадило от предчувствия, бившего набат во все колокола души. Оно чувствовало что-то нехорошее и теперь уже неизбежное! И в этот момент Прохор по-настоящему пожалел, что не послушался Ваську Кота…
Бросив на землю охапку сучьев, парень начал нервно подбрасывать их на уголья. Ему нужен был свет! Мелкие ветки сразу взялись ярким пламенем. Длинный толстый сук Прохор сломал об колено. При этом сухая палка, громко треснув, выстрелила большой щепкой в сторону. Отскочивший кусок упал недалеко от Марыли.
– Ну вот, хвороста и так мало, а он им ещё и разбрасывается, – ухмыльнулась девушка и потянулась за щепкой.
Широкая и длинная юбка-андарак, до этого полностью прикрывавшая ноги девушки, поползла вверх к коленям. Прохор хоть и был обеспокоен тревожным предчувствием, но не смог удержаться, чтобы не бросить украдкой взгляд на представившийся заманчивый вид.
Парня, не успевшего окончательно прийти в себя после недавнего потрясения, снова хватил шок от ужасного зрелища. Расшитый подол юбки вместо стройных ног оголил… копыта! Самые настоящие копыта! Человеческая кожа ниже колен плавно переходила в тёмно-серую шерсть. А там, где должны были быть изящные девичьи ступни, «красовались» уродливые копыта. От такого жуткого зрелища могли потерять самообладание многие храбрецы.
Охваченный смертным ужасом, Прохор так и онемел с веткой в руке. Не в силах оторвать взгляд от шокирующего видения, он застыл с широко раскрытыми глазами. Теперь уже никаких сомнений не было. Зловещая догадка по живому резала сознание Прохора: «Так вот о каких чудесах меня остерегали! Вот она – ведьма!» Ужас сковал тело, но разум не сдавался и лихорадочно вытаскивал из памяти наставления деда: «При встрече с дьявольщиной важно не впасть в панику и скорее отвести взор от цепляющейся чертовщины. Не испугаться! Помни: испуг – твой враг! На глаза легко навести пелену видений, на голову – накинуть мороку. Ничему не верь! Главное в таком разе – вера в себя, в свои силы и, конечно же, вера в Бога!» Ну а про молитвы да крестные знамения так Прохор и сам знал. Это знали даже дети.
Прохор всем телом ощущал на себе тяжёлый, подавляющий силу и волю, взор. Наперекор подсознанию, завороженный взгляд хлопца медленно, сопротивляясь и упираясь из последних сил, поднимался, полз вверх по фигуре спутницы. Уродливые копыта… красивые колени… соблазнительные бёдра… Высокая девичья грудь не задержала внимания Прохора… Его взгляд подбирался к бездне! А вот и она – колдовская бездна! Глаза! Красивые и неземные… Противиться им не было ни сил, ни желания…
Красота попутчицы стала прямо-таки зловещей. У Марыльки, или кто там она на самом деле, на лице уже блуждала холодная полуулыбка-полуоскал. Вытянувшись, словно дикая кошка, она зазывающе откинулась на свитке. Глянув на свои ноги, девушка удовлетворенно ухмыльнулась и не стала их прикрывать. Она была уверена в себе! Она была уверена в своей силе! Настало её время! Настал час ведьмы!
Непонятное существо томным взглядом манило к себе человека. Прохор физически ощущал, как с каждым мгновением всё больше подавляется его воля. Дышать становилось всё трудней и трудней. Если немедля ничего не предпринять, то потом будет уже поздно. И страшно подумать, чем это всё может закончиться.
Первое, что сделал Прохор, – это с неимоверным усилием оторвал взгляд от колдовских глаз. Собрав остатки воли в кулак, он выжал из памяти всё, что может сейчас пригодиться. На исходе сил, повинуясь интуиции, он непослушной рукой рванул ворот рубахи. Дышать стало чуточку легче.
И тут сполохи костра отразились на гранях маленького нательного крестика-оберега, подаренного дедом. В то же мгновение Прохор с удовлетворением заметил, как вздрогнула красавица, исказилась в лице. В её очаровательных, но хищных глазах появилось замешательство.
А губы жертвы уже невнятно шептали: «Отче наш, иже еси на небесех…»
Невероятно, но Прохор с огромным облегчением чувствовал, как с каждым мгновением слабло давление на его сознание; медленно, но уверенно начала возвращаться ясность рассудка. И вот наконец он уже мог смело взглянуть и на свою роковую попутчицу. Его решительный взгляд – и уже в лике коварной красавицы растерянность и смятение. Вдобавок к этому ещё добрый десяток лет мутным осадком лёг на её облике, превратив юную несколько мгновений назад девушку в молодую женщину.
Видя, что что-то пошло не так, молодица сильно забеспокоилась. Такого с ней ещё не случалось. Она до сих пор без всяких затруднений завладевала волей своих жертв. А тут ведьма почувствовала сбой. Видать, всё же нашла коса на камень. Произошло самое страшное, что может произойти в колдовском ремесле – ведьма впервые усомнилась в своих заклятиях, потеряла уверенность. Её охватило смятение и паника от твёрдого и осмысленного взгляда жертвы. Это был уже не агнец для заклания! Теперь перед собой ведьма видела непримиримое противостояние. Достойное противостояние!
Молитвы, вера и крепость духа простого с виду селянского хлопца возымели необычайный эффект, и Прохор был поражён переменами в облике спутницы. Несколько мгновений назад, прямо на его глазах красивая девушка превратилась в женщину, и вот уже молодая женщина продолжала морщиться и стареть, обнажая свой истинный облик. Теперь это была уже пожилая баба в затрапезной одежде и с перекошенным от злобы лицом. Всё, что ему виделось до этого: юность, красота, соблазнительность – всё это было наволокой, колдовской пеленой. Да, слишком доверчив был парень и поэтому легко попал в плен чужой воли. Чужая воля заставила его видеть то, чего на самом деле не было.
«Господи, а как же поцелуи?! – мелькнуло в голове Прохора. – Молю Бога, чтобы и их не было!»
Ведьма в ярости извивалась и шипела, выплевывая проклятия. Но уже ничто не могло заставить Прохора расслабиться и опять поддаться колдовским чарам. В великой злобе ужасная старуха сама потеряла власть над собой! Видя тщетность своих усилий, она в порыве бешенства, зверем бросилась на воспротивившуюся жертву. Но не только она была одержима яростью. Окончательно избавившись от колдовских чар, Прохор горел желанием раз и навсегда расправиться с этим исчадьем ада. Не он первый бросил вызов! И не пристало ему от страха смиренно падать в ноги безжалостному Молоху тьмы!
Перехватив вытянутые к нему руки старухи, Прохор с силой крутанул их. Его поразила скрытая мощь жилистых рук с грязными узловатыми пальцами. Он еле удерживал ведьму. Словно бешеная рысь, она норовила выцарапать ускользающей жертве глаза, билась и кусалась. Прохор чувствовал, что такого натиска он долго не выдержит. Собравшись с силами и резко приподняв старуху, он со всей мочи опустил её прямо на костёр. Лицо ведьмы как раз угодило в горящие уголья. Для пущей верности Прохор ещё и надавил коленом на спину взбесившейся старухи! Он намеревался так удерживать её до конца, насколько хватит сил! У него или у ведьмы!
Дикий звериный рев всколыхнул всю округу. Вздрогнуло и замерло в ужасе всё живое. Прохор, словно былинка, отлетел в сторону. От чудовищного нервного напряжения и от удара при падении сознание погрузилось в бездну. Последнее, что смутно ощутил Прохор, – смрад палёной плоти и быстро удаляющийся в чащу истошный вой ведьмы…
Ранним утром к дому пана Хилькевича спешно подъехала телега. Мужик с покладистой седой бородой, бросив вожжи, вбежал во двор. Едкая черно-белая дворняжка увязалась за неестественно ведущим себя крестьянином и, назойливо норовя ухватить его за ногу или длинную полу армяка, заливистым звонким лаем известила всех о раннем госте.
Пан Хилькевич уже не спал. Он вообще этой ночью плохо спал: мучила мигрень, а как только удавалось задремать, – дурные сны. Да и на душе у Семёна Игнатьевича было муторно, давило непонятное предчувствие чего-то нехорошего.
Услышав шум во дворе, он подошёл к окну. Странная суетливость мужика не очень-то удивила Семена Игнатьевича: он уже ожидал чего-то такого, ненормального.
– Семен Игнатич! Паночку! Там… там хлопец! Совсем чудной! Говорит что попало, а вот имя – ваше называет! И Андрей Семёныча так же называет. В лесу его… это… подобрал. Решил вот к вам… сюда доставить, – запинаясь и волнуясь, быстро тараторил мужик.
– Ну-ка, глянем твоего хлопца, – спускаясь с крыльца, сказал пан Хилькевич.
Волнение передалось и ему. Семен Игнатьевич уже догадывался, кого сейчас увидит. Дурное предчувствие пана Хилькевича подтвердилось: на телеге лежал его новый крепостной – Прохор Чигирь.
Облик парня вызывал тревогу. Его отрешённое состояние, испачканная одежда и несколько глубоких царапин красноречиво говорили о том, что хлопец попал в скверную историю. А если это случилось ночью и на лесной дороге, то не трудно догадаться, с кем ему пришлось столкнуться.
К телеге подбежал и сын пана Хилькевича – Андрей.
– Прохор! Ты узнаешь меня? – взволнованно заговорил он, тряся Прохора за плечи.
Произнесённое имя пробило брешь в оцепенении парня. Прохор приподнялся. Медленно возвращаясь в реальность, он с недоумением всматривался в незнакомые лица сбежавшейся челяди. Хлопец с трудом пытался понять, что стряслось и где он. Его взгляд задержался на пане Хилькевиче, а затем и на его сыне. Этого было достаточно, чтобы понять, что Прохор приходит в себя и к нему возвращается ясность рассудка.
– Ведьма… ночью, – выдохнул он и в бессилии опять откинулся на душистое сено.
Перепуганный мужик вопросительно глянул на Семёна Игнатьевича. Вся прислуга тоже начала испуганно переглядываться и усердно креститься.
– Ничего страшного, отойдёт. Принесите стакан водки. Пусть выпьет и отоспится, – мрачно сказал пан Хилькевич. Он хотел было уже идти в дом, но, ещё раз глянув на Прохора, задумчиво произнёс: – Да-а… неказисто вышло… Что ж, с прибытием на новое место…
Глава 11
Прошел месяц. Прохор быстро оправился от «гостеприимной» встречи Черемшицкого края – края полесских болот, глухомани и колдовства. Наверное, нигде в царской империи не были так широко распространены союзы людей и дьявола, как на затерянном среди лесов и непроходимых топей белорусском Полесье.
Приступив к исполнению возложенных на него обязанностей, Прохор с интересом знакомился с угодьями пана Хилькевича, запоминая их межи и приятно поражаясь живописной красоте здешних мест. Как и пан Войховский, Семён Игнатьевич вручил новому ловчему старенькое ружьецо, которое когда-то принадлежало Андрею. Это ружьё тоже было кремниевое, но в гораздо лучшем состоянии чем то, с которым Прохор ходил у Егора Спиридоновича. Господские владения он объезжал на выделенном из панской конюшни ладном молодом конике по кличке Орлик. За месяц Прохор с заинтересованностью охотника исследовал почти все закутки окрестных полей, лесов, болот и реки. Удивляясь обилию водившейся здесь дичи, его охотничья страсть торжествовала. Угодья для охоты были превосходны, и пришлись ему по душе. Вот только в сторону Гайстрова болота, по приказанию пана Хилькевича, он пока не показывался. Да у него и самого не было никакого желания обследовать то диковатое место, приютившее в своей заброшенной избушке пришлую колдунью. И вообще Прохор опасался, что происшествие на ночной дороге может вылезть ему боком. В остальном же всё складывалось благополучно.
За службу Прохор взялся с охотой. Семен Игнатьевич видел, что работу свою хлопец понимает и знает, поэтому по пустякам его не дёргал и относился к нему весьма доброжелательно. С сыном пана Хилькевича так и вовсе установились самые дружеские отношения.
За сравнительно короткий срок Прохор познакомился почти со всеми жителями Черемшиц и близлежащих хуторов. Если он кого-то ещё и не знал, то нового статного парубка знали уже все. Особенно интересовались молодым красавцем лесником девчата, что в свою очередь не очень пришлось по душе некоторым местным парням. Самого же Прохора приятно поразило то, что в отличие от других полесских селений, в Черемшицах радовали взор с дюжину девчат-красавиц. Обычно же в селе или на деревне проживали одна-две завидные девки, а остальные – так себе.
И если бы не опасения по поводу ведьмы и не тоска по родным, то Прохор, можно сказать, был бы даже рад такой перемене в его жизни.
Черемшинцы, как и весь крестьянский люд, жили по-разному: одни перебивались с мякины на воду, другие – в сравнительном достатке. Многое зависело от наличия в семье рабочих рук, от плодородия надела и от желания и умения его обрабатывать. Полешуки издавна слыли трудолюбивыми и горепашными людьми. С ранней весны и до поздней осени они безропотно гнули спины на полях и наделах, добывая хлеб свой насущный. Много времени и сил отдавали работе и промыслу в лесах и на реках. Почти половина жителей Полесья жила за счёт рыбного промысла. При таком обилии природных водоёмов и сам бог велел заниматься этим. Все селяне зачастую трудились от зари до зари. Уклад сельской жизни обязывал к этому, а иначе зимой пришлось бы туго. Но всё же каждое селение, как правило, не обходилось без одного-двух нерадивых и безалаберных хозяев, чьи семьи из-за их лености, пьянства или природной непутёвости еле сводили концы с концами.
Чтобы легче было управляться с работой, жили крестьяне большими семьями. Часто под одним кровом уживались две-три родственные семьи. И в каждой семье – детей как маку. Почти всё, что зарабатывалось трудом праведным, шло в общий котёл, коим ведал глава семьи – батька. Только с его одобрения принимались все важные семейные решения. Без дозволу[28] батьки взрослые сыновья, обзаведшиеся своими семьями, не могли отделиться и вести своё хозяйство. Прагматичный мужицкий расчёт был прост: лучше иметь одно большое и крепкое хозяйство, чем несколько малых и бедных. Даже при выборе невесты сыновьям часто приходилось следовать указаниям главы семьи. А каждый глава семьи в невестке видел прежде всего крепкую работницу и родительницу внуков. Поэтому в крестьянских семьях старались заиметь в невестки девушку с толстыми лытками и широкими бёдрами. Такая и мешок в три пуда снесёт и дитё в поле родит.
Жизнь и быт черемщицких селян почти ничем не отличалась от условий и образа жизни селян всего Полесья. Так что Прохору и тут всё было не в новинку: весенняя посевная сменялась позднелетней уборочной страдой; сравнительно сытую осень встречал рождественский пост, а там и голодная весна не за горами. И так из года в год, и так по всему Полесью.
Но особенно на новом месте Прохору приглянулись здешние вечорки. Подружившись с местным хлопцем по прозвищу Игнат, он вместе с ним позавчера впервые побывал на таком красочном и богатом на впечатления мероприятии. И вот теперь с нетерпением ждал следующего раза.
Прохор часто встречал то на улице, то на работе местных девчат. Как уже отмечалось, он не мог не обратить внимания на то, что среди них есть настоящие красавицы. Но когда молодёжь собралась гурьбой у вечернего костра, у Прохора глаза разбегались. Пригожих девчат здесь было гораздо больше, чем он предполагал. И многие из них бросали красноречивые взгляды на нового лесника. Видимо, не одно девичье сердечко заставило встрепенуться появление стройного голубоглазого парубка с мужественным лицом.
Но и местные забияки-верховоды не оставили без внимания такое событие. Некоторым было просто невтерпёж испытать, из какого теста выпечен новенький. Такой интерес к новичкам проявлялся всегда и везде. Только после некоторого испытания чужаку определялось соответствующее положение в обществе: в большом или маленьком, в высшем или на самом дне – не имеет значения. И, судя по всему, такое надуманное селянской простотой испытание предстояло пройти и Прохору. И оно не заставило себя долго ждать…
Молодёжь собиралась на очередные посиделки. И, как правило, первые, совсем ещё желторотые пацаны занимали места получше. Но, как всегда, позже появлялись более чтимые хлопцы и девки и, как всегда, сгоняли зелёных малолеток с этих мест: каждый сверчок должен знать свой шесток.
Вокруг костра постепенно нарастало оживление, крепчал шум голосов. В разных местах сначала слышались негромкие разговоры и смущённые хихиканья, часто переходящие в озорные крики и весёлый визг. Казалось, только здесь по-настоящему бурлила жизнь молодёжи.
И даже костер весело потрескивал, радуясь чести быть в центре таких событий. Гордясь своей значимостью, он словно тоже хотел о чем-то рассказать этой шумной молодёжи, но его никто не слушал и не обращал внимания. Обидевшись, костёр затухал, и только тогда люди спохватывались, вспоминали о нем и отдавали причитающуюся дань: хворост, сучья, коряги. Вообще же стихия огня взимает дань всем, что только может поглотить её ненасытное чрево пожара. К сожалению, слишком уж часто люди сами вызывают эту стихию, а управлять ею не всегда могут. И разнузданное пламя жестоко карает за это, забирая жилища и жизни.
Прохор сидел сбоку и осторожно бросал заинтересованные взгляды на весело щебечущих девчат. А сидящий рядом Игнат тихонько то ли уговаривал, то ли давал совет насчет какой-то Любашиной подружки. Сам-то Игнат недавно начал встречаться с Любашей и ему очень уж хотелось дружить парами, так ведь веселее.
– Говорю тебе, девка пригожая. И не взбалмошная какая, вот увидишь, – тихо, но настойчиво Игнат исполнял Любашино поручение и своё пожелание.
– А вон у той чернявенькой, в серединке… с веточкой которая… у неё есть хлопец? – мало обращая внимания на слова товарища, Прохор незаметно указал глазами на одну из привлекательных девчат.
– Тьфу ты, черт! Я ему одно, а он мне другое. Есть у неё хлопец! – нервничал Игнат. – Да я тебе покрасивше девку советую.
В сердечных делах Прохор больше доверялся себе, своим глазам и сердцу. Но чтобы не обидеть товарища, он для отцепки спросил:
– Ладно, где эта твоя хвалёная пригожуня?
Игнат растерянно захлопал глазами, глянул по сторонам и виновато произнёс:
– Так её ещё нема. С Любкой она… Вот-вот должны подойти.
– Ну, тогда и не дури мне голову, – тихо рассмеялся Прохор. – Вот когда придут, тогда и поглядим, кого ты там мне сватаешь.
Игнат пока ни словом не обмолвился, что Любашина подружка есть не кто иная, как Марылька. Он помнил из рассказа Прохора, что ночная попутчица в ту злополучную ночь назвалась Марылькой. И после того случая, ещё ни разу не встретив настоящую Марыльку, Прохор уже загодя питал к этой девушке неприязненное чувство.
Время шло. Любаши с подружкой всё ещё не было, а собравшиеся девчата заводили уж третью песню. Заглядываясь на девчат, Прохор также отмечал, что они не только красивые, но и Богом одарённые. Не каждому дано так выводить напев. Сам же он не любитель петь, не давались ему песни своей легкостью напева. А вот слушал он, как другие выводили задушевный мотив, с превеликим удовольствием. Вот и сейчас заслушался парубок песней девичьей и не замечал косых взглядов да перешептываний драчунов местных.
Затих напев. И нарушил послепесенную паузу голос всё того же Василя – непревзойдённого черемшицкого забияки:
– А скажи-ка, мил человек, что это ты только слушаешь, а петь не помогаешь нашим девчатам?
Упертый в Прохора взгляд красноречиво говорил, к кому обращался Василь. До Прохора не сразу дошло, чего от него хотят. Наконец поняв смысл вопроса, он спокойно ответил:
– Способностей к пению нема, вот и слушаю только.
– А чего ж это матка родила тебя таким неспособным?
Прохора всегда коробила чужая чрезмерная заносчивость и спесь. Он уже смекнул, что началась его проверка. Хлопец с самого начала догадывался, что этого не миновать. Но и оскорблять себя он не даст.
– Да уж, какой есть… А вот матерей трогать не надобно, – спокойно ответил Прохор, а внутри уже поднималось лихорадочное волнение.
– А то что? – ухмыльнулся Василь.
– А то ведь и худо может быть…
Прохор осознавал, что ведёт себя немного вызывающе, и это может для него плохо кончится. Что ж, что будет, то будет! Заискивать и угодничать он ни перед кем не станет!
В установившейся напряжённой тишине слова Прохора прозвучали твёрдо и холодно. Прохор без страха смотрел в глаза Василю, но от нарастающего волнения в ногах и руках появилась слабая дрожь. Где-то под ложечкой ожил неприятный холодок. Ему не раз приходилось участвовать в кулачных потасовках, и он отлично знал, что сразу после первого удара у него пропадёт и волнение, и слабость, и дрожь. Его тело в такие моменты охватывал бойцовский азарт, и он тогда уже ни на что не обращал внимания. А сейчас, судя по всему, дело шло именно к потасовке.
– Я что-то не уразумел: мне что тут, указывают, что можно говорить, а чего – не? И хто?! Вот еты бобик?! – указав пальцем на Прохора, с наигранной злостью процедил Василь.
Он привстал с колоды и решительно подался в сторону Прохора. Василь явно провоцировал новичка на драку.
– Василь, уймись! Хлопец с миром к нам, а ты задираешься! – попробовала угомонить буяна одна из девчат.
– Молчи, Фенька! – резко прикрикнув, Василь с ухмылкой повернул голову к встрявшей в мужской разговор девушке. Потом обвёл всех хитрым взглядом и, видя, что всё внимание приковано к его персоне, с ехидцей спросил:
– Или ты уже глаз положила на панского лесника? А?! – последнее восклицание Василь уже выкрикнул во всю глотку.
Феньке и вправду нравился новенький. Но об этом она ни с кем не секретничала, и это была её сердечная тайна. Девушка ведь с Прохором ни разу даже и словом не обмолвилась. И вдруг услышав такое, она сильно смутилась, краска ударила в лицо. Фенька вскочила как с иголок. Сначала хотела было что-то ответить в оправдание, но, не найдя нужных слов, стыдливо закрыла лицо руками и убежала прочь.
А Василь, довольный своей выходкой, опять повернулся к Прохору.
– Ну, петь не умеешь – будешь щас плясать.
– Зря девку смутил. Если имеешь что-то супротив меня, выкладывай. А с девками тягаться много смелости не потребно, герой, – всё так же с виду невозмутимо произнёс Прохор, и на его лице даже проскользнула насмешливая ухмылка.
Василя сильно задело, что соперник совсем не выказывал перед ним испуга или хотя бы трепета. Да ещё прилюдно норовит и осрамить. В словесных перепалках Василь явно не мастак. Он предпочитал без лишних закорючек и трепа сразу показывать на деле молодецкую удаль своих кулаков.
Поняв, что его оскорбили, Василь набычился, брови сошлись у самой переносицы, из глаз, казалось, вот-вот полетят искры. Недолго раздумывая, он ринулся на обидчика.
– Ну, падла, ты докаркался! – с таким злобным боевым кличем местный заводила ловко подскочил к Прохору и почти без замаха коротким хуком саданул соперника, целясь в челюсть.
Прохор был наготове, но всё же не ожидал от Василя такой прыти. Он еле успел вскочить, а вот увернуться от удара не удалось. Резко откинув голову назад, Прохор лишь значительно уменьшил силу сокрушительного хука, но зато подставил не менее уязвимую часть лица.
Василь хоть и целился в челюсть, но попал ещё лучше – в нос. Распалённый удачной атакой, он уже не мог остановиться. Левый кулак уже точно шел в челюсть. Но вместо ожидаемого щелчка рука с шумом пронеслась по воздуху, и тут же Василь сам получил такой удар под дых, что у него от боли спёрло дыхание и подкатила удушающая тошнота. Не успев перевести дух, он ещё раз получил под глаз. На этот раз Василя на мгновение ослепило полетевшими оттуда искрами.
Всё происходило так быстро и скоротечно, что, пока драчунов бросились разнимать, они успели ещё обменяться двумя-тремя отменными тумаками.
Игнат, вскочив между дерущимися, заслонил Прохора и начал оттаскивать его в сторону. Товарищи Василя тоже ринулись разнимать драчунов. Они, еле удерживая распалившегося своего дружка, так же старались оттеснить его подальше. Вокруг костра стоял шум и гвалт.
В порыве кипящих страстей несколько раз наступали на костёр, отчего он наполовину оказался разбросанным и затухшим. Выходит, досталось и ему, важному и чтимому. Да-а, давненько костёр не был свидетелем такой людской дури!
– Почудили трохи – и хватит!
– Правильно! Будет теребить друг дружку!
– Обоим добре перепало! Надо и меру знать! Негоже буде, если покалечите один одного, – успокаивали драчунов остальные хлопцы, оставшиеся, однако, весьма довольными разыгравшимся зрелищем.
– Давай к воде его! Кровь из носа вон как сочится, обмыть надобно! – кричала Игнату появившаяся вдруг Любаша.
Несколько человек повели вырывающегося Прохора к речке. Умывшись холодной водой, хлопец наконец успокоился. Возле него заботливо хлопотала Любаша со своей подружкой.
– Ну, как ты? – вглядываясь в темноте на распухающий нос товарища, участливо справился Игнат.
– А-а, – махнул рукой Прохор, – добре.
– Зато настоящий красавец. Особенно завтра будешь хорош, – пошутила Любаша.
– Больно, наверное? Надо мокрую тряпицу к носу прилаживать, – раздался тихий девичий голос.
Только сейчас Прохор внимательно глянул на девушку. Хотя и было темно, но абрис девичьей фигуры и нежный голос сильно заинтриговали его.
– Это моя подружка, – быстренько сообщила Любаша, заметив заинтересованный взгляд хлопца.
– А это мой дружок, – шутливо вставил Игнат и легонько хлопнул товарища по плечу.
– Во как ловко познакомились, – повеселев, сказал Прохор. – Меня вообще-то Прохором кличут.
– Я знаю.
– А как милую красуню величают?
– Марыля. Марылькой меня зовут.
Все выжидающе замерли. Наступила непродолжительная, но слишком выразительная пауза, которую задумчиво прервал Прохор.
– Странно получается, однако…
– Что тебе всё странным кажется, – встрял в разговор Игнат. – Марылька самая красивая девка, а ты…
Игнат не успел договорить, как получил от Любаши локтем в бок, и тут же исправился:
– А! Ну, после тебя, конечно.
Все дружно рассмеялись, а Прохор всё так же задумчиво продолжил:
– Да не про то я. Просто вот уже второй раз попадаю в вашем крае в переплёт, и второй раз рядом имя «Марылька». Вот и говорю: странно как-то…
– А ничего странного. Может, Марылька как ангел-хранитель приходит к тебе в тяжкую годину. Так что не пугаться, а радоваться должен! Ясно?! – в шутку заявила Любаша. – А теперь пора и по хатам. Надеюсь, ты проводишь своего ангела хранителя?
– Куда ж мне с такой сопаткой, – неуверенно заявил Прохор и осторожно потрогал распухший нос.
– Ничего, я глядеть не буду, – вырвалось вдруг у Марыльки, и этим всё было решено.
Марылька сама не ожидала от себя такой решительности. Ей стало неловко и стыдно. Выходило, что это она звала хлопца с собой. Но благо было темно, и никто не заметил смущения девушки, да и вообще никто, кроме Прохора, не обратил внимания на её слова.
Все расходились по домам. Две пары неспешно шли позади всех. Прохору нестерпимо хотелось опять рассмотреть получше свою спутницу. Несомненно, девушка была симпатична. Но тревожило одно: почему тогда, в ночном лесу ведьма тоже назвалась Марылей? Это обстоятельство таило в себе какой-то смысл. Сейчас же Прохор в одном был уверен точно: эта Марылька – не ведьма.
Проводив девушку до хаты, Прохор сделал робкую попытку обнять и поцеловать её на прощание.
– Быстрый какой… – смущенно уклонилась Марылька и, не оглядываясь, вбежала в хату.
– До завтра, Марыля! – негромко выкрикнул вдогонку Прохор.
Услышав из темноты тихое «добра», он радостно вздохнул и, ещё раз потрогав распухающий нос, отправился спать.
На следующий день Василь прислал гонцов. Предлагалось распить магарыч за мировую. Предложение было принято, и ближе к вечеру избранная компания уже сидела за столом. Дружки с интересом посматривали на виновников застолья и не скрывали своих улыбок. А причина их интереса была веская: у одного полностью заплыл подбитый глаз, у другого нос распух на пол-лица. Василь и Прохор, увидев друг друга и критически оценив свою работу, тоже остались весьма довольны.
Забулькала сивая горелка, наполнились первые чарки. Василь поднял наполненный едкой жидкостью шкалик и на правах хозяина первый взял слово.
– Ну что! – торжественно произнёс он, – вот и познакомились поближе с Прошкой. А то все рассказывают всякое, а я слухам не верю. Лучше уж самому во всём свериться. Так что давай Прохор, за близкое знакомство и выпьем!
– Давай, – согласился Прохор, и, чокнувшись, вчерашние соперники залпом осушили чарки.
За ними последовали и дружки. Закусив квашеной капустой, все оживлённо начали обсуждать вчерашний поединок.
– А чего ты вообще затеял такую возню? Ну, подошел бы, пожали бы друг другу руки, да и познакомились бы, – миролюбиво сказал Прохор.
– Э-э, не, брат! Это не то, – категорично махнул рукой Василь. – Запомни, если после драки предлагается дружба, то это значит, что тебя уважают. И такая дружба намного крепче и дороже, – заученными словами, по-философски начал объяснять Василь, хотя, как уже отмечалось, говорить он был не охотник. – А вообще, про тебя всякие небылицы рассказывают, вот и захотелось проверить.
– Ну и как?
Василь потрогал заплывший глаз и беззлобно улыбнулся:
– Да вроде как правду говорят.
Подвыпившие хлопцы дружно засмеялись, и за столом закипел весёлый шумный разговор. Легкий хмель придавал ещё больше доверительности в речах. Василь с Прохором, уже обнявшись как закадычные друзья, наперебой расхваливали бойцовские качества друг друга, демонстрируя в подтверждение заплывший глаз и распухший нос.
Кто-то из присутствующих затронул тему о ведьме. Василь, став вдруг серьёзным и уставившись на Прохора одним глазом, спросил:
– Прошка, вот скажи по чести, что там, в лесу, случилось? Ты ведь толком никому ничего и не рассказывал. А ведь когда ж тебя привезли к Хилькевичам, то говорят, что ты сам не свой был. Расскажи вот нам всем… что ж сталось тогда ночью? Ведьма встретилась?
Все вдруг разом затихли, всё внимание сосредоточилось на Прохоре.
– Встретилась… Страху было – не приведи господь. Но мне теперь и самому с трудом верится в это, – начал Прохор и, видя, как вытягиваются лица у подвыпивших хлопцев, добавил более спокойно: – А может, и померещилось всё…
– Не дури, парень. Люди говорят, что ведьм, на тебя наседала… Хотела поездить и душой твоею завладеть. Да, судя по всему, не получилось… Саму-то Химу нынче бачили. Говорят, что рожа у старухи жутко страшная стала, изуродованная… Твоя работа? – всё допытывался Василь.
– Не припоминаю. Может, и моя… а может, и ни при чём тут я, – неохотно отвечал на расспросы Прохор. Ему очень не хотелось ворошить сейчас жуткие воспоминания.
– Ну, ладно, бог с тобой. Не хочешь – не говори. А ты хоть знаешь, что у этой ведьмы дочка есть. Добрая девка. К людям тянется, а Хима её на привязи держит.
– Так-таки и на привязи? – оживился Прохор.
– Ну не совсем может… Опять же люди говорят. Не хочет она по стопам матери идти. Вот и разлад у них выходит.
– Ну так сбежала бы от своей ведьмы, – подал голос кто-то из хлопцев.
– Наверное, боится. С этой карги станется: проклянет – и не будет жизни даже на краю света. Во как!
– Что, и дитё своё может проклясть?!
– Если ведьма разгневается или колдовской нуждой изведётся, то и дитё, и мать родную – всё нипочем, – давал разъяснения Василь на сыпавшиеся вопросы.
– Жалко девку… Красивая… Хоть и на цыганку похожая.
– Не, не похожая. Просто чернявая.
– Да какая, к черту, разница: белявая, чернявая – один хрен, жалко девку!
– раздалось чьё-то категорическое высказывание.
Все согласно закивали головами.
Поговорив ещё немного, хлопцы наконец опомнились, что уже поздний час, а завтра рано всем вставать. Горелка давно закончилась и вместо чарки на посошок они крепко по-мужски пожали друг другу руки и разошлись по хатам.
Прохор шел по улице и думал о Марыльке. Они договаривались сегодня встретиться, но и он, и Игнат не пошли на свидание. Вернее, сначала думали, что успеют, а потом за чаркой да разговорами и вовсе забыли об уговоре.
Глава 12
– Явилась, наконец! И где только носит тебя день напролёт?
Не успела Янинка переступить порог опостылевшей избушки, как её встретило злобное ворчание матери. И так почти всегда! Всё время она чем-то недовольна, всё время у неё какие-то подозрения и чёрные предчувствия. Особенно Серафима стала невыносимой после того, как недавно ей сильно не повезло. Видать, нарвалась всё же на кого-то отчаянного. Не дрогнул, не смалодушничал, сунул, видать, старуху головой в печь. И правильно сделал! У Янинки в глубине души даже зародился маленький червячок злорадства. Она никогда не одобряла деяний матери, хотя и жили они в основном за счёт этого.
Вот уж которую неделю в избушке царили страшные дни. Серафима выла от боли и ярости. Места себе не находила. Её обезображенное лицо являло собой ужасное зрелище и доставляло старухе неимоверные муки. Но ещё больше страдала ведьма от мук душевных. Сомнения в своей силе и жажда мести раздирали её сознание. Страшная месть как воздух сейчас была просто необходима старухе. Это, по её мнению, возвратит ей колдовскую уверенность. И она с упоением представляла, чем отплатит виновнику своих страданий. Месть! Только этим чувством жила сейчас Серафима. Картины и способы мести калейдоскопом сменяли одна другую. И с каждым разом воспалённое воображение старухи рисовало всё более жестокие и изощрённые способы расправы с панским лесником. Но в то же время Серафима в глубине души трезво осознавала, что не так всё просто будет с этим зелёным мальчишкой…
И ещё старуху очень беспокоило дурное предчувствие. Это предчувствие появилось сразу же, как только Серафима начала свою активную колдовскую деятельность в здешнем крае. У неё постоянно было ощущение, будто за ней кто-то наблюдает. Иногда даже казалось, что какая-то сила пытается вмешаться в её тайные помыслы и повлиять на них. И вот теперь Хима после недолгих размышлений все свои тревоги приписала указывающему персту судьбы. Видимо, покровительствующие силы тьмы так предупреждали её о скором появлении ненавистного парубка. А она не вняла предостережениям, не проявила осторожность! Занятая своим гневом, Хима и мысли не допускала, что на этот раз её чутьё жестоко ошибалось…
Старуха почти никогда ни перед кем не испытывала такой беспомощной ярости. За всё время на её колдовском пути лишь два или три раза попадались люди-кремни, с которыми очень трудно было совладать. Тогда ей пришлось приложить невероятные усилия, но всё же она сумела справиться. С тех пор таких людей ведьма нутром чуяла и без острой надобности старалась избегать колдовского влияния на них. Колдовство на таких людей требовало неимоверных затрат сил, после которых Серафима долгое время чувствовала себя разбитой и опустошенной.
Старуха часто сравнивала себя с острой косой. И если уж находила коса на камень, то оставался сильнейший иль хитрейший: попадется мелкий камешек – с искрами разлетится в пыль. Крупный встанет на пути – лучше обойти.
На жизненной стезе ведьмы немало встречалось «строптивых камешков». Но все они были никудышные. Таких и не жалко. Под беспощадной косой заклинаний и колдовства все они разлетались в пыль и исчезали в никуда…
И вот сейчас, не находя себе места, Серафима нервно металась взад-вперёд по тесной избушке. Мысли не давали ей покоя: «Для большего куража ещё и Марылькой назвалась. Надо же, проглядела! Не учуяла в парне селянском стойкость гранитную. Слишком самонадеянна была, самоуверенна в своём мастерстве. За что и поплатилась жестоко. Обожглась! О-ох, как обожглась…
– при этой мысли Серафима непроизвольно притронулась к изувеченному лицу. – Выбил гадёныш из седла. На полном скаку выбил… И всё пошло наперекосяк, всё из рук валится. Голова уж кругом идёт от сплошных неурядиц. Хлопоты и тревоги сыплются со всех сторон: то избушка чуть огнём не взялась, то урядник намедни с какими-то непростыми людьми аж сюда добрался. Всё вопросики подозрительные запытывал, а увечье увидав, и вовсе не мог скрыть довольства своего. Дожилась! Да-а, настали деньки чёрные. И всему виной он проклятый! А тут ещё и Янина последнее время ходит, как окаянная. Ни словом, ни делом матери не подсобит, не посочувствует!» – в сильной злобе на весь свет размышляла Серафима.
Словно раненый зверь, она металась по избушке, а вспомнив ещё и о непутёвой дочке, вообще выть стала.
Обиду крепкую терпела Серафима на дочку свою. И мысли о строптивой девке ещё больше добавляли злобы и горечи на душу старухи. «Ни в какую не хочет продолжать дело рода семейного. Претит ей, видите ли, колдовское ремесло. Знать, в батьку пошла богобоязненного. А задатки-то колдовские имеет наши. Исключительные задатки. Почитай, получше, чем у меня самой…
– мрачно мыслила старуха. – Да-а, что-то в нашем роду не так пошло… на мне сбилась преемственность чародейного дара. Не я – Янина должна была перенять от деда всю силу колдовскую, и сетовал сильно по этому поводу старый Корчак. Всё злился да ворчал, будто я была всему виной. Наверное, чувствовал старый, что этот сбой может и вовсе привести к исчезновению родовой ветви ведунов. Нашей ветви!»
А дело всё в том, что бытует поверье, а может, и на самом деле так, будто особая сила колдовства передается через поколение, а то и через два. Это нормальный цикл, и даже многие маститые чернокнижники сами верили, что нарушение этого цикла приводит к угасанию или в лучшем случае к ослаблению рода колдунов. Особенно если в поколениях, идущих одно за другим, появлялись люди, крайне наделённые колдовской способностью. Вот как, например, и в роду Корчака: он сам – Серафима – Янина. «Видать и артачится Янинка из-за этого! Эх, пропадёт наше дело… А из неё со временем вышла бы знатная чародейка… Я-то уж давно её способности заприметила: и дождь предскажет, и птичку раненую пожалеет, и отзовётся о ком-то дурно, и всё это как-то невзначай, вскользь, даже сама не придавая значения тому, что говорит. А потом с её слов многое и сбывается: с утра солнышко светит – к полудню дождь прослезится; пичужке сдохнуть бы надобно, а она от сочувствия Янинки вдруг чудно порхать начинает; человек, сотворивший худо, возьмет да и занеможет без всякой на то причины. А она-то, дурочка, ничего этого и не замечает! Даже и не подозревает, что это и есть дар исключительный. Думает, что это обыденное дело, у всех так. Эх, Янинка, доиграешься! Вынудишь ты свою мать душу тебе силой колдовской палить!»
– Серафима часто и тяжко вздыхала от таких мрачных дум.
И вот сейчас бросив на дочь злобный взгляд и видя её отрешённое состояние, старуха раздражённо сплюнула и в сердцах махнула рукой. Она уже давно этого ждала и лишь с досадой подумала: «Пришло время, да не вовремя. Взыграла сучья кровь. К оболтусам деревенским потянуло… А ну погодь, погодь! А не виной ли тому опять ОН, лесничок этот?! Ведь только его могла повстречать в лесу. В деревню-то давненько не хаживала…»
От этой внезапно озарившей мысли старуху аж передёрнуло. Чутьё ведьмы подсказывало: догадка верна! И пуще прежнего охватила её лютая ненависть. Хотела было уже сполна излить свою злость на голову дочки непутёвой, да вдруг опять осенило старую: «Ох, мать моя честная…» – тихо охнув и не спуская пристального взгляда с Янины, Серафима медленно опустилась на лавку.
Ещё толком ничего не зная и будучи не до конца уверенной в догадке, она затряслась в волнении. Серафима замолкла, затаилась на время, боясь сказать дочке что-нибудь не так и вспугнуть птицу удачи. Если её догадка верна, то это был её шанс, настоящий подарок судьбы! А колдовская интуиция уже взахлёб нашептывала, что из этой ситуации можно извлечь неоценимую выгоду в осуществлении своих замыслов. Лихорадочно прикидывая и так и сяк, старуха уже перебирала в уме, как лучше обстряпать дело, чтобы наилучшая выгода вышла. «Ломать надо девку!» – окончательно решила Серафима, и её обезображенное лицо приняло угрожающий вид.
– Где была, спрашиваю?! Аль оглохла?! – повелительным тоном повторно спросила старуха, задетая тем, что девчонка её словно и не замечает.
Сама же продолжала изворотливо прикидывать в уме, как деликатнее обработать Янинку, чтобы та не заподозрила умысла.
Обычно, когда старуха была не в духе и повышала голос, Янина смиренно опускала глаза, терялась и начинала сбивчиво оправдываться. Но время шло, девчонка подросла и превратилась в прекрасную девушку, в чистейший адамант! Вот только ни огранки, ни достойного обрамления этот драгоценный камень пока не имел.
В последнее время отношения с матерью у повзрослевшей Янинки стали как никогда натянутыми. Девушка всё чаще стала выражать своё недовольство. Но открыто перечить матери она всё же пока не решалась. Она просто побаивалась гнева своей свихнувшейся на колдовстве мамаши. А в гневе старуха могла так проклясть, что потом и сама уж ничего не могла поделать, чтобы снять свои проклятия.
Янинка не раз была свидетелем таких событий. Она удивлялась ужасным результатам колдовства и не могла понять, как такое получалось, как могут какие-то слова и ритуальные действия одного человека повлиять на другого, если эти люди даже не рядом, а зачастую даже и ни разу не видели друг друга. Она этого не понимала и не хотела понимать. Она этого даже немного опасалась. Свои же способности Янинка и в мыслях не допускала использовать кому-то во вред.
Ничего не ответив на злобные вопросы матери, Янинка набрала ковшик воды и жадно выпила. Холодная вода приятно остудила сердечный жар девушки. Смахнув с губ остатки влаги и даже не взглянув на мать, она вышла из избушки и присела на грубо сколоченную лавку. Спорить с матерью и что-то ей доказывать не было никакого желания. Да и вообще ей до невыносимости опостылела эта жизнь в глуши. Голова девушки сейчас была забита совсем другим…
Ровно шесть дней назад Янинка потеряла покой, и всё это время находилась в мире грёз и радужных мечтаний. Словно отрешённая, она днями бродила по лесу или, сидя на берегу, подолгу смотрела на тихий речной поток. Душу переполняло сладостное чувство, впервые и по-настоящему овладевшее всей её сущностью. Но к вечеру, понимая, что все её мечты могут так и остаться лишь мечтами, Янинка впадала в отчаяние.
Раньше, зная, что по вечерам все её сверстницы интересно и весело проводят время на посиделках, Янинку обуревала тоска. Её тянуло туда, манило, но она была там чужой. Девушка это отлично понимала, и сердце её обливалось кровью, глаза – слезами. Бедной Янинке приходилось коротать волнующие весенние вечера вдвоём, уединившись на пару со своей, теперь уже неразлучной спутницей – тоской. А юность-то не вечна! И сейчас к этой чёрной тоске прибавилась ещё и жгучая ревность. Ведь там, среди молодёжи, был и он!
Почти неделю назад идя по лесной тропинке, Янинка издали заметила двигающегося навстречу всадника. Встретить в этой глухомани человека было большой редкостью, поэтому Янину очень заинтересовало, кто бы это мог сюда пожаловать. Быстро спрятавшись в буйных зарослях, она с неподдельным интересом стала наблюдать за незнакомцем.
Не прошло и минуты, как лошадь с седоком оказалась всего в нескольких шагах от укрытия девушки. Сквозь скрывающую её листву Янинка отчётливо разглядела всадника. И сердце её обмерло… С первого взгляда девушка поняла: покоя теперь ей не будет. Девичья юность была поражена молодостью и привлекательностью парня. Взволнованная Янинка не могла оторвать взгляд от статной фигуры и, затаив дыхание, лишь зачарованным взглядом провожала быстро удаляющегося всадника.
Она давно слышала, что у пана Хилькевича теперь новый лесник. Также знала, что он молод и видный собою. Но все эти отрывочные слухи как-то мало её волновали. До сих пор…
«Да! Это был он – новый ловчий!» – мысли озаряли воображение Янинки, заставляя бешено биться сердечко. Очарованная, она ещё долго смотрела на опустевшую лесную тропу. И вдруг очнулась. Нет, не ото сна очнулась! В этот момент Янинка с особенной остротой вдруг осознала, какой убогой жизнью она здесь, вдали от людей, живет. И это в пору юности, в самую пору весеннего цветения! Она вдруг очнулась от своего одиночества, от вечного недовольства матери, от чёрного полуголодного прозябания в диком уголке среди лесов и болот. И никакого просвета впереди!
– Ты это что ж, с маткой и словом обмолвиться уже не желаешь?! – опять послышался раздражённый голос Серафимы, воротивший Янинку из сердечных раздумий в мрачную действительность.
От неожиданности девушка вздрогнула. «Как это всё опостылело!» – взорвалось у неё в голове. Янинка решительно встала и уже без тени волнения в упор посмотрела на свою мать-ведьму, застывшую у порога.
– Всё, мама! Хватит с меня! Не хочу больше жить в этой глуши!
Старуха замерла с полуоткрытым от удивления ртом и не верила своим ушам. А Янинка после короткой паузы продолжила уже более спокойным, но твёрдым тоном:
– К людям пойду. На колени упаду… они поймут меня и простят… Простят за грехи твои, мама. Надоело вечно слушать напрасные упрёки твои и недовольное ворчание. Устала я бояться и тебя, и людей…
Старуха прямо-таки опешила от такой дерзости. «О-о, бра, донька[29], – мысленно возмутилась она, – ты уже осмелилась матери перечить!» Но тут же смекнув, что Янинка и в самом деле может учудить такое, старуха занервничала.
– К людям собралась? А чего ж ты тогда идёшь туда коли боишься? Да и чего тебе-то их бояться? – вкрадчиво заговорила она, а в уме уже лихорадочно прикидывала, как образумить дочку.
– Из-за дел твоих неправедных. Мне жить хочется! А хоронить себя заживо в этих богом забытых местах, я не собираюсь. Всё! Хватит с меня! Люди – не звери; они поймут меня и простят.
– Ну, может, и простят… А может, подумают, что и ты такая же… Людишки-то нынче злопамятны… Как бы не сотворили того, что и с дедом твоим…
– Я не боюсь… А прощение чужих людей, думаю, будет даже легче получить, чем твое прощение… Ты никогда меня не хотела понять и тем более простить. Надеюсь, что и Бог меня простит. Перед ним тоже покаюсь.
У Серафимы предательски задрожали руки. Вот уж не ожидала… Если бы Янинка всё это истерично выкрикивала, ругалась и даже угрожала, всё перегорело бы и стало на места свои. Но слова, сказанные спокойно и в холодном рассудке, больно резанули слух Серафимы. Тут уж старуха почувствовала, что дело не шутейное.
– А что ж ты это, доченька, в церкви ни разу не была и вдруг про Бога вспомнила. Богу нехристи не нужны. Да и чернь деревенская объятия для тебя не распахнёт, скорее, камнями закидают. Сгинешь где-нибудь на обочине, – старуха предприняла попытку образумить дочь, предрекая, что её может ожидать. – Никому чужие мытарства душу не разжалобят. У людей, дочка, своего лиха хватает…
– Ага, хватает… Да ещё и ты добавляешь!
– Не ерничай, Янинка! Немало я людям и пользы принесла, так что не тебе меня упрекать. Семнадцатую весну уж с тобой я встретила! И всё это времечко кормила, пестовала тебя неблагодарную! Решила мать на старости годков одну бросить?!
– А ты чего хочешь?! Хочешь, чтоб я вековала тут с тобой? Чтоб всю жизнь только с дикими зверями разговаривала? Так звери и те живут стаями иль в паре! – сорвавшись, девушка уже со злостью выкрикивала то, что наболело в душе.
Вечно безропотная и тихая Янинка поразила мать проявлением бунтарского нрава и решительности, о которых Серафима даже и не подозревала. Это стало для неё шокирующей неожиданностью. К такому повороту старуха явно была не готова. Она стояла в растерянности и впервые не знала, как себя повести. Но растерянность её длилась недолго…
Любая успешная ведунья иль гадалка, прежде всего, должна неплохо разбираться в людской психологии. А уж Серафима – и подавно. Она была отличным знатоком человеческой души. И чтобы склонить сознание собеседника к тому или иному решению, ведьма точно знала, какие струны души нужно затрагивать. Вот и сейчас, видя, что нахрапом дело не выгорит, старуха взялась с другой стороны.
Шмыгнув носом и тяжко вздохнув, она с горечью промолвила:
– Что ж, доченька, раз решила – пущай будет по-твоему. Покидай мать старую. Ступай, веселись там средь людей. А я уж тут как-нибудь одна… в хатке пустой да сиротливой. И словом обмолвиться не с кем будет старухе немощной… Чует сердце ночки бессонные да слёзные, одиночеством да тоскою скрашенные. Ну, ничего… летом лягушки болотные будут колыбельную петь, зимой – волки да вьюга. Глядишь, да ещё и повезёт – недолго протяну на этом свете в одиночестве…
Янинка подозрительно глянула на мать. Влажно заблестевшие глаза Серафимы свидетельствовали об её искренности. А слова, полные обречённой участи, продолжали падать на сердце дочери.
– Я-то в строгости тебя растила для твоего же блага. А голос повышала да ворчливой была, так ты уж не серчай, старые люди все такие. Прости уж старую, коли обиду причинила ненароком… Ох, тяжко мне… Ступай, раз решилась… да и лихом не поминай…
Серафима опять горестно вздохнула. Сквозь слёзную пелену она бросила на дочь жалостливый взгляд и, тихо охая, пошла обратно в избушку согбённая горем, одинокая и несчастная. Это была уже не та матёрая ведьма!
Теперь уже удивлению Янинки не было предела. Она к чему угодно была готова: к потоку брани, к угрозам и даже к уговорам. Но чтобы слёзы!.. Девушка ещё никогда не видела мать такой поникшей и жалкой.
Ссутулившиеся под бременем жизни плечи и старая обношенная одежда, сухие узловатые руки и поседевшие, давно не мытые волосы, морщинистое израненное лицо и… влажные, наполненные мольбой глаза – перед Яниной была её мать! И какова бы она ни была, но она родила и вырастила её. Подкативший комок горечи и жалости до боли сковал горло. И сердце дочери дрогнуло…
Не говоря ни слова, Янинка бросилась к матери. У неё самой навернулись слёзы. Смешанные чувства жалости, отчаяния и безысходности переполняли душу, требуя выхода. Обняв мать, девушка не удержалась и вовсе громко разрыдалась.
Прижимая к себе дочку, Серафима ласково гладила её плечо.
– Поплачь, дочка, поплачь. Глядишь, часть горюшка и сойдёт со слезами…
Обнявшись, дочь и мать стояли посреди избушки и обе были в слезах. Дочь заливалась горючими слезами от безвыходной обречённости – у матери в глазах стояли слёзы торжества. В душе Серафима уже праздновала победу! Победу над своей единственной дочкой, которую в мыслях уже посмела бросить на жертвенный алтарь ради свершения своих замыслов…
Немного успокоившись, обе чувствовали себя неловко.
– Янинка, нам надо о многом поговорить. И разговор будет очень важный. Давай, дочка, присядем, – опять вкрадчиво заговорила старуха.
Янинка, не поднимая глаз, покорно села к столу. С одной стороны ей было стыдно за свой поступок, а с другой – так жить дальше невозможно. Всё равно надо на что-то решаться.
– Давай, доченька, с главного… для тебя с главного. Излей матери душу, расскажи, что за камень давит сердце твоё, и я обещаю, что корить ни за что не буду, а по возможности так и помогу. Я же не слепая, вижу: грызёт тебя что-то?
Мать никогда так не разговаривала с Яниной. Её тихие и доверительные слова бальзамом ложились на душу дочки. Девушка сейчас чувствовала и слышала то, чего ей многие годы так не хватало. Все семнадцать лет Янинка жаждала сердечного внимания и участия. Хотелось кому-то довериться, облегчить душу, спросить совета. Ведь у неё из близких людей, кроме матери, никого на свете не было: ни сестёр, ни подруг. Была, конечно, подружка в Мазыры, но там была вовсе и не дружба, а, скорее, детское соперничество.
Янинка так долго ждала этого момента! Ей так хотелось в минуты уныния и тоски кому-то излить горечь души, поплакаться; хотелось, чтобы её поняли и пожалели. И, конечно же, меньше всего она ожидала такого участия от своей родной матери. Это для Янинки было настоящим сюрпризом!
– Мам… я даже не знаю, как и сказать. Ну… я не оставлю тебя одну… – робко начала Янинка, всё ещё стесняясь открыть матери душу.
– Я это, дочка, уже знаю. Ты о своём, о наболевшем расповедай матери. Может, на сердце кто запал – так уж и пора подоспела. Ничего зазорного в этом нема, – ворковала Серафима, умело подводя разговор к интересующей её теме.
– Запал… – смущенно кивнула головой Янинка и захлипала носом.
– Ну, вот и ладненько…
– Чего ж «ладненько»? Я тут, а он там… – Янинка кивнула головой в сторону села.
– Не горюнься, милая, всё образуется… Ты же у меня единственная надежда и отрада, и нам нельзя сейчас терять друг друга… У тебя на сердце печаль и у меня тоже… втройне, быть может. И мы должны помогать один одному и поддерживать друг дружку…
– Ты это о чём, мама?
Серафима, сама тронутая установившейся вдруг душевной близостью с дочерью, почувствовала какое-то умиротворение и лёгкость на душе. «Отчего ж это раньше я не разговаривала так с дочкой? – подумала она. – Может, и в самом деле отпустить Янинку, пусть живет, как все». И оставив без объяснений её удивление, ласково похлопала дочь по руке. Подавшись вдруг вперёд и глядя на дочь заискрившимся взглядом, Серафима с таинственной гордостью произнесла:
– Эх, Янинка! Если б только деревенские парубки знали, какое у тебя приданое, враз бы очередь из женихов образовалась. Сама бы выбирала, кто тебе по душе.
Девушка опять непонимающе уставилась на мать, говорившую странные слова. Они всю жизнь недоедали, ходили в штопаных-перештопаных одёжках, а она – о каком-то приданом.
– Что-то я тебя не пойму… Ты что, собралась замуж меня выдавать? И какое может у нас приданое быть, кроме твоих шептаний?
– Э-э-э, доченька, вот тут-то ты уж послушай и не перебивай мать свою, потому как сейчас узнаешь хорошую весть или тайну – думай, как хочешь, – Хима сделала многозначительную паузу, а затем, понизив голос, почти шёпотом выдала: – И грошики у нас есть и даже золотка чуть-чуть. Так-то вот, милая моя.
Старуха замолчала, пристально наблюдая какой эффект произвела на дочку открытая ею тайна. А Янинка глядела на мать, не выказывая никакого удивления и тем более бурной радости. Она просто не поверила словам матери.
– Мам, ну какое у нас может быть «золотко», если всю жизнь, сколько я себя помню, мы даже хлеба вволю не ели? А в чём ходим? Да и откуда могли взяться у нас золото и гроши?
Хима разочарованно вздохнула. Дикого восторга на лице дочки она не дождалась.
– Деда своего, Корчака, небось и не помнишь? Совсем малая была… – тихо начала говорить старуха.
– Отчего ж не помню, помню. Правда, смутно. И что-то страшное сталось у нас на хуторе – тоже помню. А ты же мне никогда об этом и не рассказывала.
– Не рассказывала… потому что ты многого и не поняла бы. Да я и сама до сих пор многого не пойму. Одно лишь знаю наверняка: мужичьё всегда с готовностью ищет виновников своих бед на стороне. То ли сосед во всём виноват, то ли пан с приказчиком. Ну а уж если поблизости живёт нашей масти кто, всё на его голову сваливается. Вот и дед твой, Корчак, попал под гнев мужицкий. Погубили, дочка, деда твоего…
– Но ведь просто так нельзя человека погубить. Ну и что, что дед колдовство знал трошки. А урядник, а власти что? Нашли злодеев?
– А кто ж его знает, что там они решили. Списали, видать, всё на пожар, а сами и рады, что чужими руками от колдуна избавились. Деда-то твоего побаивались…уважали, знамо.
– Мам… наверное, дед всё-таки… утворил что-то?
– Не знаю. Да и некогда было разузнавать кого, чего, да за что?
Вспомнив тот трагический день, Серафима тяжко вздохнула и о чём-то задумалась, глядя в закопченное окошко.
– Мам, а что вдруг ты про деда вспомнила? – тихий голос Янинки потревожил задумчивость старухи.
– А-а… ну так я и говорю, что есть у нас гроши, дочка. Часть от деда твоего сберегла, часть сама собрала. Недоедала, как ты говоришь, недосыпала, всё на чёрный денёк припрятывала. Да вот кто ж его знает, когда тот чёрный денёк настанет? Может, у нас этих деньков-то чёрных – по двенадцать месяцев в году.
Серафима вдруг поймала себя на мысли, что ей доставляет удовольствие открываться и делиться своей тайной с дочерью. Хотя в её планы пока и не входило рассказывать Янине о припрятанном богатстве, но в порыве откровения она решила, что хуже от этого не будет.
Давным-давно, после бегства из сожжённого хутора у Серафимы, кроме немногого наспех прихваченного скарба, на руках оказалась шкатулка. В ней Серафима обнаружила деньги и несколько небольших золотых украшений. Она лишь позже вспомнила слова своего убитого тогда батьки, что это поможет им выжить. Где и как он раздобыл то золото, остаётся только догадываться. Но и здесь особой изворотливости ума не надо: Корчак был одним из сильнейших ведьмаков в своём роду, и вероятно за какие-то услуги ему заплатили украшениями.
Деньги те потом быстро улетучились. Видя, как они тают, Серафима украшения приберегла. Мало того, она вскоре и сама начала откладывать небольшие сбережения. Вот так у неё сейчас и имелись солидные по бедняцким меркам накопления.
Вкратце поведав обо всём этом дочке и всё равно видя в её глазах сомнение, старуха вдруг проворно шмыгнула под печь и через мгновение вытащила оттуда старую потрескавшуюся от времени шкатулку. Не сводя взгляда с Янинки, она торжественно открыла заветный ящичек.
Вот теперь Янинка была несказанно удивлена. Такого богатства она никогда в жизни даже и не видела. Пребывая в трепетном волнении, она с надеждой произнесла:
– Мам, так может нам в село податься?.. Хату добрую купить… Всё ж среди людей веселее…
– Нам, доченька, худо с людьми будет. Сколько я тебе толкую: случись беда какая – всё на нас сваливать будут. Я уж свой век тут буду доживать. И ты, донька, будь со мной. А ежели хочешь средь девок да хлопцев развеяться, ходи на игрища ихние. Я перечить не стану… Ну а с людьми… Я думаю, они знают, что в моём деле – ты мне не помощница, – то ли с укором, то ли с сожалением произнесла старуха и тут же бодро добавила: – Да прежде нарядов прикупи в местечке. Красавицей будешь на загляденье. Я-то уж знаю: болит душа у тебя, когда хлопцы да девки за околицей собираются.
Сердце девушки радостно трепетало от предвкушения приятных событий. Ещё час назад она никогда бы не поверила, что разлад с матерью так благополучно разрешится. Вот уж не зря говорят, что не было добра, так худо помогло.
Янинка пока не задумывалась, как её примут на гулянках, как возвращаться поздней ночью одной? Это было не главное! Главное – она сможет увидеть ЕГО. И предстанет перед всеми в изумительных нарядах, каких не будет даже у самых завидных и богатых девчат.
В томительно-сладостных мечтаниях Янинка даже и не задумывалась о возможности горького разочарования. Она была полностью уверена в своём успехе.
Мать и дочь ещё долго и неторопливо вели душевную беседу. Не высказывались упрёки, не вспоминались обиды. В их маленькой семье в кои-то веки впервые проросло семя взаимопонимания и лада.
Видя, что Янинка пребывает в мечтательно-блаженном состоянии, Серафима наконец решилась на главный вопрос:
– Ну, а кто же, доченька, сердце тебе встревожил? Уж не пастух ли тот лопоухий? – ловко поддела в шутку старуха.
– Не, не он! Новый лесник панский! – почти самопроизвольно вырвалось у Янинки, и лицо её зарделось от смущения.
– Ну и добре, – облегчённо выдохнула Серафима и снова ласково погладила дочку по руке. – Лучше уж и не надобно…
Янинка непонимающе заглянула в глаза матери. Уж не впервой она улавливала в её словах странные недомолвки. Но, пребывая в радужных мечтаниях, девушка не придала этому особого значения и быстро забыла о таких малозначимых странностях. У неё и так голова шла кругом от радостных грез.
Пережив за день бурю различных эмоций, уставшая душа Янинки к ночи обрела умиротворение и покой. Девушка впервые за последнее время уснула безмятежным сном младенца. На её губах временами появлялось подобие улыбки. Даже во сне предвкушения приятных событий счастьем отражались на лице лесной красавицы нимфы.
Откуда было знать ей, что у изголовья, покачиваясь словно маятник, сидит мать-ведьма и беспрерывно наговаривает странные слова, часто упоминая рабу Божью Янину…
Глава 13
Бричка пана Хилькевича лихо подкатила к самому крыльцу. Резво для своих лет Семен Игнатьевич ловко спрыгнул на землю и спешно направился в дом, в возбуждении хлёстко ударяя орешниковым прутиком по голенищу сапога.
Челядь, которую панство зачастую обзывало дармоедами, с одного лишь взгляда научилась определять настроение барина. И если уж слуги увидят, что их «благодетель» не в духе, то ни встретить их во дворе, ни дозваться почти невозможно: «все заняты срочной и неотложной работой». Попасться в такую минуту на глаза барину – это почти наверняка нарваться на взбучку.
Хотя пан Хилькевич и находился в возбуждённом состоянии, но на этот раз зоркое око прислуги точно определило: прятаться не стоит.
– Манька! – громко окликнул Семен Игнатьевич кухарку, выскочившую во двор с большим жестяным тазом. – Прасковья Федоровна где?
– Возле пруда, наверное. Гуляют.
– Живо покличь её!
– Щас позову, – буркнула Манька, недовольная тем, что налетела на лишние хлопоты.
С раздражением вывернув очистки почти возле самого порога и грохнув пустым тазом, молодица направилась искать Прасковью Фёдоровну.
Недовольство кухарки было вызвано тем, что это приказание мог бы исполнить и кто-нибудь из дворовых, а у неё вот-вот в печке щи закипят.
Семён Игнатьевич прошёл в залу и сел в массивное вычурное кресло. Развернув несколько аккуратно сложенных листков, он уже в который раз начал их перечитывать.
Вскоре в доме послышались торопливые шаги, которые нельзя было спутать ни с какими другими. Такой интеллигентный стук издавали только подбитые заводскими набойками изящные чаравики Прасковьи Фёдоровны.
– Что случилось? – прозвучал встревоженный голос супруги пана Хилькевича. – Что за спешность такая? Уж не с Андрюшенькой ли что?!
– Не волнуйся, дорогая! Наоборот, всё очень хорошо! Наш сын поступает на учёбу! В столицу! Да-а-а, Петербург!.. – с этими словами пан Хилькевич многозначительно поднял указательный палец высоко над головой. – Это вам не Могилёв и даже не Гомель! А в Андрюше я уверен: экзамены он обязательно сдаст. Соответствующие документы отправлены! Впрочем, вот сама читай! – Семен Игнатьевич протянул супруге письмо.
Пока Прасковья Федоровна читала, пан Хилькевич в нетерпении мерил шагами комнату. Наконец, не удержавшись, он начал излагать дальнейшую суть письма:
– Недельки через две Андрюша приедет домой, погостит, отдохнёт и, дай бог, покинет нас уже надолго, – мешая супруге читать, пан Хилькевич в возбуждении пытался сам растолковать ей хорошую новость.
Видя, что внимание Прасковьи Фёдоровны без остатка приковано к чтению, Семён Игнатьевич замолчал. Но и молчать ему было невтерпёж, и он предался рассуждениям, время от времени всё равно обращаясь к супруге:
– Из Петербурга ему приехать удастся лишь хотя бы раз в год, так что, мать, будем теперь реже видеться с Андрюшей. Но так надо! Для карьерного роста надобно быть человеком высокообразованным. Придется…
– А что это он тут о Прохоре пишет? Какая женитьба? – до конца не поняв смысла написанного, спросила вдруг Прасковья Федоровна.
– А! Это он спрашивает, не надумал ли Прошка жениться. Ему очень хотелось бы побывать на его свадьбе. А то уедет и не приведётся побывать на таком важном для Прохора событии. Да и в самом деле надо парню помочь основательно обжиться. И корни надо чтобы на наших землях пустил. Вот приедет Андрюша, и мы сообща решим, как быть.
– Хм, да он тут ещё и приветствие передаёт этому холопу, – с некоторым раздражением высказалась Прасковья Федоровна, жадно продолжая бегать глазами по строкам.
– Ты уж, мать, свою материнскую ревность урезонь. Не забывай: наш сын жизнью обязан этому холопу, – сказав это, пан Хилькевич специально сделал ударение на последнем слове.
После того рокового события с медведем и после частых совместных походов на охоту Семен Игнатьевич настолько привязался к Прохору, что испытывал к нему почти отеческие чувства.
– А знаешь ли ты вообще, – продолжал он, – что для мужчины значит охота?! Там уж бывает не до того, кто есть мужик, а кто барин. Для леса и болота все равны! И всякое может случиться. А если рядом с тобой надёжный товарищ, то можешь быть всегда спокоен: в случае чего, есть кому придти на помощь. Так-то вот.
– Да ладно уж тебе, – отмахнулась Прасковья Федоровна от нравоучений супруга.
В общем-то, Прасковья Федоровна тоже относилась к Прохору неплохо. Но, как правильно заметил пан Хилькевич, её материнское самолюбие часто страдало от того, что Андрей, когда бывал дома, много времени проводил в обществе этого почти неграмотного крепостного. До появления Прохора сын больше времени находился в семейном кругу и больше уделял внимания матери. Но ведь и само время почти всегда играет против родительских чувств: дети быстро взрослеют, у них появляются свои интересы, своя жизнь. Прасковья Федоровна была женщиной неглупой и прекрасно это понимала.
– Нужно многое подготовить к отъезду Андрюшеньки, – сказала она, закончив читать письмо.
– Ну вот, он ещё не приехал, а ты уже собираешь его в дорогу.
– Не так уж долго он и задержится у нас. В сборах время быстро пролетит. Не забыть бы чего.
– Ты, матушка, хлопочи по своей части, а мне тоже надо кое-что к приезду сына сделать, – сказал Семен Игнатьевич и уже для себя прикидывал план мероприятий. – На уток сходим, как раз время подоспеет. В Липово у пана Аттона Горвата[30] бал намечается. Всё окрестное панство соберётся. Так, хорошо… Что ещё? А! – ещё о чем-то вспомнив, Семен Игнатьевич поспешил во двор.
– Опять со своими ружьями возиться надумал, – зная увлечение супруга и сына, притворно вздохнула Прасковья Федоровна.
Но воодушевлённый барин уже не слышал этого ироничного замечания. Он уже не мог усидеть на месте и горел желанием немедленно действовать.
Возле овина Семен Игнатьевич заметил Степана. Это тоже новый панский работник, но, в отличие от Прохора, он не был крепостным и появился в имении значительно раньше. Степан состоял на службе у пана Хилькевича в должности приказчика.
Ещё до смерти Петра Логинова, когда тому уже было не до работы, на Степана временно возложили обязанности следить за порядком на отработке барщины. Немалую роль в этом сыграл его шурин, старший над дворовой челядью. Быстро смекнув обо всей выгоде представившегося шанса, Степан из кожи лез вон, чтобы оправдать доверие. Его рвение было замечено и оценено: Степан остался на должности приказчика. Почувствовав власть над забитыми крестьянами, он по жестокости и грубости быстро превзошёл своего предшественника. «Да-а, не зря говорят, что хуже нет, когда из грязи да в князи!» – сетовали мужики, убеждаясь в правоте народной мудрости.
Раздумывая, Семен Игнатьевич некоторое время смотрел на приказчика. Наконец решившись, окликнул его:
– Степан, поди-ка сюда!
– Что прикажете, Семен Игнатьевич? – угодливость так и струилась от подбежавшего приказчика.
Пан Хилькевич часто ловил себя на мысли, что ему иногда даже претит слащавое раболепие Степана. Но как приказчик Степан быстро уловил суть службы и идеально подходил для этого. Казалось, его маленькие хитровато-блуждающие глазки всё видели, ничего не оставалось незамеченным. На мякине этого скользкого человека не проведёшь и не обманешь. За это пан Хилькевич и ценил приказчика, а мужикам от этой хитрой бестии за любую малейшую провинность доставалось с лихвой.
И ещё пан Хилькевич заметил, что Степан на дух не переносил Прохора. И это, судя по всему, всё из-за его, Семёна Игнатьевича благосклонности к новому ловчему. Но пан Хилькевич не догадывался, что была ещё и другая причина такой неприязни…
Степан слыл ненасытным бабником и, пользуясь некоторой своей властью, он всевозможными методами с настырной настойчивостью добивался желаемого. Одних молодиц запугивал, другим поблажки всяческие сулил, а были и такие, что сами под него шли, добиваясь какой-либо выгоды. Об этих шалостях приказчика Семёну Игнатьевичу не раз доносили и жаловались селяне. Некоторые даже грозились самосуд учинить. Но по своей натуре белорусский мужик не предприимчив и тяжёл на подъём, поэтому пан Хилькевич был твёрдо убеждён, что дальше слов дело не пойдёт.
Внешне же Степан ничего интересного собой не представлял: на вид тридцать пять-сорок лет, некрупного телосложения, суховат. Выцветшие маленькие глазки, редкие рыжеватые волосы и такие же ресницы делали его похожим на худого поросёнка. Но неброская внешность приказчика с избытком восполнялась его жизненной энергией.
И вот надо ж было такому случиться: запал Степан своим похотливым желанием на совсем молодую девушку, дочку своего предшественника. Хотя приказчик пока и не делал попыток добиться её благосклонности, но уже с жадностью поглядывал в её сторону и чувствовал: неприступна девка! Надо выждать! Да и батьку ещё года не прошло, как похоронила. Решил Степан повременить маленько, никуда она не денется. А тут, на его беду, возьми да и появись этот лесничок. И на кой ляд он понадобился пану Хилькевичу? Появился, да и с «его» Марылькой сошёлся! Тут уж приказчика совсем зависть одолела. Да ещё заступничество пана подливало масла в огонь. И породила эта зависть чёрная ненависть лютую. Но по хитрости своей спрятал приказчик чувства истинные в себе глубоко, виду ни в чём не показывал. Жил изнутри злобой пожираемый да зачастую на людских спинах эту злобу и вымещал.
И решил Степан для начала при каждом удобном случае портить отношение Семёна Игнатьевича к любимчику своему – Прошке-холопу. Получится – тогда и за девку можно будет всерьёз взяться. Заступиться уж некому будет.
И вот теперь Семён Игнатьевич смотрел на угодливо улыбающегося приказчика и до конца не мог определить: что за человек этот Степан? Вроде службу отменно исправлял, а вот душа – потёмки. Ну, да ладно уж, время покажет.
– Ты вот что, Степа, пошли-ка кого-нибудь на вырубку с весточкой. Надо передать, чтоб Прохор немедля ко мне прибыл, – сказал Семён Игнатьевич и, видя, как у приказчика вмиг скисло слащавое выражение лица, решил сгладить его ревностную зависть маленькой хитростью. – И чтоб мигом сюда летел! А не то – шкуру спущу с сукиного сына! Всё понял?!
– Понял! Всё понял! Мигом будет исполнено! – просиял Степан и бросился исполнять приказание.
«Вот и настал мой час! Провинился, видать, лесничок! Я ему сейчас устрою! Хилькевич с радостью отдаст этого самодовольного выскочку на растерзание!» – лихие мысли вихрем кружились в воображении Степана.
Задумка у приказчика вмиг созрела и была до наивности проста. А, как известно, что просто, то надёжно! Надобно так передать Прохору приказание Семёна Игнатьевича, чтоб он его и не исполнил, то есть не соизволил подчиниться самому пану Хилькевичу. Тут уж не просто опалой пахнет, а и строгим наказанием!
Самому Степану это делать, конечно, не с руки, да и не по чину. Надо найти надёжного человека и уговорить, запугать его, да что угодно, лишь бы в точности исполнил наказ уже самого приказчика.
Всматриваясь пристальным взглядом на работающих у конюшни мужиков, приказчик мысленно оценивал каждого из них на способность исполнения задуманного. Никто толком и не подходил. Одного Степан недавно кнутом воспитывал, другой слишком глуп для этого, третий вообще дружбу с Прохором водил – и так все. Сплюнув в сердцах, Степан решил найти посыльного в селе. У него на примете имелся мужичок – за копейку мать родную продаст. А на все его подлости у него всегда было одно оправдание из известных слов: «Як не поеси, так и святых продаси!» Единственное, чего опасался приказчик, так это того, что за такую же копейку этот мужичок выдаст и его самого. Но это в случае, если раскроется тайный умысел, а приказчик в успехе своей задумки был уверен. Да и такой подвернувшийся случай грех было упускать.
Только Степан выехал с панского двора, как сразу же наткнулся на деда Лявона. «О, и как это я сразу о нём не подумал? Вот кто сможет! Ему лишь стоит голову задурить да трошки задобрить – и дело сделано. Язык у деда подвешен – дай бог каждому! Из любой ситуации выкрутится, да ещё и сам кому хочешь голову задурит!» – мысленно обрадовался приказчик.
– Здорово, Лявон! Куда семенишь? Уж не на панский ли огород? Гляди у меня! – зычно рявкнул Степан, дабы придать весомости своей тщедушной внешности.
Хотя внимание приказчика было не очень ласково, но ни угрозы, ни злости в голосе не чувствовалось. И всё же старик на всякий случай насторожился.
– В лес, вот, собрался. Может лисянку якую или сыроежку сыщу, – ответил дед Лявон.
– Так рано ж ещё, не пора.
– Пора, не пора, а есть хочется всегда.
– Это уж точно! Ну а вообще, дед, как жизнь твоя «молодая»? Давненько я с тобой не говаривал, всё недосуг было как-то.
– А как жизня моя? С каждым деньком вот молодею. Глядишь, скоро и вовсе в ребячий возраст перейду, на четвереньках ползать буду. Вот она у стариков какая, «жизня молодая», – отшутился дед Лявон.
– Ладно, дед, не прибедняйся. У тебя ещё силёнок – дай бог каждому, в твои-то годы. Да и человек ты грамотный, много повидавший, с тобой и поговорить интересно, – зная Лявонаву слабинку, серьёзно сказал Степан. – А давай по шкалику за встречу. Я угощаю!
– Ну, коли дают, грех отказываться, – не раздумывая, согласился дед Лявон и довольно крякнул. А сам с подозрением подумал: «С чего бы милость такая? Раньше-то Степан и голову не поворачивал на мой поклон, а тут вдруг на тебе, давай по шкалику!»
– Погодь тут, я мигом, – весело произнёс Степан.
«Словно закадычного товарища повстречал», – продолжал подозрительно размышлять дед Лявон. Он стоял и недоумённо смотрел вслед приказчику. Тот вроде бы и спешил куда-то, а тут, встретив деда, развернул коня – и назад на панский двор за выпивкой.
Приказчик и в самом деле обернулся мигом с четвертушкой в руке и нехитрой закусью.
– Давай, дед, вон там, в сторонке присядем. Негоже чтобы видели, как приказчик пьёт, вместо того чтобы делом заниматься.
– Давай, – согласился Лявон, еле поспевая за Степаном, решительно взявшим курс на близлежащие заросли.
Долго не церемонясь, выпили по маленькой.
– А куда именно направляешься, дед?
– Пройдусь по Кривому урочищу, а енто, знамо, землица казённая. Так што, кали ты, Степан Николаич, выпытываешь, ти не в панском лесу буду ходить, то сразу кажу: не.
– А хоть бы и в панском, так что? Семён Игнатич не запрещает, – успокоил деда приказчик.
– Ну, а коли там пусто будет, тады на Галевицу заверну. Пущай уж пан не серчает. Там хоть ягод на кисель возьму. Хотя я жуть як не люблю ягоды собирать.
– Не, Семен Игнатич не осерчает. Он барин справедливый. Намедни даже говорил, что оброк мужику желает уменьшить. Да видать, не выйдет такая поблажка для селян.
– Это отчего ж? – живо заинтересовался старик.
– Давай сначала ещё по одной.
Дед Лявон, аппетитно опрокинув очередную чарку и зажевывая пером зелёного лука, выжидающе глядел на приказчика.
– Спрашиваешь, отчего ж… Так вот, дед, узнал пан Хилькевич, что манят его. И не просто обман творят, а пытаются даже смуту посеять средь крепостных. Вот поэтому пока и сумневается в своём решении Семен Игнатич, – вкрадчиво произнёс приказчик, незаметно наблюдая за реакцией старика.
– Но это пока тайна, может быть, даже государственная.
– Да неужто?! – сильно удивился Лявон. – И кто ж это осмелился на такое?!
– Появились тут у нас некоторые… К Семену Игнатичу лисой в доверие втёрлись, а сами камень за пазухой прячут.
– И много ль их-то? – почти шёпотом поинтересовался дед, почувствовав трепет от прикосновения к «великой государственной тайне».
– Пока на одного подозрение пан Хилькевич имеет. Да вот никак на чистую воду вывести не удаётся.
– И кто ж это может быть? Наши-то все на виду.
– Ну, кто на виду, а кто днями по лесу разгуливает… А пан Хилькевич пообещал, что если кто поможет изобличить бунтовщика, то и оброк всем крестьянам может урезать. Думаю, что найдется добрый и смелый человек для этого дела, люди спасибо ему скажут. А пан и награду ещё даст тому, кто верную службу ему сослужит. Это уж он твёрдо обещал!
Дед Лявон слушал приказчика и всё никак не мог уразуметь, к чему это клонит хитрый лис. Но известие насчёт награды его очень даже заинтересовало. Две маленькие чарочки горелки хоть и придали деду смелости в высказываниях, но изворотливости мысли никак не уменьшили. И он решил ускорить развязку.
– А к чему это ты, Степан Николаич, мне такое рассказываешь? Уж не думаешь ли ты, что это я смуту затеваю? Небось и награду от барского плеча за мою душу уже надеешься получить?
– Да при чём тут ты! – аж поперхнулся приказчик. – Ну, ты, дед, и вывернул. Какой из тебя бунтарь, да ещё и главенствующий. Тебе и гусей-то боязно доверить! – не подумав, выпалил Степан.
– Это отчего ж! – расправив плечи и грозно набычившись, возмутился дед Лявон, никак не ожидавший таких обидных слов в свой адрес. – Думаешь, я што, бунтовать не могу! Я в великом городе жил! Грамоту, почитай, всю знаю!
Дед Лявон был категорически не согласен с оценкой его способностей. Стариковские глаза гневно сверкали. Задетое самолюбие по-настоящему взбунтовалось, и старого не на шутку понесло.
– Понадобится – я и во главе войска могу стать! Мне б только коня видного да зипунка[31] без заплат. А лаптей столько б наплёл, што кажин день в новых ходил бы! Во как! Да мне б…
– Тихо, дед, тихо, – замахал руками приказчик. – Дальше я уже знаю: портки цветастые да девок эскадрон, – рассмеявшись, Степан еле остановил «бунтаря».
Лявон ещё немного понервничал, однако поняв, что это всё пустое, угомонился и стал выжидать, что ж дальше будет. А насмешку старик всё же запомнил!
– Ладно, дед, не хотел я обиду тебе причинить. Давай допьём!
Лявон с оскорблённым достоинством промолчал, но за чаркой руку протянул живо.
– Открою тебе, дед Лявон, до конца секрет государственной важности, – таинственно начал приказчик после допитой горелки. – Догадывается пан Хилькевич, что это новый лесник мутит воду, настраивает чернь супротив всех помещиков, а может, и супротив самого царя. А доказательств пока нияких нема. Вот пан Хилькевич и злится, оброк не хочет людям убавлять из-за этого.
– Ну а я-то тут с какого боку-припёку?
– А с такого, дед, что вся надежда только на тебя…
– Это как же? – тут уж всерьез удивился дед Лявон.
Степан пристально посмотрел на него и, словно сам был заговорщиком, начал вкрадчиво подводить разговор к «геройскому» поступку, который и должен совершить дед:
– Вот если б лесник не исполнил панский наказ…
– Не! Прошка не ослушается, – решительно заявил Лявон.
– А надо сделать так, чтоб ослушался. Это и будет доказательством его крамольности. Людям выйдет польза большая и тебе награда!
– Хм, тут надобна целая страгедия, – блеснув образованностью и нервно теребя бороду, задумчиво произнёс дед.
Видимо, в конце концов, старый всё ж соблазнился наградой.
– Не «страгедия», Лявон, а «стратегия». Это по-першае, а по-другое – никакой стратегии тут не надобно. Слухай меня внимательно…
Степан подробно втолковал Лявону план своего замысла. По этому плану дед должен будет прибыть на вырубку леса и, отозвав Прохора, поговорить с ним о пустяках, но так, чтобы остальные мужики это видели. О наказе пана Хилькевича, разумеется, не упоминать. После этого возвратиться на панский двор и доложить ему, приказчику, о выполнении поручения. А Степан уж сделает так, чтобы это слышал и Семен Игнатьевич.
– Вот и вся «страгедия». Ничего страшного и опасного, – подвёл черту приказчик.
– А награда? – без всякой скромности, нагло напомнил Лявон.
– Не переживай, разберёмся. По результату будет тебе и награда.
– Лес де рубят, в Киличевой Бели, кажись?
– Не, в Горевицком урочище.
– Ну, тады я пошёл. А ты уж за награду перед паном порадей.
– Давай, дед, с богом.
Приказчик глядел вслед старику и мысленно благодарил Бога, что он послал ему такого сообщника. Всё складывалось как нельзя лучше. Ведь даже в случае каких-то казусов можно будет всё свалить на выдумки Лявона, а уж всем известно, какой он в этом мастак. Да и так ясно как божий день, что поверят скорее приказчику, а выдумщика Лявона, в случае чего, ещё и плетью попотчевать можно будет за язык безудержный.
Время шло. Скоро уж и полдень, а от Лявона никаких вестей. Степан начал уже нервничать от неизвестности. А тут и пан Хилькевич уже дважды справлялся, когда ж, наконец, явится Прохор.
– Ты кого послал на вырубку? – строго спросил Семён Игнатьевич, теряя терпение.
– Лявон как раз туда поспешал, вот я и дал ему наказ известить Прохора.
Полусогнутая в угодническом поклоне спина приказчика никак не сочеталась с его хитровато бегающим глазкам.
Пан Хилькевич, брезгливо поморщившись, заметил:
– Нашел мне вестового! Он давно уже забыл про твой наказ! А вот своего приказания я не отменял! Это тебе понятно?!
Семёну Игнатьевичу особо и не к спеху было видеть Прохора, но уж больно броско резало глаза показное раболепие Степана. И это почему-то особенно сейчас сильно раздражало Семёна Игнатьевича. Приподнятое настроение быстро сменилось гневным упрямством. А когда пан Хилькевич не в духе, то всегда мечет гром и молнии, добиваясь беспрекословного послушания и немедленного исполнения хоть и не срочных, а иногда и вовсе абсурдных приказаний. Лишь бы было по его прихоти.
– В общем, так, Степан, ежели через час передо мной не будет Прохора, пойдёшь свиней доглядать! Я всё сказал! – с этими словами пан Хилькевич круто развернулся и скрылся в доме, не дав приказчику и словом обмолвиться.
У Семёна Игнатьевича, конечно же, не было намерения отправлять Степана на свинарник, но вот немного сбить лукавство с него никак не помешает, а может, даже и на пользу пойдёт.
Степан же угрозу пана Хилькевича принял всерьёз. Конечно, со свиньями у пана перегиб вышел, а вот должность приказчика можно потерять ни за что. И Степана такая перемена вовсе не прельщала. Ну, деваться некуда, надо срочно звать сюда этого ненавистного Прошку.
Ни на кого уже не понадеявшись, Степан вскочил на Буяна и пустился галопом по направлению к Горевицкому урочищу.
– Вот, придурок старый, еле ползёт! – зло выругался приказчик, увидев вдруг вдали лохматую голову деда Лявона, увенчанную на плешивой макушке соломенным брылем[32].
Подстегнув Буяна, Степан мигом подскочил к старику. Брызжа слюной, он коршуном налетел на него.
– Ну где тебя носит, черт косматый?! За это время уже трижды можно было обернуться!
– Дык… дык я ж… это… я ж лесника шукав, – недоуменно таращась на разгневанного приказчика, запыкал перетрусивший Лявон.
– Нашёл?! Всё сделал, как учили?!
– Не-а…
– Что «не-а»?
– Дык ето… там же нема никого.
– Де нема?!
– Ну, в Киличевой Бели… ни мужиков, ни лесника нема. Я весь той лес облазил – никого там нема…
– Какая, нахер, Бель?! Остолоп! Я ж тебе, старому пню, ясно говорил: лес валят в Горевицком урочище! Что тебе ёще непонятно было?! – кипел в гневе приказчик.
– Запамятовал… стало быть, – растерянно произнёс дед Лявон, виновато моргая и почесывая плешивую макушку через большую прореху в брыле.
Степан не стал тратить время на разбирательство. Это ещё успеется! Больно пришпорив коня, приказчик помчался на вырубку. На таком жеребце он как раз успеет.
Степан не зря взял Буяна. Этот резвый жеребец обладал необычайно быстрым ходом. Но и кличку такую ему дали не зря. Кроме резвости Буян славился своими норовистыми повадками и дикими выходками. Если он чувствовал в седоке неуверенность и страх, то мог выкинуть такой фортель, после которого всадник летел наземь и потом мог долго ходить хромая иль держаться за побитые бока.
Степан же с Буяном управлялся уверенно и жестко. Любую выходку жеребца упреждал жгучими ударами кнута и крутым, рвущим губы натяжением поводьев. Строптивый жеребец признавал в приказчике верх и вёл себя под ним смирно и послушно.
Вскоре, словно порывистый ветер, Буян донёс седока до Горевицкого урочища.
– Где Прохор? – оглядывая мужиков и удерживая взмыленного жеребца, спросил приказчик.
– День добры, Степан Николаич. Говорят, у православных принято здороваться, – спокойно заметил один из мужиков.
– Некогда мне тут с вами раскланиваться. Пан Хилькевич немедля требует к себе Прохора, – злобно ответил на мужицкое замечание Степан и, ещё раз оглядевшись вокруг, со злорадством добавил: – Да я гляжу его и нема тут. Та-ак, понятно: вместо того чтобы работать, где-то шляется. Пан Хилькевич от такого самовольства точно уж будет в «восторге».
Мужики переглянулись и как-то неловко замялись. Было заметно, что им есть что сказать, если, конечно, захотят.
– Выкладывайте, где этот чертов лесник?! Всё равно будет известно, и вам всем тогда будет хуже за непослушание! – припугнул мужиков приказчик.
– Мы-то тут при чём… Прошка сказал, что ненадолго… да, видать, задержался, – ответил всё тот же мужик, видимо, оставленный за старшого.
– Договаривай, нечего тут недомолвки творить! Барин с самого утра его дожидается! – рычал Степан, насилу сдерживаясь, чтобы вообще не разразиться отборным матом на нерешительных мужиков.
– Нам Прошка не отчитывался, но что-то говорил про Перчин луг. Может, туда подался. Дело молодое…
– Понятно… – злобно процедил приказчик и с яростью натянул поводья, разворачивая Буяна в сторону Перчиного луга.
Сегодня на панском лугу вовсю шла страда по заготовке сена. Пользуясь благоприятной погодой, мужики, бабы, подростки и даже дети спешно старались сложить высохшее сено в копны и стога. Успеют убрать панское сено – останется время и для своего.
На лугу работало много народу, но главное, там сейчас была и Марылька. Степану всё это было прекрасно известно по долгу своей службы, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не догадаться, почему туда подался лесничок. Всё это порождало в душе Степана двойственное чувство. С одной стороны, панский любимчик Прошка будет уличён в проступке, а с другой – он пошёл к Марыльке! Одно радовало приказчика, другое вызывало необузданную ревность, которую к тому же надо было не выказывать прилюдно.
До Перчиного луга дорога займёт с полчаса. В отпущенное панской милостью время уже никак не успеть. Можно было бы вообще вернуться сейчас к пану Хилькевичу и свалить всё на Прошку. Его вина налицо. Но Степану очень уж хотелось увидеть растерянность и испуг в глазах этого выскочки, да ещё и в присутствии Марыльки. Ну и, конечно же, у него будет возможность перекинуться несколькими словами с Марылькой, а если повезёт, то и без посторонних ушей.
Вот и Перчин луг. Бабы в светлых платках дружно сгребали высохшую траву в валки. Две взмыленные лошадки специальными волоками еле успевали стаскивать кучи сена к месту укладки. А из-под вил мужиков по всему лугу, словно какие-то неправильные заостренные пузыри, вырастали умело сложенные копны.
Степан резко остановил коня и, словно ястреб, зорко начал всматриваться в разношерстную толпу крестьян. Возле одной из копен он сразу же узнал волнующую его девичью фигуру. Рядом бородатый мужик ловко метал сено наверх. «Странно… где ж тогда этот лесничок? – подумал приказчик и сразу догадался: – Если он тут, то будет рядом с девкой. Выходит, он с другой стороны копны. Ему что, своей работы мало?»
Больно стегнув Буяна, Степан решил вихрем промчаться перед селянами и, как бы ненароком погарцевав на жеребце, показать всем свою удаль. Хотя если бы здесь не было Мырыльки, то красоваться перед этим сбродом приказчик и не подумал бы.
Стрелою пронёсшись на взмыленном жеребце до места, где работала Марылька, Степан резко натянул поводья, чтобы остановиться у самой девушки. Это должно было произвести на неё впечатляющий эффект. Ну а потом он учинит ещё и допрос по всей строгости. Обоим.
Удила больно впились в губы Буяна, разорвав их по живому. Это стало пределом терпения жеребца. За сегодняшнюю поездку у него не раз возникало желание освободиться от коварного седока, но тот словно предугадывал такие намерения и больно наказывал за это. Теперь же изведенному жесткими понуканиями жеребцу было всё равно, накажут его или нет. И Буян, поддавшись природному инстинкту самосохранения, взбунтовался.
Удила всё сильнее продолжали рвать лошади рот. Эта резкая боль заставила жеребца вздыбиться на полном скаку. Как только передние ноги опять коснулись земли, он тут же высоко подбросил зад и остервенело лягнул копытами воздух.
Упоённый своим величием всадник не ожидал от жеребца такой выходки. Он не просто свалился с коня, он кубарем перелетел через его голову и с жутким глухим звуком сильно ударился о землю. Как и задумывал, почти рядом с Марылькой.
От резкого удара в глазах приказчика вспыхнули и тут же померкли радужные круги. Словно сквозь сон послышались далёкие испуганные крики баб; как из-под земли доносился топот бегущих мужиков и их хриплое дыхание. Последним крупицам уходящего сознания приказчика казалось, что этот далёкий переполох никакого отношения к нему не имел. И всё это длилось лишь мгновение, а потом наступила необычайная лёгкость и оглушительная тишина…
Степан открыл глаза и непонимающим взглядом уставился на столпившихся вокруг него людей. Медленно приходя в себя, он вспомнил случившийся конфуз и попытался было быстро вскочить на ноги. Но тут его тихонько придержала чья-то рука.
– Тихо, тихо, Степан Николаич, полежите ещё малость, – прозвучал над самой головой чей-то нежный голос.
– Пить, – тихо произнёс Степан.
– Тётка Пелагея, дайте ещё воды, – раздавшийся знакомый и приятный голос начал вдруг волновать приходящего в себя приказчика.
Всё та же рука осторожно приподняла голову Степана, и к его губам приблизилась крынка с водой. Он жадно сделал несколько глотков и снова начал беспокойно оглядывать собравшуюся вокруг толпу. На этот раз взгляд его был уже более-менее осмысленный. «Чёрт, и надо ж было грохнуться у всех на глазах!» – досадно подумал Степан.
Он лежал на спине, голова приподнята, и под ней ощущалось чьё-то упругое тело. Ещё толком не придя в себя, приказчик ввергся в необъяснимое сердечное волнение, вызванное близостью этого тела и видом загорелой девичьей руки. «А где ж Марылька?» – вспомнив о девушке, Степан ещё больше расстроился из-за произошедшего конфуза. И тут внезапная догадка заставила приказчика встрепенуться. С трудом запрокинув голову назад, он увидел ту, которая так о нём заботилась. Да, это была она – Марылька! От приятного удивления сердце приказчика сладко зашлось. Невероятно, но он увидел над собой склонившееся лицо той, которая в последнее время занимала все его мысли. Девушка сидела прямо на покосе и держала его голову у себя на коленях!
– Марылька? – несказанно обрадовавшись, удивился Степан. Но его радость мгновенно скрылась под горькой гримасой боли: после такого падения не так-то скоро оправишься. Никто не заметил трепетного волнения приказчика, а ему это было и на руку.
– Ага, я, Степан Николаич, – отозвалась Марылька. – Что ж это вы так не убереглись? Потише надо бы на таком коне.
Девушка осторожно поправила голову приказчика, уложив её выше и удобнее на своих коленях.
Степан от такого развития событий совсем растерялся. Пока лишь только в мечтах он мог вообразить себе, чтоб его голова, нежно поддерживаемая Марылькиной рукой, покоилась у неё на коленях.
– Кажись, оправился, – раздались со всех сторон облегчённые вздохи.
– Не сломал бы чего…
– Да не, цел! Совсем опритомел[33].
– Ну и слава богу…
– А чего с ним станется? Такие живучи как кобели… Вон как на Марыльку таращится, – тихо, но с нескрываемой враждебностью высказался кто-то из толпы.
Приказчик этих слов не расслышал, а Марыльку они смутили.
– Куда это вы так спешили, Степан Николаич? – спросила она в надежде скорее завершить свою роль спасительницы.
– Да к тебе вот и спешил… ну… то есть не совсем к тебе, – тут уж смутился и сам приказчик из-за того, что его могут неправильно понять.
Но все поняли, как оно и есть. Марыльку же высказывание приказчика и вовсе возмутило. Она, вдруг резко приподняв и усадив Степана, вскочила. Девушка была наслышана о проделках приказчика и теперь в смущении отряхивала юбку и удивлённо глядела на него, ожидая разъяснений. С дюжину глаз тоже заинтересованно воззрились на «лихого наездника».
– Я это… Прохора ищу. Сказали, что он сюда пошёл, – окончательно придя в себя и обретая былую уверенность, сказал приказчик.
– А я-то при чем? – зарделась Марылька. – Да и не было тут никакого Прохора. Кто это вам такое наговорил?
Степан уже стоял на ногах. Болели спина и затылок. Не веря до конца словам девушки, он намётанным глазом как бы невзначай скользнул по столпившимся вокруг селянам. Прохора и в самом деле здесь не было видно.
– Чёрт, и где его носит? – тихо, сквозь зубы чертыхнулся Степан.
Он уже представлял, как пан Хилькевич будет вымещать на нём крайнюю неудовлетворённость исполнением приказа, хотя вины Степана тут никак не усматривалось.
– Что вы сказали, Степан Николаич? – переспросила Марылька.
– Я сказал, что премного тебе благодарен за заботу, – произнёс приказчик и, зыркнув на толпу, беззлобно добавил: – Ну, чего рты разинули, живо работать! Погода ждать не будет!
Когда все разошлись, Степан приблизился к Марыльке. Девушка тревожно встрепенулась, встретившись с колючим взглядом приказчика. Зная его тайные интересы, которые, кстати, ни для кого не были тайной, она больше всего боялась попасть к нему во внимание.
– Что-то ещё хотели спросить, Степан Николаич? – испуганно произнесла девушка, отводя взгляд и уж слишком усердно подгребая сено.
Степан ничего не ответил. Он зачарованно смотрел на Марыльку и не мог поверить, что всего лишь несколько минут назад она держала его голову у себя на коленях. «Неспроста, видать, кинулась мне помогать», – преждевременно предаваясь сладким мечтам, размышлял приказчик. Ему и невдомёк было, что на месте Марыльки так поступил бы любой человек, оказавшийся рядом с пострадавшим.
– Я твой должник, Марылька, – многозначительно и мягко произнёс Степан.
– Если какая помощь будет надобна, скажи. Для кого-кого, а для тебя всё сделаю. Помни это.
– Я что, особенная какая, что ли? – совсем смутившись, промолвила девушка.
Марылька почти болезненно ощущала на себе украдкой бросаемые осуждающие взгляды селян, и от этого лицо её горело. Она точно догадывалась, о чем сейчас перешептываются молодицы, с интересом предполагая дальнейшее развитие событий.
– Не знаю, как для кого, а для меня ты особенная.
– Степан Николаич, вот вы говорите а бы что, а на нас люди уже глядят, пересудов не оберёшься. Уж поезжайте себе с богом.
– Добре, Марылька. Я думаю, мы ещё поговорим с глазу на глаз. У меня есть, что сказать тебе. Важное для меня, и я надеюсь… что и для тебя это станет важным. Ты уже совсем взрослой становишься. Ну, так что, согласна поговорить по душам?
– Поговорим, Степан Николаич, поговорим. Только не теперь. А сейчас лучше уж поезжайте, ради бога, – умоляюще скороговоркой проговорила девушка, пытаясь поскорее закончить этот неприятный разговор с намёками.
Степан же слова Марыльки понял по-своему и, видя резон в словах девушки, не стал больше привлекать лишнего внимания.
– Ладно, Марылька, до встречи, – ласково попрощавшись и нехотя оторвав от девушки маслянистый взор, приказчик отошёл.
Сердце Марыльки тревожно билось. Хотя ничего такого и не произошло, но она чувствовала, что эта сегодняшняя встреча, оставившая на душе мерзкий осадок, только начало.
Навстречу Степану один из мужиков уже вёл под уздцы Буяна. Немного успокоившись, конь шумно дышал и громко фыркал, кося взглядом на работающих лошадок. Заметив приближение приказчика, Буян нервно застриг ушами и вскинул морду.
– Спокойно, Буян, спокойно, – тихо говорил Степан.
Он протянул руку и похлопал коня по шее. Как ни странно, но злости на Буяна у приказчика не было. Сам во всём виноват. А вот за то, что так удачно всё с Марылькой получилось, что удалось поговорить с ней и дать знать о своих чувствах, Степан в некоторой мере был даже благодарен Буяну.
Приказчик спешил в имение. Теперь его тревожило то, как себя поведёт пан Хилькевич, когда он, Степан, предстанет пред его очи ясные. Приказание-то не исполнено. А прошло, поди, часа два уж. Хочешь, не хочешь, но надо возвращаться. И хочешь, не хочешь, а придётся стерпеть спесивую выволочку разгневанного пана Хилькевича. Но то, что на этот раз и Прошке достанется с лихвой, тешило и согревало душу приказчика.
Спешившись, Степан некоторое время стоял в глубине двора и мрачно размышлял, переводил дух перед неприятным разговором. Наконец, собравшись с духом и понуро опустив голову, он поплёлся к дому. И только Степан протянул руку к входной двери, как она отворилась, и на крыльцо вышел сам пан Хилькевич, а за ним… и Прохор.
Вид у пана Хилькевича был весьма благодушный, даже, можно сказать, радостный.
– О, а вот и ты! А я уж было подумал, что мой приказчик начал хватку терять! Молодец, Степан Николаич, – весело забалагурил пан Хилькевич.
– Рад стараться, – ничего не понимая, растерянно произнёс Степан.
– А ведь догадался, стервец, Лявона послать! И от работы никого не оторвал, и наказ мой исполнил! – в шутку погрозил пальцем Семён Игнатьевич.
Степан совсем опешил. Он уже на уровне какого-то шестого чувства догадался, что, похоже, попал впросак и счёл за лучшее пока помолчать.
Пан Хилькевич пребывал в превосходном расположении духа. По Прошке тоже не скажешь, что получил нагоняй. Видя такой расклад, Степан замер и, не говоря ни слова, всё силился понять, что же, в конце концов, происходит. А Семен Игнатьевич меж тем продолжал:
– А каков этот старик, а? Настоящий живчик! И чарку успел пропустить, и Прошку найти, да ещё и ягод в панском лесу набрать. Ну, разумеется, «с моего позволения», так сказать, хе-хе-хе.
И тут до Степана вдруг дошло, что старый собака ловко и нагло его провёл. Осмелился обмануть самого приказчика! Он как угорелый носился по всей округе, шею себе чуть не свернул, а этот ненавистный лесник, сговорившись со старым пройдохой, давно уж явился сюда и рассиживается себе тут спокойненько. Да и барин хорош! Что-то не видать по ненавистной роже лесника, чтоб он опечален был панской опалой.
Самолюбие Степана было задето, и задето сильно, просто-таки за живое. Ярость вскипала и требовала немедленного отмщения. Уж за такое посмешище кому-кому, а старому хрычу точно несдобровать. И Степан злобно прошипел: «Ну, пёс плешивый, будет тебе награда, пощады не жди».
– Ты что-то сказал? – услышав бурчание приказчика, переспросил Семён Игнатьевич.
– Ага, говорю: молодец дед Лявон! – голос приказчика прозвучал бодро и внятно, а внутри всё тонуло в волнах злости.
– Ты уж, Стёпа, проследи, чтоб этому Лявону, если появится тут, угощение преподнесли. Ну, накормили, что ль, хлеба дали, да и чарку такому стрекачу не жалко. Хе-хе-хе, – пребывая в хорошем настроении, не унимался пан Хилькевич, но вдруг, словно почувствовав что-то неладное, строго добавил:
– А я в свою очередь прослежу, чтоб обиды старику ни от кого не было.
– Хорошо, Семен Игнатьевич, сделаю всё, как приказали, – поникшим голосом произнёс приказчик.
– Вот и ладно, ступай тогда, – сказал пан Хилькевич и повернулся к Прохору.
Степан одарил их испепеляющим взором и, кипя злостью, нервно направился в сторону дальнего овина.
– Что это он мрачный такой? – глядя на удаляющегося приказчика, спросил Прохор.
– А кто его знает. Он часто такой бывает, – ответил пан Хилькевич, и хотел было добавить: «Особенно, когда тебя видит…», – но сдержался и изменил тему разговора. – Ну а ты долго не раздумывай. Девка она добрая и в мужском плече нуждается сейчас как никто другой. Я весьма рад, что моя рекомендация совпадает с твоим желанием.
Степан этих слов уже не слышал.
– Благодарствую, Семен Игнатьевич… Век не забуду милости вашей, – признательно поблагодарил Прохор пана Хилькевича.
– Иди уж, обрадуй сироту.
Поклонившись пану, Прохор направился в село.
А из укрытия, из-за овина его провожал взглядом, полным ненависти, панский приказчик. Вся сущность приказчика незаметно для него самого утопала в бездне озлобленной ревности. Степан испытывал демоническую истому, рисуя в своём скудном воображении сцены зверской расправы с соперником. Такие дикие мысли до того взбудоражили ревнивца, что сознание затуманилось, а тело пробивала мелкая дрожь. Он уже не замечал ничего вокруг.
– Степан, а чего это ты замер тут, как кот у мышиной норы? – раздался вдруг сзади звонкий голос кухарки.
Приказчик от неожиданности аж вздрогнул. Испуганно оглянувшись и проведя рукой по лицу, он в ужасе подумал: «Господи! Да что ж это на меня нашло. Раньше и в кошмарном сне такое в голову не пришло бы! Прямо наваждение какое-то! Господи, не дай бесу вселиться в душу раба твоего…»
Ничего не ответив кухарке, Степан быстро зашагал домой. Непонятная тревога засела в его душе. С ним творилось что-то неладное. В последнее время он никак не мог сосредоточиться на работе, а мысли о Марыльке так и вовсе не давали ему покоя. И уже с каким-то страхом Степан осознавал, что так не должно быть, но и противиться творившейся с ним чехарде он не мог. А может, и не хотел…
Подходя к своей хате и немного успокоившись, приказчик перебирал в памяти события прошедшего дня. Сегодняшний день принёс Степану уйму неприятностей, но все они меркли в сравнении с одним приятным моментом: начало положено! Он ясно дал понять Марыле о своих чувствах, и решительного отказа не получил! А это для него значило много. И по большому счёту сегодняшний день Степан считал удачным.
Но если бы только знал приказчик, по какому поводу пан Хилькевич вызывал Прошку и о чём говорил с ним, он бы этот день назвал чёрным…
Глава 14
Освежающие, ласковые дуновения ветерка не давали ясному летнему дню погрузиться в знойную жару. И это благодатно сказывалось на всём и на всех. Радовалась этому и Янинка. Настроение сегодня у девушки было славное, и она бодро шагала по направлению к Черемшицам. Радуясь жизни, её сердце до краёв наполнялось счастьем и трепетным волнением: сегодня в её жизни должно произойти важное и приятное событие.
День начал уж близился к своему завершению, а природа благоухала свежестью и бурлила полнокровной жизнью, скрытой и не броской для постороннего глаза.
За время, проведенное в заброшенной избушке, Янина ни в коей мере не считала себя посторонней для удивительного царства леса. И сегодня как никогда её жизнерадостный взгляд с умилением отмечал кратковременно представлявшиеся моменты из неприметного житья обитателей окружающего мира. Вот встревоженная сойка громко прокричала своё хриплое «крреэ-эч». «Что волнуешься, красавица? – задорно подумала девушка. – Где горлышко в такую-то пору застудила? Эх ты, не быть тебе певуньей! Голос-то у тебя совсем не подходит к твоему яркому наряду!»
А вот на верхушке сосны еле качнулась ветка-лапа, – и, мелькнув огненной зарницей, скрылась в гайно[34] юркая белка. Янинка ей тоже улыбнулась и тихонько произнесла: «Доброго здоровьица, хозяюшка! Небось уже второй приплод готов покинуть твою круглую избушку?»
Янина весело мурлыкала напевы и часто с удовольствием останавливалась, чтобы поправить и без того ладно сидевшие на ней новые наряды. Ей до сих пор с трудом верилось, что мать щедро выделила ей столько грошей на обновки. За такую сумму можно было купить даже корову. Но девушка без всякого сожаления потратила все врученные ей деньги на покупку и пошив самых лучших нарядов. С неделю назад она специально для этой цели выбралась на ярмарку в Каленковичи. Янинка с тайным чувством ликования прохаживалась средь возов с различными товарами, заглядывала в торговые лавки. Глаза разбегались: хотелось купить и то, и другое, и третье. Девушка не спешила с покупками, растягивая удовольствие от ощущения, что может многое себе позволить, и перед её соизволением будут заискивать торговцы. А увидев гроши, они и вовсе будут становиться более сговорчивыми и уступчивыми, лишь бы не упустить покупателя.
Потешив себя разглядыванием всевозможных вещей, посуды, живности, Янинка в конце концов остановилась у лавки с отрезами материи, лентами, нитками, иголками и прочими швейными товарами. Девушка долго и придирчиво примерялась к покупкам. А что именно ей надо покупать, она заведомо узнала у самой известной в местечке швеи. Что-то приобрела в этой лавке, что-то в другой, а готовый нарядный гарсет, расшитый цветной тесьмой, сразу же, не торгуясь, купила у худощавой молодицы, ухоженной и опрятной. Судя по всему, гарсет когда-то украшал плечи этой миловидной женщины, решившей по какой-то причине расстаться с такой прекрасной вещью. Она явно не была торговкой: слишком бросались в глаза её смущение и неловкость. Возможно, она даже принадлежала к какому-нибудь обедневшему панскому роду, вынужденному по мере надобности распродавать своё имущество.
Но как бы то ни было, а сейчас принарядившаяся Янинка сама была похожа на знатную панночку. Её волосы цвета воронова крыла стянуты на голове красной лентой-скидочкой. Рубаха с кокеткой радовала взор своим ярким орнаментом, вышитым на рукавах и по вороту. Надетый поверх рубахи гарсет прямого кроя поражал взор чистотой линий и неповторимым колоритом украшающих вышивок. Легкая юбка-летник с продольными полосами, стянутая в талии, делала фигуру Янинки соблазнительно привлекательной. А из-под длинной юбки на зависть всему свету виднелись настоящие женские сапожки ремесленного изготовления. Таких сапожек уж точно ни у кого из девчат нет!
Юная красавица чувствовала себя на седьмом небе. Мысли путались от радостного волнения. Её воображение красочно рисовало, какое впечатление она произведёт своим появлением. Да, она будет самой привлекательной, самой нарядной! Никто не устоит перед её красотой! «Ой, да мне никто и не нужен, – спохватывалась Янинка, – кроме одного его, конечно!»
В этот субботний вечер Янина решилась впервые посетить знаменитые на всю округу черемшицкие посиделки. Она заранее договорилась с одной деревенской девкой вместе идти к костру.
Когда-то Янинка очень помогла Дуньке – так звали эту знакомую, – приведя её к своей матери и замолвив за неё словечко. Тогда у девушки были какие-то неполадки со здоровьем. То ли Серафима помогла, то ли само всё поправилось, но вскоре Дунька почувствовала себя гораздо лучше, а потом и вовсе забыла о своём недуге. Но вот об оказанной ей помощи благодарная Дунька никогда не забывала. Янинка однажды даже в гости заходила к ней, и, к превеликой радости обоих, родители Дуньки отнеслись к Янинке очень дружелюбно. После этого Дунька не раз приглашала подружку с собою на посиделки, но та всё как-то не решалась. И вот время принятия решения настало.
Девчата условились встретиться перед самым заходом солнца. А после вечорок договорились, что Янинка заночует у Дуняши.
То ли Янинка слишком долго наряжалась, красуясь перед маленьким зеркальцем, то ли шла не спеша, но на дворе уже начинало смеркаться, а до Черемшиц оставалась ещё добрая верста. Девушка, видя, что заметно припозднилась, значительно ускорила шаг.
Чем ближе Янина подходила к селу, тем больше её охватывала неуверенность и страх перед многолюдьем. Она знала, что при её появлении десятки глаз будут сверлить неожиданную гостью пытливыми взглядами. И в каждом таком взгляде будет стоять немой вопрос: «А кто это к нам пожаловал?! Ага, вот и сама дочка ведьмы пришла! А чего это она на такое решилась, за каким интересом?!» И чем больше об этом думала Янинка, тем более зловеще звучали в её воображении такие недружелюбные немые вопросы. Постепенно радостное настроение сменялось на тревогу, на какую-то беспокойную неуверенность. А вскоре она заметила, что руки от волнения стали влажными и иногда даже мелко дрожали.
Янинка подошла к хате Дуньки, когда совсем уже стемнело. Она сильно опоздала. Глядя на мерцающий тусклый свет в окнах, Янинка с горечью подумала, что Дунька вряд ли до сих пор будет её ждать. Видимо, она решила, что Янинка опять передумала, и ушла к костру одна.
Зайти в хату и спросить девушка не отважилась. Стоя у куста черёмухи, Янинка нервно, до боли, до самого хруста в пальцах сжимала кулачки. Слёзы готовы были вот-вот брызнуть из глаз. Но девушка быстро взяла себя в руки. «А чего переживать? Ничего страшного ведь не произошло, – успокаивала себя Янинка. – А может быть, даже всё и к лучшему!» Девушка почувствовала некоторое облегчение ещё и от того, что на сегодня, похоже, отложилось волнительное для неё испытание.
В одиночку появляться на вечорках Янинка не согласилась бы ни за что на свете. Возвращаться ночью назад тоже желания не было, да и страшно одной-то ночью по лесу идти. Оказавшись на таком вот распутье, Янинка лихорадочно прикидывала в уме, что ей сейчас делать, как поступить, куда податься. Наконец приняв решение, она направилась к околице, где в сгустившихся сумерках ярким и влекущим к себе маяком пылал заветный костёр.
Ещё издали Янина заслышала обрывками доносящиеся до неё звуки песен и смеха, крика парней и весёлого визг девчат. Господи, как же ей хотелось быть там, быть одной из тех девчат; ей хотелось быть своей среди этого безумно манящего шумного круговорота!
Когда-нибудь она непременно будет там, но только не сегодня. Сегодня одинокая девушка решила подождать возвращения подружки и заночевать у неё. А в ожидании она намерилась хотя бы издали понаблюдать, как гуляет черемшицкая молодёжь, и хотя бы издали ещё раз увидеть возлюбленного.
Широко раскрытыми глазами Янинка с завистью смотрела на шумное сборище хлопцев и девчат. Её сердце то замирало, то заходилось в щемящем трепете. Оно рвалось туда, к людям, в их безумно счастливый, как казалось Янинке, мир.
Ночь и буйные заросли, укрывали под своими крыльями влюблённое сердце, дали девушке возможность оставаться незамеченной, находясь неподалеку от костра. Она почти всё видела и многое могла слышать из того, о чём говорилось.
Молодёжь шумно и громко над кем-то подшучивала. Далеко разносились оживлённые выкрики и смех. Но Янинку сейчас интересовало совсем другое.
Она пристально всматривалась в лица и фигуры парней. Сердце обмирало. Неужели его здесь нет? Неужели она напрасно стремилась сюда? Господи, дай хоть издали ещё раз взглянуть на желанную и в то же время недосягаемо далёкую стать возлюбленного. Но Прохора тут не было! Янинка с великим разочарованием и горечью продолжала смотреть, как беззаботно веселится деревенская молодёжь. Да, совсем не так она представляла себе свой первый выход к ровесникам.
А оживление вокруг костра нарастало. Подходили запоздалые парочки.
– О, а чего это ты один, где дружка посеял? – раздался возглас из толпы.
В свете костра появился Игнат.
– И Любаша тебя вон уж заждалась, да на Ефимку начала поглядывать. Этот-то николи не опоздает!
– Бреши, да меру знай, – звонко ответила шутнику Любаша.
– Здрасьте, – поздоровался Игнат.
– А, в самом деле, где это Прохор с Марылькой запропастились? – поинтересовалась Любаша. Она заходила за подружкой, но той дома не оказалось.
Янинка напряглась, услышав, что речь зашла о Прохоре. Врождённая интуиция вдруг обострилась, и под ложечкой противно засосало. Девушка поняла, что сейчас произойдёт что-то ужасное. «И при чём тут Марылька?!»
– подумала она, отказываясь верить в то, о чём только что начала догадываться.
– А вот попробуйте угадать, какую новость я вам сейчас скажу! – загадочно обводя всех взглядом, важно произнёс Игнат.
– Небось одурачить нас надумал! – весело раздался чей-то выкрик.
– Не! Хочет, чтоб его слушали, як того Лявона! – вторил другой голос.
– Эх, дурачье дубовое! – остановил бестолковые выкрики Игнат и сделал паузу, при которой наступила интригующая тишина. – Ну так вот, теперь слушайте, мотайте на ус и готовьтесь к веселью: в скором времени будем гулять на свадьбе!
– И кого ж это угораздило попасться?!
– Свадьба – дело доброе!
– Кто жениться-то надумал? – снова со всех сторон понеслись голоса.
– Прохор и Марылька! – торжественно объявил Игнат, и все вдруг затихли.
У многих народов бытует такой обычай, что если у жениха иль невесты умер кто-то из родителей, то свадьбу правят лишь по истечении года после похорон, и ни в коем случае не раньше. Со страшной кончины Якова года ещё не прошло, и все были очень удивлены такому кощунственному, на селянское мышление, решению.
Поняв причину внезапно установившегося недоумения, Игнат неуверенно пробормотал:
– Ну, они ж любят друг дружку… да и Марыльке тяжело по хозяйству управляться… ну, а главное, такова воля пана Хилькевича… Это его решение.
Неизвестно сколько бы длилась эта неловкая тишина, если бы вдруг в ближайших темных зарослях не раздался сдавленный стон. От такой неожиданности все вздрогнули и застыли, а одной из девчат и вовсе сделалось дурно. Испуганные взоры тщетно пытались что-либо разглядеть в темноте. А через мгновение там вдруг раздались глухие завывания, а затем и громкий шум, словно по кустам, сорвавшись с места, неслось какое-то животное. От страха девки дико завизжали, что произвело ещё больший переполох. Хлопцы повскакивали и сплотились в кучу; глаза у всех были расширены до невероятных размеров, и тревожные взгляды безрезультатно пытались хоть что-нибудь различить в кромешном мраке.
Лишь спустя некоторое время все понемногу начали успокаиваться, но всё ещё с опаской поглядывали по сторонам.
Молодёжь сбилась в плотное кольцо вокруг костра и почти шепотом обсуждала произошедшее событие. Все терялись в догадках, приписывая странные звуки то дикому зверю, то кому-то из хлопцев, решивших сыграть дурную шутку и всех попугать. Но эти предположения быстро отметались, не вызывая интереса и правдоподобного объяснения. Вскоре всё то же селянское мышление, склонное в большой степени предаваться суеверию, пришло к единому мнению: это происки нечистой силы. И это дурной знак!
А тем временем, надрывно рыдая и не разбирая пути, Янинка неслась по ночному лесу. Слёзы застилали глаза. Сучья и ветки хлестали по лицу, до крови царапали кожу. Натыкаясь на деревья, девушка в ярости била и царапала их. Объятая горем, она была готова землю грызть, только бы то, что услышала, оказалось неправдой. Душу несчастной рвал вихрь разбившихся надежд, кружа её в безумии и унося в мучительную неизвестность.
Коротка летняя ночка. Звёзды, не успев вволю покрасоваться на бархатном небосводе, нехотя начинали меркнуть перед светом своей сестрички – звезды, которую люди величают Солнцем. Земля готовилась к утренней заре, готовилась к встрече своей звезды-королевы.
Янинка начала приходить в себя, когда предрассветный туман мельчайшими капельками влаги стал оседать на её коже, волосах, одежде. Сырая прохлада постепенно возвращала воспалённое сознание в реальность, заставив девушку открыть глаза и зябко поёжиться.
Прислонившись к шершавой стене, Янинка сидела на крыльце своей избушки. Как и когда сюда добралась, не помнила. Бросив меланхоличный взгляд на свои обновы, она лишь равнодушно отметила, что новая юбка-летник основательно испачкана и во многих местах зияла разорванными прорехами; один рукав вышитой рубахи превратился в лохмотья; когда-то грациозные сапожки и вовсе выглядели ужасно. Досталось и красавцу гарсету. Свои израненные руки Янинка разглядывала как что-то чужое и ей не принадлежащее. Ленточка-скидочка сиротливо лежала шагах в двадцати на росном вереске. Заметив её, Янинка вяло подумала: «Чего это она там лежит? Кто её там обронил?» Безучастный взгляд на время застыл на ленточке. Смутно, отрывками припоминая свои ночные злоключения, девушка также равнодушно предположила: «Ах да, это, наверное, я сама её там обронила. Ну и пусть лежит…»
Вдруг скрипнула дверь избушки, и послышалось тяжёлое сопение. Невидящим взглядом Янинка продолжала смотреть перед собой, никак не отреагировав на появление матери.
– Ох, силы небесные, да что ж это стряслось?! – всплеснула руками старуха.
Увидев, в каком состоянии дочка, Серафима не на шутку переполошилась. Неподвижная молчаливость Янины ещё больше встревожила старуху. Склонившись над дочерью и бросив пристальный взгляд в её глаза, ведьма натолкнулась на пугающее безразличие.
– А-а-а, стряслось-таки. Не думала, что так скверно выйдет, – в раздражении вздохнула старуха и засуетилась вокруг Янинки. – Ну да чего уж теперь: как есть, так и есть.
Серафима помогла дочке встать и повела её в избушку. Девушка еле передвигалась. Уложив Янинку на грубый тесовый настил, служивший кроватью, старуха укрыла её войлочной постилкой. Сама же засуетилась с травами, кореньями и прочими снадобьями. Чтобы не вышло чего худого, надобно скорее приготовить успокоительное зелье. В своей колдовской практике Серафима не раз сталкивалась с такими случаями, когда сильный испуг или душевное потрясение рвали внутри какую-нибудь важную струнку, и человек становился сам не свой.
Перебирая запасы высушенных трав, старуха опять мысленно, с некоторым раздражением взвешивала и обмозговывала свои недавние действия. Конечно, колдовские силы и на этот раз сполна оправдали её ожидание, но такого исхода она всё же не хотела. Да и недолжно было такое произойти по её замыслу. Ведьма никак не могла понять, где переусердствовала. И опять закралось чувство, будто что-то или кто-то вмешивается в её замыслы. Серафима на миг замерла и крепко задумалась. От напряжения на изуродованном лице в нервном тике подёргивалось нижнее веко, выдавая сильнейшую обеспокоенность ведьмы.
Вскоре старуха уже отпаивала свою несчастную дочь горьким и противным снадобьем, после которого Янинка проспала глубоким сном почти сутки.
Проснувшись лишь на следующий день, девушка продолжала лежать с открытыми глазами, пытаясь спокойно осмыслить произошедшее.
Ни есть, ни пить не хотелось. Да и жить Янинке тоже не хотелось. Хотя сейчас она чувствовала себя значительно лучше, но в душе всё равно царили разочарование и пустота. А впереди её ожидали лишь мучительные терзания.
Заметив пробуждение дочери, Серафима тихо покинула избушку. Она дала возможность горечи первой неудачи выжечь в душе Янины наивные мечты о светлой жизни и красивой любви. Пусть девчонка сама почувствует, что наяву всё гораздо сложнее.
Жизнь всегда сурова к мечтателям. Вот так и с Яниной: не успела она самостоятельно сделать первый шаг, как коварная судьба сразу же преподнесла ей жестокий урок. Конечно, не без помощи матери…
Окончательно приведя дочку в себя, Серафима решила, что пришло время делать следующий ход. Но теперь старая ведьма каждый свой шаг, каждое слово и действие будет взвешивать и контролировать. Ей очень не нравились результаты её колдовства, особенно в последнее время.
– Ну, оклемалась маленько? Вижу, вижу, что полегчало. Не горюнься, доченька, время душевные раны лечит исправно, – заботливо произнесла старуха и, не удержавшись, потрогала своё изуродованное лицо. – А вот на теле раны всю жизнь о себе напоминают рубцами да шрамами.
Серафима на мгновение вспомнила ту роковую ночь. Уж сколько времени прошло с тех пор, а гнев её не унимался, наоборот, нарастал, жить спокойно не давал. Не в привычках ведьмы после такого унижения и издевательства «поджимать хвост» и смиряться с поражением. Да ещё и от кого! От какого-то юнца паршивого! Что ж, проиграна лишь одна схватка. Теперь старуха основательно готовилась к длительному и невидимому противостоянию. Она ещё покажет этому сукиному сыну сову смаленую! Выть будет от отчаяния! Она такую жизнь ему устроит, что впору будет самому в петлю лезть!
Для начала в планы ведьмы входило обрести союзника. И этим союзником непременно должна стать её дочь – Янина. Если всё выйдет, как задумала, то в две силы они у любого смельчака душу вынут, а из самого верёвки вить смогут. У Янинки-то задатки ого-го! Натаскать только девку надобно. Она и знать не будет о тайном замысле матери.
Внимательно наблюдая за дочкой, старуха решила: «Пора! Всё идет по замыслу! Самое время ломать девку!»
Серафима подала Янине ещё какого-то зелья.
– Выпей глоток. Горький отвар, зато голова будет ясная. Да и поела бы чего-нибудь.
– Не хочу ничего, – еле слышно проронила Янинка, но глоток противного зелья выпила.
Как и говорила Хима, девушка вскоре почувствовала себя бодрее, сознание почти полностью прояснилось.
Наблюдая за дочкой, Хима с удовлетворением отметила быстрое улучшение в её состоянии.
– Ну вот! Что я говорила? – наигранно обрадовавшись, заворковала она. – Вот тебе и наглядный пример! Надо доченька знать травки всякие да слова заветные, и многое можно сотворить при их помощи. А если ещё и вещицами определёнными уметь пользоваться – чудеса творить можно!
И хотя в голове дочки ещё гуляли остатки нервной сумятицы, но она сразу поняла, куда клонит мать.
– Мам, ты опять за своё, – прервала Янина хвалебную оду колдовству. – Травы-то я и так знаю, а всё остальное мне без надобности. Ни к чему мне колдовство.
– Зря ты так, доченька. Владела бы ты всем этим – не лежала бы вот так в слезах да в страданиях. Эта участь другим была бы уготована.
– Не надо меня уговаривать. На чужом горе своего счастья не построишь. Все это знают… Я думаю, что и для тебя это не новость.
– Но ведь кто-то же строит своё счастье на твоём горе! Ты об этом не думала?! А обновки твои во что превратились? Лохмотья! – учила дочку уму-разуму Серафима и в который уж раз с сожалением глянула на истрепанную одежду дочки. – А ведь кто-то сейчас ходит с твоим счастьем на сердце да в целых одёжках на плечах. Ещё небось и радуется, что хитрее тебя оказалась! Так-то вот, милая. Образумься да подумай, с чем и как жить-то дальше будешь.
Янинка ничего не ответила.
А голос Серафимы продолжал звучать твердо и уверенно, сокрушая тающее сопротивление дочери. В доводах старухи всё чаще попадались зерна резона, против которых было трудно что-либо возразить. Но старая ведьма преподносила дочери лишь заманчивые стороны колдовства. Она знала из опыта многих поколений своего рода, что в семейной жизни у большинства таких людей счастья нет. И эту правду она, конечно же, скроет от дочери.
Сквозь грязное окошко, затянутое в углах паутиной, Янина задумчиво смотрела на высокие и стройные берёзы. Что ответить на слова матери, она не знала. А ведь мать может быть и права…
В упорстве Янинки появилась первая трещина. Ещё несколько резонных доводов матери – и сомнения уже коршуном терзали душу несчастной девушки. От отчаяния она уже была готова присягнуть хоть Богу, хоть Дьяволу, лишь бы облегчить свои страдания, лишь бы обрести хоть слабую надежду на девичье счастье.
Серафима меж тем всё продолжала настойчиво гнуть своё. Словно капли воды, точащие камень, слова старухи расшатывали, подрывали стойкость девушки.
– Дурёха ты, Янинка. Я ведь догадываюсь, что вышло из твоего похода на ихние вечорки. Наивная ты как дитё, вот и страдаешь! Запомни, Янинка: за счастье своё надо уметь постоять. Где надо – огрызнуться, а где и локтями дорогу себе расчистить. В жизни, дочка, с неба готового ничего не упадёт. А если какому везунчику и упадёт, то у несчастного убудет. Так и с тобой вот: пока ты тут горем маешься, кто-то счастье твоё к рукам прибирает!
– Мам, ну что ты мне всё про счастье высказываешь?! И так на душе тошно…
– Да к тому высказываю, дочка, что пора и за ум взяться… всё в твоих руках. Тут-то и усилий много не надобно. Стоит только захотеть…
Янинка отлично понимала, о чём говорит мать. И если бы не зародившаяся когда-то тайная вера в Бога, то она давно бы уже согласилась.
– Мне страшно, мам…
– Ха! Это другие пущай бояться! Тебе некого будет опасаться, я это знаю…
– Я гнева Божьего боюсь. То, что ты предлагаешь, не богоугодное дело. Сердцем чувствую: будет кара за все грехи наши.
– Что ты мне тут всё про Бога мямлишь! Кто-нибудь хоть раз видел его, Богато? Одни разговоры только, – заводилась старуха, и её уже начало выводить из себя упрямство дочери.
– Бога не видели, потому как на небесах он да в вере людской. И чем больше вера, тем легче человеку тяготы всякие переносить.
Серафима изумлённо уставилась на Янинку.
– Что-то я не пойму, доченька: а слов-то таких да мыслей, где это ты нахваталась? – с нескрываемым подозрением вдруг строго спросила она. – Бог, вера, небеса! Тьфу! Запомни Янинка: Бога твоего никто не видел, а вот с Дьяволом многим пришлось иметь дело. И если уж он скрутит кого – ни твой Бог, ни царь, никто не поможет! Так-то вот! И даже с твоей бедой силушка тёмная скорее подсобит, нежели твой Бог.
– Кто Богу душой предан, того он под своим крылом держит. И такие люди должны быть счастливы. А если человека беда и постигнет, значит это и есть кара Божья за грехи земные; значит, так надо.
– Ага, надо, значит! За грехи! Да ты на себя глянь! Аж светишься вся от «счастья»! Ну, и за какие это грехи тебе такое подвалило? А?! За что это твой Бог наградил тебя «счастьем» таким?!
– Не знаю… И взаправду, за что мне такое страдание выпало?.. – подавленно прошептала Янинка.
Установившуюся непродолжительную паузу первой нарушила Серафима:
– Ладно, дочка, решай сама. Мне тебя принуждать не с руки. В нашем деле нужно желание… Наше ремесло не каждому подвластно, и требует оно души и веры. Зато как почувствуешь, что власть тайную имеешь над людьми, тогда-то и появится особенный, неизъяснимый интерес. Он и ведёт нас по жизни… Ну а будет у тебя такой интерес, так и с горем твоим враз управимся. Будешь владеть колдовским ремеслом – будешь сама вершить судьбу! И не только свою, но и других людей. Так что выбирай сама: или иметь то, что хочешь, или чахнуть, глядя, как другие радостью цветут.
Вздохнув, старуха отошла к печке и начала возиться с глиняным горшком.
Если бы Серафима продолжала принуждать, то и Янинка, скорее всего, продолжала бы упорствовать. А тут вдруг разбитая горем девушка оказалась совсем одна на распутье, и от важности выбора она растерялась ещё больше. Естественно, в таких условиях человек вступает на путь наименьшего сопротивления и желает поскорее выйти из сложившихся скверных обстоятельств.
В глубине души уже согласившись с предложением матери, Янинка лишь для очистки совести всё равно тихо произнесла:
– Лишь Богу дано располагать судьбами людей. Он рассердится, если кто-то будет вмешиваться в деяния его.
– Глупость! Тебе сейчас жить надо как подобает такой красавице, а не ждать чьей-то милости. Для этого и самой надо приложить усилия, чтоб судьбу свою выстроить лучшим образом. А Бога своего и всё, что тебе наплели о нём, забудь!
Всё ещё возясь у закопченной печки, Серафима в раздражении начала шептать странные слова, после которых её упрямая дочь впала в состояние лёгкого приятного транса. Находясь во власти чар, Янинка уже ничего не опасалась и ни в чём не сомневалась. Её измождённая горем душа уже просто не имела сил, да и не хотела сопротивляться. И наконец-то ведьма услышала долгожданные слова: «Я согласна…»
Серафима блестяще справилась с задумкой. Мастерски обработав душу и волю дочки, она не оставила ей ни единого шанса на иной выбор.
Ведьма долго втолковывала дочке всякие премудрости колдовского промысла. Хотя Янинка на уровне интуиции и природного дара сама о многом догадывалась, но её поразило разнообразие форм и методов получения полезной информации и использования её в своих целях. Серафима, видя с каким возрастающим интересом Янинка впитывает в себя каждое её слово, просвещала дочку всё же пока с малого, с азов. Она пока ни словом не обмолвилась ни о проклятиях, ни о порчах, ни о прочих тёмных делах. Сейчас перед старухой стояла начальная задача – показать более выгодную и привлекательную сторону колдовства.
– Нас и называют-то ведьмами, потому что ведаем многое, чего другим не дано. Вот, к примеру, взять любого человека. Для всех человек как человек, а для меня, доченька, это целая книга. И я научу тебя эти книги читать. По линиям ладоней, по осанке, по цвету и форме глаз, по имени и дате рождения и ещё по дюжине примет можно узнать о человеке почти всё: его сильные и слабые стороны, чем болен, какой нрав, его прошлое и будущее. Но главное – это то, что, многое узнав о человеке, ты сможешь влиять на его жизнь, по своему желанию изменяя его линию судьбы. А если тебе захочется…
– Пока я лишь свою линию хочу повернуть в лучшую сторону, – вдруг голосом, полным решимости, Янинка в который уж раз перебила расхваливание ведьмовского ремесла.
Бросив пронзительный взгляд на дочку, Хима замолчала. Сейчас она была всем довольна и с готовностью согласилась с Яниной.
– Добре, дочка. Ну а как ты думаешь, что для этого надобно?
Янинка неожиданно задумалась и уже не так уверенно произнесла:
– Приворот, наверное… – но тут же вдруг, окончательно уверовав в это, уже твёрдо добавила: – Сильный приворот! Чтоб во сне и наяву обо мне грезил.
Серафима опять удивилась решимости Янины. «Уж точно как быка за рога», – подумала она и начала учить начинающую ведьму азам колдовского мастерства.
– Будем, дочка, постигать нашу науку через дела, а посему с приворота и начнём. Самый сильный приворот, доченька, на крови выходит. Но кровушку добыть нам будет тяжко. Я думаю, что хватит и какой-нибудь вещицы его. Добре было бы клочок волос иль состриженный ноготь, а ещё можно…
– Я добуду его волосы.
Хима замолчала и вопросительно взглянула на Янину. На лице ведьмы даже появился оттенок легкого разочарования. Не ожидала она от дочки такого легкомыслия.
Прищурив очи, Янинка задумчиво глядела в окошко, и Хима с укором промолвила:
– Ты даже ни разу и словом ещё не обмолвилась с этим парубком, а тут заявляешь: «Добуду волосы». Даже и не мечтай: люди волосы на дороге не роняют… О-хо-хо, – вздохнула старуха. – Не всё так просто, дочка…
– Я принесу его волосы!
Решительный и уверенный тон Янины на этот раз уже не дал ведьме ни на мгновение усомниться в сказанном…
Глава 15
Вся молодёжь Черемшиц готовилась к старобытному языческому празднику Дню Ивана Купалы. Люди верили в чудо, которое может произойти лишь в Купальскую ночь, и это придавало обряду особый, таинственный ореол. И ни один церковный или календарный праздник не имел такого богатого оперения завораживающих историй, необычных слухов, небылиц и душещипательных рассказов как Купалье.
Во все времена главным чудом Купальской ночи считалось, считается и, наверное, будет считаться таинство цветения папарать-кветки – так в народе называют цветок папоротника. По народному преданию только самый смелый и безгрешный человек может увидеть заветный цветок. Зато тот, кто его найдёт, станет избранным среди людей. Поверье гласит: обладатель папарать-кветки обретёт удачу во всём. Счастливчик будет понимать язык зверей, птиц и даже сможет понимать, о чём шелестят листья растений и о чём журчит родниковая вода.
Но особо будоражит воображение людей то, что человек, нашедший дивную папарать-кветку, может без особых усилий отыскать клад или сокровища.
Но очень уж непросто найти этот цветок. На долю смельчака, решившего испытать счастья, выпадет столько преград и всяческих препон, что лишь одному из дюжины дюжин может улыбнуться удача.
В поверье красной нитью отмечаются условия и важные ритуалы, без выполнения которых, нечего и помышлять о дивном цветке. Да и просто в проведении купальских обрядов существует множество всяких изменений, внесённых временем, местностью и укладом жизни людей.
И вот для уточнения и разъяснения некоторых обрядовых действий черемшицкая молодёжь специально и неизменно приглашала перед Купальем деда Лявона на свои посиделки. Хотя подрастающие поколения, сначала наблюдая, а затем и участвуя в купальских обрядах, мало-помалу и сами набирались опыта и различных сведений об этом празднике, но вот послушать, почему и откуда всё пошло, доставляло им истинное удовольствие. И тут главным образом проявлялся интерес даже не столько к условиям купальского праздника, сколько к самому рассказчику. Ведь во всей округе самобытный Лявон считался самым настоящим ходячим кладезем фольклора, и всё излагал так, что, казалось, слушал бы его и слушал.
Вот и сейчас накануне Купалья молодёжь зазвала деда на «главное совещание» по подготовке к проведению мероприятия. Хотя уже и так заранее было всё распределено, кому и чем заниматься, но за последние годы встречи у костра с дедом Лявоном накануне этого праздника, похоже, переросли в добрую традицию.
Костёр ярко пылал, отражаясь своими сполохами в глазах сидящих вокруг людей. И хотя отражение в зрачках вспыхивало совсем маленькими искорками, зато они были яркими и не менее пытливыми.
Как и было заведено, тема разговоров сегодня полностью принадлежала Купалью. Деду Лявону и самому было по душе поговорить об этом, а тут ещё выпадала честь и других «просвещать» в вопросах правильности проведения обрядов, а это и вовсе доставляло старику двойное удовольствие. В такие моменты он чувствовал себя незаменимым и значимым.
– Дедуль, а чего это нечистая сила так оберегает цветущий папоротник? – спросил кто-то из девчат. – Ну и пущай бы люди срывали его да и шукали, себе на здоровье, клады всякие.
– Не. Не пойдёт на это нечисть, – решительно заявил дед. – Ведь што получается? Все эти чудодейственные способности, какими станет обладать везучий искатель папарать-кветки, отнимутся у самой нечистой силы.
– У чёрта, что ли? – скептически спросил Василь, заодно напомнив Лявону о себе, чтоб дед не особо расслаблялся в мыслях.
Лявон нервно глянул на Василя, но ответил спокойно:
– Ну, и у чёрта тоже, стало быть… А нечисть никогда не согласится просто так отдать даже малую толику своих чар простому смертному. Вот поэтому-то нечистая сила и будет вставать на пути смельчаков, – сказав это и глянув на Василя, Лявон не удержался и добавил: – Но тебе Василь бояться нечего.
– Это почему ж? – удивился тот.
– Ты не из той породы, штоб рискнул шукать такое чудо. Тут смелость потребна…
– Э-э, дед, обижаешь! Я на каждое Купалье по полночи хожу один по лесу! Смелости у меня хватает! А вот никаких чертей и кветак, о которых ты тут твердишь, ни разу не видывал!
– Значит не там ходил. А если и там, то опять, наверно, пьяны быв. Тут уж никакой нечисти и встревать не надобно: ты и так ничего вокруг не бачив. А вот ежели нормальный человек будет приближаться к месту цветения папоротника, то нечистая сила будет ограждать папарать-кветку дремучим лесом, да таким, куда не должно долетать предрассветное кукареканье петухов. Это помогает дьяволу с большей силой выкладываться в создание всяческих преград. Но если всё же станется, что человек находит такое место и идёт уже прямо на цветок, то уж тут нечистая сила во всю свою мощь станет бесноваться. И тогда уж никакому смельчаку мало не покажется. Во как.
– Ну, а в таком разе, что ещё может сотворить нечистая сила? – снова звучал чей-то вопрос.
– Ну… – дед Лявон на мгновение призадумался. – Черти могут наполнить лес истошными криками и страшными стонами, а то вдруг и диким хохотом зайдутся, от которого будет стыть сердце и неметь тело. Человеку может казаться, что на него валятся деревья и с небес сыплются огромные камни. И чем ближе цветок, тем страшнее будет становиться от таких козней. Может даже станет мерещиться, что невиданные звери и чудища вдруг бросаются на того, кто осмелился явиться за папарать-кветкай. И будет казаться, что под ногами проваливается земля, открывая пропасть до самого ада. Во как! А уродливые змеи и гады, шипя и клубясь, будут обвивать ноги, не давая двигаться ни назад ни вперёд. И черти сзади будут за полы сюртука хватать…
– Дед, ну ты так рассказываешь, будто сам побывал в таких переплётах, – вроде как сомневаясь, всё не унимался Василь. – А может, и было когда что такое, а дед? Вот что ни спроси – всё ты знаешь! А откуль? Значит, имел с этим дело! Ну, признавайся: побывал в переплёте из-за силы нечистой?
– Побывал, не побывал, а раз говорю, значит, знаю, – настороженно ответил дед.
И не зря ведь насторожился старый!
– А мне вот кажется… – Василь на время притворно задумался, будто что-то вспоминая, а затем словно что-то вспомнив, встрепенулся: – Точно! Ты дед, наверное, и позабыл, а вот некоторые люди-то помнят… Рассказывали мне, как однажды на Купалье тебе по молодости шибко досталось от нечистой силы! Ты бы вот сейчас и поучил нас непутёвых, куда не надо лезть, а то ведь, не дай бог, на кого-нибудь тоже накинется такое лихо. Ну, вот что тогда делать?!
«Опять этот Василь! Совсем огидел[35] уже! – раздражённо подумал Лявон. – И што ему неймется! Сидел бы тихонько, як все – дык не-е-е! Вечно свой язык всуне, куда не просят!»
Лявон быстро смекнул, куда клонит этот въедливый пройдоха и сильно занервничал. И ведь было от чего! Если большинство происходивших с ним казусов он и сам потом вспоминал с улыбкой, то один случай вызывал у деда прямо-таки содрогание, хотя все остальные селяне, как всегда, всё равно тогда посмеивались над ним. Об этом своём приключении дед Лявон почти никогда и никому не рассказывал. А произошел этот случай именно на Купалье.
И вот сейчас, состроив на лице недоуменное выражение, балагур «непонимающе» глядел на «ненавистного» Василя и гадал: «Откуда вот он откопал? А может, и не знает ничего… А-а… – вспомнил вдруг Лявон, – кажись, когда-то давно одному только Евсею и рассказывал! Ну, Евсюк! Просил же никому не говорить. Рассказал, видать! Вот люди, ну ничего неможно[36] доверить!»
А случилось это давным-давно, ещё в «лихую» молодость деда Лявона. Это сейчас он на язык шибко силён, а в то время больше чудил да куролесил.
Короче говоря, шкура на хлопце огнём горела! И та проделка Лявона вылезла тогда ему боком, можно даже сказать, в самом прямом смысле!
Ну, так вот… Как уже отмечалось, Лявон был родом из Автюцевич. И давным-давно в этих Автюцевичах молодёжь тоже отмечала Купалье. Дед в то время был не только трудолюбивым парубком, но в такой же степени и вредным. И вот в ночь на Купалу только одному ему взбрела в голову мысль напугать девок. Заранее приготовив и спрятав замысловатое одеяние из веток, он веселился вместе со всеми и ждал своего часа. И когда настала пора бросать венки на воду, Лявон незаметно исчез.
Как только девки подошли к воде, из прибрежных зарослей навстречу им выскочил «леший». Ужасный, весь из веток, ни головы, ни рук, в сумраке – одно сплошное косматое страшилище! Ну, выскочил – и давай гоняться за девками. Дикий визг стоял на всю окрестность; венки летели в разные стороны! «Леший» так увлёкся своей удачной проделкой, что в погоне за девками не заметил, как сам оказался в руках у хлопцев. А кто ж сгоряча будет разбираться: леший ты или нет! Как есть, так и есть – нечисть!
Долго тогда молотили «лешего»… Лявон кричал, кто он на самом деле. А кто ж нечисти поверит?! «Ишь, кикимора! Ещё и обмануть нас норовит!» – кричали тогда хлопцы и ещё больше усердствовали. «А давайте спалим! Одной нечистью на свете меньше будет!» – раздался чей-то возглас, и несчастный «леший» совсем обезумел от боли и страха.
И только когда упирающегося Лявона потянули к костру, чтоб ещё и сжечь эту «нечисть», вот тогда-то и признали в нём человека. Глянули повнимательней при свете костра – ну, конечно же, человек! Мало того, так ещё и Лявон! А это почти одно и то же, что и леший! Поэтому никто тогда особо и расстраиваться не стал, что не сразу признали в лешем Лявона. А может и с самого начала знали, кого за девичий переполох чествовали. Но как бы там ни было, а «леший» долго ещё потом за боки держался.
В Автюцевичах после того случая ему и присвоили кличку Леший. Но, попав в Черемшицы, где почти ничего не знали о прошлом Лявона, эта кличка, да и сама история с лешим забылись.
И вот теперь дед Лявон не хотел, чтобы все узнали о провале его героической задумки под тайным названием «Леший». Хотя это было и давно, но лишних насмешек деду сейчас не хотелось. А тут ещё этот жулик подбивает его поучать черемшицкую молодёжь, чтобы кто-нибудь тоже не попал в такой казус. И неспроста ведь подбивает! «Всё-таки знает!» – решил Лявон, но сразу признаваться он ни в коем случае не собирался.
Старик хитро прищурился и на намёк наглого переростка Василя ответил как ни в чем не бывало:
– Ну, для того, чтоб нечисть не накинулась, специятельные молитвы и заговоры имеются. Вот их в первую очередь и надо читать.
– Дед Лявон, а говорят, что козни чертей не всех берут. Вот как загодя узнать: насядет на тебя нечистая сила или стороной обойдёт? – поинтересовался кто-то из молодёжи.
Этот вопрос отвлёк и Василя.
– Ну, считается, что цветение папоротника, – скоренько начал дед, чтоб Василь снова не влез со своими намёками, – может убачить человек, заблудившийся в лесу и случайно натолкнувшийся на это чудо. У такого человека не было помыслов добыть заветный цветок, и черти узнают об этом лишь тогда, когда цветок уже найден.
– А правда, что в купальскую ночь колдовство не действует на влюблённых?
– Правда. Так што в паре можете смело гулять даже по лесу, черти вас не тронут, побоятся. Но только чтоб оба любили друг дружку, – ответил дед.
– Так я что, – опять встрял в разговор Василь, – похож на влюблённого? Я ж говорил, что весь лес облазил – и ни цветка, ни чертей. И обоюдной любви у меня нема. Вон Тэклячку всем сердцем люблю, – с трудом сдерживая смех, Василь кивнул головой в сторону самой страшненькой девки, – а она меня – не. Так что ж это выходит: я не подпадаю ни к смелым, ни к влюблённым, а черти меня всё равно не тронули?! Не, дед, тут что-то у тебя не стыкуется.
Все, конечно, понимали, что нигде Василь не лазил, тем более ночью, один и по лесу. Просто он норовил, чтоб всё деду наперекор выходило, в шутку, разумеется, но старого Лявона это всё равно часто раздражало и даже злило.
– Тебя черти по другой причине не тронули, – сказал Лявон.
– Это по какой же? – с бравадой поинтересовался переросток.
– Они своих не трогают.
Все дружно захихикали, не осмеливаясь расхохотаться громко и тем самым заработать тумак в бок. А Василь после некоторой паузы вдруг сам разразился громким смехом и дружески хлопнул Лявона по плечу.
– Ну, молодец, дед! Вот за это и уважаю тебя!
Дед от дружеского хлопка чуть ноги не запрокинул и только раздражённо крякнул. Но, видя и в самом деле дружелюбный настрой Василя, успокоился.
– Деда, так а что с тобой сталось на Купалье? – кто-то из хлопцев вспомнил слова Василя.
– Кали? – пожал дед испуганно плечами.
– Ну в молодости. Василь же только что говорил…
– Ничего я не говорил, – перебил Василь хлопца. – Вернее, выдумал я всё, хотел, чтоб и дед рассказал что-нибудь про этакое.
С этими словами Василь задорно посмотрел на Лявона и даже незаметно подмигнул. Лявон же при очередном упоминании о давнишнем происшествии пережил лёгкую нервозность, но, видя, что неприятных объяснений удалось избежать и, скорее всего, надолго, как-то уж совсем по-другому подумал о Василе: «Ничего хлопец! И собой ничего, и смелы. Вот жениться ему б ещё… чёрту наглому». Но тут его внимание привлёк разговор с другой стороны.
– … в ступах слетаются. И что там творится потом – страх один! Простым людям ничегошеньки неведомо про то!
– Может, на огне жарят кого? – с боязнью в голосе спросил совсем ещё мальчишка, внешне похожий на цыгана.
– Вон пускай про это дед Лявон расскажет, – ответил тот, что говорил перед этим. – Он получше моего знает.
– Это вы про што сказ ведёте? – поинтересовался Лявон, хотя уже и сам догадался, о чём шла речь.
– Ну, говорят же, что в ночь на Купалу ведьмы по небу в ступах и с мётлами летают. А ти правда это?
– Так не одним же вам беситься в эту ночку! – загоготал Василь. – Всем повеселиться хочется!
– Есть и такое дело, – подтвердил Лявон.
В поверьях многих народов также отмечается, что в купальскую ночь с особым размахом гуляют ведьмы и колдуны. Именно в эту ночь у них проходит шабаш на Лысой горе. Вволю побесновавшись на такой колдовской сходке, все разлетаются потом на дело.
Больше всего от их козней достаётся домашней скотине. Крестьяне издавна замечали, что после Купалья у некоторых коров пропадало молоко, свиньи начинали болеть. Если наутро у лошади обнаруживали спутанный хвост или гриву, этот конь в хозяйстве уже не помощник. Крестьяне верили, что на такой лошади всю ночь скакала ведьма, русалка или же сам черт.
Но всё же колдовству чаще подвергались кормилицы семей – коровы. По утверждению знающих селян и знахарей, ведьмы и колдуны в этом особенно изощрены. В заговорах на молоко они часто используют рушники, смоченные в вечерней росе. Таская полотна по росистой траве, ведьмы обязательно приговаривают примерно такие слова:
Как вбирается роса в полотно, Так пропадает у коровы молоко. Зрькой зовут ту корову, Да учует Зорька мою замову[37]!После этого ведьме нужно пробраться в хлев и выжать из рушника капли росы в емкость, из которой поят корову. Если таковой емкости нет, то обрызгивают всё, что может съесть корова: сено, траву, бураки.
Селяне, зная примерный ритуал заговоров, издревле придерживаются некоторых обрядов и действий по оберегу своей живности. С вечера перед Купалой затыкают щели в хлевах крапивой, сосновыми ветками или другими колючими растениями; рисуют угольками на дверях и углах хлевов кресты; возле дверей вешают венки, освященные в церкви. Некоторые для пущей надёжности даже вымазывают хвост и лоб животных дёгтем.
Всё это дед Лявон сейчас рассказывал у костра, с удовольствием отмечая немалую долю страха в глазах слушателей.
– Ни разу не бачив, чтоб батька или дед выковзали корову в дёготь! – заявил всё тот же Василь.
– Ну, так почти никто ж и ведьм в ступах на небе не бачив, а они ж летают!
– твердил своё Лявон.
– Неправда! – вдруг из темноты раздался резкий девичий голос, заставивший всех вздрогнуть. Все обернулись и от неожиданности замерли в напряжении.
Из ночного сумрака выплывала тень.
Через мгновение в свете костра появилась Марылька, а за ней и Прохор.
– Фу, напугали только!
– Так и заикой можно стать, – переводя дух, все облегчённо вздыхали.
– А мы уж думали, что вас сегодня не буде, – сказал Игнат, ещё крепче обняв свою подружку. – И даже Любаша вас не нашла.
– Да я только к Марыльке и забегала, – уточнила Любаша.
– Да так, дела кое-какие были, – ответил Прохор и с задорным блеском глаз, улыбнулся Марыльке.
А Марылька, взволнованная разговорами о ведьмах, пребывала в странном безмолвии и как-то уж слишком хмурилась. Со стороны можно было даже подумать, будто это её саму уличили в чём-то неблаговидном. Что сейчас было в мыслях Марыльки – никто не мог сказать, а вот понять её теперешнее состояние, конечно, можно. Кому, как не ей пришлось сполна познать трагические последствия ведьмовского колдовства.
– Хорёк, – грубо обратился Василь к самому невзрачному хлопцу, – ну-ка брысь с места! И ты, Лёшка, тоже! Дайте людям сесть!
– Да нехай сидят! – попробовал было вступиться за пареньков Прохор.
– Пущай уже постоят, и так целый вечер портки тут протирали. Хорьку вон расти да расти надобно, а то если будет много сидеть, тогда так и останется: коню – по стремя, козе – по вымя! Гы-гы-гы, – довольно заржал Василь, безмерно обрадованный наконец-то и ему удавшейся остроте, хотя немного и туповатой.
Все тоже смеялись, и один только насупившийся Хорёк почему-то не разделял общего веселья. Да и веселье-то это было каким-то неестественным, ибо смеялись все не столько из-за Василёвой шутки, сколько душа уже просила разрядки. Тяжеловато человеку долгое время быть в напряжении от рассказываемых страшилок. Оно-то хоть и больно интересно, но всё же…
И начался у костра разрастаться оживлённый гомон. Уже и девки начали повизгивать от жадной шалости рук хлопцев. И за этим расслаблением молодёжь забыла о возгласе Марыльки. На время была оставлена и тема Купалья.
Дед Лявон, видя, что его миссия, кажись, уже выполнена, с некоторой неохотой встал и, немного по-стариковски покряхтев, собирался было уже попрощаться с молодёжью.
– Дед, а куда это ты собрался? – первый спохватился Василь.
– Час уже поздний, пора и на боковую. Да и Гарпина там небось уже беспокоится: потянулся старый за молодыми да и пропал.
– А что, дед, давай подберём тебе русалку, гы-гы-гы, Вон их сколько у нас!
– опять заржал Василь и задорно кивнул головой в сторону девок.
– Ето вам, молодым, такие русалки надобны, а по мне, старому, уже настоящие русалки скучают, на том свете небось ждут не дождутся, – как всегда, бодро о грустном ответил старик.
– О, дедуля, а чем русалки на Купалье занимаются? – услышав разговор о русалках, опять вернулась к теме Купалья одна из девчат. – Или это сказки всё про русалок?
Лявон потоптался чуть в нерешительности и как-то очень уж серьёзно ответил:
– Да и это не сказки. Где, как не на нашем Полесье, русалкам-то водиться? Вона сколько вокруг воды да болот. Люди тут бывает топятся, а потом в гости на этот свет приходят в образе русалок. Вот оно как.
– Так что, русалки когда-то людьми были? – спросила совсем молоденькая девушка.
– А ты что, не знала? – удивился Игнат «непросвещённости» молоденькой односельчанки.
– Не…
– Дед Лявон, – обратился к старику Василь, – расскажи-ка этой темноте о русалках, да и мы заодно послухаем.
– Ну, так и быть: еще трошки задержусь, – согласился старик, и по его виду было видно, что ему одному и уходить-то не хотелось.
– И еще, дед… ежели надумаешь сейчас идти, то я тебя проведу хотя бы до первых хат. Всё тебе веселее будет.
Вот этого-то и не ожидал старик от задиристого Василя. Он на некоторое время аж растерялся, не зная, что и сказать. Выходит, он плохо знал выросшего на его глазах хлопца. «Что ж, не серчай на деда, что часом недобро чаял о тебе, – с необыкновенной благодарностью подумал Лявон, а вслух сказал лишь:
– Канешне, вдвоем-то веселей… Вон ночка теменью как налилась. И туман…
В поверьях полешуков бытует ещё и такое представление, что в Купальскую ночь просыпаются души усопших, особенно утопленников. Истосковавшись по земной жизни, души превращаются в русалок и при лунном свете с наслаждением купаются в чистой как слеза росе. А чтобы никто из людей не увидел такого чудного явления, они напускают густой туман в местах своих купаний.
Это и ещё много чего другого рассказывал дед Лявон о русалках. А меж тем время уже и в самом деле стало позднее. Тут уж не только ему, а и всем настала пора идти домой. И рассказчик в заключение своих повествований сказал:
– Ну, вот и о русалках всё, что знал, поведал вам. А теперь уж давайте все вместе и по хатам расходиться.
Резонно согласившись, все дружно зашевелились, начали вставать. И вдруг опять раздался голос Марыльки:
– Про русалок, может, всё и так… а вот о ведьмах – выдумки одни.
Молодёжь удивлённо переглядывалась, но спорить с Марылькой и что-то доказывать никто не стал. Ведь о ведьмах все знали в основном со слов других, а вот наяву схлестнуться с колдуньей пришлось только Марылькиной семье. И, видимо, Марылька больше других разузнала о Химе.
«Уж не собирается ли часом девка с Химой поквитаться?! Эх, глупая, не под силу тебе тягаться с этой ведьмой! Как бы следом за батькой не пошла…» – примерно такое подумали сейчас многие из молодёжи. И лишь некоторые домыслили дальше: «Ну, хотя если в паре с Прохором… то всяко может статься!»
Глава 16
Настал Иванов день – день летнего солнцестояния.
Для Черемшицкой молодёжи Купалье – один из самых любимых обрядовых праздников. За околицей на специально выбранном месте у реки, которое в народе называют Горищем, хлопцы заранее заготовили валежник для огромного купальского костра, соорудили соломенное чучело злой ведьмы, которое потом будет сожжено в ходе проведения ритуала. Девчата уже сплели венки из полевых цветов для себя и для парней, и каждая старалась, чтобы ее венок был самым красивым.
И вот все подготовительные мероприятия позади. Все с нетерпением ждали урочного часа.
Купальское празднование начиналось, когда время перевалит далеко за полдень. А наиболее интересные события происходили только с наступлением сумерек.
Устав за самый долгий летний день, утомлённое солнце начало сдавать свои позиции. На землю мягкой поступью осторожно крался тёплый сумрак. Смелея с каждой минутой, он обретал уверенность и сгущался, укрывая землю тёмным бархатом. Никто не знал, что он сегодня скроет от глаз людских, а перед чем рассеется, чтобы навести изумление, радость или ужас. В любом случае лишь в сегодняшнюю ночь лунный полумрак с особой фантазией будет придавать всему самые разные причудливые формы: таинственные, сказочные и пугающие. Всё зависит от людского воображения, уже заранее настроившегося на возможность встречи с различными чудесами и невидалью именно в эту ночь. Мнительным людям в каждом сгустке темноты будет мерещиться какая-нибудь нечисть. Кто посмелее – могут увидеть что-то завораживающее, чудесное. А может статься и наоборот. В ночь на Купалу всякое случается…
К месту Купальских игрищ начала стекаться молодёжь. Шли маленькими кучками и большими ватагами, и отовсюду раздавались громкие разговоры, смех, озорные крики да посвисты. Группа девчат, ещё в дороге поддавшись праздничному настроению, завела зычную песню.
Совсем завечерело.
Прохор с Марылькой шли позже всех и почти последние. Обнявшись, они часто заглядывали друг другу в глаза, где светилась зародившаяся любовь. Их сердца ликовали и от этого чувства, и от всеобще-праздничного настроения, и от ожидания ярких впечатлений в сегодняшний вечер.
Впереди шли Игнат с Любкой. Любаша то и дело озорно вскрикивала, и тут же в сумраке слышался сочный шлепок по широкой спине Игната.
– За что?! Так ведь и убить можно! – притворно возмущался он.
– А нечего руки распускать!
– Вот девка! С неё комаров сгоняй, делай как лучше, так вместо благодарности – тумак в плечи. Ох, и тяпнет, Любка, кто-то горя с тобой, ей-богу.
– Поспешать надобно! Великий Купалец[38] давно уж горит! – первой, глядя с восторгом на огромное пламя вдали, сказала Марылька.
– Ага, поспешаем. Попробуй Любашу подгони. Она ж как стемнело, так меня всю дорогу и норовит в сторону подальше от всех затянуть, – опять в Любкин адрес раздалась подковырка.
– Ах ты, черт чубатый! Я вот тебе сейчас…
И опять вместо последних слов раздался звук сочной затрещины.
Любка хоть и не рослая девка, но рука у неё крепкая. После каждого такого ответа на Игнатовы колкости спина у хлопца горела огнём.
– Хватит вам чубить друг дружку. Айда быстрее к костру, а то многое прозеваем, – сказал Прохор и ускорил шаг, увлекая за собой и Марыльку.
Обогнав «непримиримую» парочку, Прохор услышал сзади слова Игната:
– Кто кого чубит, тот того и любит.
В ответ на эти слова Любаша взвизгнула и довольно захихикала. Видимо, своё высказывание Игнат подкрепил ещё и каким-то действом.
– Вы уж хоть не заблудите! В сегодняшнюю ночку-то не мудрено и такому приключиться, – задорно бросил Прохор отставшей парочке.
Купальский костёр пылал в полную силу. Огромные языки пламени рвались ввысь и заставляли людей отступать подальше от возрастающего жара. Вокруг зрелищного огня образовалось ровное людское кольцо. Все завороженно смотрели на буйные сполохи. Яркие искры взвивались высоко в тёмное небо, и казалось, что они пытаются долететь до далёких звёзд, чтобы стать такими же красивыми, недосягаемыми и вечными. Но, оторвавшись от породившего их пламени, они тут же угасали вместе с несбыточной мечтой.
И вот девчата завели обрядовую песню в честь Купалы. Сначала недружно, как будто пробуя свои голоса, но с каждой песенной строкой, с каждым столбцом песня крепла и настраивалась на нужный лад:
Гори, гори пламя Лети к звёздам ввысь. Ты, Купала, будь с нами, А от ведьм отвернись!Песню подхватили почти все присутствующие и, взявшись за руки, пошли вокруг костра. И поплыл хоровод юных дев в венках да парней в холщовых рубахах. И поплыла над Полесским краем колоритная песня. Щемило в груди от её искренности и душевности. В такие мгновения селяне забывали на время о своей доле тяжкой, о частом голоде и труде непосильном.
Много песен ещё было спето. Но вот звонкие голоса и заливистый смех известили о том, что подоспело время забав и игрищ.
Парни начали состязаться в силе и ловкости, норовя повалить соперника с ног. Под дружное хлопанье в ладоши, улюлюканье и подбадривающий свист, они кряхтели, напряженно ухали и старались изо всех сил. Никто не хотел быть побеждённым. Ведь победителя ожидала награда – венок из рук красивой девушки, а главное, её поцелуй. Венки как награды сплели заранее, а вот кто будет их вручать и целовать победителей, выбирали по жребию. И выходило так, что для каждого турнира была своя королева.
Как ни старались заводилы и атаманы местной молодёжи, доказывая свою молодецкую удаль и сноровку, а в победители всё равно выходил Ефимка – скромный и застенчивый хлопец. Никто не смог повалить этого тихоню. Если сказать, что Ефимка рослый хлопец, значит, ничего не сказать. У этой детины ростом под три аршина[39] в плечах точно уж теснилась «косая сажень» и весил победитель никак не меньше восьми пудов. Попробуй, сверни такую глыбу!
Широко расставив ноги и шумно сопя, Ефимка стоял в свете костра и виновато улыбался. Стесняясь в общении с девчатами своего чересчур богатырского телосложения, сейчас он с тихой гордостью наслаждался триумфом. Охотники померяться с ним силой иссякли. Из толпы раздавались лишь подстрекательские реплики:
– Василь, иди ещё раз попробуй! У тебя ж ещё правая рука не вывернута!
– Вот сам бы и попробовал! Тебе-то уж точно Ефимка не то что руки, а и ноги повыдёргивает! Да ещё и язык дедуном[40] наколет! – выкрикнул в ответ Василь, потирая левую, потянутую в мышцах руку.
– Вот, Хорёк намерен уложить Ефимку! – раздалось с другой стороны.
И в подтверждение этих слов из толпы кто-то вытолкнул мелкого и совсем щуплого паренька. Раздался дружный хохот. Хорёк, очутившись в центре всеобщего внимания, да ещё и насмешливого, резко крутанул назад и юркнул обратно в толпу.
– Раз желающих больше нет, победителем становится славный богатырь Ефимка Кобзарь, – торжественно объявил выбранный старшина праздника.
– А награду ему по решению купальского совета и воле божьей выпало вручать Марыле Логиновой!
К этому времени боль от потери отца у Марыльки притупилась, и она уже чувствовала себя среди сверстников, как и раньше.
Присутствующие одобряюще дружно захлопали в ладоши и опять раздались весёлые реплики:
– Ух Ефимке повезло! Сейчас будет целоваться с самой красивой девкой!
– Ага! Надо глядеть в оба, а то вскинет Марыльку на плечо и даст дёру – такого дудки остановим!
Все разом притихли, когда в центр гордо вышла Марылька. Стройная и красивая, девушка обошла вокруг костра, торжественно неся на вытянутых руках венок из полевых цветов. Сделав круг почёта, она величаво направилась к победителю состязания. Шумная толпа замерла, с огромным интересом наблюдая за представлением и по-белому завидуя главным героям происходящего.
Марылька приблизилась к смущенному, но радостному Ефимке. Глянув на него снизу вверх, она вдруг не сдержалась и прыснула со смеху. До неё вдруг дошло: чтобы достать до Ефимкиной макушки, ей придётся хорошенько подпрыгнуть. Это будет выглядеть более чем забавно! С трудом сохраняя важный вид, она всё же сообразила и торжественно произнесла:
– Стань на колено, доблестный витязь! Преклони буйну голову для принятия награды из рук достойной панночки. Пусть твоя сила и доблесть будут примером для других. Ты честно заслужил эту награду!
Растроганный такой речью, Ефимка бухнулся перед девушкой сразу на оба колена, да ещё и свою лохматую макушку выставил. Марылька торжественно опустила венок на покорную голову. Получилось всё очень красиво и трогательно. Теперь все с нетерпением ожидали главного момента. По неписаному правилу Ефимка сейчас должен поцеловать Марыльку. Это и был самый ценный приз победителю. Но Ефимка встал и застенчиво топтался с ноги на ногу. Вот если бы рядом никого не было, тогда он, может быть, и решился бы, а тут столько глаз. И все на него смотрят. А Марылька такая красивая! Ух, как страшно!
Видя замешательство хлопца, Марылька, вопреки ожиданиям окружающих, всё же смешно подпрыгнула и сама чмокнула его в щеку. Одарив стеснительного победителя, девушка собралась было уже идти к Прохору. Но толпа, разгадав хитрость Марыльки, вдруг дружно запротестовала:
– Так не пойдёт!
– Ефимка, не робей! Прижми как след девку!
– Марылька, отдай хлопцу должное!
Поняв, что её просто так не отпустят, Марылька опять подошла к совсем оробевшему богатырю. Видя нерешительность Ефимки, она весело сказала:
– Ну, целуй скорее! – и тихонько сама себе добавила: – Увалень лохматый.
Наконец, собравшись с духом и глянув украдкой на Прохора, «доблестный рыцарь» робко и неумело прижался к девичьим губам. Вокруг поднялся невообразимый одобрительный гам. Со всех сторон опять понеслись советы и наставления:
– В засос её!
– Прижми покрепче!
– Ага! Как Василя намедни!
Как бы то ни было, но все остались довольны, и праздник продолжался.
Вокруг костра стоял невероятный шум. Собравшийся люд всё больше утопал в бушующем море эмоций. Массовое гулянье набирало силу. Общее веселье заражало азартом даже самых робких и стеснительных, пришедших лишь поглазеть на более бойких и шустрых. Теряясь в общей массе, они тоже принимали участие во многих потехах и забавах.
Вот началась очередная игра. Взявшись за руки, молодежь образовала круг, в котором несколько парней с завязанными глазами ловили девчат. И опять же наградой был поцелуй. Кто кого поймал, тот того и целует, а зрители строго следили, чтобы у некоторых пар не было поддавков. Особо у толпы вызывало смех и поток подковырок, когда хлопцы с завязанными глазами ловили друг друга. По всеобщему требованию и для соблюдения условий игры они всё же чмокали один одного в щеки и бросались охотиться дальше за более привлекательной «добычей».
Когда языки пламени заметно уменьшились, хлопцы начали делать попытки перепрыгнуть через костёр. Это было обязательным ритуалом на купальском празднике. Считалось, что, прыгая в эту ночь сквозь огонь, человек очищался от скверны и оставлял в нём массу всего отрицательного: зависть, сглаз, злобу и даже порчу.
Кострище было довольно большое, и некоторые смельчаки, рискнув прыгнуть через самую середину, часто приземлялись на уголья.
– О! Гляньте, Хорек всё ж отличился! Во попёр к речке, аж пятки сверкают!
– раздался громкий выкрик.
Взрыв хохота и улюлюканья неслись вслед бегущему к воде пареньку, у которого и в самом деле искрила загоревшаяся онуча.
Но вот подошла очередь и до девчат. Тут у молодёжи особые правила. Сначала девчата собирались в кружок, что-то обсуждали, кумились, поглядывали по сторонам, выбирая себе пару. Потом, растворившись в толпе, каждая девушка старалась незаметно подойти к выбранному парню сзади и украдкой хлопнув его по плечу, убежать. Парень должен её догнать и привести к костру. Взявшись за руки, они вместе перепрыгивали через огонь. Если руки не разъединились, пара состоялась.
Прохор без труда настиг Марыльку.
– Готова пройти испытание огнём?
– Если с тобой, то да! – с радостью кивнула головой девушка.
Крепко взявшись за руки, они стояли перед очищающим пламенем.
А в это время издали, из темноты, за ними неотрывно следили глаза. Пристальный взгляд никого больше не замечал, кроме этой броской пары.
– Ну, чего ждёте?! – весело поторопил Игнат. – Мы с Любкой уже трижды перепрыгнули бы.
Прохор глянул на Марыльку, и они, одновременно сделав несколько шагов разбега, прыгнули сквозь пламя. Стараясь преодолеть преграду, парень слишком сильно оттолкнулся, а Марылька чуть замешкалась, и при приземлении их руки разъединились…
– Всё, Прохор, на сегодня Марылька, ей-богу, достанется Ефимке. Он-то точно её не выпустит из своих рук-граблей, – хохоча, не унимался Игнат.
– Давай, давай, сам попробуй! Ты-то уж точно Любашу в самый жар посадишь, – беззлобно огрызнулся расстроенный Прохор.
А глаза в темноте удовлетворенно прищурились. Пока именно это они и жаждали увидеть. Что ж, это только маленькое начало!
Время летело незаметно. Вот уж и кострище выдохлось. Многие из прыгунов с грустью посматривали то на угасающие угли, то на прогоревшие онучи и лапти, а то и на портки. Особо озорные задумчиво теребили пальцами подсмаленные на огне кончики сбившихся кудрей.
На славу порезвились хлопцы и девки у купальского костра. Отвели душу беззаботной весёлостью. Лишь перед рассветом убавилось оживление у затухающего Купальца.
Незаметно пролетела летняя ночка; чуть только в предрассветный час начала темень сереть, потянулись девчата к реке-вестнице. Настала пора бросать на воду венки, загадывая заветные желания. И над предрассветным туманным Полесьем вместе с тёмной водой плыла и тихая песня-замова:
Ой, веночек свой кину Да на речную волну. Пусть укажет мне долю, Ой, судьбину мою.С затаённым дыханием бросали девчата свои венки на воду. Несло течение реки-судьбы эти венки, и каждому из них было предначертано своё: одни в непроглядную даль уносило, другие к берегу прибивало, а некоторые и вовсе ко дну шли… А девчата, наблюдая за участью своих венков, старались истолковать, что их самих ждёт в ближайшем будущем. И каждой хотелось увидеть добрый знак.
Подхватила тёмная вода и Марылькин венок, закружила странно над самым омутом.
– Далеко кинула, – успокаивающе сказала Любаша.
– Ничего, главное, чтоб не утонул, – голос Марильки звучал бодро, но глаза с тревогой наблюдали за водной гладью, быстро затягивающейся туманным сумраком.
– Вырвался! Поплыл! Вон и опередил уже которых! – радуясь за подружку, взбудоражено шептала Любаша.
Как ни всматривалась в густеющий туман Марылька, но так ничего сама и не разглядела…
– А мой где-то в чароте застрял. Ну и леший с ним, – не падала духом бесшабашная Любаша.
– Ну что, может, домой пойдём? Вон уж светает как быстро, – расстроившись из-за венка, упавшим голосом проронила Марылька.
– Ага, сейчас же! А кто нас шукать должен, забыла? Пошли к дубраве – пущай побегают, пошукают.
– А они найдут нас там?
– Найдут. Всё уговорено. Рассвет надо встречать в паре со своим любым.
Одним из интереснейших обычаев в окончании купальского праздника являлось отыскание парнем своей девушки. В народном поверье говорится, что после ритуала с бросанием венков на воду, девушка должна затаиться где-нибудь в укромном месте и мысленно произносить имя любимого парня. А парень, отправившись на поиски своей возлюбленной, должен тоже непрерывно думать о ней. Люди уверяют, что влюблённые обязательно услышат зов своих сердец и найдут друг дружку. Но это фольклор так гласит, а в жизни всё прозаичнее и проще.
Черемшицкие хлопцы и девчата заранее обуславливали место встречи. Да не в одиночку девчата «прятались», а вдвоём иль втроём. Одной-то жуть как страшно в купальскую ночь, когда колдуны да ведьмы беснуются.
Опустел берег речки. Разбрелись девчата по разным сторонам: кто к месту встречи с любым своим, а кто, не имея кавалера, домой.
У затухающего кострища спешно докуривали самокрутки старшие хлопцы. Это им предстояло сейчас отправиться на поиски своих подруг, чтобы вместе встретить чарующий рассвет.
– Ну что, хлопцы, айда шукать русалок своих! А то как бы нас какой леший не опередил! – весело призвал Игнат.
– Да пора уж. Светает… Заря вот-вот займётся, – согласились остальные.
– И времени вдоволь прошло. Не то что венки на речку пустить, а и самим можно искупнуться.
– Ага, сидели б мы тут, кабы девки там купались, – попробовал кто-то пошутить, что вызвало лишь слабые улыбки.
Вот и прошла Купальская ночка, оставив хлопцам массу ярких впечатлений, немного усталости от веселья и много грусти, что всё уже заканчивается.
Неспешно расходились парубки по два-три человека в разные направления, и все знали, куда им надо идти и где, и кого искать.
– А Любаша точно сказала, что в Дубраве будут ждать? – впервые участвуя в таком обряде, уж в который раз переспросил товарища Прохор.
– Ага, – в ответ кивнул головой Игнат.
– Да-а, там есть, где укрыться…
– Не переживай, найдём! Так принято, чтоб хлопцы хотя бы трошки, для виду, пошукали девок своих.
– Да я и не переживаю, просто там вокруг столько зарослей, что и днём можно затеряться…
– Это Любаша моя… помучить нас вздумала. Вот девка! Огонь, а не Любка, – ухмыльнулся Игнат.
– Так что, выходит, мы сейчас опять будем гоняться по кустам за девками?
– Ха, размечтался! Девки как раз и не будут убегать. Они затаятся в укромном местечке, да с удовольствием будут наблюдать, как два дурня по росистых кустах тропки прокладывают.
– Попридумывали вы тут…
– Да не бойся ты. Это так, для порядку. Они и сами в схроне долго не высидят.
– Ну, для порядку так для порядку. Вот и Дубрава.
Дубравой черемшинцы называли небольшую рощу из полутора десятка могучих дубов, окружённых буйными зарослями черёмухи. Место было очень красивое и романтичное. Если бы роща находилась поближе к селу, да стояла повыше, то молодёжь обязательно облюбовала бы её для своих посиделок.
– Так, у дубов они вряд ли будут, – окинув взглядом лесной сумрак, решительно высказал Игнат. – Скорее всего, затаились где-то на окраине, в зарослях. Ты пройди с этой стороны, – Игнат махнул рукой влево, – а я – с этой.
– Ага. Так скорее будет.
– Кто первый найдёт «сокровище», тот и загадает своё желание для других, – предложил на спор Игнат.
– Согласен.
– Тогда вперёд!
Предрассветные сумерки с явной неохотой уступали место зарождающейся заре. Цепляясь за кроны деревьев и кустарниковую листву, туманный полумрак всё ещё удерживался в лесу.
Сделав с десяток шагов, Прохор даже немного разочаровался: не успев начать поиск, он тут же обнаружил девчат. Сквозь тёмные листья зарослей зоркий охотничий взгляд сразу заметил белеющее пятно девичьей рубахи. Парень хотел было уже окликнуть дружка, но передумал и вплотную тихонько приблизился к веткам, скрывающим девчат. Возможно, они не заметили его приближения, ведь он по привычке двигался осторожно и без лишнего шума – как на охоте.
Прохор замер, прислушиваясь к тишине. Марылька с Любашей тоже затаились. Укрытые густой листвой, они находились в каких-то двух-трёх аршинах от хлопца: протяни руку, и можно было бы достать кого-то из них.
И у Прохора вдруг разгорелся азарт сродни охотничьему: ему нестерпимо захотелось застать девчат врасплох и удивить их своим внезапным появлением. Пусть они при этом даже маленько испугаются да повизжат. Так на то ж и купальская ночь!
Осторожно, чтобы преждевременно не выдать себя, Прохор намерился раздвинуть ветки и взглянуть на подружек. Интересно, кто будет ближе: Марылька или Любаша. Если Любаша, то он обязательно дёрнет её за косу и напугает в отместку за норовистый характер.
Ветки бесшумно расходились, давая лазейку взору. Ещё чуть-чуть и… Прохор опешил под пристальным взглядом незнакомых глаз, в упор глядевших на него. От такой неожиданности парень сам растерялся, и даже внутри всё ёкнуло. Он смотрел в лучисто-серые глаза напротив, не в силах что-либо сказать. Так длилось несколько долгих мгновений. Наконец первое оцепенение начало проходить. Прохор продолжал смотреть в глаза незнакомки, но уже более осмысленно.
В первые мгновения парню подумалось, что это русалка. Только у русалки мог быть такой загадочный и в то же время прекрасный образ. Но тут ему вдруг врезалась в глаза нервно-пульсирующая жилка на изящной шее. Именно эта мелочь успокоила его и внушила, что угрозы никакой нет. Это была не русалка, не ведьма и тем более не какой-нибудь нечистый дух. Но всё же это видение было чудно и странно…
Незнакомка не отрываясь, во все глаза тоже глядела на Прохора. На её голове красовался венок из необыкновенных и редких цветов. Да и сама она выглядела необычно, а её красивый венок и вовсе словно заворожил Прохора. У него даже мелькнула догадка: «Не успела на воду кинуть. А может, сберегла для кого?»
Словно угадав его мысли, девушка медленно сняла венок и, выйдя из укрытия, надела своё украшение на голову Прохора. Не ожидая такого поведения незнакомки, парень и вовсе оторопел. Слишком уж уверенно она себя вела в таком месте, в такой час и с незнакомым хлопцем.
Чем больше Прохор смотрел не девушку, тем дальше он отделялся от реальности. В девичьих глазах искрилась какая-то таинственность и в то же время жажда обыкновенного земного счастья.
Неизвестно сколько бы ещё продолжалось такое молчаливое лицезрение, но тут раздался зов Игната. Прохор словно очнулся от наваждения. Но никакого наваждения и не было – перед ним стояла всё та же прекрасная незнакомка.
Услышав приближающиеся голоса, девушка тоже словно очнулась. Она вздрогнула, на лице мелькнула резкая тень смятения. Как будто спохватившись и сожалея об опрометчивом поступке, незнакомка прямо-таки сорвала обратно свой венок. Какое-то растение из венка, запутавшись в волосах, больно дёрнуло их…
Странно улыбнувшись на прощание, призрачная нимфа развернулась и безмолвно скрылась в сером сумраке.
Прохор тоже не проронил ни слова. Он продолжал молча стоять, озадаченно глядя вслед исчезнувшей лесной красавице. Кто она?! Для кого пряталась тут?! Видимо, он ещё не со всеми знаком!
Опять раздался зов Игната. Совсем рядом послышались и девичьи голоса. Прохор, окончательно опомнившись и перекрестившись, неуверенно решил, что ему всё померещилось, и виновата в этом всё та же купальская ночь. Но в душе полной убеждённости в этом не было. Ещё раз, на всякий случай, перекрестившись и буркнув себе под нос: «Ну, Купала, ну удивил! И надо же такому привидеться!», Прохор быстро пошел навстречу голосам.
– Ты куда это запропастился? – громко и радостно спросил Игнат, ведя за собой «драгоценную находку».
– Да вот… чуть не заплутал, – выйдя навстречу, сказал Прохор первое, что пришло в голову.
– А ещё охотник! Или может, другую дичь выискивал тут?! Ну-ка признавайся! – в шутку набросилась Марылька. Ей очень хотелось, чтобы первым их нашёл её Прохор.
А Прохор не захотел посвящать друзей в своё приключение – всё равно не поверят, зато подковырок да шуток по этому поводу точно не оберёшься. Да и сам он уже окончательно склонялся к тому, что ему всё почудилось. Вон, глянь кругом: в туманном полумраке каждый куст напоминает какую-нибудь диковинную тварь, всяко ведь может померещиться…
Возвращаясь вчетвером назад на окраину дубравы, чтобы полюбоваться необыкновенным зрелищем утренней зари, Прохор украдкой бросил взгляд на то место, где несколько минут назад стоял как завороженный. Ничего странного: кругом всё те же заросли, кусты черёмухи. И, уже отводя мимолётный взор, он замер: на одной из веток, покачиваясь, висел удивительный венок из необычных и красивых цветов…
Глава 17
– Ну, вот и добре, – удовлетворенно выдохнула старуха, выслушав купальскую историю дочери. – На кровушке оно, конечно, надежнее было бы, ну да ничего, на чуприне с макушки тоже знатно выйдет.
– Ой, он даже и сообразить не успел! Всё глаза таращил, небось думал, что мерещится. Пока стоял как истукан, я и сбежала, а в руке целый клок волос прихватила! Ух, как волновалась!
Восторгу Янинки не было предела. Ночное приключение полностью вернуло ей интерес к жизни. Она непомерно была довольна собой. Ещё бы! Так ловко всё придумать и исполнить, напустить таинственности и загадочности. Да ещё и в купальскую ночь. А главное, с кем она это проделала!
То, что у Янинки так легко всё получилось, вселило в неё уверенность в правильности принятого решения. И то, что она по своему желанию, просто и без всяких затруднений оказалась рядом со своим возлюбленным, подтверждало слова матери, что счастье на блюдечке никто не поднесёт, а для обретения его надо и самой прилагать какие-то усилия.
Серафима тоже пребывала в добром расположении духа. Она с радостью отметила, что первое испытание, вопреки её ожиданиям, пробудило у дочки настоящий интерес к колдовству.
– Теперь можно и за дело браться. У нас уже есть всё, что нужно. Можешь вечерком и приступать, – сказала старуха, весьма довольная удачным началом.
– Не-еа, мам. Подожду чуточку. Пусть луна силу полную наберёт. Чтоб наверняка уж…
Серафима бросила на Янину удивлённый взгляд. Она сама как-то и не подумала об этом, совсем на радостях упустила из виду такое важное условие. Ну, ничего. Зато старухе здорово льстило, что у дочки настоящее ведьмовское чутьё. «Да-а, эта шельма многого добьётся! На лету всё схватывает!» – подумала она и согласилась:
– Твоя правда, пусть буде так.
Выбор времени играет немалую роль для всякого рода колдовства. От этого во многом зависит сила и точность заклятий, предсказаний и прочих колдовских деяний. Настоящие ведьмы и колдуны для достижения наибольшего эффекта выбирают в своем промысле лишь определённые дни и определённое время суток. Как и крестьяне в своих трудах, чернокнижники тоже строго блюдут лунный календарь. Ведь на многие жизненные ритмы особенное влияние оказывает состояние луны. Но и кроме этого существует немало обстоятельств и условий, от которых зависит результат колдовства. Только несведущий шарлатан может приняться за бормотание заклятий при отвлекающих звуках, шуме, ярком дневном свете и внутренней неуверенности.
Величаво взойдя на трон звездного царства, круглоликая луна со строгостью взирала на свои владения. Тревоги ничто не вызывало. На ночном небосводе в, казалось бы, хаотичной и беспорядочной россыпи неисчислимых звёзд на самом деле царил безупречный порядок. И лишь обратив свой взор на огромную Землю, лик ночного светила ещё сильнее бледнел: Земля всё больше и больше погрязала в грехах. И особенно омрачался царственный взор от прикованных к ней в полнолуние алчных глаз всякой нечисти. Заполонив красавицу Землю, упыри, оборотни, колдуны и прочая рать сатаны жадно устремляла в это время свои хищные взоры в ночное небо. Что надобно им от царицы ночи? Почему беснуются и творят зло на Земле, когда в небе полная власть луны? Полной луны!
Янинка стояла на окраине опушки и зачарованно любовалась мерцающим небосводом. Сегодня она впервые смотрела на ночное небо с особым интересом. Загадочная полуулыбка застыла на её лице. «Вот теперь пора», – медленно прошептала девушка. В её искристых глазах отражался мертвенно-бледный лунный диск.
К привороту всё было подготовлено заранее. Янинка настояла на том, чтобы сделать не просто приворот, а целый колдовской ритуал, который очень редко используется по причине его сложности.
Поведав об этом сильнейшем привороте, Хима и не думала, что Янинка решится его делать. «Что ж, нехай пробует!» – решила старуха и не стала перечить такому рвению дочки. А вскоре она уже давала лишь незначительные советы начинающей ведьме.
Сумрак и дым курившихся трав не могли скрыть изящества обнаженной фигуры юной девушки. А она, быстро забыв о робком первоначальном стыде из-за своей наготы, увлечённо и уверенно водила ладонями над локоном волос своего возлюбленного, и губы неустанно шептали странные слова: «В ночь звёздную, в ночь лунную выйду я в поле чистое; а в том поле чистом стоит дуб кряжистый, и на том дубе кряжистом живет бес бесчинный. И кланяюсь бесу я в ноги пониже, и прошу сослужить мне службу тайную, как служил царю Ироду. Покинь дуб свой кряжистый и лети в свет белый чистый, собери тоску чёрную, собери сушь смертную от людей, от зверей, от птиц да рыб…».
Войдя в колдовской транс, Янинка полностью отрешилась от реального мира. Она витала уже совершенно в другом соизмерении. Вот тело её парит над полем, а вот и могучий дуб. Янинка падает на колени и просит помочь ей. Но того, к кому обращены её просьбы, девушка не видит: неведомая сила не даёт поднять взор. Но это Янинке и не надобно. Она сосредоточена на заветных словах: «…и отнеси тоску черную да сушь смертную парубку Прохору – рабу Божьему. Брось в глаза его ясные, в брови черные, в лицо красивое, в сердце ретивое. Пусть тоска по мне в нем поселится, в горячей крови по всем жилам разделится, чтоб ни жить, ни быть без меня не мог…»
Долго ещё Янинка продолжала да повторяла слова заветные. Далеко за полночь её первое колдовское действо подошло к завершению.
Где-то над болотом раскатисто заухал филин. Девушка встрепенулась и непонимающе начала оглядываться вокруг. На время проведения приворота она как бы выпала из реальной жизни. А когда наконец вернулась в мир земной, усталость почувствовала страшную: лоб в испарине, в голове шум стоит, из-под мышек холодными каплями струится пот. И слабость… Янинка чувствовала себя настолько скверно, словно из неё выжали все соки.
– Фу-у, сил нет совсем… – тяжело вздохнув, еле слышно проронила молодая ведьма.
– Ничего, это от усердия чрезмерного, – проскрипела старуха и накинула на плечи дочки рваный армячок, – потому как для себя старалась. Отоспишься и опять птахой по лесу будешь порхать.
– А дальше что?.. – устало спросила Янинка.
– А ничего… Далее всё само образуется.
Янинка в изнеможении упала на полати и через мгновение уже спала младенческим сном.
Ещё малость потоптавшись, старая ведьма подозрительно глянула на спящую дочь.
– Скоро, однако ж, выдохлась… Ничего, ничего… втянется. Та-ак, теперь мой черёд за дело взяться, – проворчала себе под нос Серафима и оглядела разбросанные атрибуты, необходимые ей для заклинаний.
В отличие от тихих, но горячих просьб-приворотов Янины, хриплый шепот старухи звучал уверенно и властно. Старая ведьма своё дело знала. И сила колдовства её была замешана не на ребячьей любви, а на лютой злобе. Но то и другое, направленное в одну цель даст славный результат. Серафима в этом была твёрдо уверена.
Янинка проснулась, когда солнце уже давно высушило на траве слёзы утреннего тумана. Она испуганно вскочила, будто проспала что-то очень важное. Потерев глаза, кубарем выскочила из избушки, громко хлопнув дверью.
– Тьфу! – раздражённо сплюнула Серафима, вздрогнув от внезапного шума.
– Ну, чего всполошилась?
Не проронив ни слова и лишь щуря глаза от яркого света, Янинка растерянно замерла на крыльце.
Расправив затекшую спину, Хима недовольно посмотрела на дочь. Туесок с не дочищенными первыми грибами стоял у её ног. Прошамкав какие-то ругательства и вспомнив всех чертей и бесов, старуха добралась и до дочки:
– Напугала только, малахольная. Жуть какая приснилась аль чего? – вопросительно уставилась она на дочку.
– А-а… ничего ещё не случилось? – глядя на мать, Янинка наивно, по-детски хлопала ресницами.
– А что должно случиться?
– Ну как же… я так старалась… Что-то должно ж происходить.
– О-хо-хо, – вздохнула Серафима. – Я ж тебе сказала: всё, что надо, образуется само собой. Своё дело ты уже сделала. Займись-ка вон лучше грибами, тут трошки осталось… А я пойду лучше в печке затоплю.
На лицо Янинки легла тень разочарования. Делать ничего не хотелось, и уж тем более сидеть над первыми малюсенькими лисичками.
Ни слова не сказав матери, Янинка бесцельно побрела среди деревьев. Ей казалось, что что-то важное должно было происходить уже с самого утра. Послонявшись ещё немного вблизи избушки, девушка остановилась на прогалине. Ласковые солнечные лучи приятным теплом ложились на лицо. Янинка прикрыла глаза и подняла голову навстречу утренним лучам. Постепенно на неё нашло умиротворение. Почти ни о чём уже не думая и немного отрешившись от неотвязных грёз, девушка некоторое время беззаботно нежилась в объятиях утреннего солнца. Но какое-то беспокойное чувство не оставило надолго девушку и снова втянуло её в тревожные раздумья. И Янинка осознанно поддавалась этому чувству, накручивала себя, и ей опять казалось, что вот-вот должно что-то начаться!
Но ничего в этот день не началось! И на следующий – тоже. Время шло, а в жизни Янинки ничего не изменилось. Как же это так?! «Вот тебе и хвалёное колдовство!» – разочарованно думала девушка, вспоминая недавние увещевания матери.
И вот в один из летних дней, когда сомнения уже основательно разъели её надежду, первая ласточка событий опять окрылила девушку…
Янинка стояла у опушки рядом со своим жилищем и задумчиво наблюдала за маленькой серой птичкой. Скрипнула дверь. Вспугнутая пичужка вспорхнула и скрылась в листве. Девушка всё так же продолжала стоять. Даже не поворачивая головы, она физически ощущала на себе напряжённо-пристальный взгляд матери.
– Чего стоишь-то там как онемелая?! – властный голос старухи опять сквозил раздражением. – Аль заняться нечем?
– Да так, задумалась трошки.
– Задумалась она! Шла бы, пока не жарко, ягод набрала. Хоть какой прок был бы.
Перечить матери Янинка не стала и молча вернулась в избушку. Ей сейчас меньше всего хотелось кормить комаров в ягоднике, но идея побыть в одиночестве пришлась ей по душе.
Девушка наскоро перекусила вчерашним варевом со щавелем и, прихватив туесок, не без удовольствия покинула закопченную избушку.
– Недолго ж ты добренькой была, – в сердцах тихо обронила дочь, проходя мимо матери.
Янинка уже привыкла к лесному царству, научилась многое понимать в скрытой жизни его обитателей; она часто искренне восхищалась удивительными причудами матушки-природы и радовалась этому как дитя. Ей всегда нравилось просто бродить по лесу. В такие мгновения она наслаждалась свободой и отдыхала душой. С матерью же хоть и наладились отношения, но, по всему видать, ненадолго. Янинка уже просто не могла долго выносить её общества. Скверный нрав старухи давил и угнетал её сознание. Вот поэтому бесцельное гуляние по лесу было для девушки единственной и своеобразной отрадой.
Янинка намеренно пошла к ягоднику более длинной тропой. Бредя среди деревьев, она полностью отдалась мечтаниям и грезам. В голове мыслям о ягодах места ну никак не оставалось.
И вдруг в самом дальнем уголке подсознания снова запульсировала какая-то особая жилка-вестница, часто оповещавшая Янинку о важном грядущем событии. Заволновалась эта жилка, задрожала томно как никогда, и почувствовала вдруг девушка, что вот-вот с ней должно произойти что-то особенное. Она это чувствовала необъяснимым внутренним чутьём. Сердечко девушки тоже заволновалось, а скорое воображение уже начало рисовать различные варианты дальнейших событий. И, конечно же, в центре грёз витала она сама и молодой удалец Прохор.
Стара, как мир, истина о том, что приятные мысли и интересный попутчик сокращают путь, сработала и на этот раз. Мечтая, Янинка и не заметила, как вышла на лесную дорогу, ведущую к выбранному урочищу. До ягодного участка леса осталось совсем ничего – рукой подать. Но идти в сырой низинный сосновый бор и корячиться там над ягодами уже не то что не хотелось, но даже и думать об этом было в тягость.
Плюнув и на ягоды, и на неизбежное ворчание матери по этому поводу, Янинка присела на вереск и прислонилась спиной к шершавому комлю старой берёзы.
Берёза… Сколько лет этому дереву, никто не знал. Всем казалось, что эта берёза уже вечность стоит у обочины лесной дороги и в некотором роде служит людям. Это был и ориентир, и кров в непогоду, и просто диво для глаз: впечатляющие размеры и при этом неповторимая грация, присущая только плакучим ивам и стройным берёзкам. Таких деревьев поблизости больше нигде не росло.
На этот раз приветливая берёза позаботилась о страждущей душе. Посидев немного под деревом, Янинка вдруг почувствовала себя необыкновенно спокойно и умиротворенно; улетучились все переживания и волнения. Убаюканное подсознание нашептывало, что всё будет хорошо. Расслабившись, девушка прилегла на вереск и начала смотреть вверх на качающиеся кудри берёзы, на плывущие в бездонной синеве облака. Ей казалось, что всё неподвижно, а это она сама парит под сенью леса. Веки стали тяжелеть, и незаметно для себя Янинка погрузилась в полусонное состояние…
Объезжая панские угодья, Прохор, сам не зная почему, пустил лошадь совсем по другой дороге. Но это сейчас не имело никакого значения. Голова парня была занята мыслями о предстоящей свадьбе…
Марылька прекрасная девушка! О лучшей не стоит и мечтать. Тихая, трудолюбивая и безропотная, она будет надёжной опорой в любых испытаниях. Часто, глядя на свою суженую, Прохор мысленно сравнивал её с землей: чем больше уделишь ей внимания, тем щедрее будет отдача. Он знал, что о такой невесте мечтают почти все здешние женихи. И Прохору, несомненно, очень льстило, что у него будет такая жена. А вот свадьбу надлежит сделать скромную, так как года ещё не прошло с кончины её батьки. Но против воли панской не попрёшь, хотя, если честно, молодым это было и на руку.
Выходило, что свадьбу придётся делать в ближайшем будущем. Вот как приедет Андрей Семенович, так сразу молодые и обвенчаются.
Прохор с гордостью представлял себя главой семьи. Несомненно, он будет заботливым мужем и отцом будущих ребятишек. Парень довольно улыбался, представляя, как будет нянчиться с первенцем и, конечно же, хотелось, чтобы обязательно это был мальчишка.
Но чёрным вороном в его думки возьмёт да и влетит мысль о ведьме. Пока ещё никак не сказалось на Прохоре то ночное происшествие. Ну, если не считать того, что несколько дней приходил в себя.
Из всего услышанного об этой старухе парень давно уж понял, что Хима просто так не оставит его в покое, не простит ему причиненного увечья. Но за себя он не очень переживал. А вот когда обзаведётся семьёй, будет уязвим. Да ещё и недавний случай на Купалу! Прохор нутром чувствовал, что без происков ведьмы тут не обошлось. И не к добру, видать, тот случай! А всё же девка жуть как красива была!
Эх, знать бы, что эта карга старая замыслила… Да и вообще, выкурить бы эту чертову колдунью из здешних мест!
В задумчивости Прохор и не заметил, как выехал на заброшенный шлях. Лет пятнадцать назад по этой дороге доставляли лес на Припять. Теперь уж редко кто по ней проезжал.
Конь по кличке Орлик, не понукаемый всадником, вольно и тихо ступал по лесной дороге. Почти поравнявшись со старой берёзой, он вдруг громко фыркнул. И тут из-за берёзы внезапно взметнулась неясная тень, послышался вскрик. От такой неожиданности лошадь в диком испуге шарахнулась в сторону и понеслась во весь опор.
Прохор чудом удержался в седле. Лишь шагов через сто он еле остановил Орлика.
– Спокойно… спокойно, Орлик, – тихо говорил всадник, похлопывая коня по шее и беспокойно оглядываясь назад.
Когда лошадь испугалась, Прохор боковым зрением успел заметить, как из-за дерева тенью вскочила фигура человека. Кто это был и зачем хоронился, несомненно, надо выяснить. В душе парня нарастала тревога. Мало ли какие людишки могут шляться по глухим лесным дорогам. Грибники да ягодники ведут себя иначе: аукаются или переговариваются и уж никак не таятся. Их издали видать. Только худой человек будет сторониться людского глаза и прятаться. А может, браконьерством кто вздумал пошалить? Да, в любом случае надо выяснять.
Прохор взвел курок на ружье и круто развернул Орлика.
– Пошёл, родимый!
Поддав пятками по бокам лошади и пристально вглядываясь вперёд, он с опаской поскакал обратно к старой берёзе. Поскакал навстречу неизвестности…
Орлик хоть и утихомирился немного, но всё равно беспокойно вращал выпученными глазами, готовый в любой момент опять сорваться в галоп.
Чем ближе Прохор приближался к месту переполоха, тем прочнее заседала мысль: «А не ведьма ли это?!» Хлопцу сейчас не с руки было бы опять столкнуться с ужасной старухой. Никак нельзя ему сейчас выбиваться из жизненной колеи. Слишком много неотложных дел и хлопот ожидают его. И эти хлопоты для Прохора сейчас были особенно важны, ибо от них во многом зависело его будущее.
Прохор уже хотел было не испытывать судьбу и не разбираться, кто там напугал лошадь. Но ему тут же стало стыдно за своё малодушие. Потом он будет корить себя за то, что, держа в руках ружьё, испугался прямо посмотреть в глаза старухи. «А ведьма-то сразу догадается, что струсил! – накручивал себя Прохор. – Бабку старую бугай здоровый испугался!» И от таких мыслей хлопцу и вовсе сделалось противно за себя. «Я испугался?! Ну, уж нет!» – решительно подумал он, зная, что всё равно поступит так, как поступил бы любой из мужчин рода Чигирей.
И Прохор, ещё раз жестко подстегнув Орлика, продолжал скакать навстречу неизвестности. А вот и старая берёза… Первое, от чего он с облегчением перевёл дух, – это была не ведьма! И даже не браконьер, и не беглый какой-либо!
На него смотрели расширенные от испуга глаза миловидной девушки. Прохор был ошеломлён! А тут его нежданно-негаданно ещё и осенило: «Господи! Так это ж, похоже, те глаза, что заворожили его в купальскую ночь!»
Янинка была не только напугана внезапным появлением всадника, но и сильно растеряна. Девичье воображение совсем не так рисовало ей первую встречу. И уж совсем Янинка не предполагала, что панский лесник натолкнётся на неё, задремавшую в лесу под деревом. Вот уж срам какой!
Оба молча смотрели друг на друга, не зная, что сказать и как себя повести в этой нелепой ситуации.
Видя, что никакой опасности нет, Орлик окончательно успокоился и опять громко фыркнул.
– Ну, вот… коня… это… напугала… Понёс было, едва остановил… – бессвязно начал Прохор.
Меньше всего он ожидал увидеть здесь молоденькую девушку, да ещё, судя по всему, и уснувшую под старой берёзой. Странно.
– Это ещё неизвестно, кто кого больше напугал, – надув губки миролюбиво буркнула Янинка, а сердце её прямо-таки зашлось в трепетном волнении.
Оба вдруг поняли комичность случившегося конфуза и, словно по команде, одновременно громко рассмеялись. Этот смех разрядил первую неловкость.
Лесник был несказанно рад. Во-первых, не оправдались его опасения насчёт ведьмы. Во-вторых, никого подозрительного здесь не оказалось, а значит, и никаких выяснений не требовалось. Ну а главное, очень уж оказалось приятным сюрпризом вместо ведьмы иль беглого встретить красивую незнакомку, хотя это и весьма странно. Ведь он уже знал почти всех девчат в округе. Не со всеми разговаривал, конечно, но в лицо знал почти всех. А тут выходит, что не всех!
Прохор решил повременить с расспросами о купальской ночи. А то, что именно эта девушка надевала ему на голову венок, он был уверен уже точно. Эти серые лучистые глаза сначала цепко засели было в его памяти. Но потом за чрезмерной занятостью мало-помалу воспоминания загасли. И всё же странно, почему он раньше нигде её не встречал?
– И что же это такая милая девчина здесь делает? – с усмешкой поинтересовался хлопец.
– По ягоды иду… – постепенно приходя в себя, ответила девушка.
– Одна? И не боязно?
– Не-а.
– А ты чья будешь, красавица, и где живёшь?
– А надо ли тебе это знать? – вопросом на вопрос уже игриво ответила Янинка.
Она боялась, что если Прохор сейчас узнает правду, то они вряд ли уже опять встретятся, во всяком случае, вот так, наедине, без посторонних глаз.
– Да так. Больно далеко ты за ягодами забрела. Люди редко сюда за ягодами заходят.
– Чем меньше ягодников, тем больше ягод.
– Это так… однако, странно выходит, – загадочно произнёс Прохор. Он знал, что девушка не удержится и переспросит.
– А что тут такого странного?
Хлопец улыбнулся: всё-таки он немножко в людях разбирается.
– А то, что впервые вижу ягодника, забредшего бог вед куда, и это лишь для того, чтобы завалиться под дерево и храпеть на весь лес. Конь вон до сих пор дрожит от страху. Думал, наверное, что медведь рычит.
Янинка зарделась. Она, конечно, поняла, что над ней подтрунивают, но самое обидное то, что подтрунивают-то по делу. Она до последнего надеялась, что Прохор ничего не заметит и не догадается о её сонливом проступке.
– И вовсе я не храпела! – притворно возмутившись, возразила она.
– Ага, ты тихонько сопела. Это Орлику моему почудилось, и он решил для забавы во всю прыть побегать по лесу. – Прохору явно доставляло удовольствие дразнить незнакомку.
– Хам! – выкрикнула девушка и ещё больше покраснела. Вот уж встреча так встреча. И надо ж было ей задремать!
Прохор от души рассмеялся, но, видя сильное смущение девушки, примирительно сказал:
– Ладно, красавица, не обижайся. Просто всё это и в самом деле как-то странно: далеко в лесу, одна…
И тут Прохора внезапно опять осенило: «Да это же, наверное, та самая дочка ведьмы! Столько раз о ней слышал. И как это мне сразу не пришло в голову!»
Заметив, как запнулся и вдруг изменился в лице лесник, Янинка догадалась, о чём он сейчас подумал. Что ж, скрывать, кто она, уже не имело смысла. И девушка в отместку на подковырки и высокомерие лесника с едкой колкостью решительно выпалила:
– Правильно подумал! И что теперь?! Начнёшь креститься иль побежишь прятаться! Давай, не стыдись! Я к этому уже привыкла!
Насмешливый взгляд вызывающе и открыто топил в себе Прохора.
У парня не было времени на обдумывание достойного ответа. Слишком всё неожиданно. Он глупо смотрел на девушку и не мог собраться с мыслями. Что сказать, как теперь быть, ничего не приходило на ум. Голова сейчас была не помощница хозяину.
И опять от взора Янинки не ускользнуло замешательство Прохора, и, чтобы ещё больше ущемить его самолюбие, она презрительно ухмыльнулась:
– Понятно… От перепугу и речь потерял. Уж лучше задремать в лесу… – уколов этой фразой парня, девушка отвернулась.
Глубоко вздохнув и подхватив туесок, она с гордо поднятой головой пошла прочь.
Уж в который раз она вот так уходила с горькой досадой и на свою судьбу, и на трусливость парней. Но то, что было в Мазыры, можно было отнести просто к детским страхам со стороны взрослеющих мальчишек и к капризам самой Янинки. Сейчас же, можно сказать, решалась её судьба. Она это чувствовала. В душе Янинка умоляла и Бога и Дьявола, чтобы помогли ей именно сейчас. Она надеялась, что у этого лесничка всё же хватит смелости хотя бы нормально поговорить с ней. Ну не кидаться же ей самой к нему на шею. Она умоляла, она надеялась, и какие-то силы всё же вняли её мольбам и не дали рухнуть надеждам.
– Янина!
Наконец-то она услышала этот милый сердцу, взволнованный оклик! Это уже обнадёживает! Она в тот момент готова была верить даже в самое невероятное.
Раздался ещё один оклик – Янинка продолжала идти. Не оглянулась и даже не сбавила шаг. Казалось, в этой ситуации девушке надо бы усмирить гордыню, броситься на зов судьбы, но словно какая-то покровительствующая сила вела её за собой и в решающие моменты подсказывала, как лучше поступить.
И лишь только девичье сердечко не хотело никаких подсказок, не подчинялось никаким доводам и рассудку. Оно осиновым листочком неуемно трепетало, неудержимо рвалось навстречу чувству, к которому само попало в сладкий плен.
Сзади послышался конский топот, и вскоре всадник уже преградил девушке путь.
– Янинка, погоди, поговорить надобно. Что-то всё не по-людски как-то.
– Ого! Ты даже и имя моё знаешь! Откуда? И что тебе надобно «по-людски»?
– наперекор сердцу холодно произнесла девушка.
Глаза её смотрели наигранно высокомерно, а сердечко млело в тревоге: «Только бы не вспугнуть птицу счастья!»
– Как кличут тебя я давно знаю, да вот увидеть только сейчас довелось, – быстро переборов первую растерянность, Прохор говорил уже более уверенно.
Несколько мгновений они, словно противники, молча изучали друг друга взглядами, оценивая и взвешивая, кто на что способен и кто чего стоит.
Прохор видел в строгом облике девушки непоколебимую неприступность, но игравшие огоньки в больших серых глазах говорили об обратном. И он решил, что ничем не рискует и ничего не потеряет, если просто всего лишь поговорит с дочкой ведьмы.
– Ты так и не ответил, откуда имя моё знаешь, – первой нарушила молчание Янинка.
– Да о тебе и о твоей странной мамаше весь повет знает, – Прохор специально сказал о ведьме осторожно, чтобы не обидеть или не разозлить девушку. – Лично я слухам не очень-то верю, но всё же…
– Что?
– Дыма без огня не бывает. И если многие люди говорят о ком-то скверно, значит, есть на то причина. – Прохор внимательно следил за девушкой.
– Выходит, обо мне скверная молва гуляет? – в голосе Янины появились нотки раздражения.
– Вот как раз о тебе ничего плохого никто и не говорит. Всё мамаша твоя…
– А всё же, что обо мне говорят? – Янинку очень интересовало, как в миру относятся к ней. А то, что в пересудах без устали перемалывают косточки её матери, она знала и сама.
– Ну… говорят, что ты не желаешь идти по стопам своей матери, и она из-за этого злится на тебя. Слыхал, что ты хочешь приходить на посиделки…
– Дунькина работа. Растрепала подружка, – беззлобно заметила Янинка. – Может, ещё что-нибудь говорят?
– Еще сущую правду люди сказывают, – замявшись, смущённо произнёс хлопец.
– Какую это правду? – живо заинтересовалась девушка.
Глянув исподлобья на Янинку и ещё больше смутившись, Прохор еле слышно выдавил:
– Что ты красивая… Хлопцы судачат так… Девки – молчат.
У Янинки сердце замерло. Она расценила эти слова как признание в том, что она тоже понравилась Прохору. Только бы не испортить, только бы не вспугнуть зарождающиеся чувства!
– Ну, это хлопцы говорят. Они, может, меня и не видели. Ты-то вот тоже только сейчас увидел…
– Мы уже встречались с тобой… Помнишь купальский рассвет?
Ещё как она помнит ту купальскую ночь! Но что сказать? Как объяснить ту встречу? Мысли Янинки лихорадочно искали ответ, а какой-то внутренний голос вдруг приказал: «Хватит! На сегодня хватит!» И сейчас этот голос имел над девушкой необъяснимую власть.
Легко поддавшись противоречивому чутью и оставив вопрос парня без ответа, Янинка вдруг сказала:
– Мне идти пора… А ещё ягод надо насобирать… и домой дорога дальняя.
– Так мы же только парой слов и обмолвились, дались тебе те ягоды! – разочарованно запротестовал Прохор. – Хочешь, я проведу тебя, а то и вообще могу подвезти. Орлик нас обоих выдюжит!
Как заманчиво и сладко было предложение! Но Янинка, словно прожжённая кокетка, чувствовала, что для первого знакомства и в самом деле хватит. А расставшись сейчас, она разогреет ещё больший интерес у парня.
– Не, мне и вправду пора. Я же, как ты сказал, проспала полдня. Вот и надо исправлять свою оплошность, – весело сказала девушка, а неподвластное уговорам и внушениям сердечко томно заныло, увещевая свою обладательницу не спешить.
Но девушка не вняла зову сердца. Она и так была счастлива, видя, как расстроился Прохор из-за её внезапного решения. Всё-таки она правильно поступает! Спешить не надо. Что ж, может, так оно и лучше будет!
– Мы ещё встретимся? – осторожно спросил Прохор.
– Если не побоишься. Третьим днём я опять буду здесь у старой берёзы. А теперь мне надо идти. Прощай!
– Я буду ждать тебя тут, – пообещал Прохор.
Не знал ещё парубок, что в этот назначенный день он будет на венчании. На своём венчании!
Янинка повернулась и, не оглядываясь, бодро зашагала по лесу. Она была уверена, что Прохор бросит всё и в условленный день будет ждать её в урочном месте.
А он стоял на лесной дороге и задумчиво смотрел вслед девушке.
Несомненно, Янинка – красавица, и она сильно заинтриговала Прохора. Но он же любит Марыльку! Да, любит он Марыльку, а с этой лесной нимфой ему просто было интересно пообщаться, узнать, как и чем она живёт. А может, ей помощь какая требуется? Ну и не совсем уж последнее: Прохор рассчитывал узнать что-нибудь о намерениях старухи Химы. Мысленно парень искал множество причин, по которым ему надобно было бы ещё раз свидеться с этой обворожительной девушкой.
Вскоре и Прохор, круто развернув Орлика, поскакал по своим делам.
Услышав удаляющийся топот лошади, теперь уже Янинка остановилась и прильнула к стволу дерева. С трепетом и ликованием она издали наблюдала за своим возлюбленным. Через мгновение его уже скрыла лесная чаща.
Теперь Янинке уже не надо прятать свои чувства и изображать равнодушие. Она стояла одна-одинешенька средь бескрайнего леса, но на этот раз одинокой себя не чувствовала. В кои-то веки глаза девушки лучились счастьем! Наконец-то в её унылой жизни забрезжил луч, наполнявший душу светом надежды. И от одной мысли, что, скорее всего, такие же чувства сейчас и у её возлюбленного, Янинка просто сходила с ума. Ей хотелось кричать об этом на весь бескрайний лес, чтобы птицы и звери, цветы и деревья – чтобы все они узнали о её счастье. Да, именно с ними в первую очередь она хотела поделиться своей радостью, ибо твёрдо была уверена: в отличие от людей, эти её друзья порадуются за неё искренне и от всей души. И эти друзья никогда не предадут…
От переполнявшего душу ликования Янинка долгое время находилась в каком-то сладком тумане. Но вдруг в её мечты возьмёт, да и упадёт, словно капля дёгтя в мёд, воспоминание о сопернице. И вгрызается тогда в сердце ревность непомерная, доставляя девушке боль и немалую тревогу. Да, теперь Янинка до ужаса боялась потерять то, чего, по её мнению, она уже добилась: надежду на счастье. Опасение за эту пока хрупкую надежду кидало мрачную тень на её радость.
Ветер ревности, как всегда и как везде, сделал своё дело! Не пожалел светлых чувств юной девушки и без всякой жалости нагнал на них тёмное облако, затемняя собой луч надежды. Янина, ревниво вспоминая о сопернице, враз омрачалась. Но теперь это была уже не прежняя беззащитная и пугливая лань! Набравшись решимости и не скрывая чувства горечи, она вдруг простонала: «Если бы не она, если бы не заклятая соперница! Не потерплю!» И сделав паузу, словно ещё на что-то решаясь, молодая ведьма сквозь зубы угрожающе изрекла: «Ладно, ненавистная Марылька, мы ещё поглядим! Дай только мне время трошки!».
Вот только не знала юная красавица, что как раз-то времени у неё и не было…
Глава 18
– Андрюшенька! Здравствуй, сыночек! С приездом тебя, родимый мой! – причитала Прасковья Федоровна, в радостном волнении пуская слезу и обнимая прибывшего домой сына.
– Здравствуйте, матушка. Что ж вы так разволновались? При встречах радоваться надо, а не плакать, – успокаивал Андрей всплакнувшую мать.
– Так я ж с радости-то и разволновалась. По такому случаю не грех всплакнуть. Дай-ка я тебя ещё разок обниму и поцелую.
Андрей покорно и не без удовольствия подставлял матери то одну, то другую щеку. Но в присутствии дворовых и высыпавшей на крыльцо челяди Андрей Семёнович старался быть сдержанным. Он уже давно считал себя самостоятельным и взрослым как, впрочем, оно и было.
– Ничего, ничего, пусть всплакнёт! Материнское сердце так уж устроено, что и в радости, и в горе будет обливаться слезами за своих детей, – добродушно ворчал пан Хилькевич, идя следом за сыном.
Он лично сам ездил встречать Андрея и теперь чувствовал себя тоже в центре событий.
– Здравствуйте, Андрей Семёныч!
– День добры!
– С приездом! – раздавалось разноголосье прислуги.
Андрей со всеми поздоровался и, обняв мать, первым делом справился о её здоровье.
– Слава богу, терпимо. Крепимся. Нам с отцом, поди, уж не по двадцать годков.
– Но-но, мать! Я ещё хоть куда! Могу день на ногах с ружьишком бродить! – весело прикрикнул Семен Игнатьевич на супругу.
– Да ладно уж тебе! Сейчас вот на радостях хорохоришься, а по ночам квохчешь да ворочаешься с боку на бок. Подагра-то обожает наш возраст.
– С таким настроем, мать, впору и помирать, – расхохотался пан Хилькевич.
– А я ещё с Прошкой не раз исхожу края наши вдоль и в поперёк…
– Кстати, о Прохоре. Где он сейчас? – спросил Андрей.
– При деле Прохор, где ж ему ещё быть. Я решил немного леса на Припять поставить. Цена сейчас хорошая. Вот он теперь в лесу, на повале, старшим, – ответил пан Хилькевич.
– Мне надо бы, долго не отлагая, и с ним свидеться.
– Ха! Ты, сын, знать, недооцениваешь отца своего! – задорно прогоготал Семен Игнатьевич. – Я давно уж вестового к нему направил. Явится скоро наш Прохорка!
– Ой, а что же это мы во дворе стоим, пойдемте в дом. Проголодался, наверное, с дороги-то, – спохватилась Прасковья Федоровна. Она не могла насмотреться на своего любимого Андрюшеньку. Сердце матери и радовалось и тревожилось.
За столом, выпив по рюмке – кто водки, кто вишнёвой наливки, – перешли к главному разговору. Хотя пан Хилькевич уже всё разузнал по дороге, но ему хотелось ещё раз поговорить о планах сына на ближайшее будущее. Всё равно ведь придётся повторяться для Прасковьи Федоровны.
– Я всего лишь на недельку заскочил домой. Возьму всё необходимое – и в Петербург. Бумаги все оформлены должным образом и отправлены. Надеюсь, что оправдаю ваши надежды и успешно сдам приемные испытания.
– Дай-то бог, дай-то бог, – не могла нарадоваться за сына Прасковья Федоровна и опять на радостях всплакнула.
– Мы с Андрюшей этот вопрос уже по дороге обсуждали. Нам, мать, грех не вывести в люди единственного сына. Я думаю, что не разоримся и средства на обучение найдём, – Семен Игнатьевич глянул на супругу, затем, обратившись к Андрею, произнёс: – Расскажи матери, куда поступаешь, на кого учиться будешь. Я-то уж знаю, но ещё раз с усладой послушаю.
– В Петербурге есть такой Практический Технологический институт. Принимают туда только после классической гимназии, которую я, кстати, не сумел закончить с отличием. Готовят там инженеров для заводов и фабрик. Так что, если всё благополучно выйдет, то будет ваш сын искать счастья на промышленном поприще. При умелом ведении дела и соответствующем усердии многие выпускники этого заведения работают с известными фабрикантами и ходят в великих чинах. Ну, вот вкратце и всё.
Андрей Семенович ещё долго рассказывал родителям о выпуске из гимназии, о Гомеле, где он учился, о своих впечатлениях и планах на будущее.
– Можно? – неожиданно раздался бодрый возглас.
Все одновременно повернули головы. В распахнутых дверях стоял радостно улыбающийся Прохор.
– О! А вот и наш Прохорка! – воскликнул Семен Игнатьевич. – Проходи, проходи, чего в дверях застрял.
Прохор сделал шаг и опять остановился, ещё шире растянув губы.
– Ну, здравствуй, Прохор! – выйдя из-за стола, панич сам подошёл к другу и крепко пожал руку.
Во времена крепостного права среди помещиков часто встречались случаи настоящей дружбы или, точнее, привязанности к преданным и смышлёным крепостным, особенно, когда были общие интересы. В данном случае увлечение охотой настолько сблизило барина и крепостного, что они просто скучали друг без друга. Сейчас Андрей Семёнович даже и не помышлял, чтобы, будучи в имении, отправиться на охоту без Прохора. Он всегда помнил, чем обязан этому смельчаку, и различие в сословиях никогда не пролегало между ними пропастью. Хотя, будучи и в этом вопросе смышлёным, Прохор всё же «знал свой шесток».
После обмена несколькими незначительными фразами Андрей спросил:
– Ну, ты как, жениться надумал?
– А чего тут думать: была бы шея, а ярмо всегда найдётся! – весело ответил Прохор и уже более серьёзно добавил: – Сёмен Игнатьевич мне всё растолковал. Я не супротив. Главное, что его совет совпал с моим желанием. И это меня очень радует. Мы с Марылькой любим друг друга.
– Вот и отлично! Я всегда был против принудительных браков, а тем более в твоём случае.
– А вот в некоторых случаях без этого и не обойтись! – возразил из-за стола пан Хилькевич. – Так сказать, для общего блага.
Дело в том, что императорский указ более чем вековой давности (1724 г.) запрещал принуждать к браку крепостных крестьян без их «самопроизвольного желания». Но, как всегда и везде в царской России, законом для крепостных служило слово помещика. Особенно это проявлялось в глубинке. Дремучее невежество полесского мужика премного способствовало самоуправству и попранию многих законов местными панами.
Андрей, положив руку на плечо друга, сразу перешёл к важному разговору:
– Прохор, я через недельку уезжаю. При удачном исходе дел – надолго. А мне очень хотелось бы побыть на твоей свадьбе, засвидетельствовать свое почтение и вручить подарок. Я, конечно, понимаю, что существуют серьёзные суеверия и традиции, перечащие этому, но это всё условности. Батюшка, я думаю, все эти проблемы разрешит, и священник не воспротивится, – серьёзно сказал Андрей и, повернувшись, обратился уже к пану Хилькевичу:
– Отец, я верно говорю?
– Андрюшенька, ну мы же с тобой уже на эту тему беседовали. Конечно, подсоблю молодым. Пусть деток плодят! – опять загоготал Семен Игнатьевич.
– Обвенчаем как знатных господ.
– Благодарствую, Семен Игнатьевич… Я так понял, что… свадьбу надо править уже в эти воскресные дни, – растерянно произнес Прохор.
Он, конечно же, знал о причине скорой своей свадьбы, но такой спешности никак не ожидал.
– А чего тянуть? Не переживай, поможем чем можем! – не видя никаких затруднений и находясь в отличном настроении, задорно гоготал пан Хилькевич.
Назначили день венчания и свадьбы, хотя и выбора-то никакого не было. Для подготовки и проведения этих обрядов предстояло успеть сделать уйму дел, а времени оставалось в обрез.
Прохор и Марылька метались в круговороте хлопот. Нужно было подготовить и венчальные уборы, и медные колечки, и рушники, и много всего прочего, включая иконы Спасителя и Божией Матери.
Если кто из особо неимущих крестьян не мог приобрести необходимые реквизиты для таких церемоний, то многое имелось в церкви. За незначительное пожертвование на церковные нужды, таким людям предоставлялась возможность временного пользования такими предметами как кольца, рушники и прочие атрибуты венчания. Но всё же такие случаи были единичны, так как в жизни человека есть три основных события: рождение, венчание и похороны. И именно эти события должны отмечаться со всей значимостью и ответственностью, невзирая на сословия и имущественное положение.
Прохор и Марылька считались крестьянами из семей имущих, поэтому к венчанию и свадьбе готовили всё своё. Прохору, естественно, во многом оказывалась помощь от панского двора. Хлопоты настолько поглотили молодых, что они о многих своих второстепенных делах позабыли или оставили на потом.
А в это время девушка из лесного царства не могла сдерживать распирающее её трепетное волнение. Она просила солнце и луну не задерживаться на небосводе и скорее приблизить урочный час. Делать ничего не хотелось. В нетерпении Янинка не находила себе ни места, ни занятия. Ей непреодолимо захотелось поделиться своим счастьем с кем-то из людей, раскрыть тайну и, конечно же, увидеть в собеседнике белую зависть. Она и об этом тоже часто мечтала. Старуха Хима для такой роли не подходила, и Янинка вспомнила о Дуньке. Вот уж кто воистину изумится её счастью!
Задумано – сделано. Окрыленная девушка уже спешила к подружке.
Янинку словно прорвало. Сбиваясь и перескакивая с одной мысли на другую, она взахлёб рассказывала Дуняше о недавнем событии, о своих чувствах и волнениях. Весь облик девушки излучал радостное возбуждение. Вспоминая и повторно переживая все мгновения встречи с Прохором, Янинка находилась на вершине блаженства.
Вдруг взглянув на слишком долго и подозрительно молчавшую товарку, Янина недоумённо спросила:
– Дуняш, ты что, совсем не рада за меня? Или я что-то не так сделала?
– Да всё так, Янинка, – мрачно ответила подруга и, глубоко вздохнув, спросила: – Так когда, ты говоришь, у вас назначена встреча?
Обрадовавшись, что наконец-то подружка проявила интерес к её сердечным делам, Янинка опять радостно затараторила:
– Ой, осталось совсем ничего: завтра! Как медленно тянется время! Скорее бы уж наступило это завтра. Представляешь, Дуняша, возможно уже на этот раз он поцелует меня. Ух, аж сердечко замирает! И чего мне взбрело в голову сказать: «Через три дня»? Дура, наверное! Сказала бы: «Завтра!» – и не терзалась бы столько времени. Ой, как представлю, как он обнимет меня…
– Не обнимет… и не поцелует, – тихо и почему-то слишком угрюмо остановила Дунька гостью. – И вообще он не придёт завтра к старой берёзе.
– Дуняш, ты что говоришь? – всё ещё находясь в восторженном состоянии, Янинка не сразу уловила смысл услышанных слов. – Он сам спросил, когда встретимся, и мы условились через три дня. Если б ты видела, как он на меня смотрел! Я уверена, что он тоже меня полюбил! Это будет наше первое настоящее свидание! И не найдётся такой причины, чтоб помешать нашей встрече…
– Венчание…
– Что «венчание»? – Янинка растерянно заморгала.
– Та причина, по которой Прохор не придёт к тебе на свидание… Завтра он венчается с Марылькой. Ты что, не знала об этом?
Всё, что смогла произнести Янина, вырвалось в коротком и горестном «Ох!» Затем мысли начали лихорадочно проноситься в голове, образуя полную неразбериху. Губы словно в бреду шептали: «Нет! Не может этого быть! Нет!»
– Мне очень жаль, Янинка, но никто ничего уже не изменит… – Дуняша участливо поглаживала подружку по плечу.
Янинка, конечно же, знала о намерениях Прохора жениться на Марыльке, но она понадеялась, что, встретившись несколько раз с ней, он изменит своё решение. Такую надежду крепили два козыря: красота Янины и приворот. После неожиданной встречи у старой берёзы девушка уверовала, что приворот начал действовать и угроза её счастью теперь сама по себе отпадёт.
Не успела! Не успела Янинка присушить парня! Слишком мало времени отпустила судьба несчастной девушке на завоевание его сердца.
Наконец придя в себя после первого шока, Янинка упёрла решительный взгляд в подружку и тихо спросила:
– Ты это точно знаешь? Может, это очередные слухи по селу гуляют? Кто тебе об этом поведал?
– Так всё село об этом только и судачит. Уже и со священником условились, и подготовка идёт вовсю, а главное – это наказ пана Хилькевича. Перечить ему никто не посмеет, даже священник… А ведь после похорон Марылькиного батьки года-то ещё не прошло… Нехорошо как-то выходит…
Дунька виновато смотрела на поникшую подружку. Но выражение лица Янины с растерянного быстро сменилось на волевое.
– Значит, по принуждению женят Прохора, – прищурив взгляд и думая о чем-то своем, заключила Янинка. – Что ж, тогда ещё не всё потеряно…
– Ты о чём это?
– Да так… пора мне. Я уж пойду.
– Ладно, Янинка, ступай, – виновато проронила Дуняша и, желая утешить подружку, на прощание сказала: – Ты уж не убивайся сильно. Это я не уродилась такой красавицей, так горевать по хлопцу надо. А на тебя любой загля… – встретившись вдруг с недобрым взглядом товарки, девушка на полуслове оборвала свою утешительную речь.
– Не надо, Дуняш. И без твоей жалости тошно, – жестко произнесла Янинка, словно всему виной была Дуняша.
Даже не попрощавшись, Янина решительно, в полном безмолвии направилась к тёмной стене леса, оставив подружку с раскрытым ртом. Такой резкости Дуняша никак не ожидала от всегда застенчивой подружки, хотя, конечно, и понимала её теперешнее состояние.
Янинка быстро шла по лесной дороге. Нет, на этот раз она не неслась в безумии сквозь заросли, не рвала на себе волосы, не ревела загнанным зверем. На этот раз в душе молодой ведьмы клокотала лишь злость и холодный расчёт.
Приняв недавно решение пойти по стопам матери, Янина мысленно дала себе зарок не творить зла, чтобы не отягощать грехами душу. Девица всё еще считала себя безгрешной. Наивная! Она даже и в мыслях не допускала, что сделанный ею приворот – это уже и есть зло!
Но сейчас, вспомнив о зароке, Янина лишь ухмыльнулась своей бесхитростности. Именно теперь ей ничто так не поможет как расчётливая злоба ну и, конечно же, суровая мать-ведьма уж точно подскажет что в этом случае лучше сделать.
Серафима, выслушав горестную новость, которая, кстати, не была для неё такой уж и новостью, сочувственно покачала головой и проворчала:
– Я ж тебе талдычила, дурёха, что в этой жизни все норовят толкнуть более слабого да убогого. А в церкви-то своей совсем другое поют! Тьфу! Вот ты, проявляя слабость, пока решалась на наше потомственное дело, тебя и оттолкнули. В сторонку спихнули как паршивую собачонку, и никому дела нет до твоих страданий…
Ведьма опять была удручена результатами своих заговоров да заклинаний. Да, она просила высшие силы пробудить в дочери интерес к проклятиям, к чёрной магии. Её уже не устраивало поверхностное отношение дочки к семейному промыслу. Но женить Прохора?! В помыслах ведьмы такого не было! Коварная Хима сначала рассчитывала запутать ненавистного лесника в любовные сети своей дочери. В этом случае она заполучила бы огромную власть над ним. Но опять в её замыслы как будто кто-то вмешался. Не такого она хотела! Вот уж незадача! А может, и в этот раз сама где напутала или не доглядела…
А Янина нервно мерила шагами пространство перед избушкой.
– Только одного они не учли: я теперь не слабая! Теперь я тоже могу толкнуть! Я так могу толкнуть, что кое-кто выть будет! Всем достанется!
Голос девушки звучал настолько угрожающе, что даже сама Серафима содрогнулась.
– Вот и верно, доченька, всё у тебя получится. Я уж тоже постараюсь…
Мать и дочь до исступления то по очереди, то вместе чахли над своими заклятиями да проклятиями. И у каждой теперь был свой ненавистный враг. У одной – Прохор, у другой – Марыля.
Глава 19
Тонкий звон бубенцов и ухарское гиканье хлопцев известили собравшихся около церкви о прибытии молодых. Пан Хилькевич по случаю венчания Прохора для пущей помпезности предложил даже свою бричку с бубенцами. Хотя жених и невеста настоятельно просили Семёна Игнатьевича не выделять их из остальной массы крепостных по известной причине, но тот и слушать об этом не хотел.
Деревенский люд никогда не упустит возможности поглазеть на важные события сельской жизни, будь то свадьба, крестины иль похороны. И чем значимее событие, тем больше зевак.
О скороспешной свадьбе Прохора и Марыльки знали все, и по этому поводу ходило множество различных домыслов и пересудов. Хотя истинную причину тоже все знали, но многим такое простое объяснение, как любовь и приказание пана Хилькевича казалось уж слишком неинтересным. Зато в воображении селян рождались догадки поистине соответствующие странной скороспелой свадьбе. В основном знатоками в этом деле были самые склочные бабы.
– Забрюхатила, знамо, девка, вот и спешка такая, – стоя под церковью среди зевак, выдвинула своё предположение одна из таких баб. – Ещё и пан Хилькевич срам такой покрывает.
– Не-а, некогда им было. А хоть бы и получилось что, то так быстро не спохватились бы, – возразила другая, видимо, с молодости знавшая всю подноготную в таких делах.
– Ага, вот тольки вашего дозволу и не спросили! Вспомните, як сами замуж повыскакивали. То-то уж люди языками попочесали, – сделав строгий вид, приструнил сплетниц вездесущий дед Лявон.
– О, а мы уж думали, что без тебя тут всё пройдет. Ага, щас же! Где это видано, чтоб Лявон пропустил хоть одно такое событие, – обернувшись и увидев Лявона, насмешливо съязвила одна из баб с непомерно большим носом. – Или ты шаферам[41] тут будешь? На этой чудной свадьбе и такое может быть.
– Шаферам не шаферам, а вот ты бы свой нос в чужие дела не совала, а уж в храм и подавно тебе нечего заходить. Батюшка при твоём появлении каждый раз теряется и крестится, думает, что черти в церковь лезут.
– Тьфу на тебя, пень старый, – не решившись дальше вступать с дедом в перепалку, баба с гордым видом отвернулась к своей собеседнице. – Если люди говорят, что негоже так веселье править, значит, так оно и есть.
Подслушав, о чем велась речь, в разговор вмешалась ещё одна почти беззубая баба в истрепанном до лохмотьев рубище:
– А можа, Хима тут вштряла. Они ж оба имели дело ш етой ведьмой. Ох, чует моё шерце: не шпрошта вшё ето.
Две первые бабы замолкли и с удивлением глянули на ещё одну «провидицу». Затем медленно перевели взгляды друг на друга и прыснули со смеху.
В селе никто всерьёз не воспринимал местную блаженную. На самом же деле эта придурковатая баба глупостей говорила не больше других, а иногда в её речах здравого смысла звучало гораздо больше, чем у тех, кто считал себя умнее и хитрее её. Просто временами находило на эту странную селянку непонятно что: то ли затмение, то ли прозрение, и её поступки и речи не всегда были подвластны мужицкому складу ума.
– Ешли б Хима вштряла, то это была б не швадьба, а похороны. Понятно тебе, дурья твоя башка?! – передразнили собеседницы дурочку, хотя каждая про себя подумала, что очень даже может и права непутёвая.
Но вот убранная лентами и цветами панская бричка первая вкатила на церковный двор. В ней восседали Прохор, сват Мирон, панич Андрей Семенович и первый дружок Игнат. Все нарядные. Даже у кучера к картузу был прикреплён яркий цветок. Следом на легком возку – Марыля, свидетельница Любаша и ещё две подружки. Ещё на трёх подводах теснилась остальная дружина молодых и многочисленные братья, свояки, сёстры и прочая родня.
Как и полагается, молодые встали по отдельности в притворе[42] церкви. Прохор – справа, Марыля – слева. Вошли в храм.
У батюшки всё было готово. К таким обрядам готовятся заранее, тем более что за эту пару замолвил словечко сам Семён Игнатьевич.
И вот священник выходит из алтаря, торжественно неся Крест и Евангелия. Обряд начался.
Столпившийся в церкви люд внимательно следил за происходящим, не забывая осенять себя крестным знамением и киванием головы в сторону иконостаса, означающим поклоны. Некоторые перешептывались, обсуждая убранство невесты, поведение жениха и завистливые взгляды девок на выданье. От людского глаза ничего не ускользало. Каждая мелочь замечалась и с пристрастием обговаривалась.
Вот батюшка соединяет руки молодых епитрахилью[43] и, трижды благословив, вручает им зажжённые свечи. Эти свечи должны гореть на протяжении всего обряда. Каждый этап обручения проходит строго по церковным канонам, чинно и торжественно, под неусыпным вниманием тихонько сгрудившихся вокруг односельчан.
К началу обручения Прохор, чувствовавший себя до этого уверенно и радостно, вдруг начал проникаться необъяснимой тревогой. Украдкой бросив взгляд на Марыльку, он отметил, что она держится молодцом: довольна и счастлива. Это положительным образом подействовало и на него. Наверное, просто сказывалось волнение от торжества момента. И, уже отводя взгляд, Прохору в последний миг вдруг показалось, что в глазах его невесты играл какой-то странный блеск. Никогда раньше он не замечал такого выражения в милых сердцу очах. Но это не так уж и важно; жених не придал этому значения. Видимо, в день венчания у многих девушек глаза горят совсем не заурядным огоньком.
Когда священник заканчивал великую ектенью[44] и уже хотел было торжественно произносить: «Обручается раб Божий…», присутствовавшие на венчании внезапно разом заахали и загудели: свеча Прохора по непонятной причине вдруг погасла. Это был дурной знак. Очень дурной!
В народе существует множество всяких суеверий на различные странные случаи, особенно если они происходят в самые ответственные моменты жизни. Так при венчании считается, у чьей свечи останется меньший огарок, тот раньше уйдёт из жизни. Если же свечи горят с потрескиванием, вступающие в брак будут часто браниться. Ну, а уж если свеча и вовсе вдруг погасла, то тут уже выдвигались самые жуткие предположения. И считалось, что такой брак всё-таки лучше отложить, хотя бы на время…
Прохор ошеломлённо смотрел на погасшую свечу. Марылька, словно ища помощи, бросала испуганные взгляды то на батюшку, то на своего жениха.
Первым нашёлся рассудительный и статно выглядевший сват Мирон:
– Ничего страшного – сквозняк! – громко объявил он для всех и, обратившись к Прохору, всё так же во всеуслышание посоветовал: – Зажги от Марылькиной свечи.
– Это будет символом вашей взаимовыручки, – поддержал Андрей Семёнович.
Батюшка, обрадовавшись, что так удачно нашёлся выход из скверного положения, ещё громогласней завёл:
– Обручается раб Божий Прохор рабе Божьей Марыле!
Надев на безымянный палец молодого колечко, священник повторял те же действия и с невестой. Всё шло хорошо. Но когда батюшка надевал кольцо на девичий палец, оно неожиданно выскользнуло. В церкви враз все замерли. В установившейся абсолютной тишине, весело подпрыгивая и катясь по дубовым половицам, медное колечко звонко отстукивало беду. Теперь уж сомнений ни у кого не было: брак будет несчастливым.
Настроение у венчающихся окончательно испортилось.
Кто-то из прихожан суетливо подал Марыльке кольцо. Подержав в руке и о чём-то поразмыслив, девушка обречённо сама надела его на палец. Глазами, полными слёз, она виновато взглянула на Прохора. «Господи, почему он молчит, почему не утешит, не поддержит?» – подумала Марылька, и слеза отчаяния обожгла её бледную щеку. Но, встретившись с враждебным взглядом жениха, девушка и вовсе содрогнулась: «Что он так смотрит на меня?!»
А Прохор ничего не мог понять. Взглянув на свою возлюбленную, он встретился совсем с другими глазами: чужими и в то же время знакомыми. Терзаться в догадках ему не пришлось! На него опять смотрели те же глаза, что и в купальскую ночь. И только сейчас он вдруг вспомнил, что именно с этими глазами намеревался сегодня встретиться. Именно этим глазам обещал, что будет ждать у старой берёзы. За суматошной суетой последних дней он совсем позабыл о своём обещании. Да хоть бы и помнил, всё равно никуда бы не пошёл!
Волной нахлынувшие мысли и воспоминания на время унесли Прохора от реальных событий. Наконец, тряхнув головой и скинув с себя бремя воспоминаний и не сдержанных обещаний, он опомнился.
Перед ним вся в слезах стояла его Марылька. Скромная, поникшая и любимая Марылька! Прохору до глубины души вдруг стало жалко девушку. Жалко от того, что это из-за него она подверглась таким испытаниям. Жалко, что уже с самого начала не смог оградить свою суженую от колдовских козней, а то, что здесь замешано именно колдовство он уже был уверен полностью. И Прохору до комка в горле было жалко Марыльку просто потому, что по щекам любимой текли безутешные слёзы.
Уж сколько лет священник обручает и венчает своих прихожан, но с такими конфузами ему пришлось столкнуться впервые. Он растерялся и не знал, как поступить, как сгладить неприятность.
Прохор же сразу догадался, чьи это проделки, кто хочет испортить им праздник. Не оставалось большим секретом это и для всех остальных. «Главное не поддаться панике и не потерять веру в себя и в Бога! Есть сила тайная, при встрече с которой, человек теряется и сам себя убеждает в неотвратимости беды», – Прохор опять вспомнил наставления деда Чигиря и, взглянув на растерянного священника, твёрдо произнёс:
– Батюшка, продолжайте. Нашему счастью никто и ничто не помешает.
– Да, батюшка, правьте службу. В церкви не место суевериям, – поддержал Прохора Андрей Семенович.
Священник молча кивнул головой и под пение «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе!» подвёл молодых к аналою[45], перед которым на полу расстелили кусок полотна. Молодым предстояло встать на это подножие. Считалось, что кто первым ступит на него, тот и будет главенствовать в семье. Но так как в крестьянских семьях главенство беспрекословно принадлежало мужчинам, первым на подножии по праву оказался до блеска начищенный сапог Прохора.
Венчание продолжалось. Все видели, что батюшка слишком суетится и торопится скорее завершить обряд, но никто его за это не осуждал. Чем дольше будет продолжаться венчание, тем большая вероятность ещё какого-нибудь досадного конфуза.
Опросив молодых, по своей ли воле вступают в брак, и получив утвердительные ответы, священник взял с аналоя венец. Осеняя крестообразно жениха, он торжественно произнёс:
– Венчается раб Божий Прохор рабе Божьей Марыле. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
С этими словами батюшки жених поцеловал образ Христа на своём венце.
Подобным образом была благословлена и невеста. После возглашения, что раба Божья Марыля венчается с рабом Божьим Прохором, Марылька поцеловала на своём венце образ Богоматери.
Ещё трижды попросив Бога венчать молодых, священник произнёс слова из послания святого апостола Павла, в котором брак называется великой тайной.
Апогей таинства венчания наступает с возложением венцов. Трижды благословив жениха и невесту, батюшка возложил венцы на их покорные головы.
И вот наконец уже оба молодожёна красуются в начищенных до золотого блеска сверкающих венцах. С этого момента они стали для Церкви мужем и женой. Облегчённо вздохнув, Прохор и Марылька бросили друг на друга тёплые взгляды. В них отражалась нежность и преданность, готовность преодолеть вместе любые лишения и тяготы мирской жизни. А то, что их будет непомерное множество, они уже знали точно.
И опять, уже отводя взгляд, Прохор отметил в облике невесты неуловимую странность, какую-то мелькнувшую тень на лице. Да-а, вдоволь досталось не свадебных переживаний бедной девушке!
– Марылька, как ты? – тихонько, взволнованным шепотом справился он.
– Добре, – глядя на батюшку, незаметно, одними лишь губами ответила девушка.
Венчание подходило к концу. Все присутствовавшие на церемонии с волнением ожидали благополучного завершения обряда. Особенно тревожно было на сердце молодых. Только бы ничего больше не произошло! Но, вроде бы, Бог миловал! Пока.
Сердце Марыльки трепетало, как у пойманной птички. Эх, если б не эти неприятности! Она стояла б сейчас под венцом и чувствовала бы себя настоящей сказочной принцессой. Но, видимо, селянская девушка, как, впрочем, и всё Полесье, была настолько подвержена суевериям, что считала дурные приметы неотвратимым уделом. Если уж перебежала чёрная кошка дорогу, непременно должно не повезти!
Вот дошла очередь и до чаши с красным вином, которая являлась для новоиспеченных супругов символом общей судьбы. Муж и жена должны отпить по три глотка из этой чаши.
Пан Хилькевич по этому случаю специально вручил Прохору бутылку хорошего полусладкого вина, настоящего красного хереса. Семён Игнатьевич очень дорожил этим вином, имевшим цвет красного дерева и обладавшим вкусом изюма. Всего лишь несколько бутылок этого креплёного напитка он привёз из-за границы, где ему довелось побывать лишь однажды. Пан Хилькевич берёг красный херес исключительно для значимых торжеств, но, помня, чем обязан Прохору, он без всякого сожаления расстался с частью драгоценного напитка. Крестьяне же обычно использовали на венчании вишнёвую наливку.
Первым три глотка сделал Прохор. Бережно передав чашу Марыльке, он ободряюще улыбнулся, всем видом показывая, что вино вкусное, и он не против был бы выпить всю чашу. Эта шутливая выходка немножко развеселила невесту.
Марылька видела, что Прохор всячески старался поддержать её, отвлечь от тревожных мыслей. И ему это удавалось. Она уже и сама пыталась утешить себя: «Подумаешь, колечко упало! Мало ли что валится из рук! А сквозняк не только свечу может задуть, а и рясу вон с батюшки сорвать! Ой, куда это меня понесло?» – спохватившись, почти задорно подумала Марылька.
Настроение постепенно улучшилось и произошедшие неприятности не казались уже такими ужасными. Хотя осадок на душе всё равно оставался и змеиным ядом отравлял лучший день в жизни молодожёнов.
«Ну, вот сейчас вина испробую – и вовсе на душе легко станет!» – старалась не падать духом Марылька.
В чаше оставалось совсем немного креплёного напитка. Его можно было бы и одним глотком выпить, но полагалось сделать три маленькие. То ли от чрезмерной осторожности, то ли сказалось нервное напряжение, но с последним глотком Марылька с ужасом почувствовала, что кисло-сладкая креплёная жидкость пошла не туда. Стиснув зубы, она с трудом сдерживала кашель, который рвался из легких. Видимо, несколько терпких капель всё же попали не в то горло. С неимоверным усилием продолжая сдерживать давящий кашель, Марыля быстро протянула пустую чашу и даже не увидела, кто её взял.
От натуги глаза невесты покраснели и снова набрякли слезами. В горле уже просто невыносимо драло. Лёгкие яростно хотели избавиться от едких непрошеных капель вина. Нестерпимо хотелось откашляться и вздохнуть полной грудью. От позывов удушья и кашля плечи невесты начали непроизвольно вздрагивать. Так долго продолжаться не могло!
Если бы Марылька, поперхнувшись, сразу легонько откашлялась, возможно, всё прошло бы естественно, легко и незаметно. Но невесте очень уж не хотелось опять давать повод для испытания судьбы и людских пересудов.
Не замечая удручающего состояния Марыльки, священник продолжал обряд. Он начал соединять руки новобрачных, чтобы, взяв своей рукой, трижды обвести их вокруг аналоя, на котором лежали Крест и Евангелие. В венчальном обряде такое действие означает, что с этого момента муж и жена отправляются в совместное вечное шествие.
Взяв руку Марыльки, батюшка тут же вздрогнул от испуга. В храме тоже все с ужасом встрепенулись: невеста вдруг зашлась в громком мучительном кашле. Это был даже не кашель, а надрывное выворачивание нутра. Согнувшись вдвое и не в силах сдерживаться, девушка просто рычала, стараясь избавиться от душившего её кашля. И вдруг поняв, какое сейчас зрелище она представляет для обескураженных односельчан, Марылька стыдливо закрыла лицо руками и выбежала вон в притвор.
Многие из зевак, крестясь и испуганно бросая косые взгляды на молодых, в спешке начали покидать церковь, как говорится, от беды подальше. Хотя это и была церковь, но все уверовали, что тут сейчас происходит что-то нечистое, и каждый боялся, чтобы, не дай бог, лихо не коснулось и его.
Прохор, Игнат и Любаша кинулись вслед за Марылькой. Панич остался с батюшкой. Сват Мирон потоптался в растерянности, не зная куда податься, но быстро сообразил, что молодым лучше не мешать.
Прохор первый выскочил в притвор.
– Марылька, милая, ну что же это опять? – обняв вздрагивавшие плечи любимой, он тщетно пытался добиться, что же случилось на этот раз.
Девушка не могла говорить. Душивший кашель хоть и ослабил свою хватку, но вздохнуть свободно ещё не давал.
Но вот Любаш догадалась, что произошло. Став позади подружки, она ладошкой начала стучать ей по спине. Когда Марылька в знак одобрения лишь кивнула головой, то всем остальным тоже стало понятно: невеста всего лишь поперхнулась.
Прошло ещё несколько минут. Кашель отступил, и, чуть переведя дух, Марылька зашлась в рыданиях. Теперь её давило отчаяние и горькая обида. Самый светлый день в её жизни превратился в какую-то жестокую пытку. И срам-то какой?! Что люди теперь скажут?!
Большинство людей, особенно в сельской местности, испытывали настоящий трепет перед возможностью оказаться причиной пересудов и сплетен. Иногда, совершив неблаговидный поступок, люди меньше боялись кары божьей, чем всеобщего осуждения знакомых и соседей. Так и сейчас: хотя Марылька ни в чём и невиновата, но имя её, да и Прохора тоже, долго ещё будет на языке у всей округи. А не особо бойкую девушку даже мысли об этом очень пугали.
Любаша не отходила от подруги, жалела и успокаивала.
– Ну что ты, глупенькая, эка беда – поперхнулась! У меня прошлый год так вообще рыбья кость в горле застряла. Мать веретеном еле вытянула. Вот где страху натерпелась! – приговаривала Любаша, хотя сама прекрасно понимала, что это всё не то.
– Марылька, успокойся, милая. Всё у нас образуется. Не надо слепо верить всяким бабским забабонам, – говорил Прохор, нежно прижимая суженую к своей груди.
На женихе всё ещё красовался венец. Марылькин слетел где-то в храме. Заметив это, Любаша покрыла голову подруги платком и кинулась назад за венцом.
Священник и Андрей Семенович стояли и о чём-то разговаривали. Вид у обоих был подавленный. В руках батюшка держал венец невесты. Когда Любаша приблизилась к ним, панич коротко бросил:
– Как она?
– Рыдает, – ответила девушка. – Я за венцом.
Батюшка молча протянул свидетельнице венец и, когда она пошла назад, сказал вдогонку:
– Подойдёте потом все сюда.
Словно совершив тяжкое преступление и придя на покаяние, молодые предстали перед священником, понуро опустив головы. Марылька всё ещё изредка всхлипывала и шмыгала носом. Прохор угрюмо молчал. Свидетели и сват выжидающе поглядывали то на батюшку, то на панича, как будто судьба молодых сейчас была в их руках.
Заметно поредевшая толпа зевак продолжала с интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий. Остались самые смелые, самые близкие и, конечно же, самые любопытные. На них-то и ляжет «тяжкое бремя» разнести и приукрасить по всей округе слухи о злополучном венчании.
– Дети мои, не надо падать духом, – грустно начал священник. – Какие бы испытания и препоны не встали на вашем пути, вы теперь перед Богом муж и жена. Ну, а коли на ваше венчание выпали странные знамения, то и это ещё не беда. Сейчас я совершу отпуст[46] и попрошу святых взять вас под своё покровительство. Вы же, дети мои, тоже помолитесь, и господь Бог отметёт от вас все обавания и потворы[47] недругов ваших, коли таковы имеются.
В храме всё так же горели свечи, всё так же красочно пестрела церковная утварь, всё так же лики святых готовы были внять и ниспослать прощение.
Прохор и Марылька никого вокруг не замечали. Всё их внимание в молитвах обращено к местнопочитаемому Николаю Чудотворцу. Батюшка, тоже усердно молясь, просил святых взять под свою опеку новую семью.
Из церкви молодые ехали уже вместе в бричке пана Хилькевича. Из молодёжи рядом был только Андрей и Игнат. Ехали молча, говорить не хотелось. Прохор нежно обнимал свою молодую жену, а она, уткнувшись ему в плечо, тихонько плакала. Нет, не о таком венчании мечтают девушки!
Прохор это прекрасно осознавал и чувствовал себя виноватым. Всё из-за него! Он догадывался, что старуха-ведьма была осведомлена о сегодняшнем венчании и, несомненно, приложила немало усилий, чтобы испортить ему праздник. А для создания самых вредоносных козней такие моменты тёмные людишки никогда не упускают. От таких скверных мыслей Прохор тяжко вздохнул и мрачно подумал: «Вот и началась месть проклятой старухи! И выбрала ж, гадина, день…»
Глава 20
Степан места себе не находил. Всё его раздражало, всё было не так, любая мелочь вызывала вспышки злобы. Он без надобности скакал то в одно, то в другое место, ища на ком бы выместить эту свою злость. Но день был воскресный, и барщину никто не отрабатывал, а значит и согнать на ком-то дурное настроение не имело возможности.
Ненависть к лесничку терзала его уже давно, но сегодня приказчик и вовсе был сам не свой. Эх, если бы одна ненависть! А то ведь и ревность грызёт, жизни не даёт! «Ну, Марылька! Ну, чертовка! Вот уж в голову засела!» – чертыхался в мыслях Степан. Ему и невдомёк было, что оказаться в таком состоянии приказчику помогла чужая воля…
Чтобы подальше быть от села, Степан направил коня на дальние панские наделы, вроде бы глянуть, что и как там. Стегая лошадь кнутом и пустив её в галоп, приказчик надеялся хоть немного растрясти мрачное настроение. Но ничего не помогало. И без того дурное его состояние ещё больше ухудшалось.
Вдруг вдали на панском лугу Степан заметил человеческую фигуру. «Ну вот, сейчас и полегчает!» – злорадно буркнул он и направил коня к вороватой фигуре с явным намерением согнать на несчастном свою злобу.
Хима ещё издали заприметила скачущего к ней всадника и облегчённо вздохнула. «Долго что-то…» – равнодушно подумала она и, повернувшись спиной к всаднику, спокойно продолжала собирать луговой щавель.
Приблизившись к тёмной фигуре, приказчик с некоторым сожалением увидел перед собой согнутую спину незнакомой старухи. Ну, да ладно, получит и старуха!
– Кто позволил на панском поле траву топтать?! – коршуном налетел Степан с видом грозного хранителя господского добра.
Он уже наперёд знал, что будет происходить дальше. Сейчас эта замызганная баба упадёт на колени, начнёт голосить, просить прощения, называть его и соколиком, и миленьким лишь бы не испробовать кнута. И это всё со страху! Дура, ей, поди, и невдомек, что никакой вины и в помине нет! А это и не важно. Надо ж кого-то отхлестать. Да и истерзанное самолюбие немного успокоится, если кто-то будет ползать у его ног и просить пощады!
– Так уж осень на пороге, милок… какая трава? Тут уж два укоса зрабили. Неужто ещё и на Покров косить будут? – невозмутимо сказала старуха с явною насмешкой.
Она разогнулась и, развернувшись, без малейшего страха уставилась на приказчика.
От вида старухи у Степана пробежал холодок по спине. Он не мог оторвать взгляд от её обезображенного лица, от её пристальных и колючих глаз, какой-то неведомой силой приковавших к себе его взор. И только теперь до приказчика дошло, кто перед ним! «Вот уж не везёт, так не везёт! Мало своего горя, так ещё и эту чёрт подпёр!» – лихорадочно подумал Степан.
Он прекрасно знал об участи своего предшественника и теперь не на шутку струхнул. Вот так, лицом к лицу, с ведьмой он столкнулся впервые. Пот градом начал валить с него. Мелкий стук зубов выдавал сильный испуг.
А ведьма всё продолжала буравить всадника своим тяжёлым взглядом. Страх всё больше и больше сковывал сознание её жертвы. Видя состояние приказчика, Серафима лишь презрительно подумала: «Да-а, это тебе не кремень – глина. Хошь – меси, хошь – лепи. А хочешь, так и верёвки из такого вить можно. Не то что лесничок окаянный…»
Видя, что взгляд ведьмы превратился из жесткого в насмешливый, Степан решил всё же попробовать не уронить своего достоинства. Стараясь придать голосу как можно больше суровости, он спросил:
– А ты… это… что тут шукаешь?
– Да так… Особо ничего я и не шукаю…
– А что ж ты тогда тут робишь? – подозрительно допытывался приказчик.
– Хм… – ухмыльнулась старуха. – Тебя вот поджидаю, Стёпушка.
От этих слов и от зловещей ухмылки на отвратительной физиономии у Степана у самого перекосилось лицо. От страху он никак не мог понять: то ли старуха шутит, то ли и вовсе издевается. И от этого ему стало ещё горше.
– К-как… это… п-поджидаешь? – Степан уже не скрывал зубной дроби и слова выговаривал невнятно, с откровенным заиканием.
Если старуха говорила правду, то откуда она могла знать, что он тут будет. «Уж не наколдовала ли часом?!» – страшная догадка поразила Степана.
А Хима меж тем спокойно ответила:
– А так вот… почитай, с самого утра и жду. – Она и в самом деле ещё с вечера наворожила на эту встречу.
– И для ч-чего это я тебе… спонадобился? – спросил Степан. Спокойный тон ведьмы немного успокоил его.
– Да ты мне и не надобен. Это я тебе потребна.
– На кой чёрт ты мне сдалась… – с досады вырвалось у Степана. Он хотел было ещё что-то сказать резкое, но, вспомнив, кто перед ним, тут же прикусил язык.
– Помочь тебе вот хочу, Стёпушка, – всё так же невозмутимо молвила старуха.
– И как же это ты собираешься мне помогать? Да и в каком это деле? Вообще-то я и сам во всём справляюсь…
Хима иронично покачала головой и всё так же спокойно произнесла:
– В сердечном деле, милок, в сердечном.
И тут Степан крепко задумался: «Вот шельма, всё знает! А может, и в самом деле нехай попробует! Чем чёрт не шутит! Но, что же она задумала?»
– Я сердцебиением не хвораю, – прикинулся непонятливым Степан.
– Э-э, милый, – чуть ли не с насмешкой проронила Серафима. – Ещё как хвораешь! Ты на себя погляди, лица на тебе нет. А ты говоришь…
Степан не нашёлся, что на это ответить и лишь с опаской поглядывал на ужасную старуху. Он с трудом преодолел первый страх и теперь внешне держался спокойно.
А старуха, прищурив тёмные глаза, пристально наблюдала. Хотя она уже видела, что собой представляет новый приказчик, но ей было интересно узнать определённее, из какого теста он сделан и до какой грани сможет сохранить самообладание.
– Меня трудно обдурить. Я ведь не только ушами слышу… И глаз мой человека насквозь видит, – с этими словами Серафима так зыркнула на приказчика, что тот невольно поёжился.
Степан лихорадочно соображал. Он чувствовал, что неспроста эта ведьма предлагает ему помощь. К такой только попадись – век в ярме ходить будешь. Но и послать её к чёрту – тоже страх берёт. Вот незадача!
– А с какого это интересу ты собралась мне помогать? – приказчик никак не мог понять истинного намерения старухи. – Небось запросишь потом, чтоб душу дьяволу продал! Мне такое не подходит.
– Не запрошу… Ничего не запрошу.
– Так не бывает!
– Бывает. У меня свой интерес, у тебя – свой.
– Хм, и какой это у тебя может быть интерес? – с ходу ляпнул Степан и тут же сообразил: «Прохор!»
Старуха пристально наблюдала за приказчиком.
«Та-а-ак… – подумал он. – А вот это уже по-настоящему интересно! Хм, а я-то с перепугу и не догадался сразу!»
Заметив резкую перемену в лице Степана, Серафима лишь ухмыльнулась:
– Ну, наконец-то! Дошло-таки на седьмые сутки!
– А что будет после «твоей помощи»? Что станется?
– Как «что»? Тебе – девка…
– А тебе?
Серафима устремила взор в синюю даль и загадочно произнесла:
– А мне жить станет легче… – Переведя взгляд на приказчика, она строго спросила: – Уразумел ли?
– Дык… а я что? Мне всё равно… – опять нервно запыкал Степан.
– Вот то-то же. Поменьше спрашивай – подольше покой иметь будешь.
– Понял… не маленький… – выдавил приказчик и, видя, что всё равно ему деваться некуда, смирился. – Ладно, уговорила. От меня-то что надобно?
– Да ничего особенного, – вздохнула Серафима и, кивнув в сторону близлежащего леса, устало сказала: – Пошли к опушке, растолкую. Старая я уже, ноги начинают болеть, кости ломит. Вон на корягу присяду – и говорить проще станет.
– Пошли, – согласился приказчик и с тревогой начал всматриваться в лесную тень.
Присев, Хима скоро объяснила приказчику, что ей нужно и как это сделать. Степан даже удивился такой пустяковой затее. Он ожидал, что ему придётся исполнять опасное и рискованное поручение. А тут – тьфу! Пустяк!
У приказчика даже настроение взыграло. Слушая спокойный говор старухи, он совсем осмелел. Удивляясь самому себе, Степан даже впал в размышления: «И не такая уж страшная эта ведьма. Если бы не обсмаленная рожа, обычная селовая баба. А вот за заботу благодарствуем. Глядишь, да и выйдет толк какой…»
Серафима, глянув на приказчика и заметив на его лице слишком довольное выражение, неприязненно буркнула:
– Рано размечтался. О деле лучше думай. Это сразу кажется, что всё просто. А как оно обернётся, кто знает…
Степан опять поразился прозорливости старухи.
– Не переживай, будет тебе угощение, – сказал он и, немного помолчав, не удержался, спросил: – Скажи, Хима, морда вот у тебя опаленная – Прохор постарался?
От изумления глаза Химы округлились, как у совы. Не найдя что ответить, она ошеломлённо уставилась на приказчика. Никак не ожидала от него такой наглости. Так ничего и не сказав, она отвела в сторону взгляд и притронулась рукой к шрамам. Вопрос Степана остался висеть в воздухе.
– Ясно… мне он тоже стоит поперёк горла, – тихо произнёс понятливый приказчик.
– Ну так чего ж ты скачешь сегодня по свету, как полоумный?! Соберись, поднатужься, возьми да и проглоти этот кусок, раз он у тебя в горле стоит, – зло съязвила старуха.
– Ага, проглотишь. Ты и то вон, как я понял, подавилась, а куда уж мне.
– Ты, милок, говори, да не заговаривайся. Осмелел, видать? – злобно прошипела Серафима. Её уже начала раздражать настырность приказчика.
– Ладно, ладно, не серчай. Осмелел, не осмелел, а нынче мы, Хима, с тобой в одной упряжке. Цели у нас, правда, трошки разные, а вот дорога к ним одна.
– Одна… – согласно кивнула головой Хима. – И я-то дойду, а вот ты со своим языком да никчемной душонкой как бы в канаве на обочине не оказался.
– Сплюнь, старуха!
– Так я и сплёвываю-то всегда по делу, а оного пока не вижу. Ну, да хватит без толку трепать. Обсудили что надо – и разошлись. Как бы тебе не припоздниться, – сказав последние слова, Серафима поднялась.
– Погодь, погодь трошки. Я что спросить-то еще хотел…
– Спрашивай. Если знаю, скажу, мне не жалко.
Степан, немного помявшись, начал неуверенно говорить:
– У тебя ж… это… дочка есть… Говорят, красивая девка. Неужто ты хочешь, чтоб она всю жизнь в лесу просидела…
– А это не твоего ума дело, – перебила Серафима.
– Жалко, просто, девку… ей бы к людям… Тебе-то старой всё равно… а вот ей…
– Ты уж говори точнее: ей бы к хлопцам, а ещё точнее – к тебе, кобель паршивый! Ишь ты, заступник нашёлся! – уже не на шутку совсем разозлилась старуха.
– При чем тут я! – видя состояние Химы и решив не будить лихо, залепетал приказчик. – Я её и в глаза-то ни разу не видел. Хотя нет, вру. Раза два или три издали всё ж замечал девичью фигуру. Видать, она была.
Серафима подозрительно глядела на тщедушного, но настырного приказчика и ей захотелось вдруг слегка проучить его, чтобы не забывался.
– Люди правду говорят. Красавица у меня Янинка. И умница.
– Ну, так и я о том же, – обрадовался Степан.
– Хочешь дочку мою увидеть? – совсем неожиданно и дружелюбно предложила Хима, глядя в сторону, на широкий луг.
– Отчего ж не поглядеть? Как говорится, за показ денег не берут. Думаю и с меня, да и с тебя не убудет. А когда можно будет глянуть на твою красавицу?
– обрадовался приказчик.
Степану уже давно хотелось хоть одним глазком подивиться на дочку ведьмы. О её пригожести молва по всей округе ходит, а ему ни разу и не привелось оценить своим намётанным глазом эту красоту. «Непорядок! Надо исправить!» – самодовольно подумал приказчик и повторил:
– Так когда дочку покажешь, а, Хима? Смотрины, так сказать! Гы-гы-гы, – рассмеялся он, довольный своей шуткой.
– А прямо сейчас, – сказала старуха и повернулась к Степану.
– Гы-гы, – от шокового зрелища тот не мог остановиться и продолжал нервно гыгыкать. Бледное, как полотно, лицо обескураженного приказчика начало вытягиваться.
Нет, перед взором Степана не предстало что-то ужасное. Наоборот, перед ним появилось лицо девушки неписаной красоты. И если бы такая встреча произошла где угодно и без колдовства, приказчик был бы несказанно рад. Но чтобы вот так, неожиданно и необъяснимо, из уродливой старухи в красавицу – это проделки нечистой! А таких непонятных явлений люди боятся больше всего.
Степан, по меркам людским, прожил не так уж и много, но и не мало – четвертый десяток наполовину перебрал. И на своем веку он всякое слышал о проделках нечистой силы, немало шевелились волосы на голове от рассказов очевидцев иль жертв колдовства. И все те побасенки больше походили на сказки-страшилки и отдавали чем-то далёким, нереальным и не касающимся его самого. И вдруг – нате вам! Мало того, что с самой ведьмой заключил подозрительный уговор, так ещё и подвергся воздействию её чар.
Хотя Степан и был падок до молодиц, особенно до красавиц, но сейчас был не тот случай, чтоб сердце его умилялось. На него смотрела такая красавица, от дьявольского взгляда которой у приказчика волосы на голове дыбились. Словно могильным холодом, пробирало тело и душу. Какое-то неземное выражение глаз незнакомки не сулило ничего хорошего. А само обстоятельство странного перевоплощения уродливой старухи в холодную красавицу и вовсе приводило Степана в дикий ужас. От испуга сейчас уже не только стучали зубы, но и все тело бил озноб, отнялась речь, волю сковывал противный паралич.
– Ну и как я тебе, Степушка, приглянулась? – улыбнувшись одними только губами, спросила красавица.
Дрожа от страху и не находя сил вымолвить слово, приказчик лишь нервно кивнул головой. Он готов был во всём проявлять согласие, боясь накликать на свою голову ещё большей напасти. Да-а, теперь ему уже надолго отобьётся охота видеться с ведьмой и её дочкой, а тем более ещё и лезть со своими расспросами.
С удовлетворением отметив состояние приказчика, странная красавица презрительно ухмыльнулась.
– Что ж, свиделся, с кем хотел, и довольно! – сказала она. – А на будущее мой тебе совет: постарайся держаться подальше от моей дочки. С тебя хватит и того, что на меня вволю сейчас «налюбуешься».
И сразу после этих слов такое начало твориться, что Степану сделалось совсем худо! Сердце бешено заколотилось и, казалось, вот-вот вырвется из груди. Он-то не видел, как ведьма превращалась в девицу, а вот обратное перевоплощение Хима не стала от него скрывать.
Глядя прямо в глаза перепуганному мужику, красавица словно выставляла напоказ ужасные изменения, начавшие происходить с её обличьем. Опрятный наряд превращался в латанные-перелатанные обноски; белая бархатная кожа темнела, морщилась и становилась похожа на печеное яблоко; чёрные причесанные волосы шевелились, словно тонюсенькие черви, сбивались в клочья и обильно украшались старческой сединой. Холодное, но миловидное лицо старело на глазах, стягивалось, и на нём начала проступать ещё до конца не зажившая, сочившаяся рана с тошнотворным видом опалённой плоти. Красавица на глазах у остолбеневшего от испуга приказчика превращалась в старую ведьму. Зрелище было настолько отвратительное и жуткое, что рассудок Степана не выдержал, и он грохнулся наземь в глубоком обмороке.
– Так-то вот, сокол ты мой ясный, – довольно проскрипела старуха.
Серафима последнее время любую встречу с человеком, представлявшим для неё хоть мало-мальский интерес, невольно сравнивала с Прохором. Сравнивала и представляла: как бы в том или ином случае поступил её заклятый ворог. И все эти сравнения всегда были не в пользу её клиентов.
Вот и сейчас, глядя на распростёртое тело приказчика, она сокрушённо подумала: «Да-а, с лесничком такой раёк[48] не прошёл бы». Ведь ей не составило совершенно никакого усилия подавить волю Степана и заставить его видеть то, что она ему внушила.
Прошло ещё несколько минут и приказчик начал наконец подавать признаки возвращения к жизни. Сначала он нечленораздельно замычал, потом сел, несколько раз тряхнул головой, словно пытаясь сбросить наваждение, и лишь после этого его взгляд стал более-менее осмысленным.
– Ну как, оклемался? – насмешливо поинтересовалась Хима.
– Оклемался… – боясь глянуть на старуху и отводя глаза, буркнул Степан.
– Отчего ж ты такой пужливый.
– Какой уж есть… и больше нечего меня стращать… Гляди, Хима, когда-нибудь перегнёшь палку – тебе ж и хуже будет.
– Ты это что, пужать меня надумал?! – опять несказанно удивилась Серафима. Видать, не пошла этому наглецу впрок наука.
– Мне это ни к чему. Без меня есть кому тебя пужнуть, – в отместку намекнул Степан и тут же сам испугался своей опрометчивости.
Серафима намёк поняла правильно, и вновь её злоба взыграла на упрямое и вызывающее поведение приказчика.
– Что ж, дочку мою повидал, а теперь, я думаю, пришла пора свидеться тебе и с самим дьяволом. Хочешь в компанию к дьяволу? Ага, раз молчишь, значит согласен. Гляди только не млей да не впадай в беспамятство – враз в преисподнюю заберёт! – угрожающим шепотом произнеся эти слова, старуха шагнула ближе к всё ещё сидящему на земле приказчику.
Степан почувствовал, что его сейчас ожидает новое испытание смертным страхом. Первые приступы ужаса, от которых он толком ещё не оправился, по сравнению с тем, что его ожидает – цветочки. Более зловещего напряжения сердце уж точно не выдержит. И приказчик вдруг со страхом сообразил, что если он сейчас поскорее не уберётся от проклятой ведьмы, то может и навсегда остаться тут на окраине леса.
Лихорадочно крестясь и отползая подальше от старухи, с которой опять начало происходить что-то невообразимое, Степан истерично просил защиты у святых. От ужаса его колотило, и вместо молитв вырывались лишь короткие и отрывистые восклицания:
– Свят! Свят! Свят!
Неимоверным усилием приказчик старался отвести глаза и не видеть зловещего представления. Но какая-то неведомая сила не давала ему сделать это. А вот с отползанием у Степана кое-как всё ж выходило.
Лошадь хоть и вскидывала часто в беспокойстве морду, но всё же чувствовала, что для неё опасности нет. Занятая более насущной задачей, она щипала траву всего лишь в каком-то десятке шагов от приказчика и Химы. И вдруг, почуяв, что началось твориться что-то крайне неладное, она снова вскинула морду и на этот раз тревожно и громко заржала.
Это стало спасительной соломинкой для Степана. Ржание лошади показалось ему настолько родным и земным звуком, что, заслышав его, он сумел на мгновение вырваться из колдовских чар. Этого мгновения было достаточно, чтобы отвести взгляд, опомниться, вскочить на ноги и кинуться к коню.
Проделав такой «отважный поступок», приказчик в состоянии сильнейшего нервного напряжения всё же успел отметить мелькнувшей мыслью, что и он может противостоять колдовским чарам. Если, конечно, сильно припечет. Ему было и невдомёк, что всё произошло по замыслу ведьмы. Не хотела она больше задерживать Степана и тем более причинять ему вред. Он ещё сгодится ей.
Уже пустив коня в галоп, Степан услышал вдогонку необычайно громкий крик Химы:
– Про уговор не забудь! Забудешь – точно с дьяволом встретишься!
Глава 21
Заранее было оговорено и решено, что свадьба будет проходить у Марыльки, да и жить молодые тоже будут в хате бывшего покойного приказчика. Вот поэтому свадебные повозки ехали после венчания к Марыльке. Ехали без лихих посвистов, весельных песен и без задорных выкриков да гиканий, которыми по обычаю всегда сопровождался свадебный кортеж.
По этому же обычаю, молодых должны встречать с хлебом-солью родители жениха, но по случаю спешной свадьбы и немалой отдалённости, со стороны Прохора вообще никого не было. В таком случае молодожёнов встречают родители невесты, но опять же, есть ещё одно «но» – вдовам и вдовцам делать это ни в коем случае нельзя. Встречать Прохора и Марыльку поручили родному дяде невесты.
На скромный свадебный пир позвали лишь самых родных и близких. Под раскидистой яблоней молодожёнов ожидали дядьки и тётки невесты, наречённые родители, ближайшие соседи и с десяток близких друзей молодых.
Марылькины дядьки время от времени важно похаживали по двору в добротных сапогах, к которым крестьяне особо бережно относились и надевали лишь по праздникам или на великие ярмарки. Рубахи, вышитые по вороту и низу орнаментом и подпоясанные тонкими ремешками или цветными поясками, придавали своим хозяевам ухарский вид. И чем зажиточнее крестьянин, тем наряднее рубаха и замысловатее вышивка.
Бабы на свадьбу тоже нарядились во всё лучшее, что имелось в сундуках. Их наряды были более разнообразны и с более выраженной национальной вышивкой.
Рукава, ворот и нагрудная часть льняных рубах пестрели колоритным орнаментом. Поясные юбки у многих баб и молодиц отличались по покрою и украшениям. Одни красовались в суконных красных андараках, другие – в синих или зелёных летниках и понёвах[49]. Но особое внимание крестьянские женщины уделяли красочности фартука. Фартук – это, можно сказать, лицо костюма. Он украшался различными складками, затейливо вышитыми узорами и орнаментами, обрамлялся покупными или домоткаными кружевами.
На женских ногах обувь тоже сидела по-разному. Которая молодица побогаче, всячески выставляла напоказ изящные чаравики, изготовленные умелым ремесленником. Кто беднее, стыдливо прятал грубые сапоги или постолы[50] домашнего изготовления.
Замужние женщины укрывали головы цветастыми хустками и намитками[51]. Девки на свадьбах красовались в венках, перетягивали волосы лентами-скидочками.
Хотя все между собой и были роднёй, но ревностных взглядов на убранство друг друга сёстры, золовки[52], своячины[53], тётки да ятровки[54] скрыть не могли. То у одной, то у другой лицо омрачалось от завистливого взгляда на яркий блеск чужих бус; губы высокомерно кривились в надменной ухмылке при виде более бедного наряда; яркий орнамент расшитого фартука вызывал у кого-то плохо скрываемый вздох.
Народ в ожидании молодых проводил время за разговорами. Мужики вели степенные беседы на житейские темы; бабы, продолжая придирчиво оценивать наряды, обсуждали все последние сельские новости; и те и другие гадали о благополучии сегодняшнего брака.
Многие гости открыто сетовали на скоропалительность этой женитьбы: можно было бы ещё несколько месяцев и потерпеть, подготовиться как следует и справить веселье, соблюдая все обычаи и ритуалы. Ни сватовства, ни змовин[55], ни многого другого к этой свадьбе не проводилось.
Немногочисленные приглашенные гости рассчитывали погулять на звонком веселье, а тут – тихое застолье.
В надежде на угощение во двор заходили самые нетерпеливые односельчане, не удостоившиеся чести быть приглашёнными. Видя, что пришли слишком рано, сбивчиво передавали Марфе поздравления для молодых и, неловко потоптавшись, отправлялись восвояси.
Уже давно замечено, что хорошие важные новости среди людей распространяются очень быстро, а вот вести о чужом несчастье или горе – и того быстрее. Так и сейчас: весть о конфузах на венчании чёрным вороном пролетела по всему селу, не обошла стороной и избу невесты. Ещё задолго до приезда молодых собравшиеся гости узнали о дурных предзнаменованиях.
Затихли весёлые шутки, сопровождавшие всякую свадьбу; громкие беседы и возбуждённый гул унялся до тихих перешептываний. В предзастольном ожидании молодых гости находились в растерянно-подавленном настроении.
Только малым ребятишкам взрослые заботы и опасения были нипочём. Сбившись в стайки, ребятня весело носилась среди гостей, оглашая двор визгом и радостными криками. Родители их не унимали, не приструнивали. Детвора разыгралась, и, если бы не их звонкий смех и весёлый шум, можно было бы подумать, что здесь народ собрался на поминки.
Но вот наконец к хате Марфы Логиновой подкатили свадебные упряжки. Молодые с немногочисленной свитой шаферов и друзей вышли к гостям. Хлебом-солью встречали новобрачных дядька Алесь со своей женкой. Рядом стояла растроганная Марфа.
Видя сильную растерянность у встречающих, Андрей понял, что и здесь уже всё знают. Он решил исправить унылую обстановку, а посему временно взял бразды свадебного генерала в свои руки. Образованность, авторитет и социальное положение просто обязывали его избавить свадьбу друга и всех участников от нерадостного настроения. И это нужно сделать немедля.
Выйдя наперед новобрачных, Андрей Семенович поднял руку и громко произнёс:
– Одну минуточку, почитаемые гости и молодые, я имею слово!
Вокруг установилась заинтересованная тишина. Даже детишки убавили игривый пыл и уставились на необычно наряженного дядьку.
Выдержав небольшую паузу, Андрей Семенович начал свою речь тихим баритоном:
– Марфа Николаевна, и вы, почитаемые гости! До вас, как я понял, уже дошёл слух о незначительных казусах во время венчания. Так вот, я хочу вам сообщить, что, на моё мнение и по суждению священника, ничего страшного не произошло. Ну, вышло маленькое недоразумение! Ну и что тут такого? Такие каверзы с любым могут статься. Просто все мы очень подвержены суеверным страхам и во всём видим какие-то дурные предзнаменования. Не надо пугать самих себя. Нечего волноваться!
Гляньте на молодых! – панич повернулся в сторону жениха и невесты. – Да на них любо-дорого глядеть! Такие с любыми невзгодами справятся, любые тяготы им будут по плечу. Так что, вопреки всяким забабонам, давайте отгуляем свадьбу весело, как и подобает такой паре.
А для того, чтобы всё было хорошо, батюшка отслужил ещё и отпуст. Теперь наши молодые под покровительством святых, да и сам Бог с радостью примет такую пару под своё крыло. Так что отбросьте всякие сомнения и от души веселитесь!
Встречайте молодых! – дал команду Андрей Семенович, заканчивая свою речь.
Вокруг одобрительно загудели, настроение у всех заметно улучшилось.
Дядька Алесь был краток и деловит, хотя и волновался от выпавшей ему обязанности не меньше самих молодых. Поздравив жениха и невесту, он дал им отведать обязательные угощения. Как того требует обычай, молодые попробовали хлеб-соль и, пригубив горелки, тут же выплеснули «слёзы» через левое плечо. Остатки горелки дождём полетели не только на землю, но и на гостей, вызвав весёлый шум и визг.
– А теперь милости просим всех к столу! За счастье молодых чарку поднять и отпотчевать нашего каравая, – с поклоном и приглашающим жестом правой рукой Марфа позвала всех в избу.
Повеселевший и проголодавшийся народ дружно повалил в хату.
В чистой половине избы буквой «Г» стояли четыре длинных крестьянских стола, сдвинутые с торцов. Вершина находилась в «красном куту», под иконами.
Пропустив в середину молодых, свидетелей и наречённых родителей, гости не спеша занимали места, поудобнее усаживались на широких лавах и заслонах.
Теперь в хате стоял привычный гул голосов, неотъемлемо сопровождавший любое застолье.
– Гости дорогие, наливайте горелки! – громко предложил крестный невесты, чернобородый сват Мирон, перевязанный домотканым полотняным рушником с вытканными орнаментами на концах.
За столами зазвякали бутыли, посуда, забулькала мутноватая жидкость. Горелку с жадностью наливали в стеклянные чарки, глиняные чашки, деревянные корцы[56]. Никто не останавливал наливающего, а тот, в свою очередь, старался наливать всем поровну, так как у всех была разная по изготовлению и объёму посуда для питья.
Паничу, сидевшему напротив молодых, налили настоящей водки в одну из немногих стеклянных рюмок, которые выставлялись на стол по праздникам и для гостей.
Сват Мирон – мужик в летах умеренных, полный сил и энергии. Его рослая и пропорционально сложенная фигура вызывала зависть даже у двадцатилетних молодцев. Он имел своеобразную важность не только во внешнем виде, но и в словах изрекаемых. Ему и выпала честь вести свадьбу.
Дождавшись, пока всем налили, он опять встал и строго повёл взглядом, заставляя всех угомониться. Гости в нетерпении притихли.
– Дорогие друзья, односельчане, родичи и соседи! Все мы званы сюда, чтобы отметить одно из главных событий в жизни наших молодых. И на любой свадьбе первая чарка выпивается всегда после самых торжественных и поздравительных речей. Но не на каждом крестьянском веселье гуляют такие важные гости, как у нас. Вот поэтому первый тост я с удовольствием уступаю Андрею Семёновичу Хилькевичу! – Мирон поднял руку с чаркой в сторону панича, приглашая его сказать первый и самый важный тост и, уже обращаясь к нему, с улыбкой добавил: – Ты уж не взыщи, Андрей Семенович, но у тебя красивше получится. Да и по главенству, так сказать, первое слово твоей милости.
Все одобрительно закивали головами.
– Правильно, Мирон!
– Нехай Андрей Семёныч первый тост промолвит!
Андрей встал с рюмкой в руке. Опустив на минутку голову, он сосредоточенно собирался с мыслями. В ожидании его речи в хате установилась тишина, и Андрей Семенович начал:
– Дорогие молодые и почитаемые гости, мы собрались здесь, чтобы поздравить и засвидетельствовать свое почтение, хоть и молодым, но уважаемым на селе людям – Прохору Григорьевичу и Марыле Петровне, вступившим сегодня на тернистый путь совместной жизни. На пути молодых, как и у любой крестьянской семьи, будет немало тягот и лишений. Это ни для кого не секрет! Как и всем молодым семьям, им предстоит растить детей и хлеб, подымать хозяйство, наживать добро и заботиться о стариках.
Прохор и Марыля – самая видная пара! Оба красивы, статны, трудолюбивы. Оба пользуются авторитетом среди сверстников, уважением старших и благодушным отношением батюшки моего. Я верю в высокие и нерушимые чувства наших молодых! Я верю, что никакие препоны и суеверия не помешают их счастью! Бог благословил их на семейную жизнь и взял под своё крыло. И сейчас нет причины для напрасных суеверных тревог. Прохор и Марылька на деле показали, что вместе им не страшны никакие испытания. И я убеждён, что наши молодожёны будут жить счастливо и спокойно в лоне Святой Церкви! Храни их Господь!
Андрей Семенович высоко поднял рюмку и выкрикнул:
– За молодых! За жениха и невесту!
– За молодых! – дружно поддержали гости.
Панич одним махом выпил рюмку водки и, притворно скривившись, просипел:
– Ух, какая горькая! – и тут же опять весело выкрикнул: – Горько!
Сидевшие за столом гости, дождавшись наконец своего часа, с жадностью опрокинули чарки и снова дружно последовали примеру панича.
Хотя и немного было гостей на свадьбе, но в хате загремели громовые раскаты людских возгласов. Мужики во всё горло так орали «Горько!», что их кудлатые бороды дрожали, как камыш под шквалистым ветром. Бабы, выпучив глаза, визжали и надрывались изо всей мочи, стараясь перекричать других. Всё это выглядело натурально и раскованно, как и подобает крестьянской свадьбе, что придавало ещё больше весёлья и азарта гостям и молодым.
А на дворе в это время небо затянуло огромной грозовой тучей. Словно позавидовав шуму людей, Перун тоже ударил в свой бубен. Ярко сверкнула молния, сопровождая свою вспышку сокрушительным громом. По крышам ударили буйные капли ливня.
– Вот и Бог говорит вам «Горько!» – выкрикнул Мирон. – Радуйтесь молодые! Дождь на свадьбе – добрая примета! Богатыми будете! Горько!
Настроение у Прохора и Марыльки быстро набиралось торжеством, как и подобает для таких случаев. Глядя на запальчиво ревущих гостей, их глаза тоже заискрились задорными огоньками. Выждав благопристойную паузу и дав всем вволю покричать, они наконец подчинились требованию гостей и с удовольствием порадовали их своим сладким поцелуем.
И вот после первой чарки деловито застучали деревянные ложки по мискам, громко и смачно зачавкали гости. Голосов да разговоров уже почти и не слышно. Все изрядно проголодались и, не утруждая себя лишними разговорами, принялись с завидным селянским аппетитом наминать разнообразную закусь.
Бедно живет полесский крестьянин, частенько недоедает, но всё же лучшее, что у него есть из провианта, он всегда держит про запас к празднику престольному или к такому вот торжеству.
Покойный Петро относился к крепким хозяевам, даже с большой натяжкой можно сказать, зажиточным. И сейчас у Марфы нашлось, что поставить на стол: не всё пошло прахом, сумела вместе с Марылей да с божьей помощью многое сохранить. Да и гости по обычаю шли на веселье не с пустыми руками.
На широких столах стояли глиняные миски с холодцом и овсяным киселём; в простых и резных деревянных мисках грудами лежали жареная рыба, отварная и запеченная баранина, птица и свинина; различные каши из тыквы, ячневых круп, проса, гречки и овса копнами возвышались на свадебном столе. Везде стояли также квашеные, засоленные и свежие блюда из капусты, яблок, огурцов и грибов; равномерно по столам разложены стопки блинов и коржей. Много было и выпечки. Многочисленными семействами румянились различные пирожки, галушки, праснаки[57], сырники. Некоторые нежились в сметане, некоторые гордо поблескивали янтарным мёдом, а были и такие, что словно задавались своими черными макушками, щедро сдобренными маком.
Но не всё сразу ставится на стол. Гости вроде бы и выпили несколько раз и закусили плотно, а подадут более вкусное угощение – и опять тянется к миске мужицкая рука, вечно жадная не только до еды, но и до работы.
Вот и сейчас на каждый из столов поставили большую миску с горячим, испускающим пар картофелем. Горки полюбившегося крестьянину овоща уменьшались на глазах, как, впрочем, и горелка тоже.
На свадьбе гости могли испить свекольного, медового иль хлебного кваса. Ну и, конечно же, ни один праздник, ни одно застолье не обходится без увеселительных напоев.
Как самые почётные участники свадьбы, Прохор и панич вкушали настоящую водку. Для невесты и девчат стояли бутыли с вишнёвой и калиновой наливками. Остальные гости с пребольшой охотой довольствовались домашней сивоватой горелкай да медовой бражкой. Кому что по душе.
Шло время. Говорились поздравления, поднимались чарка за чаркой. В каждом хоть и неуклюжем крестьянском тосте звучали искренние и сердечные слова. За столом уже никто и не вспоминал о недобрых приметах. В хате царило слегка хмельное оживление: велись громкие разговоры, часто раздавались шутки и смех; кто-то, опьянев раньше времени, делал неудачные попытки завести песню.
Мирон, видя, что пришла пора сделать перерыв, решительно встал из-за стола.
– Дорогие гости, предлагаю всем прохладиться!
– Пора, пора! – согласился народ.
Все вышли из хаты.
Ливень как начался внезапно, так же внезапно и закончился. Туча, обдав село свежестью, виднелась теперь у самого горизонта. После душной избы люди пьянели уже от кристально чистого воздуха, которым природа дышала после грозы.
День близился к вечеру, но на улице последние солнечные лучи ещё цепко держались за соломенные крыши изб и верхушки деревьев, не давая сумеркам внезапно упасть на землю.
Вышедшие гости перемешались со столпившимися у хаты селянами, детьми и подростками. Эта разношерстная толпа с интересом наблюдала за каждым этапом свадьбы. Кто издали следил, кто в окошки глазел, а кто и в сенцы норовил забраться.
– О, Лявон, и ты тут? – Уж с кем-кем, а с дедом Лявоном подвыпившие мужики всегда с превеликой охотой вели разговоры.
– А што сразу Лявон? Разве нема тут никого другого? – обидчиво ответил дед, а сам удовлетворённо отметил, что к его персоне начинает подтягиваться народ. «Знать, в почёте ещё Лявон!» – важно подумал он и браво выпятил грудь.
– Здоров, дед… А чего это ты… это… припозднился, – вступил в разговор совсем опьяневший мужик Кузьма с неестественно сизым носом. Он явно горел желанием потягаться с дедом на словесном поприще.
– Ага, припозднился. Зато ты поспел. Веселье только началось, а ты уже и поспел… як слива, – бойко ответил Лявон, намекая на состояние мужика и на цвет его носа.
Когда до окружающих дошёл смысл игры слов, все взорвались дружным смехом. Но пьяный Кузьма по своей натуре был упрям и просто так ретироваться даже и не помышлял.
– Дед, да я ж… это… сурьёзно говорю: Прохор тебя… ну… ждал-ждал, да и не дождался. Он же хотел, это… тебя в шаферы взять, их-их-их! – заплетающийся язык и икающий смех Кузьмы вызывали улыбки у окружающих. – Ты не пришёл – довелось Игнатку дружком брать. А прикинь, дед, какие пары были б: жених с невестой и ты… с Любашей, их-их-их!
Уже во второй раз за сегодняшний день деду Лявону пророчили шаферство. Хоть и в порядке у Лявона было с чувством юмора, но насмехаться просто так над собой дед никому не позволял.
– Для Любаши и без меня пара найдётся, да и для тебя, як погляжу, тоже пара уже напрашивается, – хитро прищурив глаз, сказал он.
– Якая… их-их… пара? – удивился мужик, шатаясь и не переставая икать.
– А вон, у хлева, – дед Лявон, вытянув шею, бородой показал на вольготно валявшуюся в грязи свинью. – Давно уж тебя дожидается! Ну, ничего! Недолго ей осталось ждать. Ещё чарка – и будете вместе! Вдвоём-то вам всё веселее будет.
– Молодец, дед! – раздавалось со всех сторон.
– Что, Кузьма, съел?
– Кузьма, не томи хрюшу. Иди опрокинь ещё шкалик – и на место.
Насмешки неслись со всех сторон. Хотя и во хмелю был Кузьма, но на этот раз сообразил быстро, что лучше всё же скрыться. Махнув рукой, он неуверенной походкой быстренько засеменил обратно в хату, откуда его все равно вскоре выдворили на свежий воздух.
– Здорово, дед Лявон! Всё народ веселишь? – к хохочущей толпе подошли и Прохор с Марылькой.
– И вам здоровьица. Примите и мои поздравления.
– Благодарствуем, дедушка, – сказала Марылька.
– Дядька Мирон, – окликнул Прохор вышедшего из хаты свата. – Надо бы деда Лявона угостить. Уж кого-кого, а его непременно чаркой попотчевать надобно.
На деревенских свадьбах, если хотели угостить кого-то из посторонних, то обычно выносили бутыль или чарку с закусью. В хату приглашали лишь особо почитаемых на селе людей, по разным причинам не оказавшихся среди званых гостей.
– Для деда Лявона шкалик горелки у нас найдётся, – весело сказал Мирон, и осторожно положив руку на плечо старика, хитро подмигнул: – А пошли-ка, дед, в хату, за стол. Не пристало таким людям выпивать на ходу!
Польщённый таким предложением, Лявон гордо последовал за Мироном под завистливые взгляды остальных зевак.
На дворе зазвучали песни и мелодичные переливы жалейки. Начались забавы, танцы и потехи. Хмель поддавал гостям весёлого задору. Даже некоторые деды, тряхнув стариной, пускались в неуклюжий пляс. Скрипя костями и в одышке жадно хватая воздух беззубыми ртами, они косили завистливые взгляды на вёртких молодиц и изо всех сил старались показать, что есть ещё порох и в их пороховницах.
По хате сновали бабы, поднося миски с едой и убирая объедки. Лявона посадили за крайний стол, налили горелки. Дед Лявон обвёл взглядом хату и грустно вдруг подумал: «Вот как бывает… В этой хате отродясь не бывал, а тут и года не прошло, как уж во второй раз под этой крышей за стол усадили… Да-а… Дай бог благополучия в этих стенах».
– Что задумался, дед, давай компанию составлю, – сказал Мирон и присел рядом.
– Ну… за молодых. Чтоб в счастье и в радости дожили до глубокой старости!
Мирон рассмеялся и, чокнувшись с дедом, поддержал:
– Правильно, Лявон, ловко сказал. Пусть будет по-твоему.
Оба выпили. Закусили.
– На одной ноге, дед, не ходят, и одну чарку на свадьбе не пьют, – с этими словами Мирон налил по второй. Лявону полную, себе – треть.
– Что так?
– Мне ещё каравай делить, дед. Надобно в полном соображении быть, а не как вон Кузьма…
– Твоя правда, Мирон. Можешь пригубить только…
– Давай.
Чокнувшись, они опять выпили за жениха и невесту. Немного поговорив о том, о сём, Лявон выпил и третью чарку.
– Премного благодарствуем за угощение, но пора и честь знать, – подымаясь, сказал старик.
– Чего уж там… Ты вот всё и сам понимаешь, а иного так выталкивать пришлось бы. За это и уважаю тебя, Лявон.
Дед хитро улыбнулся:
– Как же не понять? Тут наука проста: не тот гость дорог, что засиживается до утра, а тот дорог, что знает время и порог. Так-то вот, Мирон Афанасьевич.
– Добрая у тебя душа, дед. Ладно, ступай с богом.
Старик вдруг замялся и как-то виновато глянул на собеседника. Мирон ухмыльнулся и в шутку погрозил деду пальцем:
– Э-э, дед, недооценил я тебя. Ладно уж, давай ещё чарку налью.
– Погодь Мирон, бог с тобой, якая чарка…
– Хм, – ничего не поняв, пожал плечами тот.
– Я вот што хотел сказать… Тут село слухами полнится, што на венчании…
– Да полно тебе, дед! Всё образовалось, всё добре! Не бери в голову…
– Так не о том я… Я тут намедни приказчика бачив… Носился як ошалелый. Ну, вот я и подумал, как бы какую пакость не учинил, с него станется… Молодым-то и так хватило переживаний.
Мирон внимательно и серьёзно глядел на старика. Честно признаться, такая мысль и у него проскакивала. Всё село уже знало о злобной нетерпимости Степана к Прохору.
Молча развернувшись, Мирон сгреб со стола краюху хлеба и ломоть запеченной баранины. Также молча сунув всё это Лявону в руки, он тихо сказал:
– Спасибо, дед. Ты всё правильно подметил, – и тихонько повернув деда к выходу, ещё раз повторил: – Спасибо. Никому больше не говори. А я уж постараюсь тут приглядеть. Ну, ступай, дед, с богом.
Вечерело. От речки потянуло сырой свежестью. Возле Марылькиной хаты народу столпилось ещё больше. Самые любопытные и бойкие селяне прямо-таки втыкались носами в неровные стёкла маленьких окошек. Всем хотелось посмотреть, как в избе начинался и проходил один из важнейших ритуалов свадьбы – деление каравая.
К свадебному караваю у селян особое отношение. Каравай является символом благополучия и счастья в будущей семье. Пекут его исключительно замужние женщины из хорошей и многодетной семьи. Предпочтительнее, чтобы это была крестная мать. Вдовам, бездетным и бабам, у которых никудышные мужья, никогда не поручат испечь свадебный пирог.
Ещё одной из самых важных особенностей деления каравая было то, что именно при проведении этого обряда молодых одаривают подарками. И вот время приблизилось к такому моменту.
Перевязанный льняным рушником сват Мирон торжественно внес на вытянутых руках румяный каравай.
– Отец и мати, благословите каравай подати! – зычно сказал он.
– Бог благословит, – дружно хором отвечали гости.
Трижды прозвучали слова о благословении каравая.
Положив драгоценную ношу на подготовленное место перед молодыми, сват Мирон приготовился выкликать поочерёдно всех присутствующих. По обычаю сначала выкликаются гости со стороны жениха, начиная с родителей и заканчивая самыми дальними родственниками или же просто приглашёнными знакомыми. Но так как со стороны Прохора, кроме дружка Игната, был всего лишь один гость, то Мирон сразу и вызвал его:
– У нашего молодого есть хороший друг, знатный товарищ! Одно его присутствие в числе гостей делает большую честь не только нам, а и всей свадьбе! Думаю, все вы догадались, о ком я речь веду. Ну, Андрей Семёныч, и тут вам выпала честь быть первым! Чтоб ласковы были, на каравай прибыли!
– Много приходилось мне вкушать пирогов, но этот, будет самый вкусный! – встав из-за стола, задорно произнёс панич.
Гости затихли, обратившись все во внимание. Их больше сейчас интересовал не смак каравая, а подарок панича молодым. Ведь им впервые пришлось сидеть за одним свадебным столом с гостем из панского рода, и каждое слово, каждое его деяние тут же сопровождалось обсуждениями. Ну, а уж подарок такого гостя никак не мог остаться незамеченным для зоркого и хитроватого в таких мероприятиях крестьянского глаза! Всё подметит заинтересованный селянский взгляд, а завистливый – тем более.
Обычно после деревенской свадьбы ещё долго переговаривают, кто да что дарил, кто какие поздравления говорил, кто напился, а кто и подрался. Всяко ведь бывает.
А Андрей Семёнович меж тем продолжал:
– Я уже многое говорил в честь молодожёнов, поэтому сейчас буду краток.
Прохор и Марыля! От всего сердца желаю, чтобы над вами всегда сверкали созвездия Любви и Удачи! Чтобы у вас в семье царило взаимопонимание и лад, и чтобы под вашей крышей слышалось побольше детских голосов. А на размолвки, которые случаются в любой семье, я так скажу:
На обиды не упрёком – терпеньем отвечайте, И чтобы горько было вам на вашей только свадьбе! Горько!И опять хата задрожала от дружных хоровых криков. Изрядно подвыпившие гости орали до хрипоты. Казалось, ещё чуть-чуть – и людей охватит угарное неистовство. Но, слава богу, всё шло благополучно.
В который уж раз улицезрев сладкий поцелуй молодых, гости быстро угомонились. Наступал момент дарения.
– Ну а для того, чтоб вашей семье легче шлось по тернистым дорогам жизни, примите от меня в подарок стригунка Фильку! Славный будет вам коник.
Гости одобрительно загудели. Никому из них не приходилось быть свидетелями такого щедрого подарка на свадьбе крепостных.
– Панич знает, что делает… – переговаривались гости.
– Всё ещё должником барчук себя чувствует… – сказал кто-то тихонько.
– А как же ж, панская жизнь дороже всех коней Хилькевича, – согласился рядом сидящий мужик, и оба высоко оценили подарок.
Неведомо от кого, но черемшинцы лишь недавно узнали подробности прошлогодней охоты на медведя, и теперь все считали подарок достойным.
А молодой панич поднял руку, прося тишины.
– Батюшка мой, Семён Игнатьевич, также шлёт свои поздравления молодым и дарует им двадцать целковых!
С этими словами Андрей вынул из кармана две ассигнации и торжественно положил на специально приготовленную для денежных подарков большую глиняную тарелку, покрытую рушником. Тут уж восторг гостей хлынул через край.
– Молодцы Хилькевичи!
– На славу расщедрились паночки! Дай им бог здоровья! – уже во весь голос неслись похвальные реплики.
Молодые тоже чувствовали себя чуть ли не разбогатевшими. Такой щедрости от Хилькевичей они тоже не ожидали. Ведь за двадцать рублей можно было треть добротной избы поставить.
Но вскоре страсти улеглись, и настала очередь выкликать гостей со стороны невесты.
Как и подобает, первую на каравай Мирон торжественно вызвал Марфу:
– У нашей невесты есть мати, которая хочет молодым счастья пожелати! Ну, и кое-что подаровати! Давай, Марфа! Чтоб ласкова была, до каравая прибыла! – зычно выкрикнул сват и, взглянув на Марфу, душевно добавил:
– Ну, полно сырость разводить! Вытирай слёзы и подходи.
Глядя на молодых и теребя в руках край хустки, разволнованная Марфа долго всхлипывала.
– Не волнуйся, Марфа. Говори и от себя и за Петра, царство ему небесное.
– Детки дорогие!.. – обратилась Марфа к молодым и тут же смутилась своего голоса. – Ох, не обессудьте… не приучена тёмная баба к речам таким.
– Смелее, Марфа, не робей! Погляди, какие голуби перед тобой! – указывая жестом на молодых, Мирон весело поддержал свою куму.
– Ну… что может пожелать матка своим деткам? Конечно, в первую очередь здоровьица крепкого. Желаю, чтоб свой век любили и уважали друг дружку, чтоб всё у вас спорилось и получалось, велось и удавалось. Чтоб был прибыток и в хлеве и на поле, чтоб была радость в хате и на столе, чтоб и меня с малыми детками не забывали да не обижали.
Ну а чтоб разжиться вам легче было, принимайте всё наше хозяйство в свои молодые руки, – закончила Марфа и, вздохнув, обратилась к жениху: – Нам, Прохор, мужские руки ой как теперь нужны. Не век же просить о помощи других. Будешь нам опорой и… – не договорив, Марфа не удержалась и опять начала всхлипывать.
– Ну вот, а говорила: не приучена! – порадовавшись за куму, Мирон вручил ей кусочек каравая и чисто символически налил несколько капель горелки.
За матерью пошли крестные, близкая родня и все остальные. При каждом выкликании на каравай, обязательно указывалась степень родства и близости. Гости подходили, говорили поздравительные речи и одаривали молодых, после чего получали кусочек каравая и выпивали чарку горелки.
Мужики большей частью дарили деньги, бабы – отрезы полотна, рушники, вытканные орнаментом постилки и многое другое. Чем более близкий родственник, тем дороже подарок. Но дарили, конечно, по мере своего достатка и с оглядкой, что люди потом скажут.
Вместе с серьёзными пожеланиями и подарками звучало множество шутливых и забавных присказок:
– Даруем молодым берёзовую рощу, чтоб зять как мать родную чтил тёщу! – звучало пожелание, после чего под одобрительный шум гостей Прохор низко кланялся и чмокал Марфу в щеку.
Или же в шутку давали несколько медных грошей и приговаривали:
– Даруем вам жменю меди, чтоб вскорости вас порадовали дети!
– Желаем вам радости и доли, чтоб всегда родил хлеб на вашем поле!
Чем складнее и интереснее звучала присказка, тем громче и веселее гости выражали восторг.
В самом конце деления каравая в хате вдруг все замолкли, установилась напряжённая тишина. Заметив, куда устремлены изумлённые взгляды, Мирон обернулся назад. В дверях стоял… приказчик! «Что ему тут надобно?! Его никто сюда не приглашал!» – такие мысли пронеслись в этот момент почти у каждого.
– С чем пожаловал? – строго спросил Мирон.
– С поздравленьицем… – неуверенно прозвучал ответ.
Сильно смутившись и затравленно поглядывая по сторонам, Степан робко прошёл на середину хаты.
Не пристало на крестьянской свадьбе гнать непрошеного гостя из избы, коль он уже зашёл и желает поздравить жениха и невесту.
– Да вот… Семен Игнатич… это… – начал Степан, – наказ мне дал… выразить почтение молодым. Ну и пожелать им… как говорится, добра… и счастья… ну и всего…
Было видно, что насчёт панского наказа приказчик врёт. Нахмурив брови, Мирон грозно прервал скомканную речь незваного гостя:
– Ну, вот и поздравил! На, выпивай – и иди своей дорогой, «гость дорогой»… – неприязненно промолвил Мирон, с сарказмом произнеся последние слова.
– Так вы ж тут вроде как каравай делите… а у меня и подарок для молодых приготовлен… – с этими словами Степан суетливо достал из-за пазухи что-то плоское, аккуратно увёрнутое в довольно-таки чистую на вид тряпицу и тут же начал разворачивать.
В хате можно было услышать, как пролетит муха. С затаенным дыханием все наблюдали за самым нежеланным из всех черемшинцев гостем, да ещё и с подарком. И в глазах затихших гостей стоял немой вопрос: «А что это он там принёс? Сам без приглашения нагло припёрся, да ещё, скорее всего, и какую-нибудь пакость припёр».
Степан с необычайным волнением старался побыстрее вручить молодым подарок. Он опасался, как бы тут не спохватились и не отказались от его подношения, а то ведь и вообще могут выставить за порог.
– Вот, – выдохнул он и для всеобщего обозрения поднял в руке красивую, а посему и дорогую, на его взгляд, вещь. – Это чтоб Марылька всегда была такой красивой как сейчас!
Приказчик ожидал услышать восхищённые возгласы и гул одобрения, но в хате продолжала стоять гробовая тишина. И лишь совсем опьяневший Кузьма, не осознавая, что происходит, пытался разглядеть затуманенным взором подарок.
– А ну… Николаич, поверни… ну… Не вижу, что это… там у тебя блестит, – заплетающимся языком промычал он и даже попытался привстать, чтобы лучше разглядеть вещицу в руке приказчика.
Степан с готовностью поворачивал свой подарок и даже подошёл поближе к единственному гостю, проявившему интерес к прекрасному подношению.
В руках Степан держал вещицу, которой позавидовала бы любая панночка. В замысловатом, скорее всего, фабричном обрамлении, представляющем собой витиеватые узоры, сверкало отображением горящих свечей и плошек… зеркало.
– Ты сам додумался до этого иль надоумил кто? – угрожающе произнёс Мирон.
– А… что? – совсем растерялся приказчик и непонимающе уставился на свой подарок. – Что-то не так? На ярмарке… купил… По мне, так очень даже… завидное зеркальце… – промямлил Степан. Не мог же он признаться, что это зеркало дала ему Хима и что сейчас он исполняет её наказ.
– Ты что, с луны свалился иль каким басурманином тут прикидываешься? – ещё больше распалялся возмущением сват.
С нарастающим ропотом недовольства оживились наконец и остальные гости.
– Ты бы, Степан, ещё иголок молодым подарил!
Так уж издревле заведено у православных, да и не только у них, что на свадьбе не принято дарить молодожёнам острые предметы: ножи, иголки, которые, кстати, очень ценились в хозяйстве. Но по поверью полесских селян, острые и колющие подношения на свадьбе – это в любом случае не к добру. Они вносили в семью разлад, ссоры, колкости между супругами. А вот зеркало, которое считалось окном в потусторонний мир, и вовсе несло зло и необъяснимые беды.
– Я принимаю подарок! – раздался вдруг громкий и уверенный голос невесты, заставивший всех замолчать.
Гости с недоумением молча глядели на Марыльку. Даже Кузьма, непроизвольно икнув, плавающим взглядом пытался найти невесту. А Марылька, не моргая, холодным взором вонзилась в нежеланного гостя и так же холодно произнесла:
– Дайте ему гривенник… и как всем – чарку и каравай.
Мирон бросил на Марыльку укоризненный взгляд, но спорить не стал. Может быть, и правильно поступает невеста. Какой ни гость, а поступать с ним дурно не годится.
Сват угрюмо взял из кучи надаренных денег гривенник и, забрав у Степана зеркало, взамен сунул ему в руку десятикопеечную монетку. Считалось, что такое действие отводит от семьи черный умысел, если, конечно, таковой имел место. В этом случае это был уже не подарок, а покупка, что в корне меняло дело.
Приказчик выпил поднесенную ему чарку горелки и протянул руку за караваем. Мирон замялся, но всё же подал ему самый невзрачный из оставшихся кусочков.
– Благодарствуем за угощеньице… Будьте здоровы. Мне уж пора…
Приказчик попятился к дверям, бережно держа в руке каравай. Он так и не попробовал его. Теперь уже долго задерживаться здесь Степану было не с руки и он, зыркая загнанным зверем на враждебно затихших людей, молча покинул хату.
Тишину нарушил сват Мирон:
– Никого не забыли караваем попотчевать? – обращаясь к гостям, громко осведомился он. Настроение у него было испорчено.
– Все испробовали!
– Смачный пирог! Всем досталось! – в разнобой, недружно отвечали гости, тоже уже без прежнего задора.
– Ну, так наливайте, пейте, закусывайте и песни заводите! – сказал сват и, наклонившись к Марфе, тихо произнёс: – Я отойду ненадолго. Гости тут уж и без меня добра с горелкой управляются.
Мирон спешно выскочил на двор и в свете большого яркого костра стал вглядываться в толпу. Никто не обращал на встревоженного свата внимания, а ему это было и на руку.
Мирон в сердцах зло выругался. Но вот его взгляд наткнулся на деда Лявона. Старик многозначительно чуть кивнул головой и опять, смешно вытянув шею, незаметно указал бородой в сторону околицы. Мирон кинулся туда. Он уже понял, где и кого надо искать…
Степан с нетерпением и страхом ожидал появления Химы. Вспотевшая рука сжимала кусочек свадебного каравая, обёрнутого в тряпицу. Стоя под раскидистым дубом на краю села, он напряжённо вслушивался и вглядывался в окружающий ночной сумрак. Встреча назначена здесь. Приказчик уже жалел, что сам выбрал это место. У этого дуба постоянно назначают свидания влюблённые парочки, и не дай бог, если его заметят тут с ведьмой, да ещё в такой час! Быстрее бы она явилась, эта чёртова Хима! А ещё лучше было бы, чтоб дочку свою прислала. Как не крути, а с девкой и спокойнее и приятнее иметь дело.
И вот слух Степана уловил в темноте осторожный шорох шагов. «Ну, наконец-то!» – с облегчением подумал он и повернулся навстречу Химе.
– Хима, ты? – нетерпеливым шёпотом спросил приказчик.
– Ага, я, – ответила появившаяся тень, и тут же в глазах Степана вспыхнул веер искр, на мгновение сменившийся яркими разноцветными кругами.
Больше приказчик ничего не успел заметить. Такой красочный фейерверк Степану преподнёс удар сокрушительной силы, который на время вышиб из него сознание.
Очнулся приказчик от встряски. Открыв глаза и разглядев во тьме перед собой перекошенную рожу Химы, он заорал не своим голосом.
– Замолчи, окаянный, – злобно прошипела старуха и грязной рукой зажала Степану рот.
Тот судорожно отдёрнулся и попытался вскочить.
– Тхы што этхо тхворишь?! – опять закричал он. – Мы тхак не уховаривалих! Пошто бить-тхо?
Сочившаяся из носа кровь, распухшие губы и выбитый зуб до неузнаваемости коверкали речь приказчика. Сам он в горячке этого пока не замечал.
– У-у, дурачище! – Хима со злостью ткнула Степана костяшками пальцев в лоб. – Повезло тебе, что не я стукнула – век бы не очухался. Де каравай?
Приказчик встрепенулся и испуганно потрогал разбитое лицо. Запоздало поняв вопрос, засуетился, завертел головой и начал суматошно шарить руками по траве.
– Понятно… – мрачно выдохнула старуха. – Можешь не егозить: забрали твой каравай.
И только сейчас до Степана дошло, что у него и губы разбиты, и зуб выбит, и всё это из-за какого-то несчастного кусочка пирога…
Окончательно приходя в себя и ощупывая разбитое лицо, приказчик вдруг почувствовал что-то за пазухой. Быстро сунув туда руку, он вытащил… зеркало. Зеркало, которое совсем недавно дарил Прохору и Марыльке. Степан растерянно замер, переводя испуганный взгляд то на Химу, то на не подаренный подарок. В страхе перед ведьмой он не знал, что сказать и что делать с этой вещью.
Глядя на перекошенное от страха и перепачканное кровью лицо приказчика, Хима пожалела, что связалась с этим ничтожеством. Уже уходя, она злобно бросила на прощание:
– Себе оставь… Долго ещё будешь в нём разглядывать свою побитую рожу…
Старуха ушла, а Степан в отместку осмелился лишь подумать ей вслед: «Да уж… Моя рожа по сравнению с твоей – лик святой!»
Пройдя среди любопытствующих, Мирон перекинулся с некоторыми из них словами и шутками. Подошел к Лявону.
Прищурив выцветший взгляд и стараясь что-то определить, старик пристально и выжидающе глядел на Мирона. Наконец не утерпел и коротко бросил:
– Ну што?..
Мирон одарил деда задорным взглядом и тихо, но бодро ответил:
– А ничто! Ни гостям, ни тем более молодым волноваться не об чем. Всё добра. Вот только неприятность большая вышла: приказчик выпил тут чарку, и разобрало его сильно. Бедолага поспешал куда-то, да и упал спьяну-то. Морду разбил и каравай утерял… Во как бывает, Лявон!
– А-а-а, – горестно закачал головой дед. – Надо ж такой беде приключиться!
Оба обменялись понимающими взглядами и, пряча в усах да бороде улыбки, крепко пожали друг другу руки.
– Заходи, дед, завтра опохмелиться, – сказал на прощание Мирон.
– Непременно… непременно зайду.
Глава 22
После свадьбы Прохор сразу окунулся в море забот, хлопот и неотложной работы. Взяв на себя заботы о начавшем приходить в упадок хозяйстве, он умело и с превеликим удовольствием чинил, строил и переделывал всё, что требовало приложения мужских рук. Его семейная жизнь входила в обычное русло тяжёлых селянских будней.
Глядя на крестьянское радение зятя, Марфа не могла нарадоваться. Теперь-то будет кому и землю вспахать, и сена накосить, и хлебушек убрать. Да и за младшеньких на душе стало спокойнее.
Марылька так и вовсе после свадьбы, словно заново родилась. Она опять почувствовала вкус жизни и радости. При каждой свободной минутке молодая жена прибегала к Прохору и подолгу не отходила от него, не мешая, однако, работе. Весело щебеча и с любовью наблюдая за ним, она чувствовала себя защищённой и безгранично счастливой. Мало-помалу притуплялась тревога и уходили в забытьё плохие приметы, имевшие место во время венчания.
Односельчане искренне радовались за Марыльку и Прохора, за Марфу и её двоих малолетних деток. Многие по-белому завидовали ладу и согласию в их семье, а бабы частенько упрекали своих нерадивых иль любивших выпить мужиков и ставили в пример Прохора. Девки же втайне мечтали о таком женихе.
Безоблачная и умиротворенная жизнь, установившаяся под крышей хаты покойного Петра Логинова, казалась идеальной и спокойной, и, глядя на старания молодой семьи, многие наперекор суеверию пророчили ей процветание. Во всяком случае, так многим казалось. Многим, но не всем! Не все были рады благополучию в семье панского лесника!
А жизнь шла своим чередом.
Жатва! Это хлёсткое слово у селян связано с сытой надеждой и с голодным её крахом, с радостью нового хлеба и с горечью недорода. Не всё подвластно человеку. Капризная матушка природа часто вносила в лучшие ожидания хлебопашцев свои изменения. Но у полешуков всегда был надёжный вариант на случай плохого урожая – рыба. Рыбная ловля для многих полесских селян являлась основным средством к существованию. И всё же в самые страдные периоды крестьяне больше времени и сил отдавали земле.
С конца лета и до середины осени они рвали жилы на полях, гнули спины под тяжестью мешков да рогожных кулей. Все спешили с уборкой и старались управиться до дождей. И чем больше выпадало работы на жатве и уборке урожая, тем спокойнее становилось на душе мужика.
Всё это время Прохор, тоже не приседая, от зари до зари пропитывал потом рубаху, которая за лето уже просто разлазилась от соли. В отличие от многих крепостных, он старался и на панских работах, добросовестно радел и за хлеб Семёна Игнатьевича. Такой напряженный ритм не оставлял возможности расслабиться, предаться вольному для души и тела времяпровождению.
Но вот усталый крестьянин и закончил уборочную страду. Черемшицы встретили Покров. К удивлению стариков и к радости детишек, стояла относительно тёплая погода. Хотя старые люди сетовали и уверяли, что на Покров первый снег должен укрыть землю, но сами же были не прочь посидеть на завалинке, подставив морщинистые лица скудным солнечным лучам.
Прохор, отбросив все дела, похаживал по двору, поправлял там-сям что-либо и предавался произвольному и ленивому течению мыслей. И вдруг это течение вынесло его память на лесную дорогу, к старой берёзе. «Любопытно, а где сейчас Янинка? Чем занимается?» – с живым интересом вцепился в эти мысли Прохор.
Он, конечно же, вспоминал иногда лесную красавицу, но за хлопотами и бесконечной работой некогда было всерьёз предаваться пустым думам. И вот сейчас Янинка с шумным всплеском всплыла в его памяти. «Хм, к чему это она припомнилась?.. Да-а, а девка-то гарная», – размышлял Прохор и в задумчивости замер средь двора.
Мало-помалу такие мысли начали всё чаще навещать его. И это был первый тревожный посыл в спокойной жизни семьи панского лесника. Со временем уже не только думы о лесной нимфе бередили сознание Прохора, но стали являться и наваждения. Глянет, бывало, на Марыльку или даже просто на другую девку – и видит большие глаза Янинки с длинными как стрелы ресницами. И так притягивают к себе эти глаза, что порою страшно становится. Потрогает Прохор крестик-оберег на груди, вспомнит в молитве Бога – и опять перед ним Марылька или просто знакомая девка. «Знать, снова ведьме неймётся, не угомонится никак душа её, дьяволу проданная! – тревожился он. – Неспроста, видать, червём в сердце лезет! Ох, не к добру…»
Однажды заметив на себе странный задумчивый взгляд мужа, Марылька удивилась:
– Ты чего это так глядишь?
– Да так… любуюсь вот тобой, – очнувшись, соврал Прохор. Ему снова мерещилась купальская Янинка в диковинном венке. Снова он в образе любимой жены видел очаровательную дочку ведьмы.
– Ну, если любуешься, тогда ладно, – шутливо проворковала Марылька и, повиснув на шее растерявшегося мужа, тихонько прошептала: – Теперь ты вдвойне должен на нас любоваться.
– Это отчего ж такая честь? – равнодушно буркнул Прохор, не придав никакого значения словам жены.
– А ну-ка догадайся!
У Прохора занозой засела тревога по поводу странных видений и назойливых мыслей о Янинке, а тут его ещё донимают глупыми расспросами, да загадки какие-то загадывают!
– Недосуг мне гадать! – сорвался он. – Иди к ворожее, пущай она тебе и гадает!
– Прохор! Да что ж это с тобой творится?! Что случилось?! – в сердцах тоже сорвалась на крик Марылька.
– Ничего! – раздражённо ответил Прохор и отвёл взгляд в сторону.
Марылька широко раскрытыми глазами смотрела на мужа и не узнавала в нём прежнего Прохора. Сердце её заныло в предчувствии чего-то нехорошего.
– Прош, ну я же вижу, что последнее время ты задумчивый какой-то. Ходишь временами как тень, сам не свой, – смягчилась Марылька, не на шутку встревожившись происходящей с Прохором переменой.
Ну что мог ответить Прохор жене своей молодой? Что его непреодолимо тянет в лес, к старой берёзе! Что взор другой неотступно везде и всегда следует за ним! Что образ лесной красавицы затмил привлекательность жены и манит к себе всё сильней и сильней!
Ничего не ответив, Прохор лишь тяжко вздохнул и потупил взор. Он чувствовал себя отвратительно. Только начали жить, а у него голова уже забита грешными мыслями. В роду Чигирей не пристало обманывать семью! Но как быть?! Как жить дальше?! И как ни старался Прохор выкинуть из головы всё непристойное, ничего поделать с собой не мог.
– Прошенька, ну что ты молчишь? – с глазами, наполнившимися влагой, Марылька обняла мужа и прижалась к нему. Её ласковое обращение отрезвляюще подействовало на Прохора.
– Не сердись, милая… Притомился я просто… Всю осень от зари до зари потом исходил, – успокоился Прохор и тоже обнял крепко жену. Горечь и неопределённость будущего травили его душу.
– Ой, не тисни нас так…
Прохор ослабил объятия и немного отстранился, заглядывая Марыльке в глаза. До него наконец-то начал доходить смысл её намёков.
– Это точно?!
– Угу, – обрадованно кивнула Марылька, видя перед собой прежнего Прохора.
– Что «угу»?
– А что «точно?» – кокетливо передразнила она мужа, и её лицо ещё больше заискрилось радостью.
– Марылька, не томи! Говори правду! Или ты дурачишь меня?
– Не дурачу, Прохорка. Скоро у нас будет дитятко… и ты станешь батькой.
И Прохора вмиг по-настоящему охватила сначала радость, а потом и чувство гордости. Подхватив Марыльку, он кружил её по двору, не обращая внимания на увещевания и просьбы прекратить.
Эта приятная новость на некоторое время вырвала Прохора из плена наваждений. Он в глубине души надеялся, что сейчас, в ожидании первенца, что-то должно коренным образом измениться в его жизни. Теперь он будет полностью поглощён заботой о Марыльке и о будущем дитятке.
Но навязчивые воспоминания о Янинке, словно репей, вцепились в память Прохора. Мысли о лесной девушке роились и прочно застревали в голове, будто мотыльки в липкой паутине. Что только Прохор ни делал: и свечи ставил в церкви, и исповедовался чаще обычного, и вспоминал советы да наставления деда своего – ничего не помогало! «Крепко, видать, взялась ведьма за меня! – грустно подумал он и тут же, к своему стыду, отметил: – А всё ж приятно думать о Янинке!»
Иногда на Прохора налегало безрассудное желание бросить всё и без промедления направиться к Гайстрову болоту, но он всё же находил в себе силы не делать этого. Знал, что в конце концов из его встреч с Янинкой ничего хорошего для семьи не выйдет.
С выпавшим снегом Прохор частенько сопровождал Семёна Игнатьевича на зимней охоте. То зайчишек иль куропаток пострелять, то лису затравить, случалось, и на волков облавы устраивали. Ловчий знал все места, где водился зверь, и хотя Семён Игнатьевич и сам это знал неплохо, но всё равно к советам Прохора прислушивался. Вот только в леса, где затерялась избушка с Химой и её дочкой, молодой охотник упрямо не хотел идти, выдумывая всякие причины: то зверь там пуганый, то корма ему там не хватает и он перебрался в другие места, то ещё что-либо.
– Уж не опасаешься ли ты со своей знакомой встретиться? – спросил однажды пан Хилькевич.
– С какой знакомой?
– Ну, с Химой, с кем же ещё.
Прохор перевёл дух и с облегчением ответил:
– Не, чего мне её бояться? Нехай она боится. – Он сильно нервничал, что Семён Игнатьевич догадается о его терзаниях по Янинке и будет корить за это.
А пан Хилькевич лишь подозрительно прищурился и как бы сам себе промолвил:
– Там и девка ещё есть…
Прохор промолчал, а Семён Игнатьевич больше и не затрагивал эту тему. Мало того, так никогда и не настаивал на том, чтобы поохотиться у Гайстрова болота. Дичи-то там даже побольше водится, чем в других местах.
Прошло весёлое Рождество; жутким волчьим воем отметилась Филипповка; оттрещали крещенские морозы. Худо-бедно, но встретили и Масленицу.
Всё это время Прохор стойко держался и всячески отгонял от себя думы о Янинке. Но противиться этому с каждым днём становилось всё трудней и трудней.
Марылька была на сносях и вот-вот должна разрешиться. Но радость скорого материнства омрачалась тревогой за Прохора. Она всё чаще замечала в муже подозрительную задумчивость. В такие моменты, незаметно наблюдая за Прохором, в её глазах появлялся странный холодный блеск. В сердце будущей матери всё это время не угасала отравляющая ревность.
Однажды, сидя перед растопленной печкой и в задумчивости воззрившись на пылающий огонь, Прохор вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд. Пробудившись от тайных думок, он резко повернул голову, и его взгляд столкнулся с Марылькиным. Такого странного выражения на лице женки он ещё не видел: взор обычно тихой и застенчивой Марыльки теперь глядел гневно и ревниво! А может быть, Прохору так показалось?! Но нет, не показалось! И неверного в мыслях мужа обдало жаром: «Всё, догадалась! Вот черт, даже мысли о другой не могу скрыть! А что уж говорить об остальном…»
– Думаю вот… как сев провести. Время уж скоро подоспеет… Какие земли под что пустить… – в смятении начал оправдываться Прохор.
В ответ – тяжёлое молчание.
«Точно догадалась! Но откуда?! Может, во сне имя Янинки назвал?» – подумал Прохор и, не найдя ответа, вышел прочь из хаты. Втайне он надеялся, что с рождением дитяти всё переменится к лучшему.
И вот земля сбросила с себя последние клочья отслужившей снежной шубы. Хотя мощные и буйные потоки талой воды и теряли уже свой напор, превращаясь в бойко урчащие ручьи, но для всего Полесья это была самая тревожная пора. Взыгравшая Припять накрыла крыльями разливов обширные пространства. В такие времена на многих хуторах, в деревнях и селах незаменимым средством передвижения были челны. Многие, кому не повезло, и в чьи хаты незваным гостем вполз паводок, спасались на взгорках и возвышенностях: ставили курени, сгоняли скотину и уж в который раз ждали милости от матушки-природы.
Черемшицы, обосновавшиеся на возвышенном берегу речушки, вода почти не затронула. Только лишь несколько крайних хлевов подмочило паводком. Поглядывая на водные разливы, Прохора одолевала тревога. Сильная тревога! И не за подтопленные хлевы, не за смытые озимые! Его тревожила судьба обитателей лесной избушки. То, что там полно воды, он знал наверняка, но ничем помочь не мог. Но даже если бы и была у него возможность помочь, то понятно, что старуха этой помощи век не дождалась бы. «По мне так нехай бы и утонула!» – размышлял Прохор.
Дни становились заметно длиннее, и весна уверенно брала своё! С каждым днём земля становилась суше, красочнее и живее; с каждым днём теплый воздух всё больше звенел от переклички перелётных птиц: всякая пичужка с радостью оповещала, что она жива и ищет пару. И везде слышались разные по звучанию, но одинаковые по значению звуки, ликующие и славящие жизнь. Многоголосье природных певцов поражало слух! Каких только не услышишь звуков! Начиная от тончайших дискантов пигалиц и сверчков и заканчивая басовитым и трубным криком крупных птиц, полнилась округа. А вот зверь молчал, он свои свадьбы отгулял значительно раньше.
Откликнулось на весенний зов природы и сердце Прохора! Откликнулось, не посоветовавшись ни с рассудком, ни с благопристойностью: ему, как говорится, не прикажешь! В буйстве весенних чувств сердце парня временами заходилось в трепетном беспокойстве. Оно рвалось к старой берёзе…
Мысли о Янинке уже полновластно владели всей сущностью Прохора. Марылька, конечно же, не знала достоверно причину его тоски и странной скрытности, но женское сердце не обманешь: оно чувствовало соперницу. Замкнутость Прохора часто являлась причиной ссор и размолвок. Так продолжаться больше не могло! «Надо что-то делать!» – решился Прохор и в первый же весенний объезд угодий свернул на дорогу со старой берёзой у обочины. Только на этот раз он намеренно направил Орлика по этой дороге.
Но не оправдались его надежды случайно встретить Янинку. Ни в этот раз, ни в следующий. Напрасно кружил он по окрестным лесам, напрасно напрягал зрение, надеясь разглядеть вдалеке девичью фигуру. Но в жизни людской есть такое простое, но мудрое выражение: «Ищущий да обрящет», и на четвёртый раз судьба всё же покорилась воле человека…
Янинка еле пережила суровую зимнюю пору. Она стойко переносила полуголодное существование, когда пустому урчанию в животе вторили такие же голодные завывания волков и протяжные стоны беснующихся вьюг. Но это было ничто по сравнению с муками душевными. С женитьбой Прохора одним махом рухнули все её мечты, и никакие заклятия и привороты не смогли дать Янинке хотя бы искорку надежды на счастье.
Серафима тоже никак не могла взять в толк, почему так непредсказуемо действует всё её колдовство.
– Кажись, оберег заговоренный отводит всю силу заклятий… – неуверенно предполагала она. – Словно на стену натыкается, словно другая сила противостоит нам, – говорила она Янинке, а сама с тревогой ещё и домысливала: «Неужто его это дух? Непохоже! Ох, объявилась, кажись, на мою голову ещё одна… и понять неможно, откудова силища такая исходит! А может, Янина втихаря что вытворяет?» – И подозрительно глянув на дочку, Хима с раздражением рассуждала: «Эта упрямая овца может! С неё станется!»
А Янинка проклинала свою судьбу, так жестоко насмехавшуюся над ней. Уж лучше бы вообще не было той первой встречи!
Когда Прохору кричали «горько», то нестерпимо горько было Янинке. Огнём жгла обида. И хотя между ними совершенно ничего не было, кроме единственного уговора о встрече, но девушка чувствовала себя обманутой и брошенной. Её воображение так красочно разрисовало в розовых тонах будущее, что Янинка уже и сама этому верила. Слишком рано юная и наивная девица уверовала в лёгкую победу!
Странно порой в жизни случается: любимый человек оказывается обманщиком и пройдохой, а чувства к нему становятся ещё сильнее. Вот то же и с Янинкой. Её воображение представляло благородного витязя, а тут – прохвост! Назначил свидание, а сам взял да и женился на другой. Казалось бы, плюнуть и забыть, ан нет – ещё больше захотелось кинуться к обманщику в объятия. «Эх, Янинка, накручиваешь ты сама себя!» – горько усмехалась девушка и, вопреки таким мыслям, всю прошлую осень напрасно наведывалась к старой берёзе…
А теперь вот звенит весна. Не находя себе места, Янинка в который уж раз снова идёт к старой берёзе. Разум говорил, что всё напрасно, а сердце надеялось и верило.
Но сейчас к старой берёзе Янинку уверенно вело её шестое чувство, которое часто вопреки убедительным доводам разума предсказывало ей совсем другое.
И вот исстрадавшаяся душа затрепетала осиновым листочком: там, где они встречались единственный раз, появились лошадиные следы. И не просто следы, оставленные проехавшим всадником, а, судя по всему, тут кто-то долго стоял. Кто тут томился в ожидании, для Янинки было ясно как божий день… Она поняла, что Прохор тоже ищет встречи с ней и решила прибегать сюда ежедневно. Но долго бегать Янинке не пришлось. Буквально на второй день она увидела долгожданного принца. И хотя он не на белом коне, и не совсем принц, но уж точно не менее желанный из-за этого.
Встретились… Они стояли и долго молча смотрели друг на друга. У обоих в голове кружился вихрь всяких слов и мыслей, а по сути – ничего. Им просто было хорошо, хотя и не верилось, что они наконец вдвоём.
Всё так же без слов Прохор приблизился к девушке и нежно обнял её. Не нарушив красноречивого молчания, Янинка податливо прильнула к его груди. Странно, но у обоих было такое чувство, будто они уже целую вечность знают друг друга. На душе было светло и легко. Не проронив пока ещё ни слова, они не испытывали и тени тягостного напряжения, которое зачастую возникает между молчащими людьми.
Янинка первая нарушила затянувшееся безмолвие и совсем тихо проронила:
– Ты сильно спозднился… на первое свидание.
– Сильно. Чуть ли не на год, – согласно вздохнул Прохор.
– На год – это ещё добре. Только чтоб не на всю жизнь…
Ответа на опасение Янинки не последовало, и она грустно продолжила:
– Теперь уж не повернёшь время вспять. Слишком много за этот «почти год» выросло преград между нами.
– Я думал о тебе каждый день…
– Я тоже… А как же твоя молодая женка? Ты ж и о ней думал? – слова, наполненные укором и смиренной ревностью, прозвучали тихо и осторожно.
Всё ещё покоя голову на плече Прохора, Янинка взволнованно замерла в ожидании ответа. Ей так хотелось услышать, чтобы её возлюбленный начал оправдываться, доказывать, что произошла нелепая ошибка, что было невозможно противиться панской воле и главное, ей хотелось услышать, что единственная его возлюбленная – это она. Но прозвучавший ответ поверг девушку в глубокое разочарование.
– И о ней тоже думал, – тихо проронил Прохор и, услышав тяжкий вздох, быстро добавил: – Как-никак, а она всё ж жена мне.
Оба прекрасно осознавали, что по жизни они чужие друг другу, но вот сердца их давно уж бились в унисон. И для Янинки это было особенно значимо. Поэтому добрый отзыв Прохора о Марыльке вверг её в смятение.
– А я тебе кто? – ревность и обида начали рвать Янинке душу. – Чего зачастил сюда? Сидел бы дома со своей Марылькой!
– Янина, ну не злись… а зачастил по той же причине, что и ты.
– И вовсе я сюда не приходила! – вспыхнула Янинка. – И сегодня случайно оказалась тут!
Прохор улыбнулся и ещё крепче обнял девушку. «С характером!» – подумал он, а вслух произнёс:
– А я вот не случайно. Как вода спала, так и зачастил сюда…
– Знаю.
– Как догадалась? Неужто мать нагадала? – прикинулся непонятливым Прохор.
– Да ты тут со своим конём целое стойло утворил…
– О! А говорила, что первый раз тут! – весело заметил Прохор.
– Да ну тебя! – поняв, что проговорилась, Янинка смущённо отстранилась и игриво хлопнула ладошкой парня.
Такого выпада Прохор не мог оставить безнаказанно. Притянув к себе Янинку, он с жадностью прильнул к горячим девичьим устам.
И закружилась под ногами земля, непонятным образом ускользала, ввергая молодые души в бездонную пропасть страсти. Наконец-то вырвалось на волю пламя любви, охватив буйным пожаром тела! Ничто не могло остановить этого порыва! Слишком выстраданное и томительное было ожидание! Слишком туманное и неопределённое ожидало их будущее. А так хотелось любить! Любить сейчас и без оглядки! Если уж гореть, то ярким пламенем, если любить, то безрассудно!
Девушка сдержанно вскрикнула от боли, но уже через некоторое время полностью отдавшись воле чувств, стонала и извивалась под бурным напором ласк и любви. Упругие девичьи груди лихорадочно вздымались от возбуждённого дыхания. Всё тело трепетало в сладкой истоме. О таком блаженстве Янинка и не мечтала! Не задумываясь, она променяла бы годы серой жизни на несколько минут такого безумного счастья.
А Прохор был просто ошеломлён! Такого яркого и естественного проявления страсти он никак от Янинки не ожидал. Не только не ожидал, но и вообще не встречал и даже не слышал о таком. Ему с самого начала казалось, что повзрослевшая в диком лесу девушка, тоже должна быть дикой и необычайно стеснительной в любовных утехах.
Янинка, полностью отдавшись непреодолимому природному зову, ни в чём себя не сдерживала, и это ещё больше распаляло страсть Прохора.
Предавшись любви, молодая парочка напрочь забыла о существовании другой мирской жизни, переполненной множеством бед и редкого веселья, изнуряющего труда и частого голода. Как и для всех влюблённых, для них остановилось и время. Первая это заметила Янинка:
– Ой, скоро смеркаться начнёт, – она вскочила на ноги и без всякого стыда предстала перед Прохором во всем своем обнажённом совершенстве.
У парня перехватило дух. Он зачарованно залюбовался стройной девичьей фигурой с высокой грудью. Плавные линии изящных бёдер и соблазнительный чёрный треугольник в нижней части плоского упругого живота вводили Прохора в безумно-сладкий трепет. От такого потрясающего зрелища можно и вовсе забыть обо всём на свете.
Девушка лукаво улыбнулась, видя, как залюбовался ею парубок. Переполненная счастьем, она подхватила с земли одежду и начала спешно одеваться.
– У-ух, зябко становится. Нет ещё настоящего тепла, – поёжилась Янинка и, глянув на Прохора, звонко рассмеялась: – Не забудь рот закрыть, а то так и поедешь к женке с открытым ртом!
Девушка весело подтрунила над Прохором, но, ненароком упомянув о Марыльке, тут же сама поникла.
– Да уж… пора возвращаться, – грустно и с неохотой согласился Прохор.
Возвращаясь домой, Прохор осмысливал сегодняшнее событие. Настойчиво ища встречи с Янинкой, он собирался было проявить твёрдость характера и здравость рассудка, чтобы раз и навсегда избавиться от назойливых наваждений. И если эта девка не внемлет доводам, чтобы оставить его в покое, то он готов был идти даже на угрозы и решительные действия. Какие?.. И Прохор вдруг ухмыльнулся своим напыщенным замыслам. Если честно, все эти намерения жили у него лишь только в мыслях и только для очистки совести. Он это прекрасно осознавал, но до сегодняшнего дня боялся признаться в этом самому себе. Он также догадывался, что вероятнее всего может получиться то, что получилось! И первая же встреча с Янинкой показала всю несостоятельность намерений Прохора. Всё пошло кувырком. Вместо задуманного избавления от навязчивых мыслей, он влип окончательно. Но больше всего Прохора поразило то, что он был рад такому исходу. Вспоминая все заготовленные слова и фразы, которые он собирался жестко высказать Янинке, окрылённый парень уж в который раз удивлённо ухмылялся: «И надо же было до такого додуматься!»
Но чем ближе он подъезжал к Черемшицам, тем быстрее угасало его возбуждённое ликование. Угрызения, забившиеся в самый дальний закуток души, начинали всё увереннее заявлять о себе. Прохор не знал, как предстанет перед Марылькой и что будет рассказывать о сегодняшнем дне. Чувство вины нарастало, а врать Прохор не умел. «Эх, был бы сейчас язык, как у Лявона – и никакого б волнения!» – невесело подумал он и с тревогой глянул на появившиеся в сумраке крыши черемшицких хат.
Стемнело. У порога Прохор замер в нерешительности. Ему, конечно, не впервой возвращаться из леса поздним вечером, но тогда не надо было что-то придумывать и лгать. Больше всего он опасался своего виноватого взгляда, по которому Марылька сразу может догадаться, что он что-то скрывает. Ну никак не шла ему маска лицемера и притворщика, да и примерять её было противно… И вдруг перед самым носом Прохора дверь распахнулась.
– Ну, наконец-то! – облегчённо выдохнула Марылька, увидев на пороге мужа. – А то мы волноваться уже начали.
– Не подрасчитал маленько… Хотелось всё оглядеть, вот и забрался в самую даль…
– Во всём старание проявляешь. Проголодался небось, – ласково проронила Марылька. – Иди садись, кормить буду. Мы-то уж повечеряли. Ждали-ждали тебя, да и не дождались.
Марфа и меньшие дети уже спали. В припечке[58] весело потрескивала лучина, создавая в избе оранжевый мерцающий полумрак.
Прохор сел за стол, на котором вскоре появилась селянская снедь. В душе он радовался скудному освещению, скрывающему его волнение. Разговаривать не хотелось: мог что-нибудь сказать не так. Медленно пережёвывая, он краем глаза наблюдал за Марылькой. Слава богу, что хоть с расспросами, кажись, пронесло.
– Ешь, да и спать пора. Завтра вставать на заре, не забыл?
– А чёрт, совсем из головы вылетело! – попробовал изобразить огорчение Прохор. Эта тема сейчас была как раз кстати. Но его неумелая игра сделала своё дело.
– Раньше не вылетало. Что у тебя опять там в голове, коль наказы пана Хилькевича вылетают? – Марылька устремила пристальный взор на Прохора.
От такого изучающего взгляда ему стало не по себе.
– Опять ты за своё, – недовольно буркнул Прохор, а про себя начал молить бога, чтобы снова не начались выпытывания, которые потом непременно перерастут в обиды и упрёки.
– Дане. Просто спросила, – неожиданно спокойно сказала Марылька.
– Ладно, пошли спать.
В этот поздний вечер муж и жена мирно улеглись отдыхать. Прохору не верилось, что так гладко всё прошло. Если бы Марыля всерьез что-то заподозрила и учинила ссору, то, возможно, жизнь многих героев этого повествования сложилась бы совсем иначе.
Поутру Прохору с паном Хилькевичем предстояло отправиться по делам на целый день в Каленковичи. Домой возвратятся почти ночью, и Прохор надеялся, что за это время волнение за греховное прелюбодеяние вообще притупится и пройдёт. Такой оборот вселил в него сомнительное убеждение, что можно безнаказанно и согрешить. И сейчас такое убеждение его очень даже устраивало…
Так у Прохора начались не частые, но бурные встречи с Янинкой. Сначала он думал, что после нескольких тайных свиданий его плоть насытится грешной любовью, и отношения сами по себе остынут. Но с каждой новой встречей, с каждой изменой Прохор всё больше привязывался к Янинке и всё больше приспосабливался к роли любовника. И если бы несколько месяцев назад кто-либо опрометчиво предсказал ему такое греховное поведение, то он не только не поверил бы, но мог бы и врезать очернителю за такие слова.
Глава 23
А время летело. Летело быстрокрылой птицей. Щедро отыгравшись на крестьянских жилах за сравнительно спокойную зиму, в нервной и изнурительной гонке прошла весенняя посевная. Хлопотное лето купало селян то в прохладной воде на реке, то в собственном поту на сенокосах и наделах. В круговерти работ мигом проскочила и осень, а тут и зима снова заявила о своих правах.
На исходе относительно нехолодной зимы, словно спохватившись, ударили последние морозы.
Ледяная вода сначала обжигала руки, а затем холод их уже просто ломал. Ломал до боли, и это было нормально. Пока замёрзшие пальцы заходятся и краснеют от холода – они живые.
Марылька с тяжестью на душе полоскала бельё в ледяной проруби, не забывая, однако, следить за руками – не начали бы белеть. В ворохе мокрых, быстро смерзающихся вещей были в основном детские одёжки братика, сестрички и своего маленького сынишки-крохи. Вот уж который месяц пошёл, как она вместо пелёнок стирает уже крохотные детские рубашечки своего ненаглядного сыночка.
На радость родителям маленький Егорка рос крепышом и прытко набирал вес. Но материнская радость не могла в полной мере заполнить сердце Марыльки; гнётом теснила, места не давала ей тревога. Черной змеёй она давно уж вселилась в душу Марыльки и ядом ревности отравляла жизнь. Люди удивлялись то ли смиренному терпению, то ли слепоте несчастной молодицы.
А Марылька была не слепа. То, что у мужа появилась зазноба, она заподозрила давно. На все увещевания и укоры Прохор всегда находил правдоподобные отговорки. Отговорки для любимой Марыльки! И она с охотой верила, а может быть, только делала вид, что верит…
Но людям-то глаза и рты не закроешь. Всё видят, обо всём догадываются! Несчастная Марылька не раз замечала на себе сочувственные взгляды, от которых унизительно щемило сердце. Она упорно старалась не замечать перешептываний деревенских сплетниц, не придавать этому значения, и всем своим видом старалась показать, что у неё в семье всё в порядке. Но ведь всех не обманешь, и уж тем более – себя.
– День добры, Марыля.
Марылька вздрогнула от неожиданно раздавшегося сзади голоса. Тихо чертыхнувшись, она устало распрямилась и повернулась.
– Не такой уж он и добры, – уныло ответила она и с удивлением уставилась на… Степана. – Ты чего это тут ищешь?
Запыхавшийся приказчик старался подавить шумное дыхание и выглядеть спокойным. Но по валившему из-под расстёгнутого кожуха пару было видно, что он только что где-то работал, а завидев Марылю, тут же примчался следом. Когда ещё подвернётся такой случай поговорить с ней без посторонних? Вытерев рукавом испарину со лба, он с нескрываемым восторгом глазел на Марыльку.
– Хм… – по губам мужчины скользнула загадочная ухмылка. – Счастье вот ищу, да всё никак не даётся мне в руки эта редкая птаха.
Внутренний голос подсказывал Марыльке, что неспроста приказчик завернул к речке, да и речи замысловатые тоже неспроста начал вести.
О том, что Степан питал к ней прямо-таки болезненное неравнодушие, Марылька знала давно, и это его внимание тяготило, а порой и раздражало её. Ей были безразличны его страдания и вздохи. За время беременности и за хлопотами о дитяти она почти не видела Степана и надеялась, что у него за этот срок дурь перегорит. Однако недооценила, видимо, Марылька упорства вылинявшего ухажёра.
Она прекрасно поняла, на какое счастье намекал сейчас Степан. Кокетничать у неё не было ни желания, ни времени. Да и было бы с кем! Вздохнув и открыто глянув приказчику в глаза, она твёрдо произнесла:
– Твоё счастье, Степан, дома на печке сидит, а ты всё мечешься в поисках чего-то несбыточного.
– Это отчего ж несбыточного, – понуро поинтересовался приказчик.
– Потому как не там ты шукаеш это своё «счастье». Не будет тебе здесь удачи. Даже и не мечтай, – отрезала Марылька, ясно дав понять о тщетности Степановых попыток добиться её благосклонности.
– Вот даже как…
– Только так, Стёпа, и никак иначе. У тебя своё счастье, у меня своё.
Приказчик не привык получать прямых и решительных отказов. Это вызывало в нём ещё большее желание добиться своего. А в этом случае его и вовсе взбесило упрямство недоступной гордячки. Не в силах сдерживать своих эмоций он словно взорвался:
– Да что ты, девка, знаешь о моей жизни?! О каком это моём счастье толкуешь?! То, что мне силой в женки всучили эту ломовую лошадь, ты называешь счастьем?!
– Ну, ты, Стёпа, тоже не царевич! А вот приданого хапнул немало. Чтоб не твоя Авдотья, так и приказчиком вряд ли был бы, – не церемонясь, Марылька открыто резала правду-матку, пытаясь грубо образумить Степана.
Такие слова ущемили бы самолюбие любого мужика, а уж приказчика – и подавно!
– Не тебе судить о моей жизни! Ты сначала в своей поди разберись…
– Ну-ка, ну-ка, на что это ты тут намекаешь? – сердце Марыльки бешено забилось.
Вот он, настал момент истины! Его-то Марылька и ждала, и боялась. Она знала, что рано или поздно ей всё-таки открыто скажут о похождениях Прохора. И, видимо, это случится сейчас! Она это чувствовала! Сейчас она узнает, кто посмел бросить семя разлада в её гнездо! Давно хотела узнать правду, но как же не хочется верить в неё! И… она боялась этой горькой правды!
Хотя на самом деле всё это были лишь обманчивые мысли. Для успокоения души, так сказать. В действительности же Марылька давно обо всём если и не знала, то уж догадывалась точно.
Степан на мгновение замялся. Может, не стоит…
– Говори, – тихий, но угрожающе твердый голос Марыли прозвучал, как приказ, ослушаться которого было невозможно.
– Ну, раз о своём счастье заговорила, так знай: не такое уж оно у тебя и безоблачное. Бывает, у человека и семья, и хата, и положение не из крайних, а вот не хватает чего-то… Вот и Прохорка твой… того…
– Не виляй, говори прямо… кто она?.. – Марыле очень хотелось убедиться в своей догадке.
Степана глубоко поразил решительный вид Марыльки. В её глазах он не видел ни растерянности, ни горестного испуга, которые не раз наблюдал у обманутых баб.
У приказчика в душе всё время свербело насолить Прохору. Но такое искушение опасливо затухало перед возможной расправой. А то, что такое может случиться, Степан знал точно, потому как ему уже довелось однажды познать это на своей шкуре. Он до сих пор верил, что именно Прохор выбил ему зуб и забрал каравай во время своей свадьбы. Но всё же под напором пакостного искушения и давящего взгляда Марыли, приказчик быстро сдался.
– Так это… Все ж знают. Давно уж якшается…
– Кто она?!
От резкого выкрика Степан вздрогнул.
– Янинка! Дочка ведьмы! – выпалил он и с интересом стал наблюдать, как отнесётся к такому известию непокорная Марылька.
«Может, наконец прозреет, что на одном её Прохоре свет клином не сошёлся, и изменит своё пренебрежительное поведение. Ну, не сразу, конечно. Пусть переварит то, что услышала, а там, глядишь, да и поумнеет. Поумнеет, да и решит отплатить неверному мужику той же монетой! А кто на селе для этого более достойный, чем он, приказчик! Как-никак почитаемый человек, а не голожопый беспорточник!» – от таких мыслей на тонких губах Степана зародилась самодовольная ухмылка.
– Чего лыбишься? – неожиданно резанул голос Марыли, а глаза её сверкнули такой злостью, что Степану сделалось очень уж неуютно под напором такого взгляда.
Не по нутру было приказчику, чтобы с ним бабы вот так разговаривали. И даже Марыле, этой упрямой овце, он не позволит грубить себе. Дерзость её сначала вызвала у Степана раздражённое сопение, и он уже хотел было поставить на место эту заносчивую стерву, прикидывающуюся агнецом. Потом он подумал, что, наверное, Марылька его не поняла, и снова со злостью повторил:
– Прохор твой, говорю, с Янинкой якшается.
– Без тебя знаю, – тихо, но жестко процедила Марыля.
Казалось, что под прищуренным её взглядом, устремлённым в сизую даль, вот-вот начнёт таять снег.
Приказчик ничего не понял и решил ещё больше надавить на рану в душе молодой матери:
– По душе, видать, пришлась твоему мужику ведьмина дочка. Покладистая девка попалась, не то что некоторые, – косой взгляд на Марыльку красноречиво говорил, в чью сторону прозвучал намёк. – Да и хвалёный твой Прошка своего не упустит. Небось не она первая у него такая, – смаковал каждое слово Степан.
Уязвлённое самолюбие приказчика мстительно торжествовало. Он наслаждался страданием несговорчивой молодицы и, видя мрачное лицо Марыли, ещё больше распалялся. Дальше его уже и вовсе понесло взахлёб.
Марылька застыла в задумчивом оцепенении. Казалось, что от горя она совсем не слышала «упоительных напевов» приказчика. Затем, словно очнувшись, она одарила Степана презрительным взором и одним лишь словом:
– Замолчи.
Но не тут-то было! Приказчик решил хоть так расквитаться за неудачу. Он знал, что каждое его слово солью ложится на душевную рану Марыли. Пусть виновница его страданий тоже сполна испробует такую чашу терзаний!
– Сам-то я только раз мельком и видел эту девку. Хоть и дикая, да уж покрасивше тебя будет. Эх, повезло твоему Прошке! Вот только не знаю, где жить будут, если сбежит от тебя…
– Закрой рот – простудишься ненароком, – совсем тихо произнесла Марыля, и приказчик содрогнулся от вдруг охватившего его озноба…
Она молча несла недостиранное тряпьё и свою беду домой, к неверному мужу. Тяжесть этой ноши подкашивала женские ноги, скрывала тропинку за пеленой слёз. «Ну чего разревелась?! Знала же, что такое может быть! Всё выжидала… Вот и дождалась!» – корила себя Марылька, в глубине души осознавая, что во всём сама виновата… Но как бы там ни было, никто и никогда не увидит Марыльку слабой! А силу и стойкость молодой матери придавала безграничная любовь к кровинушке своей. Это была поистине великая материнская любовь к своему дитяти.
Степан угрюмо глядел вслед так и не покорившейся Марыльке, но теперь его душу всё же грело злорадное удовлетворение.
– Так тебе и надо, сучка… любимая, – еле слышно прошептал он и, в сердцах сплюнув, тоже направился домой к «своему счастью».
А поднявшийся холодный ветер трепал расстёгнутые полы кожушка, стараясь пробрать до самых костей разгорячённое тело приказчика…
К вечеру у Степана поднялся сильный жар, горло заложило. Угловатая Авдотья хлопотала у печки, отпаивая мужа отваром малинника, да всё приговаривала:
– Говорила ж тебе: не носись расхлёстанный! Не послухался, вот и добегался! Проняло холодом где-то сильно… Теперь пополежишь, пока простуда вычихается!
Степан лежал молча, укрытый зипуном да целой горой постилок. Ему было так худо, что он совсем не слышал обрыдших причитаний Авдотьи. В горячке приходилось постоянно облизывать пересохшие губы, а в воспалённой голове не давала покоя назойливая мысль о предостережении Марыли насчёт простуды: «Надо ж… как в воду глядела».
Как только в состоянии больного наступало облегчение, его тут же охватывал зудящий интерес: «Вот бы хоть краем уха подслушать да одним глазком поглядеть, что у них там дома творится!»
А в хате Логиновых ничего и не происходило. Странно, но и на этот раз Марылька и словом не обмолвилась с мужем о раскрывшемся его обмане. Может, так оно было и к лучшему…
Но всё же с этой поры Марылька стала более замкнутой. Установившиеся неестественные отношения в семье Прохора, видимо, устраивали обоих. Марылька не пилила мужа по поводу его измен, а Прохор, думая, что жена ни о чём не догадывается, продолжал частенько навещать свою зазнобу. И весь деревенский люд с любопытством наблюдал за такой жизнью этой молодой троицы. Особо сметливые гадали и со смакованием предполагали, какая всё-таки будет развязка. А развязка назревала, наливалась ядовитым соком, и в том, что что-то должно случиться из ряда вон выходящее, не сомневался уже никто! Что ж, время покажет…
Глава 24
А время шло своим чередом. И никакие события не могли сбить ритм этого явления. Ни радость, ни горе, ни войны, ни даже всемирный потоп не могли повлиять на ход времени.
Закончилась зима; прошла и весна. Согретая знойным солнцем земля перешагнула уж и пору летнего зенита.
С тревогой в душе Янинка шла в Черемшицы к своей товарке Дуняше. Визит к подружке был лишь предлогом. Девушке очень хотелось хоть что-то разузнать о Прохоре.
Вот уж третья неделя пошла после их последней встречи, и за эти дни от возлюбленного ни одной весточки. В последнее свидание Янинку сильно встревожило странное поведение Прохора. Его вкрадчивые вопросы об её отношениях с матерью и задумчивое состояние насторожили тогда девушку. На её же расспросы, что случилось, он отмалчивался. Догадка напрашивалась сама собой: Прохору, наверное, кто-то что-то сказал совсем уж плохое о ней. Скорее всего, он и её начал подозревать в колдовстве, но прямо спросить об этом не решался. Так предполагала обеспокоенная девушка.
Почувствовав отдаление Прохора, Янинка встревожилась не на шутку. Каким-то внутренним чутьём она тогда поняла, что теряет его. Как она хотела, чтобы этот её дар хоть иногда ошибался! Но нет! Прохор не появился ни в следующий урочный день, ни после.
А именно в эти последние дни бедная девушка как никогда нуждалась во внимании и участии. И причина для этого была более чем веская. Но, видимо, жестокая судьба-разлучница всячески пыталась обречь юную красавицу на сводящее с ума одиночество.
Направившись к Дуняше, Янинка сначала торопливо шла по наезженному шляху, а потом, решив срезать путь, свернула к речке. Где по гребле, где через гать, огибая топкие болотистые места, она легко и привычно двигалась по неудобной для ходьбы местности.
Змеёй виляя вдоль речки, тропинка выходила к околице села, как раз к тому месту, где бабы обычно стирали, а ребятня купалась. Янинке не хотелось сейчас попадаться на глаза кому-нибудь из черемшицких баб. Приближаясь к мосткам, она замедлила шаг и стала пристально всматриваться в блестящую сквозь заросли водную гладь. Она пыталась выяснить, не полощет ли кто бельё. Но пока ничего разглядеть было невозможно.
Осторожно пройдя ещё немного, Янинка вдруг вздрогнула от внезапного истошного бабьего визга, криков и неуёмного детского рева. Судя по поднявшемуся гвалту, случилось что-то ужасное.
Девушка бросилась вперёд и, выскочив к краю зарослей, выглянула из-за лозового куста. На мостках темнела лишь куча мокрого тряпья. Пусто. И бабы и ребятишки столпились чуть дальше, там, где обычно все купались. Оттуда и разносились на всю округу громкие причитания и всполошенные крики.
И тут внимание Янинки привлекла до боли знакомая фигура. «Ну как же! Марылька! А что это она там так убивается да голосит?!» – мелькнуло в голове девушки и тут же, как ушатом холодной воды, её обдала страшная догадка: «Их дитё!»
Дальше Янинка наблюдала за ужасным событием, находясь в оцепенении. Она издали видела, как тщетно пытаясь привести в чувство маленького сынишку, Марыля голосила не своим голосом. Голые перепуганные дети дрожали и ревели, наводя ещё больший переполох.
– Сыночек мой, родненьки, открой глазки! Ну чего ж ты не дышишь?! О, горе мне какое! – обливаясь слезами, Марыля трясла и переворачивала маленькое неподвижное тельце своего дитяти.
Две бабы, стараясь хоть чем-то помочь несчастной матери, принялись тоже тормошить, улаживать животом на колено и откачивать бездыханное тело. Но с перепугу они только создавали больше суеты и мешали друг дружке.
Потрясённая жутким зрелищем, Янинка продолжала смотреть широко раскрытыми глазами. «Утоп!» – страшная догадка клином засела в её голове.
Если бы это был испуг, рана или ещё какая беда, Янинка, не раздумывая, бросилась бы на помощь: она знала, что и как в таких случаях надо делать. Не ради Марыльки, конечно. Но как помочь утопленнику и спасти его, молодая ведьма не знала. Тут она была бессильна!
И вдруг душераздирающие вопли Марыльки стихли. «Отходили!» – догадалась Янинка и облегчённо перевела дух. Она искренне обрадовалась за спасение малыша, хотя он и являлся самой серьёзной преградой её счастью.
Девушка уже собралась было незаметно обойти стороной это злополучное место, как сердце её опять тревожно ёкнуло и сжалось от жуткой картины: рядом с неподвижным тельцем дитяти в беспамятстве лежала и мать. Вот почему не было слышно её криков.
Теперь бабы приводили в чувство и Марыльку, таская в пригоршнях воду и поливая ей лицо. Им вдвоём теперь и голосить-то было некогда!
Одна из селянок, толстая и неповоротливая, в спешке запуталась и растянулась у самой кромки воды. Видя, что беды не избежать и дитя им уже не спасти, она с досады уселась в прибрежной грязи и, закрыв лицо руками, от отчаяния разрыдалась.
– Вольга, чего расселась там?! Воды неси скорей! – раздражённо прикрикнула на неё более молодая баба и, заметив, что Марылька начала приходить в себя, с ещё большим усердием затрясла малыша.
Все усилия по спасению мальца оказались тщетны. Слишком поздно и неумело его начали спасать. Растерянность и испуг тоже внесли свою роковую лепту в эту ужасную трагедию.
Марылька наконец приподнялась и непонимающе захлопала глазами. Вглядываясь в ревущих вокруг детей и в успокаивающих её баб, она некоторое время не могла понять, что происходит. Но вот её блуждающий взгляд упал на самое дорогое, что у неё было! Да, теперь уже именно – БЫЛО! И несчастная мать, глядя на своё мертвое дитя начала бредить:
– Тише, не ревите… Мой Егорка спит… не тревожьте его…
Бабы молча переглянулись.
– Неужто рехнулась, – прошептала более молодая.
– Очухается… Так бывает. От такого горя… не мудрено… – всхлипывая и сдерживая рыдания, со слезами ответила Вольга.
Прижимая к себе мертвого Егорку и качаясь, словно убаюкивая его, Марыля со временем все же окончательно пришла в себя. И вдруг она застыла, молча воззрившись на своё родное дитя. Выпутавшись из туманного плена, рассудок уже ясно осознал и донёс до сердца молодой матери всю сущность непоправимой утраты. В несоизмеримом горе Марылька неестественно запрокинула к небу голову и дико взвыла волчицей. И без того перепуганные бабы и дети обмерли от этого жуткого зрелища. А объятая горем мать лишь на мгновение перевела дух – и вся окрестность содрогнулась от её нечеловеческого крика:
– Хима-а-а! Не жить тебе, змея! Я знаю: это всё – ты! Проклинаю тебя!
Услышав это, Янинка вдруг поняла, чем может обернуться эта беда для них. Однажды давным-давно она уже видела, что может произойти. Трагедия с дедом оставила тогда в её детском сознании неизгладимый чёрный след на всю жизнь.
Со страхом глянув на толпу из баб и детей, уносящую маленького утопленника в село, Янинка стремглав бросилась назад к своему жилищу. Не ровен час спалят и избушку и их самих! Надо бы схорониться пока на время, переждать, а там видно будет.
Летя не разбирая пути, царапаясь и падая, Янинка насилу сдерживала рыдания. Отчаяние и обида душили её. «Ну почему беда за бедой преследуют меня? Почему счастье всё время обходит меня стороной?! Почему утоп именно сын Прохора?! Ведь сейчас во всём обвинят и её, и мать! Без вины… Мать… постой, дурёха!» Девушка вдруг остановилась. А почему это она так уверена, что и мать тут ни при чём? Это насчёт себя Янинка была уверена. Она никогда бы не пожелала зла любому дитяти, а тем более сыну Прохора. А вот что на уме у её матери, её помыслы – темень непроглядная!
И Янинка вдруг впервые пожалела о своем опрометчивом шаге, выведшем её на стезю колдовства. Что дало ей это чародейство? Год призрачного счастья?! Так Янинка уже была уверена, что и без всяких приворотов было бы то же самое. Ведь они любили друг друга настоящей любовью. Любили сердцем и душой! А сколько слёз, сколько бессонных ночей? «Ведь знала же, что на чужом горе…» – обречённо подумала Янинка и, недолго размышляя, приняла единственное, как ей казалось, правильное решение…
А Серафима в это время мирно собирала чернику недалеко от своей избушки у огромного и непроходимого Гайстрова болота, от которого даже в зной тянуло сыростью и прохладой. Сегодня как никогда у неё было хорошее настроение. Но она всё равно по привычке часто и притворно вздыхала, охала да беззлобно бранила свою тяжкую судьбину.
За собой старуха давно заприметила странную особенность: если она долго и часто о ком-то думала, то между ней и тем человеком устанавливалась необъяснимая связь. И по этой незримой связи, по своему самочувствию Серафима точно могла определить душевное состояние и того человека. Если это добрый для неё человек, что было большой редкостью, то все его радости и беды отражались на ней, соответственно, хорошим и плохим настроением. Если это ворог, всё так же, только наоборот: чем чернее полоса у недруга, тем лучше настроение у Химы.
Вот и сейчас ведьма радовалась всему: ласковому солнышку, шелесту листвы, пению птиц. И даже мелкие сморщенные ягоды (к концу лета черники уже практически нет) радовали старуху. И всё у неё сегодня получалось, всё спорилось в руках. Но больше всего радовалась её опалённое тщеславие. Наконец-то все её усилия дали результат! А что результат выдался славный, ведьма не сомневалась: исстрадавшаяся её душа за кои-то веки впервые пела. «Ага-а, вот и тебе, видать, припекло!» – думала Серафима, и эта мысль приносила ей сладостное удовлетворение. Она полностью была уверена, что Прохору сейчас очень худо, но что именно произошло, ведьма пока не знала. Старухе сейчас и на ум не могло придти, что умиротворение и тишина – это частые предшественники бурных, а порою и роковых событий. Но её природная прозорливость, убаюканная милыми сердцу думами, в это время сладко дремала…
Невзирая на препятствия, гонимый жаждой лютой мести, Прохор пустил Орлика напрямую через лес. Так было значительно ближе. Натоптанными тропами и лесными дорогами оно, конечно, сподручнее было бы, но, как это часто бывает, ярость – плохой советчик. По времени Прохор ничего не выигрывал.
Да, именно ярость доводила сейчас его до грани безумства. Внутри всё клокотало и горело. Только жестокая расправа могла хоть на малую толику заглушить отцовское горе.
До этого две причины сдерживали Прохора от применения жестких мер к ведьме. Первая – Янинка, которую он до сих пор так и не понял, любил или нет, и главная причина – его сынишка-карапуз. Прохор сильно опасался, что, начав изживать из этих мест Химу, он накличет беду на своего малыша. Вот по этим двум причинам он терпел и стойко переносил валившиеся на него как из рога изобилия неприятности и беды. Хотя, признаться, и сам сильно грешен, немало кровушки попортил Марыльке неверностью своей.
Теперь для выхода дикой мести преград не стало. Та, с которой он проводил незабываемые минуты, тоже оказалась ведьмой, тоже плела против его семьи чёрную паутину и, вероятно, тоже оказалась причастной к гибели его единственного сына. В порывах безрассудной ярости Прохор был в этом уверен! Ничто не могло остановить отцовского гнева, и никакие силы теперь уже не помогут колдунье и её дочке избежать погибели. Жажда мести поменяла полюса. Теперь настала очередь Прохора рычать в горестном отчаянии и в дикой ярости жаждать расправы. И не просто побить или изувечить! Итог расправы был однозначен – лютая смерть.
Увидев безжизненное тельце своего родного дитяти, он уже знал, что ведьма неминуемо примет свою погибель только от его руки. Нигде ей не спрятаться, нигде не затаиться! «Буду землю грызть, но достану эту гадину! Она ещё пожалеет, что связалась со мной! Хватит! Натерпелся бед! Теперь они обе за всё с лихвой заплатят!» – кричал Прохор. Но особенно больно его ранило чувство разочарования в Янинке. Как она могла так поступить?! После стольких сладких встреч решиться на такое! Нет! Это уму непостижимо! Такое вероломство и коварство должно быть без всякого колебания жестоко покарано!
Так уж получилось по воле рока или, наоборот, – удачи, но выбранный Прохором путь пролегал краем Гайстрова болота, и встреча с Химой была очень вероятной.
Старуха ещё издали заслышала конский топот, и сразу же её пресловутая интуиция проснулась и насторожилась. Старая ведьма почувствовала неладное. Если у лесничка большие неприятности и он жаждал поквитаться с ней, то Серафиме, пребывавшей в расслабленном состоянии, как-то не очень хотелось сейчас вступать в стычку. Не готова была старуха к такому обороту. И ничего тут особенного: как не крути, а ведьмы тоже из плоти, нервов и с душой, хоть и тёмной. А что последствия схватки для кого-то будут трагическими, в этом можно было не сомневаться. И Серафима вдруг почувствовала: это ей несдобровать! «Не в добрый час тебя несёт!» – подумала она и стала лихорадочно соображать, что делать. Нутро подсказывало ведьме, что лучше всего сейчас спрятаться где-нибудь и дождаться своего часа. Но в панике сознание ведьмы сочло неблагонадёжным затаиться среди деревьев. Могло быть и так, что Прохор будет мчаться именно там, где она укроется. И решив, что надёжнее всего укрыться в топком болоте, старуха бросилась туда.
Прохор издали заметил мелькнувшую тень. Сердце бешено заколотилось. Пришпорив Орлика, он рванулся к тому месту. В том, что в болото шмыгнула Хима, Прохор почему-то был уверен твёрдо.
Опытный взгляд охотника сразу же отметил потревоженную стоячую воду с изорванной на поверхности рыжеватой пленкой. Такие плёнки образовывались от повсеместно залегающей в этих местах болотной руды[59]. След вел вглубь болота.
Прохор остановился. Это болото издавна славилось своими коварными топями и трясинами, а в многочисленных островках зарослей тростника, рогоза и камыша Хима могла найти надёжное укрытие. Такой расклад Прохору не подходил. Он жаждал открытой схватки. Опасная игра в прятки по трясинам да омутам только затянет время и преподнесёт уйму ненужной возни.
Глядя на непроходимые топи, Прохор вдруг заметил всколыхнувшуюся стену тростника. След вел в том же направлении. Сомнений не было: на небольшом клочке болотных зарослей укрывалась Хима.
Рванувшись сгоряча туда на лошади, Прохор тут же понял опасность предпринятой попытки: лошадь сразу увязла в болотной жиже по самое брюхо. Соскочив в воду, он первым делом выломал шест из тонкого ствола засохшей сосёнки. Проверил ружьё – полка с порохом сухая. Потрогал крестик-оберег – на месте. Глянув на Орлика, определил: «Самому ему не выбраться. Но и дальше погружаться он не будет: берег близко и тут неглубоко».
– Погоди, друг милый, я скоро возвернусь. Только не пугайся и не рвись, – тихонько сказал Прохор и, потрепав Орлика по холке, решительно направился к укрытию ведьмы.
Напуганный Орлик, конечно же, не понял наказа человека и попробовал самостоятельно вырваться из жуткого плена, но его тонкие ноги ещё глубже погрузились в вязкое дно. Не чувствуя под ногами твёрдой опоры, Орлика начала пробирать паническая тревога. Такого с ним никогда ещё не бывало. Подспудный страх всё больше охватывал бедное животное. Без помощи человека он погибнет! А человек уходил! Не остался, не помог в беде!
Верный конь жалобно заржал вслед быстро удаляющемуся хозяину, но Прохор в спешке даже не обернулся. И в сердце Орлика закралась противная тревога. В больших испуганных глазах попавшего в беду животного стояла мольба о помощи, но человеку, видимо было не до этого. Как же так?! Орлик сдружился с Прохором и полностью доверял только ему. И вот, когда благородное животное так нуждалось и надеялось на помощь, его просто бросили.
И всё же преданный конь до последнего верил, что его хозяин сейчас обернётся, увидит, в какой он опасности, и поспешит на выручку.
Напрасно Орлик вытягивал повыше шею, стараясь не упустить из виду удаляющегося хозяина. Заросли тростника скрыли человека, и всё вокруг начало искажаться и смазываться от выступившей на больших испуганных глазах солёной влаги…
Проверяя шестом дно, Прохор безошибочно выбирал путь. Бурая вода с каждым шагом изрыгала сотни пузырьков, которые распространяли тухлый запах гнили, застоявшейся воды и болотного газа. Ноги глубоко уходили в жижу, путались в тине. Прохор на это не обращал ни малейшего внимания. Все его мысли направлены на одно: поскорее найти мерзкую гадину и захоронить её в этом вонючем болоте.
Из своего укрытия Серафима отчетливо видела, что происходило на краю топи. Она воспрянула духом, когда заметила неудачную попытку Прохора сунуться в болото на коне. Но надежда на то, что преследователь не решится лезть в непроходимые топи, недолго тешила старуху. С каждым шагом Прохора неумолимо сокращалось спасительное расстояние, с каждым его шагом таяла и забрезжившая надежда на спасение. И Серафиму вдруг сдавил какой-то тяжёлый страх. Нет, не за свою жизнь она боялась! Её терзало горькое отчаяние, что не ей суждено свысока смотреть в глаза корчащемуся в предсмертных мучениях ворогу. А сколько она мечтала об этом! Как ей хотелось возвыситься над поверженным противником! Но, кажется, всё может статься наоборот. И это будет бесславное поражение, крах всех её замыслов. От такого горького озарения и от своего бессилия старуха тихонько скулила и лихорадочно бросала безумные взгляды по сторонам. Просто так отдаться на милость самому ненавистному ей человеку ведьма всё же не собиралась. Она будет сопротивляться до последнего вздоха, пусть не силой, так крепостью духа. Но до этого пока ещё не дошло. Надо срочно что-то предпринимать. И ведьма решилась! Путь к спасению был лишь один – дальше в трясину.
Прощупывая место для очередного шага, Прохор вдруг услышал всплеск воды и шумное барахтанье на противоположной стороне тростника. Прислушиваясь к звукам хлюпающей воды и отчаянному пыхтению, он со злорадной ухмылкой прошептал: «Вот и попалась старая сука!»
Преследователь, казалось, равнодушно наблюдал за медленным, но неотвратимым погружением своей жертвы в болотную пучину. Старуха яростно и неумело дёргалась в бурой жиже, ещё больше усугубляя своё положение. Вокруг реденькими чубами росла только болотная растительность, которая колыхалась вместе с водной поверхностью. Ни идти, ни плыть невозможно, и уцепиться было не за что. Это был конец. Над поверхностью грязной воды уже оставалась лишь верхняя часть туловища. Всё происходило примерно так, как и представляла в мечтаниях старая ведьма, вот только всё было наоборот!
Прохор угрюмо продолжал наблюдать. Старуху всё больше и больше заглатывала трясина. Оба пока не проронили ни единого слова: каждый принимал свой удел молча. Хима не просила ни пощады, ни помощи. Прохор не предлагал ни того, ни другого. Наконец, видя, что грязная жижа подбирается уже к дрожащему подбородку, Прохор напоследок тихо произнёс:
– Это тебе за сына… За маленькое и ни в чём неповинное дитятко…
Ведьма встрепенулась и впервые прямо глянула на Прохора. Взгляды их скрестились. Казалось, вот-вот напряжение между ними разрядится молнией и громом. Но вместо этого грязное и обезображенное лицо ведьмы совсем неожиданно исказилось в зловещей улыбке.
– Повтори, – просипела она.
– Ты погубила моего сына! За это сдохнешь в этом болоте и будешь вечно в аду гореть, сука старая! – в нервном срыве закричал Прохор, насилу сдерживая себя, чтобы не выстрелить в мерзкую рожу. Но это было бы превеликой услугой для ведьмы.
И совсем уж неожиданно, на последних мгновениях жизни, старуха разразилась жутким хохотом. Прохор остолбенел. Это выглядело так неестественно и ужасно, что привело бы в замешательство любого человека. Дикий смех ведьмы, словно по-живому резал Прохора. Он уже вскинул было ружье, чтобы прекратить мучения. Нет, не Химы мучения – свои! Но в последний момент всё же опомнился и выстрелил нарочно мимо. Пусть дольше помучается!
Меж тем бурая грязь неумолимо подползала уже ко рту ведьмы. Казалось, что Химу заглатывала не просто трясина, а демон, который был уверен в своей хватке и, играя, не спеша, с превеликим наслаждением медленно выдавливал жизнь из своей жертвы.
Старуха была измождена, а дыхание настолько сдавлено, что она с трудом лишь сипела. Но вот ведьма в очередной раз дёрнулась, и ей удалось на какой-то вершок вытянуться, приподняться над булькающей смертью.
– Непричастная… я к дитяти… хотя давно могла бы… – тяжело, отрывками ведьма выплёвывала слова, стараясь экономить последние вздохи.
– Это ты всё сотворила, змея подколодная!
И опять Хима непритворно рассмеялась. Было видно, что на последних мгновениях жизни она обрела какое-то успокоение, и это ещё больше разозлило Прохора. С омерзением глядя на ведьму, он никак не мог найти нужных слов, чтобы сполна выразить всю жгучую ненависть к ней.
– Ты дьявол во плоти, и место твоё в аду! – опять в гневе кричал Прохор, полностью сбитый с толку странным поведением ведьмы.
– Ошибаешься, собака… с настоящим дьяволом тебе ещё предстоит… я по сравнению… ангел…
Вместо окончания фразы Прохор услышал лишь булькающие звуки огромного полесского болота, безжалостно заглатывающего своих жертв. Равнодушная к страданиям своих жертв, топь грязевой рукою навсегда закрыла Химе рот и нос…
А над головой старухи простиралась необъятная ширь: что в вышину до небесной лазури, что вдаль до сизой дымки. И всё это был воздух! Но вдохнуть хотя бы ничтожный глоточек из этого живительного и необъятного воздушного простора ведьме уже было не суждено. Последние пузыри воздуха вырвались из её лёгких и забормотали у самой переносицы. Словно играясь в салки, они взмывали один за другим и лопались весело и задорно. Им были совершенно безразличны людские передряги и вся трагичность происходящего. И каждый исчезающий пузырёк смертным метрономом отчеканивал Серафиме последние мгновения её неудавшейся жизни.
Над бурой водой теперь уже оставались только глаза старухи. Прохор неотрывно смотрел в них, ища там страх, ужас, сожаление о содеянном зле, раскаяние. Но вместо всего этого глаза ведьмы не просто смеялись – они торжествовали! За миг до погружения в вечную тьму они лучились ликованьем…
Это было уму непостижимо! От этого предсмертного торжества ведьмы у Прохора лоб покрылся холодным потом. Ему стало настолько худо, что ноги подкашивались, тело обмякло в тошнотворной слабости. Прохора охватило такое ощущение, будто это не он, а Хима расправлялась с ним. Казалось, что тяжёлый осадок на душе камнем тянул в болотную бездну и его. Подавленный, Прохор безвольно опустился прямо в воду.
А вытянутая над мутной водой костлявая рука старухи скрючилась в агонии и, приворожив к себе взгляд победителя, словно грозила, что это ещё не конец…
Прохор долго сидел в отрешённом ступоре. Заметив, что и его потихоньку начало засасывать, он оторвал взор от торчащей из трясины руки и с трудом выбрался в безопасное место.
Уже отойдя шагов на тридцать, он оглянулся и в последний раз с удовлетворением глянул на жуткую могилу ведьмы. «Пригвоздить бы тебя ещё и осиновым колом… к самому дну, чтоб никогда не всплыла!» – подумал он и, повернувшись, навсегда оставил в прошлом все тревоги, связанные со злобной колдуньей.
Мутная вода зловеще ласкала Орлику сначала лишь брюхо, затем бока. Не чувствуя под ногами твёрдой опоры, конь потерял равновесие и начал медленно заваливаться на бок. Если он не сделает упор ногой, это будет ужасный конец. Но ноги Орлика глубоко увязли, и он, изрядно обессилев, уже не мог даже выдернуть их. Предчувствуя свою участь и противясь ей, Орлик жалобно заржал. Как ещё могло животное выразить протест злому року, уготовившему ему такой ужасный и безвременный конец. Наверное, природа-владычица на такие мелочи не обращала внимания…
Но что это?! Слух животного уловил всплески воды и тяжёлое дыхание человека. Эти звуки становились всё громче и отчётливей. Боже, если бы кто видел радость верного коня, учуявшего приближение хозяина в самую бедственную для него минуту!
Прохор быстро оценил серьёзность положения. Просто так у него не хватит сил помочь Орлику, надо искать какой-то выход. Не мешкая! Мужицкая смекалка живо подсказала решение.
Прохор отцепил и связал вместе все имеющиеся поводья, вожжи, ремешки от упряжи, от ружья и даже от порток. Получившейся верёвкой он одним концом обвязал коня, а другой протянул до ближайшего, хоть и чахлого, но твёрдо стоящего у берега дерева. Нашёл длинный крепкий дрын[60] и закрепил на нём свободный конец верёвки. Уперев дрын через дерево, он соорудил простейший, но эффективный рычаг.
На этот раз воспрянувший духом Орлик сразу понял, что человек пришёл на помощь и пытается что-то сделать, чтобы вытащить его из беды. Он терпеливо ждал и, когда Прохор сильно натянул жердиной верёвку, собрался с силами и тоже рванулся к берегу. Невероятно, но первая же попытка увенчалась успехом. Орлику удалось вырваться из вязкого плена, и он, боясь остановиться, со всей мочи рванул к спасительной твердыне под ногами.
После изнуряющего физического и нервного напряжения человек и животное нуждались в передышке. Выбравшись на сушу, Прохор в изнеможении упал на вереск. Близкие заросли багульника дурманили голову своим едким запахом. Долго тут не полежишь! Да и разлеживаться было некогда: предстояло ещё одно дело, как быть с которым Прохор ещё до конца и не определился. А время шло. «С одной совладал. Не упустить бы другую…» – со злостью подумал он и, превозмогая усталость, заставил себя встать…
Подъезжая к избушке, Прохор ещё издали уловил запах гари. Заволновавшись, он подстегнул и так измученного Орлика. «Неужто запоздал?!» – пронеслось у него в голове.
Жаждущий полной расплаты, Прохор опасался, что за то время, которое он потратил на Химу, сюда могли добраться озлобленные мужики и учинить расправу над Яниной. Без него! А ему очень хотелось заглянуть в глаза той, которой он верил, которая так коварно и подло поступила. А ещё больше Прохор опасался, что эта хищная притворщица и вовсе скроется безнаказанно.
Подъехав поближе к пылающей избушке, он перевёл дух: его опасения не подтвердились. Ни одно, ни другое.
Старенькое небольшое строение с гулом и потрескиванием разгоралось всё больше. Тушить было уже поздно, да и ни к чему.
Чуть поодаль стояла девушка и сквозь слёзы смотрела на бушующее пламя. Для неё горела не избушка, не кров – горели мосты, связывающие её с мучительным прошлым! И девушка сама, без малейшего сожаления, сжигала эти мосты, чтобы больше никогда не возвратиться к такой жизни, в которой существовала последнее время. За исключением только встреч с Прохором.
Стекая крупными каплями, слёзы оставляли светлые разводы на задымленном и перепачканном лице Янинки. В который уж раз она проклинала судьбу, забросившую её к чёрту на кулички, в эту убогую избушку; проклинала свою мать-колдунью, совратившую её заняться колдовством и приложившую, должно быть, своё чёрное умение к гибели мальчугана; проклинала всё, что привело к такому печальному концу! И лишь за встречи, проведенные с Прохором, Янинка мысленно благодарила Бога! Да, именно Бога, потому что она чувствовала: любовь между ними зажглась по воле божьей, и все привороты да наговоры были тут ни при чем.
Подпалив избушку, Янинка тихо плакала, а опустошенная и израненная её душа в отчаянии терзалась. Девушка стояла на распутье и ещё не знала, что ей делать дальше, куда и к кому податься. Полное одиночество и неизвестность пугали. Ей было страшно и горько. Как же хотелось прильнуть к сильной груди и найти успокоение, защиту, хотелось, чтобы её пожалели. Но такое участие она могла принять только от одного человека, которого, видимо, ей уже, не то что не вернуть, а даже и не увидеть на прощание.
Рев пламени и горестная отрешённость Янинки позволили Прохору незаметно приблизиться к девушке сзади. Остановившись, он долгое время пребывал в нерешительности. Ему хотелось заглянуть в серые глаза, но что он там увидит! В последний момент Прохор сокрушённо осознал, что, если он заговорит с Янинкой или хотя бы встретится с её взглядом, он не сможет исполнить намеченное. Да и полной уверенности в её заклятиях на сына теперь почему-то уже не было. Но всё же это была одна колдовская кровь: мать ведьма – и такая же дочь! Они обе виновны в его горе! И обеим должно быть возмездие!
Решив лишний раз не бередить себе душу и поскорее поставить точку на колдовской семейке, Прохор вскинул ружьё. На мушке он отчётливо видел до боли знакомые волосы, лебединую шею, которую совсем недавно страстно целовал… Если бы это была не Янинка! Только не она! Будь сейчас на прицеле любой другой человек, виновный в гибели его первенца, Прохор без всяких раздумий нажал бы на курок!
Вздрагивая, ствол ружья медленно клонился к земле. Руки вспотели. В который уж раз за последнее время сердце человека бешено колотилось от неимоверного напряжения. Казалось, ещё чуть-чуть – и оно не выдержит!
Прохор опустил ружьё. Он понял, что вряд ли у него поднимется рука лишить жизни эту девушку, какое бы зло она ему не причинила. Наверное, всё-таки он её любил…
– А я думала, выстрелишь… – услышал вдруг Прохор тихий голос Янинки и вздрогнул от неожиданности: он был уверен, что она не заметила его присутствия.
А девушка всё так же неподвижно стояла к нему спиной, и Прохор был шокирован: Янинка знала, что он целился в неё, но даже не шелохнулась, не попробовала убежать, спрятаться или попросить пощады. Она смиренно ждала его приговора: жизнь или насмерть жалящий свинец.
– Я должен тебя покарать… – сдавленно прорычал Прохор, стараясь снова распалить в себе злость, начавшую вдруг стремительно угасать.
– За что?
– Ты и твоя мать повинны в смерти моего сына!
– Никогда бы не причинила вреда дитяти, а тем более твоему, – всё так же невозмутимо промолвила Янинка и медленно повернулась.
Взглянув в заплаканные глаза девушки, Прохор понял, что не поверить ей просто невозможно.
– Я мог бы убить тебя… – с ужасом выдохнул он, осознав, что минуту назад мог совершить непоправимое.
– Нет. Ты не убил бы нас… Я это чувствовала…
– Убил бы! Обеих собирался порешить… и твоей старухи уже нет. Мог и тебя… – сообщив Янинке о смерти Химы, Прохор совсем уж робко пытался воскресить свою угасшую решимость.
– Про мать я уже догадалась. Что ж… значит такова её доля, – Янинка, казалось, спокойно приняла скорбную для неё весть. – Но всё равно Бог не позволил бы тебе убить и нас…
– Но твою старуху-ведьму я уже прикончил! Мог и тебя… – ничего не поняв, раздражённо выкрикнул Прохор.
– Я не о ней…
И вдруг Прохору показалось, что у него уже когда-то был похожий разговор, только с Марылькой.
– А о чём это ты толкуешь? – дрогнувшим голосом спросил он, хотя уже и сам всё понял. И опять внутри противно похолодело от мысли, какой тяжкий грех мог взвалить на себя!
Янинка вздохнула:
– Твоё дитя будет напоминать о тебе… Я так хочу.
– И когда ты поняла… что затяжелела?
– Недавно. Я испугалась и не знала, что делать… Тебя хотела повидать… рассказать. Шла вот в село… Хотела тебя увидеть, а увидала… совсем другое. Но, клянусь, я тут ни при чём, – слова Янинки звучали тихо, монотонно, с каким-то пугающим безразличием. – А насчёт матери не знаю… хотя, думаю, что и она тоже…
– Что ж делать-то теперь? – перебил Прохор девушку, думая совсем о другом. – И куда это ты собираешься податься? – растерянно выдавил он, заметив собранный узелок с пожитками.
В ответ Янинка неопределённо пожала плечами.
– А сам-то ты куда запропастился? Уж, наверное, с полмесяца как не показывался. Сразу бы сказал, что разлюбил, иль Марыля дозналась – и испугался. А то втихаря сгинул с глаз и ни слуху ни духу, думай, что хочешь.
– В словах Янинки вместе с укором сквозила и скрытая ирония; она была очень обижена на Прохора.
– Никуда я не запропастился. Был у своих. Вчера вот только возвернулся, а тут – на тебе… Даже и подержать на руках Егорку не успел… Не застал я его… живого.
– Мне очень жаль, что такое случилось… Поверь, моё сердце тоже переполнено печалью. Да-а, – вздохнула Янинка, – беда всегда приходит, когда её меньше всего ждёшь.
Оба на некоторое время замолчали, думая каждый о своём.
– Чего ж не сказал, что в отлучке долго будешь? – меланхолично произнесла Янинка, всё ещё пребывая в горестных раздумьях.
– Да всё как-то нежданно-негаданно получилось. Оказия вышла, пан Хилькевич через наши края проезжал… К Войховскому, правда, лишь на часок завернул, но всё равно… Разрешил мне остаться погостить дома.
– Как батька, мама? Живы, здоровы?
– Да, слава богу, крепятся.
– Братья как? Настенька? Это ж она у вас самая младшенькая?
– Ага. Они все тоже ничего.
– Сашко, наверное, уже повзрослел?
– Сашко и Настюха живут лучше всех. Младшие всегда в пестунах ходят… А что это ты про моих всё спрашиваешь? Ты бы лучше обо мне что спросила.
– Да ты мне столько рассказывал о своих родных, что мне кажется, будто я давно их знаю. А про тебя мне и так всё известно. Вот только не знала, что скрыться можешь, не сказав ни слова.
– Янинка, ну я ж тебе объяснил: так вышло. Не мог я не поехать. Тянет меня туда… Зовёт моё полесье к себе обратно. И стоит этот зов в моей душе таким тоскливым плачем кукушки, что хоть самому плачь. А эта сторонка меня не принимает…
– Я где-то слышала такое выражение: зов Полесья. Наверное, этот зов и не даёт тебе покоя… Хотя… тут тоже Полесье…
– Полесье, да не то… Будет возможность – непременно вернусь в родные места. Не смогу я тут покой обрести…
– Ладно уж, говори открыто, я не обижусь: всему виной мамаша моя. Но теперь-то тебе спокойно уже будет.
– Не знаю, что дальше будет и сейчас что делать, тоже ума не приложу? – растерянно протянул Прохор и украдкой глянул на живот Янинки.
Янинка, конечно же, заметила этот беспокойно брошенный взгляд.
– Тебя я ни в чём не виню, так что не тревожься. Ничего от тебя не требую. Как-нибудь выдюжу…
– Не выдюжишь! Пропадёшь ни за грош! – сорвавшись, вдруг выкрикнул в сердцах Прохор. Он был очень напуган сложившимся положением, но и оставлять на произвол судьбы девушку, попавшую по его вине в незавидный переплёт, не мог – не такой породы. Прохору уже не верилось, что всего лишь полчаса назад он готов был растерзать эту молодую ведьму. И вот сейчас глядя на поникшую, но всё такую же прекрасную Янинку, он проникся к ней жалостью, тесно переплетённой с нежностью. Да, никогда и ни к кому он не испытывал таких чувств, даже к Марыльке. Но и выхода он не видел…
– Янинка, у меня есть кое-какие гроши… Не много, конечно, но я думаю, что без них тебе не обойтись. Я помогу тебе…
– Нет! Ничего мне не надо.
– Ну как же…
– Тебе и самому пригодятся гроши. Мне они ни к чему.
Прохор недоумённо смотрел на Янинку. Его невольно восхитила её независимость и гордость. «Она была бы хорошей женой», – не к месту возникшая мысль немного смутила парня.
– Я даже не знаю, что тебе и посоветовать…
– А я уже знаю! – вдруг твёрдо произнесла Янинка. – Да, я теперь знаю, куда мне идти и как мне поступить. – Её голос обрёл решительность, и стало ясно: если она что-то задумала, обязательно сделает!
Прохор исподлобья уставился на девушку, ожидая продолжения. Его и раньше волновала судьба Янинки, а теперь, когда он поверил ей, когда узнал, что под сердцем она носит его ребёнка, ему и вовсе стала не безразлична её участь. Он с грустью осознавал и то, что сейчас, скорее всего, в последний раз видит эту девушку, оставившую такие яркие, неизгладимые и в то же время противоречивые впечатления о себе.
Ничего больше не сказав, Янинка повернулась и снова застыла, задумчиво глядя на пылающую избушку.
– Боже, ну что это за день сегодня?! – простонал Прохор, не в силах больше сдерживать совсем истерзанных горем чувств.
– Теперь вам с Марылей никто уже не будет мешать… – словно размышляя, промолвила Янинка.
– Ты что надумала?! В огонь что ли?! – заметив обращённый на пламя взор Янинки, взволнованно закричал Прохор. – Бог никогда тебе этого не простит!
Янинка лишь загадочно ухмыльнулась.
– Зачем в огонь? Проще было пулю в сердце получить… за любовь… за ласку…
Прохор промолчал. В словах Янинки было столько укора и боли, что он невольно потупил глаза в землю.
– И всё же, что ты надумала? Я буду беспокоиться за тебя… и за сына.
– Ого! – встрепенулась Янинка, – ты даже знаешь, что будет сын?
– Да, я уверен! – с этими словами Прохор вдруг суетливо отставил ружьё и запустил руку за пазуху.
Янинка с пробудившимся интересом наблюдала. Вскоре в протянутой руке Прохора появился его крестик-оберег.
– Это пока тебе… Родится сын – пусть всегда носит этот крестик. Он ему будет помогать…
Янинка крайне удивилась такому поступку. Она знала, что Прохор очень дорожит этим необычным нательным крестиком.
– Ты, наверное, потом пожалеешь… Вот сейчас в порыве благородства отдашь, а уже завтра локти будешь кусать. Я же знаю, что для тебя значит этот крестик. Подумай…
– Уже подумал. Я тебя чуть на тот свет не отправил… вернее… обоих чуть жизни не лишил… Было бы ужасно в один день столько… В общем, не перечь, – решительно сказал Прохор и, шагнув к Янинке, надел ей на шею свой талисман. – Это чтоб не потеряла… чтоб для сына сберегла.
Словно поглаживая, Янинка провела рукой по оберегу. Что ж, этот поступок тронул сердце девушки, и она была искренне благодарна Прохору прежде всего за то, что не ошиблась в нём. Этот подарок для неё был дороже всяких денег, так как доказывал, что она всё-таки для Прохора много значила! Да и сам Прохор ещё больше возвысился в глазах девушки.
Растроганная Янинка хотела было выказать словами свою признательность за столь великодушный поступок, как вдруг голова у неё закружилась, стало трудно дышать, воздуха не хватало. По непонятной причине грудь сдавило, словно на неё положили трёхпудовый мешок. Не понимая, что происходит, Янинка бросила испуганный взгляд на Прохора.
Заметив, как она побледнела, Прохор уже и сам догадался, что Янинке сделалось плохо. Вовремя подхватив обмякшее тело, он бережно усадил её на землю.
– Янинка, да что ж это с тобой? – забеспокоился Прохор.
– Не знаю… хотя…
– Наверное, от переживаний сильных да от беременности…
Янинка виновато глядела на Прохора. Она впервые предстала перед ним в таком беспомощном виде. В эту минуту девушка чувствовала себя совсем неважно, и ей была приятна искренняя забота Прохора. Но дальше становилось хуже. От слабости у Янинки на лбу и над верхней губой обильно заблестели капельки холодной испарины.
Прохор вскочил.
– Сейчас воды принесу…
– Стой! – с усилием повысив голос, Янинка остановила парня. – Присядь.
Прохор исполнил просьбу.
– Янинка, может в село… к людям…
– О чём ты говоришь?.. Меня там быстро на огне в себя приведут…
– Господи, что ж делать?!
– Не суетись… Крестик… сними.
Прохор недоумённо уставился на Янинку:
– При чём тут крестик?
– Сними… – ослабшим голосом повторила она.
Прохор осторожно снял с Янинки свой крестик-оберег.
– Ну вот, сейчас полегчает… – прошептала она. – Не могу я носить твой заговорённый крестик. Противится он душе моей неприкаянной. Я ведь даже не крещёная…
– Всё не слава богу, – удручённо промолвил Прохор. Об этом он как-то и не подумал.
– Ничего, я пока в платочек его заверну… Не волнуйся, не потеряю… Вот как покрещусь, так сразу и надену…
– Да я и не волнуюсь.
– Ты спрашивал, что я намерена делать, – тяжело дыша, произнесла Янинка. – Так вот, я решила, что для меня сейчас только одна дорога… Люди называют это чутьём, а я уверена, что это сердце мне подсказывает, как поступить… А оно меня ещё никогда не обманывало. Наверное, такова моя участь: прислушиваться к голосу сердца.
– И куда твое сердце сейчас тебя направляет? – удивился Прохор.
– К Богу… И для начала я вижу перед собой только одну дорогу – дорогу в Церковь. Сразу же покрещусь, а потом буду вымаливать прощение… и за свои грехи, и за неправедные дела матери. И сердце мне подсказывает, что милостивый Бог простит меня… А если Бог простит, то и Церковь примет под своё крыло. Подпустит Бог к себе – будет и крестик твой душу мне греть. Ну, а если нет, то и жизни мне не будет… вернее, нам. Вот такие, дружок мой, дела. Ты уж это помни и при случае молись за нас…
Прохор некоторое время молчал, переваривая услышанное. Такое неожиданное решение ещё больше убедило его в порядочности и искренности Янинки.
– Да-а, а ещё говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, – изумлённо буркнул он себе под нос, удивившись совершенному отличию характеров дочки и матери.
– Ты что-то сказал? – не расслышала Янинка.
– В церковь, говорю… в Черемшицкую пойдёшь?
– Не. В Мазыр подамся… Сперва туда, а потом… видно будет.
– Как же ты одна? Жить-то на что будешь? О-хо-хо, час от часу не легче.
– Прош… мне очень жаль, что с твоим Егоркой такое стряслось… и поверь: мы не причастны… Я сначала в матери сомневалась, но теперь точно знаю: не желала она лиха дитяти твоему. Я бы это почувствовала. На тебя – да, сильную злобу имела.
– Перед смертью она мне то же самое сказала.
– Напрасно ты её…
– Не трогал я её. В трясине сгинула… Просто не помог ей…
Янинка сразу как-то оживилась и с благодарностью посмотрела на Прохора.
– Что ж, тогда и мне легче будет о тебе вспоминать. Какая ни есть, а всё ж мать была…
– Твоя мать странные слова говорила… Пугала, будто меня ещё ждёт встреча с каким-то сущим дьяволом. Это меня сильно разозлило. Стращать меня напоследок вздумала! Я уж было подумал, не о тебе ли она намекала… Сомнения насчёт тебя были большие, – Прохор изучающим взглядом наблюдал за Янинкой.
Ни тени волнения, ни единого признака беспокойства не отразилось на лице девушки.
– Не гляди на меня так – напрасно это. Мать, видимо, знала, чувствовала, что тебя ожидает ещё какое-то сильное потрясение… или испытание…
– Какое потрясение?! Хуже чем сейчас уж быть не может! – то ли всполошился, то ли возмутился Прохор.
– Не знаю. Ну, вот, для примеру, взбесится на тебя пан Хилькевич, попадёшь в опалу гневную, вот и будет тебе пекло несносное. Тут уж нехотя дьявола примажешь к такому лиху.
– Да, кажись, нема причины для гнева панского…
– Ну, так я ж тебе говорю, что это просто так, к слову.
– Янинка, а ты ведь тоже многое можешь предвидеть. Неужто Хима что-то заметила, а ты – нет, – не унимался Прохор.
Янинка как-то устало, но ласково провела рукой по волосам Прохора.
– А помнишь купальскую ночь?
– Ещё бы не помнить.
– Я ведь уже тогда любовалась тобой, а ты и не замечал бедную девушку.
– Я тогда тебя вообще, по-моему, ещё ни разу не видел. Ты это к чему?
– Просто, – грустно улыбнулась Янинка.
– Ты так и не ответила мне.
Янинка глубоко вздохнула и сказала:
– Мать правду тебе сказала. Вскорости тебя ожидает ещё какое-то потрясение…
– Когда?
– Не знаю… Но в твоих глазах он уже стоит… Значит, скоро.
– Кто стоит?! – со страхом переспросил Прохор.
– Знак беды.
Прохор в крайнем смятении посмотрел на девушку.
– У меня и так сейчас такая беда, что на семерых с лихвой хватило бы.
– Этой бедой твои глаза уже живут. А о той ты ещё даже и не догадываешься.
Прохор опустил тяжёлый взгляд и крепко задумался. Что ещё готовит ему судьбина? Сколько ещё будет испытывать на стойкость? Сколько ещё будет изматывать душу и тянуть жилы? А главное, за что?
Янинка сидела молча, не мешала его раздумьям, но время шло, и она встала.
– В последний раз я обращусь ко всем тёмным и белым силам, к Дьяволу и Богу… За тебя буду просить… – пристально глядя на Прохора, решительно сказала она. – А теперь мне пора.
– Все-таки уходишь?
– Я так решила. Прощай.
Янинка наклонилась и на прощание крепко поцеловала всё ещё сидящего Прохора, а затем, круто повернувшись и подхватив собранные в дорогу вещи, со слезами отправилась в неизвестность. Как сложится её судьба, что ждёт впереди? Об этом она сейчас не думала. Она полностью доверилась своему чуткому сердцу…
Прохор с тоскливой жалостью провожал взглядом удаляющуюся девичью фигуру. Сердце сжималось от горечи. Он вдруг с необычайной ясностью осознал насколько дорога ему эта девушка. Господи, ну почему столько горя в одночасье свалилось на его плечи. В другое время он бы удержал её, не отпустил, нашёл бы какой-нибудь выход. Но сейчас сердце лишь разрывалось от боли и не могло подсказать правильного выбора; да, собственно говоря, никакого выбора и не было: ему предстояло хоронить сына…
Когда фигура Янинки в последний раз мелькнула среди деревьев, Прохор с опозданием и с тревожным сожалением отметил, что слишком уж скудный скарб у неё в руках для начала новой жизни. Ни знакомых, ни друзей, ни своего угла – ничего! «Эх, пропадёшь, Янинка… Не выжить тебе, милая, одной…» – горько подумал он, и противное чувство вины ещё более рьяно начало грызть сердце парня.
На старую резную шкатулку в руках Янинки Прохор не обратил ни малейшего внимания…
Глава 25
Смерть… Само по себе это явление уже окружено до конца неосмысленным жутким ореолом. А сколько ещё в народе всяких обрядов, поверий, всевозможных примет и домыслов на эту тему – так и вовсе не счесть. Но одна истина с самого начала мироздания остаётся незыблемой: никому и никогда не удалось избежать рокового приглашения в царство мира иного. Будь ты нищий или богач, будь ты царь или холоп – никто не будет забыт, всем до единого приглашение придёт.
Самый прилежный, трудолюбивый и самый неподкупный в исполнении возложенной миссии – вестовой с того света. Для него не существует ни выходных, ни праздников, ни даже перекуров. Днём и ночью, в стужу и зной – он всегда в пути, всегда исправно делает свою работу и рано или поздно всех почтит своим вниманием. И, наверное, для него нет ничего дороже этой работы: договориться, откупиться или спрятаться от посыльного с косой невозможно!
И ни одному живому ещё не удалось обмануть смерть. Так уж устроена жизнь, вечного в ней ничего нет.
Смерть… Она бывает многоликой и разной. Как нет на земле одинаковых линий жизни, так нет и их одинаковых обрывов. Под взмахом смертоносной косы эти линии обрываются и лопаются каждая по-своему.
И люди встречают смерть тоже каждый по-своему: одни дрожат от страха, другие умоляют о скорейшем её приходе. Одни даже не успевают заметить, как оказываются в холодных объятиях нежданной гостьи в балахоне, а другие трезво осознают, что смерть уже давно стоит у их изголовья и равнодушно дожидается своего часа. В этом грешном мире неисчислимое множество людей уходят из жизни насильственно, вопреки своему желанию, но немало и таких, которые добровольно и осознанно уходят туда, откуда возврата нет.
Смерть также может быть легкой и выстраданной, красивой и страшной, быстрой и мучительно долгой. Но в каком бы обличье не явилась она, всё равно нет ничего более дикого и ужасного, чем смерть родного дитяти! И вообще, гибель любого детёныша противоречит всем законам самой Жизни.
Вот и молодую мать несоизмеримое горе основательно подкосило безжалостным клинком, выдавив из неё все силы и слёзы. Что произошло? Как такое могло случиться? Кто виноват? За что? Воспалённый разум Марыльки плавился от напряжения. В немом отчаянии он напрасно выкрикивал эти вопросы. Они без ответов канули в пустоту, оставляя ещё больше поводов для мрачных раздумий. Но в глубине души, пугая Марыльку вершившейся действительностью, подсознание зародило и упрямо нашептывало один ответ на все вопросы: «Кара Божья!» И изнеможенная от горя мать панически противилась в это верить…
Вот уж, наверное, с месяц как она начала ощущать комом разрастающуюся тревогу. И с каждым днём в душе крепло чувство скорого приближения судьбоносного часа, когда должна решиться участь не только некоторых ненавистных ей людей, но и её тоже. Марылька была уверена, что, как всегда, всё будет вершиться по её замыслу. Она в напряжении ждала этого момента, хотела этого и была готова к любому повороту. К любому, но только не к такому…
Как она вмешивалась в чужие замыслы, так кто-то всемогущий твердой рукой смешал и её все планы. Месяцами вынашиваемые задумки рухнули как карточный домик. Всё пропало! Все её старания и усилия обернулись для неё же самой непоправимой бедой. И самое обидное, что принесённая жертва оказалась напрасна. Страшная жертва! Сколько терзаний и колебаний она пережила, когда решалась на тот шаг. Напрасная жертва! И от этого ещё более трагичная! Теперь Марылька никак не могла понять, что на неё тогда нашло, что её заставило так поступить? Ах, если б только кто знал эту страшную тайну! Не будет ей прощения ни на земле, ни на небесах!
А теперь вот ещё и Егорка… Потеряв самое дорогое, что у неё было, Марылька совсем пала духом. Скрючившись в глубокой скорби над безжизненным тельцем своего маленького сыночка, молодая мать долгое время сидела в совершенном безмолвии. Лишь иногда она тихонько раскачивалась, словно пыталась усыпить своё горе. В эти моменты из её груди непроизвольно исходили стоны, похожие на жалобное скуление.
А в хате толпился народ. Мужики тихо заходили, крестились и сокрушённо покачивали головами. Скомканно буркнув несколько слов соболезнования, выходили, уступая место другим.
Бабы задерживались подольше. То поочерёдно, то все вдруг вместе они поначалу зычно голосили с горестными причитаниями, но вскоре, глядя на безмолвную Марыльку, стали завывать вполголоса. Одна из сердобольных баб не выдержала и подошла к оцепеневшей от горя матери.
– Ты, донька, не сдерживай в себе тягость. Дай волю слёзкам горючим – сразу гнёт на душе ослабнет, – склонившись и участливо приобняв Марыльку, посоветовала она.
– Пошла прочь, – злобно, сквозь зубы прозвучал ответ.
Баба сконфуженно убрала руку с плеч Марыльки. Увидев растерянность пожилой женщины, Любаша вступилась за неё:
– Марыль, нельзя же так. К тебе со всей душой…
– И ты тоже.
– Что?
– Все пошли прочь…
– Марылька, опомнись! Люди собрались, чтобы горе твоё разделить…
– Сгинь! Все сгиньте! С глаз моих сгиньте! Пропадите пропадом все…
– Марыль…
– Ненавижу… – стоном выдавила Марыля и тут же разразилась громким криком: – Всех ненавижу!
Любаша была настолько обескуражена, что не знала, как поступить. Голос подруги сквозил злобой, а наткнувшись на такое же злобное выражение лица, обе утешительницы совсем опешили и молча сели на место. Завидев такой оборот, остальные и вовсе приумолкли. В хате повисла неловкая, тяжёлая тишина.
А у Марыльки голова раскалывалась от боли. Были моменты, когда на неё что-то находило, и она словно оказывалась в другом мире, где всё намного проще и яснее, где она чувствовала себя почти счастливой. Но потом сознание опять прояснялось, и она снова возвращалась в ужасную действительность.
Но вот бабы вдруг снова дружно заголосили. В сельской местности так обычно поступали при встрече с близкими родственниками усопшего, тем самым выражая им свои соболезнования.
Марылька вздрогнула, словно очнувшись, начала нервно оглядываться – у порога стоял Прохор! В голове с новой силой прошла горячая волна. Вот он – виновник всех её бед! Бедная Марылька уже больше не могла себя сдерживать. Горечь и злоба начали бить через край. Она уже не обращала внимания ни на кого и ни на что. Несчастная вскочила и словно рысь медленно, с угрожающим видом пошла на Прохора.
– Ты почему её отпустил? – наливаясь яростью, прорычала она.
Прохор оторопел от вида некогда одной из самых красивых местных девчат, а теперь – своей жены. За какие-то сутки Марылька постарела на добрый десяток лет. Горе не поскупилось и щедро сыпануло ей белизны в волосы. На одутловатом от выплаканных слёз лице появились первые глубокие морщины.
– Ты это о чём? – не понял Прохор.
– Не прикидывайся! Я с самого начала всё знала! – перешла на крик Марылька.
– Марыль, успокойся. Я не пойму о чём ты! Что ты знала? – Прохор всё еще делал вид, что не может взять в толк причину гневной вспышки женки, но сердце уже неприятно ёкнуло.
А со стороны люди сметливы необычайно, беда-то не у них. Вот и сейчас все враз догадались, о чём кричала Марылька.
Прохор не на шутку заволновался. Сейчас было самое неподходящее время для выяснения отношений и ревностных склок.
– Отпустил… – качая головой, со злобной иронией прошипела Марылька. – Любовницу свою пожалел… А дитя твоё они пожалели?! – взорвалась вдруг она, перейдя уже на истерический крик.
– Марылька, да успокойся ты, наконец! Не до твоих выдумок сейчас! Хима сдохла, а дочку её не нашёл! – слукавил Прохор, чтобы успокоить жену.
Но Марыльку уже закружило. Сейчас она выплеснет всё, что наболело, всю горечь не оправдавшихся помыслов обрушит на голову этого человека. Не отдавая себе отчёта и прилюдно выдавая свою страшную тайну, Марыля уже кричала во всё горло:
– Я батьку своего не пожалела, на растерзание им отдала, чтоб верх взять! А ты эту сучку свою пожалел! Снюхался – и сжалился!
– Ты что несёшь?!
– А то несу, что они уже были у меня почти приручены! Как собаки руки б мне лизали, ползали б на коленях передо мной и знали б, что я настоящая владычица! И я бы их медленно превращала в жаб…
– Кого «их»! На кой хрен тебе кого-то приручать, превращать?! И что ты вообще мелешь, уж не свихнулась…
– Чтоб доказать, что нет никого сильнее меня, – процедила Марыля, презрительно прищурив ядовитый взгляд. – Все вы плясали под мою дудку. Все вы делали то, что я хотела. Глупцы! Даже и не догадывались ни о чём…
– Опомнись! Ты где находишься?! Нашла время для свар.
Измученный последними событиями, Прохор теперь уж и на самом деле никак не мог взять в толк, что происходит. Но то, что Марылька как-то догадалась или узнала, что они с Янинкой расстались миром, он вдруг ясно понял, и это его неприятно удивило. Кто ей мог сказать? Откуда она это узнала?
А меж тем Марылька не могла не только остановиться, но даже и не замечала перепуганных людей, в спешке покидающих избу.
Сначала селяне были глубоко обескуражены кощунственной выходкой Марыли. Но потом, в отличие от Прохора, смысл её последних слов они уловили быстро, и результат их сметливости не заставил себя долго ждать – не успела кошка почесать за ухом, как в хате уже никого не было. Одна лишь Марфа забилась с детьми за печь и испуганно прижимала их к себе, не веря тому, что происходит.
И только тут до Прохора начал доходить истинный смысл несущегося бреда. Только теперь ему вдруг стали понятны многие странные слова и поступки Марыли. Господи, мало ему всех бед, так и это ещё свалилось как гром среди ясного неба. И пока Прохор соображал, как угомонить взбесившуюся жену хотя бы на время похорон, он почувствовал вдруг полную слабость и непреодолимое желание спать. В голове затуманилось. Страшный голос Марыльки хоть и слышался как из-под земли, но слова её падали в сознание на удивление отчётливо. А дальше поведение Марыли и вовсе становилось более чем странным. Глаза несчастной матери горели огнём неистовства. Бормоча какие-то чудные слова и фразы, она иногда прерывала их, чтобы уже более внятно излить вслух свои воспалённые мысли.
– И всё из-за тебя… Сразу тебя возненавидела… А Янинку твою первой порешить надо было. Ну, ничего, за всё поплатишься: и за сыночка моего, и за слабость свою, и за то, что ты есть, – шипела она.
Прохору сделалось совсем дурно. Сонливость вдруг пропала, но вместо неё внутри всё обдало жаром, а ноги и руки, наоборот, начали холодеть и переставали слушаться.
Вытянув руки с растопыренными пальцами и устремив страшный взгляд на Прохора, Марыля с ещё большим остервенением что-то бормотала. Измождённая горем, она напрягала последние силы, чтобы навсегда сломить душу самому ненавистному ей человеку. И напрячься тут надо неимоверно.
Прохору казалось, что жизненная энергия покидает его бурным потоком. Дышать становилось всё трудней. Природный инстинкт самосохранения второй раз в жизни заставил непослушную руку с силой рвануть ворот. И почти теряя сознание, Прохор вдруг вспомнил о крестике-обереге. Жаль, но его уже не было…
Возле хаты Логиновых в ожидании похорон и так толпилось немало народу, а когда там начала твориться какая-то дикость, то и вовсе сбежалось всё село. Но подойти близко к избе никто не решался. И везде шепотом обсуждалась одна шокирующая новость: Марылька – ведьма!!!
Многие селяне начали припоминать всякие странности, ранее имевшие место в её поведении.
– В церкви-то всё время в сторонке, обособленно держалась, – почти шепотом сказала одна из баб.
– Так молилась же, все бачили, – заметил мужик в плетеном капелюше.
– Ага, бачили! Да только никто не слыхал её тех молитв. Может, она там свои наговоры творила.
– Дед Лявон, а помнишь вечер, когда ты нам новость о Прохоре сказал? – спросила вдруг Любаша у подошедшего Лявона.
– Чего ж не помнить? Из ума ещё не выжил, припоминаю, – ответил тот.
– Так вот в ту ночь Марылька тоже странно себя вела, – вспоминала Любаша. – Домой к полночи рвалась. И нервничала сильно… Я тогда никак в толк не могла взять, что её так встревожило?
– Ты хочешь сказать, что это сама Марыля в ту ночь на Прохора насела?
– Не знаю…
Все потихоньку начали подтягиваться к кучке сельчан, где вели разговор лучшая подружка Марыли и дед Лявон, ибо знали, что тут будет что послушать.
– Я вот што скажу, – видя собирающуюся толпу, важно заявил Лявон, – Марыльке не было надобности ночью по лесу Прохора выслеживать. Если она там, в хате, правду кричала, то могла и Химу вместо себя послать. Морда-то – у Химы обсмалена.
– Опять ты, дед, загибаешь. Их же ни разу вместе не бачили. А батьку её кто погубил? Да и не верится мне, чтоб Марылька ведьмой была, – усомнился кто-то из толпы.
– Молод ты ещё, чтоб Лявона поучать. Спроси лучше у бабки своей, кто такая Кержиха. Она тебе многое может поведать, если, конечно, говорить сдолеет. Годков-то ей, поди, под целый век будет.
– А что Кержиха? Не томи, дед, выкладывай, – раздался уже другой голос из толпы.
– Это прабабка Марыли. Ещё та была ведьмака. Почитай, похлеще Химы будет. Долгий век за жизнь цеплялась, уж и ходить не могла, а всё на людей страх наводила. А когда смерть за ней пришла, дома под рукой оказалась одна малолетняя Марыля. И знамо дело, что бесы ведьму перед смертью мучают, чтоб наследие свое кому-то оставила. Вот, видать, и «осчастливила» этим Марыльку…. Все думали, что Кержиха с собой в могилу забрала уменье своё, ан нет – позаботился дьявол, чтоб людям оставила.
Про Кержиху-то эту помнят лишь самые старые… Кто помоложе, почитай, уж и позабыли о ней. Вот, выходит, она и напомнила о себе, – рассуждал дед Лявон, а потом и вовсе замолчал. – Эх, Марылька… – неожиданно вздохнул он, и в его голосе отчётливо прозвучала нотка сожаления.
– Всё равно не верится… Да ещё, чтоб и дружбу с Химой водила! Из-за одного Петра покойного, царство ему небесное, – перекрестился говоривший, – уже они должны были быть врагами смертными.
– А кто говорит, что она дружбу водила? Они и были врагами заклятыми.
– Ну, ты ж, Лявон, сам только что говорил, что вместо себя Химу послала.
– Вот дурачина! Ведьмам договариваться и не надобно. Захотела б вот, штоб ты, к примеру, волом стал, пошептала б – и готово. Тебя бы и не спрашивала. Ты б як дурень соху тягал бы, да ещё и травку на ходу хватал. И думал бы, што так и надо.
– Так что, выходит Марыля наколдовала, чтоб Хима Прошку сломала.
– Ну… наверное, выходит…
– Так Хима ж сама ведьма, взяла бы и отколдовала.
– Кто в этом черном деле сильней, тот и верх берёт. Не смогла, значит, противиться. А может просто и не знала. Думала, наверное, что это сама так решила.
– А накой им вообще Прошка сдался? Взяли бы вон да на Василе, иль на Федотке поездили.
Все обратили взоры на стоявших неподалёку парней. Федотка испуганно втянул голову и поёжился от такого предложения. Василя хоть и передёрнула такая мысль, но свой пудовый кулак он всё же продемонстрировал селянину, подавшему такую дурную идею.
Меж тем дед Лявон, не обращая внимания на какие-то затравленные улыбки, вызванные этим эпизодом, серьёзно отвечал:
– Видать обе чувствовали исходящую угрозу от Прохора. Может, силу свою испробовать хотели, а может – сразу извести, чтоб потом спокойнее жить. Кто ж его знает…
– А як же Петро? Кто его так?
Лявон на некоторое время задумался, напряженно морща лоб и, наконец, выдвинул своё предположение:
– Я думаю, Хима.
– Так если Марылька брала верх, так что, батьку родного не могла спасти?
– Могла. Но ведь говорят, что в колдовстве у кого большая злоба, тот и будет верховодить. Злоба и зависть – шибко крепкие соратники в ихнем промысле. А прятать их легче легкого, особенно злобу и ненависть. Вот Марылька и позволила Химе расправиться с батькой родным, чтоб злобой смертной вооружиться. Злобой на Химу… По моему разумению, так оно и было.
Селяне с жаром обсуждали и выдвигали различные толкования загадочных и непонятных событий, имевших место в недалёком прошлом и имевших отношение к Марыльке. Всё больше и больше всплывало воспоминаний о подозрительных моментах в её поведении. И лишь теперь многим из них находилось правдоподобное объяснение.
– А что ж на венчании у них всё неладно шло? Если Марылька сильней Химы, то выходит, что Хима не смогла бы устроить им такой «праздник»? Или я что не так тут уразумела? – как бы рассуждая, промолвила баба с мясистым носом, которая на венчании Марыльки толпилась у церкви среди зевак.
– Это, наверное, Хима вместе с Янинкой старались так…
– Не, Янинка ж не занималась этим…
– А она тебе что, сама говорила об этом?
– Ну… многие говорят…
Ведя такие разговоры, селяне пытались докопаться и до причины очень уж неприглядных, явно отдающих вмешательством нечистой силы, происшествий на венчании Прохора и Марыльки.
– Дед Лявон, а ты як считаешь? – спросил кто-то у стоявшего в раздумье Лявона.
Дед Лявон хоть и слыл выдумщиком, но в наболевших вопросах люди иногда всё же прислушивались к его мнению и зачастую находили в его речах ценную подсказку для себя.
– Тут одному Богу вестимо, кто кому какие пакости творил, – неспешно начал Лявон. – Конечно, тут и без Химы не обошлось… Может и Янинка уже тогда на Прошку загляделась и приворот какой навела. Вот всё вместе и сказывалось. Но всё же мне кажется, что и Бог давал знать Прохору об опасности. Не хотел, наверно, давать согласия на такой брак…
Все дружно закивали головами, соглашаясь с такой, удовлетворяющей любопытство, догадкой деда Лявона. Но в душе никто даже и представить себе не мог, насколько близки эти предположения к истине.
– И мальца жалко. Даже похороны по-людски зрабить не могли, – сокрушенно всплакнула одна из баб.
А тут и батюшка подъехал на возу – негоже покойников хоронить без отпевания. Все батюшку обступили плотно и давай наперебой ужасную новость рассказывать.
– Н-да, прилежной прихожанкой была. Не ожидал я такого о Марыльке услышать.
Бабы опять о мальце невинном загоревали, на что батюшка и сказал:
– Если всё, что вы тут говорите – правда, то всё и сходится.
– Что сходится, батюшка?
– Великий грех сотворила Марыля. А за такой грех Бог и великую кару назначает. И вообще, непотребно людям влиять бесовскими чарами на судьбу свою. Всякое колдовство Богу не угодно. Люди своими помыслами, делами и верой должны вершить удел свой. За это Бог и воздаёт каждому по заслугам. Лишнего он никому ничего не даст – все получают посильную ношу. Колдовство – грех! Даже обращение к ворожее – грех. Вот я и говорю, что особо преданных дьяволу колдунов Бог карает тем, что выхолащивает род их, чтоб не множилось зло, – уже на ходу к хате говорил поп.
– Как это, выхолащивает? – не отставали самые дотошные бабы, а за ними и остальные селяне.
– Забирает детей мужеского полу. Была б у Марыли девка – может и жила бы. Но не задерживайте меня. Коли такое тут творится, то без Бога и молитв никак не обойтись.
А творилось в хате чёрте что. До ужаса перепуганная Марфа завывала за печью; дети ревели, уткнувшись ей в боки и боясь выглянуть. Маленький гробик сиротливо стоял средь чистой половины избы. Никто над ним не плакал, не просил прощения, что не смогли уберечь. Самым близким и родным людям сейчас было не до него. Их разрывали земные нешуточные страсти.
Такого истощения сил как духовных, так и телесных, Марылька никогда ещё не испытывала. Но не отдыхать же теперь в самый ответственный момент! Задуманное надо довести до конца!
И Марылька старалась! Старалась из последних сил. Её голову временами сдавливало, и она раскалывалась от внезапных приступов боли. Мозг все больше и больше наливался каким-то тяжелым напряжением. И особенно это напряжение доставляло Марыле муку. Оно нарастало, наливалось какой-то опасностью, и словно черная грозовая туча могла в любой момент разразиться громом и молнией.
Слишком уж упорно противился ворог Марыльки, безмерно изведенной за последние сутки. Но конец уже близок! Ещё одно усилие и вот… в глазах и сверкнула молния, нестерпимой болью обожгла сознание. А потом вдруг в голове зашумело, но тут же стихло. И эта тишина, этот покой манили в своё лоно, манили в другой, более совершенный мир. Но оставалась ещё боль… терпимая боль, отнюдь не мешающая установившейся вдруг лёгкости мышления. Закрыв лицо руками и не осознавая, что произошло, Марылька внезапно почувствовала необычайное спокойствие души. На неё нашло странное беззаботное блаженство. Никаких горестей и бед! Она стала всем довольна, и ей даже захотелось петь…
Прохор противился чужой враждебной воле из последних сил. Да, был бы на нём его крестик – и он бы выстоял в этом кошмаре. А так сознание все больше и больше погружалось в черный туман. Разум хоть и тонул в какую-то бездну, но всё же в последние мгновения ясно выдал Прохору самое яркое впечатление его жизни – образ Янинки! А уже через мгновение в остатки рассудка спокойно, жирным ленивым червём влезла мысль: это неизбежный конец! Странно, но страх вдруг пропал, появилось какое-то безразличие, и даже желание, чтобы всё быстрее закончилось…
И вдруг Прохора резко отпустило! Дышать стало легче. Ещё мгновение – и он начал быстро приходить в себя. Тёмная пелена перед глазами постепенно рассеивалась. Немного прояснившимся взором он повёл по сторонам и… что это?! У Прохора волосы на голове зашевелились. Такого потрясения он не испытывал даже в ту роковую ночь на лесной дороге. И было от чего…
Марылька ходила по избе и мурлыкала колыбельные напевы. На руках она носила… их мёртвое дитя. Она вынула из гроба их мёртвого Егорку и, нежно прижимая к себе, напевала ему колыбельную!!! От её ласкового и в то же время странно-безумного взгляда у Прохора стыла в жилах кровь.
Прохору сначала почудилось, что он уже в преисподней и попал в ад. Но тут вдруг отчётливо послышались шаги на пороге. Повернув голову, Прохор, к превеликому своему облегчению, увидел батюшку.
Тоже шокированный жутким зрелищем, священник на некоторое время просто оцепенел у входа. Но потом, опамятовавшись, он вопросительно глянул на Прохора, и, не обмолвившись ни словом, они вдвоём двинулись к Марыле. С огромными усилиями мужчины еле отняли у обезумевшей Марыльки крохотное закоченевшее тельце.
Марылька упорно сопротивлялась и выкрикивала в адрес обидчиков всяческие гадости и что-то вообще непонятное. Затем вдруг, узнав священника, она лучезарно улыбнулась и трепетно обратилась к нему:
– Ой, батюшка, вы здравствуете ещё? Я же прокляла вас. Ну ничего, не переживайте – скоро помрёте.
Голос Марыльки звучал тихо и ласково, и от этого становилось ещё страшнее. Батюшка, нервно бормоча обрывки молитв, стал неистово осенять себя крестным знамением. Прохор в это время укладывал тело сына в гроб. Марылька кинулась к нему и стала неумело помогать.
– Осторожно, осторожно, не разбудите Егорку моего. Нехай трошки поспит, а потом я его покормлю, – нежно приговаривала она.
Прохор с батюшкой опять многозначительно переглянулись, и у обоих проскользнула одинаковая мысль.
– Похоже, свихнулась… – тихо промолвил Прохор. – Марылька, ты знаешь, кто я? – обратившись к жене, осторожно спросил он.
– Конечно же, знаю. Ты у нас часто бывал… – Марылька напряжённо задумалась, подкатив глаза вверх. – Ой, Петром же тебя кличут! И как это я запамятовала? – назвав крутящееся в памяти имя своего батьки, она безмятежно улыбнулась, довольная своей сообразительностью.
– Точно… Помутилась разумом молодица. И, кажись, в самый нужный момент… – вздохнул Прохор, вспомнив, как только что чуть богу душу не отдал. – Уж лучше хай так буде.
– А может, притвор чинит, – усомнился батюшка.
– Вряд ли. Такой вон взгляд, как сейчас у неё, притворно не состроишь.
– Ну, тогда, может быть, и взаправду оно так будет лучше. Да и мне теперь спокойнее будет. Мало ли что взбредёт в помутившуюся голову, – отлегло на сердце у батюшки, не на шутку струхнувшего от предсказания Марыли.
Священник долго читал молитвы, оберегающие от бесов и нечистой силы. И это вместо того, чтобы отпевать усопшего! То ли от воздействия молитв, то ли от истощения сил Марылька в конце концов сдалась и уснула безмятежным сном прямо возле маленького гробика.
Немного порассуждав о Марыле, Прохор и священник неизбежно вернулись к делам земным и неотложным.
– Сына хоронить надобно… И так уж припозднились, – глядя на гробик, горестно заметил Прохор.
– Да, да… конечно, – согласился батюшка и замялся. – Непривычно без людей-то… Надо бы позвать…
– Угу, – кивнул Прохор и, глянув на скрючившуюся у гробика Марылю, добавил: – А её, если что, – в хлев. Там посидит, пока похороним.
– Да уж… Можно и кого-то из мужиков оставить, чтобы приглядели.
Прохор задумчиво глядел на спящую Марылю, а затем, согласно кивнув головой, вышел из хаты.
Похороны… Плакала душа. Плакало сердце. Плакал Прохор. Слёз своих мужских и рыданий не стеснялся, не прятал. Уж слишком много горя и страданий выпало на его долю.
Скорбно шумела листва, прощаясь с Егоркой: не дождался лес преемника заботливого. И спряталось солнце за тучу, не смогло глядеть на смерть детскую, на горе и слёзы людские. Даже небо прослезилось коротким летним дождём. Казалось, сама природа оплакивает безвинно пропавшую младенческую душу, совсем ещё чистую и безгрешную. Всё вокруг было поражено скорбью! И лишь одна молчаливая река виновато несла свои потемневшие воды, а волны, цепляясь за берега, угрюмо урчали в оправдание: «Люди сами во всём виноваты…»
Глава 26
Разбитый и подавленный Прохор медленно плёлся по лесной дороге в сторону Каленкович. Невесёлые думы стаей воронья кружили в сознании. Молодой парень с первой сединой, безвременно появившейся в чёрных кудрях, возвращался в родную батьковскую хату. Возвращался ни с чем…
Вот он остановился у опушки. Почти три года прошло с той поры, когда лукавая судьба свела его на этом месте с ведьмой. Уж не видать и пепелища от костра, всё травой поросло. Три года назад здесь и начались его мыканья. Чего он достиг за это время? Что нажил своим трудом и потом? Ничего! Детей нет, семьи нет, всё нажитое добро оставил Марфе с детишками и ополоумевшей Марыле.
Марылька… Вот уж не ожидал от неё такого! До чего ж скрытная и коварная девка оказалась. А главное, никто в селе и заподозрить не мог, что зналась с нечистью. Да ещё как зналась! Что ж, воздал Бог по заслугам. Сначала сына забрал, а потом и разума лишил. Как приключилась беда с головой, так и начала бегать по улице за местной такой же слабоумной, всё общества искала себе подобного, да грозилась весь свет проклятиями извести. Сначала все шарахались от неё, а потом к пустым угрозам люди особо и не стали прислушиваться, но держались всё ж от греха подальше. И даже у местной, недалёкой умом бабы хватало соображения избегать такой товарки.
А в последнее время ополоумевшая Марылька всё поквитаться грозилась с Химой окаянной, к болоту Гайстрову рвалась. Раза два или три люди замечали и возвращали несчастную из леса. Но потом она всё же исчезла из виду. Говорили, что к сгоревшей избушке Химу ушла искать да и пропала где-то там. То ли заблудилась, то ли вслед за Химой её потянуло в болото да в трясине, так же как и Хима сгинула – кто его знает. Во всяком случае, больше никто и нигде не встречал Марыльку. Пропала полоумная.
А Марфу жалели. Осталась без всякой помощи. Сама с никудышным здоровьем, да дети для помощи ещё не набрали ни годков ни силёнок.
По бедственному положению бывшей тёщи Прохор особо не убивался. Конечно, было жалко бабу, но помогать и заботиться о её семье у Прохора ни разу не возникло желания. Он даже хату покойного приказчика обходил далеко стороной. Тут хоть бы со своей долей разобраться да в колею жизненную войти. «Да-а, неласково обошлась со мной жизнь. А может, и сам во всём повинен…» – мрачно размышлял Прохор и сильно сожалел. Сожалел и корил себя, что не разглядел, не удержал истинную голубку свою. Та, в которую, не оглядевшись, поверил, оказалась страшным человеком. А той, к которой потом потянулись душа и сердце – не доверял и в злом умысле подозревал. «Эх, Янинка, упустил я тебя, недарека этакий», – вздыхал Прохор и продолжал вяло отмерять версту за верстой. «Спасибочки пану Хилькевичу. После царёвого указу об освобождении крепостных, сразу вольную давал. Отпускал без всяких околичностей, но просил всё ж повременить, подождать до весны, с севом подсобить. А после посевной сам и посоветовал возвернуться на вотчину батьков. Видел, что не будет житья мне в Черемшицах», – с благодарностью думал Прохор о поступке Семёна Игнатьевича.
В дороге Прохору повезло. Два раза его подбирали попутные подводы, но всё равно путь предстоял ещё долгий и до ночи ему никак не добраться. На этот раз с наступлением сумерек Прохор без всяких колебаний зашёл на придорожный хутор и попросился на ночлег.
Худой, но жилистый хозяин долго чесал впалую грудь, подозрительно разглядывая незнакомца. К нему, наверное, не впервой обращались с такой просьбой, и он скрупулёзно взвешивал в уме, какую выгоду будет иметь.
Прохор сообразил, по какой причине у крестьянина глаза косились в нерешительности. Достав из кармана несколько медяков, он протянул мужику. Того тут же словно подменили:
– Ну, в таком разе, милости просим. Мы уж потеснимся, а лишняя копейка в селище никогда не помешает.
Хозяин услужливо провёл путника в избу.
С печи на Прохора уставились с дюжину детских глаз. «Целый выводок… словно совята. Попробуй всех прокорми», – мрачно подумал Прохор и спросил мужика:
– А хозяйка где?
Тот как-то неловко пожал плечами и грустно ответил:
– Так я и за хозяина… и за хозяйку. Нема у меня бабы… перед самой Пасхой померла.
Прохор ничего не сказал. Взглянув на детей, он лишь сочувственно вздохнул.
– Может, поесть чего хочешь? – поинтересовался хозяин. – Молоко есть… немного, конечно… сала трошки… Недорого запрошу…
Совсем по-другому Прохор взглянул на мужичка. Хотя на дворе и цвела весна, но в его блёклых глазах стояла какая-то необъяснимая осенняя печаль. «Горемыка, коих не счесть на свете белом…» – подумалось Прохору, и он тихо сказал:
– Давай. Я заплачу.
Хозяин быстренько засуетился, и перед Прохором на столе появилась вечеря: полкружки молока, крохотный кусочек сала, зачерствелая корка хлеба и добрый пучок зелёного лука.
Большие глаза детей теперь жадно глядели на стол, за который уже садился незнакомый им дядька.
Прохор долго не рассиживался. Это был не тот случай, чтобы чаевничать в удовольствие. Встав из-за стола, он протянул хозяину целый рубль и поблагодарил за угощение:
– Спасибочко, всё было вкусно.
Мужичок растерянно глянул на Прохора и со страхом произнёс:
– У меня сдачи нема… Может, хоть какая мелочь у тебя найдётся…
Гость сразу догадался, почему испугался хозяин, и тихо сказал:
– Не надо сдачи. Это всё тебе… и детям.
– Это шибко много… еда не стоит столько… – недоуменно проронил хозяин, но глянув на стол, всё понял. Смущённо опустив взор, он еле слышно проронил: – И тебе спасибо, хлопче… Сам видишь, туго приходится…
– Вижу, – тихо сказал Прохор и легонько притронулся к плечу мужика, у которого начала вдруг наворачиваться слеза.
Готовый вот-вот разрыдаться, многодетный вдовец растерянно бросал взгляды то на детей, то на деньги, то на стол, на котором стояло почти нетронутое угощение. Незнакомец насытился лишь несколькими перьями лука.
Стараясь унять волнение, мужик от всего сердца ещё раз поблагодарил гостя:
– Спсибочки… и дай Бог тебе счастья!
Прохор спал тревожно. Снились какие-то сны, от которых он часто просыпался весь в поту и с бьющимся в волнении сердцем.
Как только начало светать, Прохор тихо вышел во двор. Стараясь никого не потревожить, умылся колодезной водой и шагнул к выходу со двора.
– А кто такая Янинка? – неожиданно раздался голос мужика из-под повети.
Прохор повернулся, нашёл взглядом хозяина хутора. Видимо, тот вставал задолго до восхода солнца.
– А что? – удивлённо переспросил Прохор.
– Да так, ничего. Ты всю ночь во сне метался… Янинку какую-то звал. Вот я и подумал: либо дочка тебе, либо девка, на сердце запавшая.
– Не дочка…
– Тогда понятно, – сочувственно кивнул головой мужик.
– Что тебе понятно?! Даже мне ничего не понятно… – вдруг с раздражением ответил понятливому мужику Прохор, но сразу ж и остепенился. – Ладно, не серчай. И так тяжко на душе…
– Понятно, – опять заладил своё мужик. Наверное, была у него такая привычка.
На этот раз Прохор лишь посмотрел на крестьянина и совсем мирно сказал:
– Пора мне. За кров благодарствую. Прощай.
– И тебе спасибо… Ступай с богом.
Чем ближе Прохор подходил к отчему дому, тем большее волнение охватывало его. Как встретят? Знают ли о его злоключениях? Раньше-то через пана Хилькевича и пана Войховского весточками обменивался с родными, но охладела их былая дружба. Молодой Хилькевич уехал в Петербург да и нашёл там себе невесту. За это и обиделся крепко Егор Спиридонович на товарища своего, совсем знаться перестали.
Прохор уже шагал по родной Петриковской волости. Вот уж и угодья пана Войховского. Вскоре показались и серые шапки соломенных крыш деревеньки, покинутой им три года назад. Заныло сердце Прохора, затрепетала душа при виде родных мест.
Изба Чигирей стояла на отшибе, у самого леса, как и подобает жилью лесника. Прохор с волнением ступил на подворье и с интересом начал осматривать батьковское селище. За прошедшие три года почти ничего и не изменилось. Беззаботные куры, как и прежде, копошились возле хлева. Худощавая свинья вольготно разлеглась в грязной навозной яме. Никому до Прохора не было никакого дела. Но вот из-за хаты вяло выбежала собака и, неожиданно наткнувшись на незнакомого человека, сама испугалась. Быстро опомнившись, она тут же приступила к исполнению своих обязанностей. Её звонкий лай огорчил Прохора.
– Жучок! Неужто не признал?
Пёс вдруг замолк и внимательно уставился на чужака, стараясь припомнить, кому это принадлежит знакомый голос.
– Жучок… ну что ж ты… позабыл? Иди ко мне, – взволнованно говорил Прохор, а у самого сердце обливалось кровью, и горький комок подкатил к горлу. «Даже и тебе я не нужен», – нерадостно стояло в голове у парня.
Глядя на настороженность Жучка, Прохор замолчал. Слова застряли в сдавленном горле. Казалось бы, ну что тут такого: дворняжка не откликнулась на зов. Да может у неё голова в этот момент забита какими-нибудь своими «архиважными» собачьими мыслями. Но именно эта мелочь сейчас сильно задела Прохора. Даже на глаза начали наворачиваться слёзы. Не уповая уже на голос, он как когда-то давно смог лишь похлопать рукой по ноге, и каждый хлопок отдавался в его душе болью.
И вот тут Жучок вспомнил! Не сразу, но вспомнил Прохора! Живо завиляв хвостом, он кубарем бросился к нему. Теперь уже радостный лай огласил весь двор. Узнал-таки того, с кем не одну версту отмахал по Полесью.
Распахнулась дверь и на шум вышла мать Прохора – Агафья. Стоя на пороге и щурясь от яркого света, она сначала и не узнала родного сына. Но вот глаза привыкли к дневному свету, и сердце матери обмерло.
– Сынок! Ну, наконец-то! – выдохнула она.
Агафья со слезами радости кинулась обнимать Прохора.
– Здравствуй, мама. Как вы тут?
Вместо ответа мать ещё сильнее зашмыгала носом.
– Все ли живы-здоровы? – спросил Прохор.
– Усё добре, сыночек, – всхлипывала женщина.
Из-за поленницы дров появился самый младший из Чигирей. Узнав старшего брата, он, по-детски подпрыгивая, тоже бросился к нему в объятия.
– Сашко, ух, как вымахал, – в радостном волнении обнял братишку Прохор.
– Тебя и не узнать! Поди, и за девками уже бегаешь?
– Куда ему за девками, сопливый ещё, – Агафья, ласково потрепав вихрастую голову своего самого младшенького, легонько подтолкнула его к хате и тихо сказала: – Беги, покличь Марыльку. Вот радости-то будет.
Услышав это имя, Прохор непроизвольно вздрогнул и побледнел.
– Да что это с тобой? – встревожилась мать.
– Откуда и чего она тут? – обеспокоенно прошептал он.
– Сынок, да ты что?! Ты ж сам её сюда отправил… Иль запамятовал? Помнишь, кода у нас один раз гостил – ещё, когда пана Хилькевича сопровождал, – так тогда ж и рассказывал о своей женке Марыльке. Тогда ж и говорил, что была б твоя воля, так перебрался бы сюда. Ну вот… – видя растерянность сына, заволновалась уже и сама Агафья.
– Ну, помню… было такое… – пребывая в крайнем замешательстве, выдавил Прохор, и под ложечкой у него вдруг противно засосало.
В последнее время в Черемшицах уже давно никто не видел ополоумевшую Марылю. Думали, сгинула где-то на топях, а она вот оказывается куда забралась! «Видать, не совсем, окаянная, умом тронулась! Вот вцепилась, стерва!» – в ужасе думал Прохор.
– Так правильно и поступили, что надумали сюда перебраться. Марылька-то – девка смелая. После отмены панской власти над нами одна добралась сюда. И как ты её одну отпустил? А про тебя сказала, что тоже скоро придёшь… после сева…
Глядя, как ещё больше изменился в лице сын, мать вдруг осеклась. Поняв по его облику, что здесь что-то не так, она и вовсе не знала как быть. В растерянном недоумении глянув на хату, Агафья, словно оправдываясь, неожиданно проронила:
– А вот и сама Марылька… Скоро уж и рожать ей…
Прохор обернулся и… не поверил своим глазам! В тёмном проеме открытой двери батьковской хаты стояла… Янинка!!! Милая, желанная и любимая Янинка! И как бы прося прощения за свою дерзкую вольность, она виновато улыбалась, при этом глаза её непроизвольно начали тонуть в слезах – в слезах счастья.
А на груди девушки тёплым светом мирно поблескивал необычный крестик-оберег…
Примечания
1
Шкалик – рюмка, чарка.
(обратно)2
Аблавуха – старинная меховая шапка крестьян.
(обратно)3
Фольварк – то же, что и маёнток.
(обратно)4
Полешуки – жители Полесья.
(обратно)5
Пушной хлеб – хлеб из ржи с мякиной. После выпечки из него торчали волоски мякины.
(обратно)6
Курень – шалаш.
(обратно)7
Жалейка-крестьянский муз. инструмент, дудка.
(обратно)8
Шибко – здесь и далее в значении «очень».
(обратно)9
Повет – уезд, район.
(обратно)10
Каленковичи – переименованы в Калинковичи в конце 19в.
(обратно)11
Автюцевичи – ныне Автюки. В этом н. п. с 1995 года проводятся республиканские фестивали народного юмора.
(обратно)12
Менск – переименован в Минск в 1939 г.
(обратно)13
Каганец – светильник, черепок или плошка с фитилем, опущенным в сало или раст. масло.
(обратно)14
Отменташивание-за отсутствием оселков, косы точили деревянной лопаткой – менташкой. На неё наносились неглубокие частые пропилы, что делало поверхность рифлёной. Перед точением менташку макали в воду, затем в песок.
(обратно)15
Худоба – домашняя живность (местн. диалект).
(обратно)16
Деркач – веник из голых веток.
(обратно)17
Кошик – корзинка, кошёлка.
(обратно)18
Смаженина-жаркое.
(обратно)19
Пуд-мера веса равная 16,38 кг.
(обратно)20
Мазыр-Мозырь.
(обратно)21
Хустка-платок.
(обратно)22
Гарсет-богато украшенная безрукавка.
(обратно)23
Андарак – шерстяная полосатая юбка крестьянок, род понёвы.
(обратно)24
Черена – верхняя часть печи, ровная глинобитная площадка для лежания и сушки одежды, обуви.
(обратно)25
Даёнка – ведро для дойки.
(обратно)26
Сподница – юбка, от слова исподница (местн. диалект).
(обратно)27
Шабета – небольшая сумочка, обычно кожаная, в которой мужики носили трубку, табак, кремень и др. мелочь.
(обратно)28
Дозвол – разрешение.
(обратно)29
Донька – дочка.
(обратно)30
Аттон Горват – В 19 в. Аттон Игнатов Горват – один из крупнейших помещиков на территории современного Калинковичского р-она.
(обратно)31
Зипун – верхняя крестьянская одежда типа кафтана без воротника. Изготавливалась из домотканого сукна.
(обратно)32
Брыль – соломенная шляпа.
(обратно)33
Опритомел – пришёл в себя.
(обратно)34
Гайно – беличье гнездо, обычно в форме шара.
(обратно)35
Огидел – опротивел, надоел до невозможности.
(обратно)36
Юбка – летник, летник-род лёгкой летней юбки.
(обратно)37
Замова – заговор, нашептывание.
(обратно)38
Купалец – главный купальский костёр.
(обратно)39
Аршин – мера длинны равная 71,12 см.
(обратно)40
Дедун – чертополох, (местн. диалект).
(обратно)41
Шафер – на свадьбе – дружок, свидетель.
(обратно)42
Притвор – входное помещение с западной стороны церкви.
(обратно)43
Епитрахиль – принадлежность богослужебного облачения, длинная лента, огибающая шею священника.
(обратно)44
Ектенья – усиленное моление, прошение.
(обратно)45
Аналой – высокий покатый столик, на который кладут церк. книги, иконы.
(обратно)46
Отпуст – благословение в конце богослужений, обрядов.
(обратно)47
Обавания и потворы – колдовство, ворожба.
(обратно)48
Раёк – ярмарочное представление.
(обратно)49
Понёва – род запашной юбки из трёх суконных полотнищ. Носили замужние женщины.
(обратно)50
Постолы – грубая обувь домашнего изготовления из куска сыромятной кожи.
(обратно)51
Намитка – жен. головной убор в виде длинной полосы полона, завязанного вокруг головы особым образом.
(обратно)52
Золовки – сестры мужа.
(обратно)53
Своячины – свояченицы, сёстры жены.
(обратно)54
Ятровки – женщины, чьи мужья являются братьями.
(обратно)55
Змовины – помолвка.
(обратно)56
Корец – кружка.
(обратно)57
Праснаки – вид сдобных лепёшек.
(обратно)58
Припечек – площадка перед входом в печь.
(обратно)59
Болотная руда-в местах, где имелись залежи болотной руды, на берегах образовывались бурые налёты ржавчины, а на воде плёнка. От многочисленных таких мест пошли названия поселений Рудня, Рудница, Руденька и др.
(обратно)60
Дрын – большой кол.
(обратно)



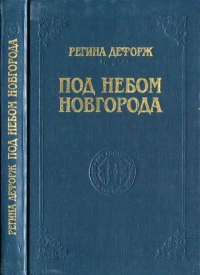


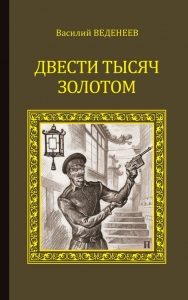

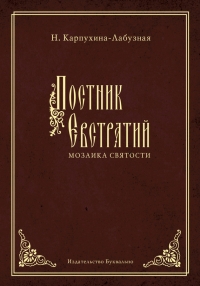

Комментарии к книге «Ведьма полесская», Виталий Ефимович Кулик
Всего 0 комментариев