Роберт Швейхель За свободу Роман из эпохи Великой крестьянской войны в Германии
Роберт Швейхель и его роман «За свободу»
Когда немецкий писатель Роберт Швейхель издал в 1898 году свой последний роман «За свободу», ему было уже около восьмидесяти лет. Это произведение стало его своеобразным завещанием своему народу. Роман о Великой крестьянской войне 1525 года, главным героем которого был восставший народ, напоминал немцам об их героическом прошлом и звал к новым боям за свободу. В революционное будущее родной Германии писатель-демократ Швейхель непоколебимо верил.
Эпиграфом к роману можно смело взять известные слова Фридриха Энгельса, которыми он начинает свою работу «Крестьянская война в Германии»: «Немецкий народ также имеет свою революционную традицию. Было время, когда Германия выдвигала личности, которые можно поставить рядом с лучшими революционными деятелями других стран, когда немецкий народ проявлял такую выдержку и развивал такую энергию, которые у централизованной нации привели бы к самым блестящим результатам, когда у немецких крестьян и плебеев зарождались идеи и планы, которые достаточно часто приводят в содрогание и ужас их потомков»[1]. Честное объективное изображение в художественном произведении величайшей эпохи немецкой истории — огромная заслуга Швейхеля.
Поход в далекое прошлое был предпринят писателем не ради бесстрастных исторических изысканий. Следуя за Энгельсом, Швейхель считал, что из эпохи Крестьянской войны можно извлечь немало полезных политических уроков для современности. Не последними из них являются мысли о необходимости единства всех угнетенных и о крепком союзе крестьянства и городской бедноты.
В конце XIX века в немецкой литературе было сравнительно немного произведений, в которых ставились бы большие общественные проблемы. Известной узостью кругозора страдали даже такие выдающиеся и прогрессивные писатели того времени, как Теодор Фонтане (1819–1898) и Вильгельм Раабе (1831–1910).
В то же время откровенно реакционная литература буквально завалила книжный рынок псевдоисторическими романами, прославлявшими прусский дух и избранность германской нации (Детлев фон Лилиенкрон, Феликс Дан и др.).
В 80–90-х годах в немецкой литературе все больше распространяются также различные антиреалистические направления, прежде всего натурализм и символизм. На их фоне резко выделялся талант Гергарда Гауптмана (1862–1940), автора выдающихся социальных пьес «Перед восходом солнца», «Ткачи» и др. Но когда в 1896 году (за два года до появления романа Швейхеля) Гауптман написал пьесу о крестьянском восстании 1525 года «Флориан Гейер», то в его творчестве уже явно слышались нотки усталости и разочарования. Отдавая дань мужеству восставших крестьян, Гауптман сосредоточил основное внимание на фигуре их предводителя — рыцаря Флориана Гейера и его устами высказал известное разочарование в революции.
Иные проблемы волновали Швейхеля, обратившегося к той же эпохе. Он сосредоточил свое внимание на представителях революционного народа: в его романе они не оттеснены на задний план и не безлики, не являются послушными орудиями «выдающихся личностей», а сами творят свою судьбу и историю своей страны.
Прогрессивный политический деятель и литератор Роберт Швейхель (1821–1907) стоит в немецкой литературе несколько особняком, вне сложившихся групп и направлений.
Мы напрасно стали бы искать его имя на страницах буржуазных историй немецкой литературы. Это один из тех передовых писателей, чье творчество в течение многих лет упорно и несправедливо замалчивалось. Зато его помнила рабочая Германия. Франц Меринг — одни из первых марксистских литературоведов и критиков — сказал о нем: «В литературной истории немецкого рабочего класса он имеет обеспеченное место, как его имеет Веерт[2], как имеют и другие, о которых ничего не хотят знать буржуазные немецкие историки литературы»[3].
Писатель-демократ до конца своего творчества оставался верен принципам реализма. «Именно художественная совесть Швейхеля, — писал о нем Меринг в 1906 году, то есть за год до его смерти, — продиктовала ему критическое отношение к современному натурализму… Не потому, что он отказывался признать за Гауптманом, Гольцем, Гальбе действительный поэтический талант, а потому, что он чувствовал и понимал, что вместе с этим новым течением занялась не новая заря литературы, а только мимолетная игра красок, оживлявшая неизбежный закат. Ибо этот поэт был всегда цельным человеком и солдатом в освободительной борьбе человечества»[4].
Швейхель не сразу стал писателем. Сын кёнигсбергского купца, он отверг торговую карьеру, которую навязывал ему отец, и поступил на факультет права. Еще студентом Швейхель был Захвачен революционным движением 1848 года и стал приверженцем самого левого крыла буржуазной демократии, связанного с возникавшими в то время по всей стране союзами немецких рабочих. После поражения революции Роберт Швейхель, в отличие от многих представителей тогдашней буржуазной молодежи, не сделался ренегатом и не изменил своим передовым убеждениям, а оставался верен им всю свою жизнь.
Его выступления в демократической и рабочей печати закрыли ему в Германии все пути. И вот после окончательного разрыва с семьей, после неоднократных арестов и, наконец, официального запрещения проживать в Пруссии Швейхель был вынужден покинуть родные края и стать эмигрантом.
Он обосновался в Швейцарии, где семь лет преподавал в Лозаннском университете. Здесь он начал писать свои первые рассказы и повести. Их героями были свободолюбивые и честные крестьяне Швейцарских Альп, жизнь которых он с увлечением изучал.
В начале 60-х годов Швейхель смог наконец вернуться на родину. Он снова обращается к журналистской деятельности, стремясь всеми силами помогать простому народу.
Уроки минувшей революции не прошли для Швейхеля даром. Он все больше отходит от позиций буржуазного демократа и становится защитником интересов рабочего класса. Жизнь столкнула его сначала с Вильгельмом Либкнехтом, затем с Августом Бебелем — двумя ветеранами немецкого рабочего движения. Оба они имели на Швейхеля благотворное влияние. Вместе с Либкнехтом он демонстративно уходит из редакции «Северонемецкой всеобщей газеты», когда она сделалась подголоском реакционного правительства Бисмарка. По инициативе Бебеля Швейхель выступает в 1868 году на Нюрнбергском съезде рабочих союзов с речью в поддержку программы Интернационала. Хотя впоследствии Роберт Швейхель не стал ни последовательным марксистом, ни активным деятелем социал-демократии, он всю свою жизнь горячо сочувствовал борьбе немецких рабочих и принимал в ней участие своим пером.
Последние годы его жизни были почти целиком посвящены писательской деятельности. С середины 60-х годов, уже после возвращения из эмиграции, он начал публиковать свои первые повести из жизни швейцарской деревни, а с 70-х годов обратился к жанру романа.
Правдивые и свежие по материалу произведения Швейхеля были замечены и имели успех. В них он описывает жизнь простого народа. Писателя более всего интересует жанр так называемой «деревенской повести», которую он понимает как «простейшую клеточку народной истории».
Но скоро чисто психологические коллизии из сельской жизни перестают удовлетворять Швейхеля. Он ставит перед собой более смелую задачу: показать судьбы отдельных людей на фоне больших народных движений, показать, как народ работает и мыслит, сочиняет свои песни и сражается за великое дело свободы.
Все романы Роберта Швейхеля в той или иной мере посвящены освободительным народным движениям. Самому автору они представлялись этапами на пути к созданию настоящего немецкого социального романа. В первом из них — «Лесорубе» (1868) — действие происходит во время польского освободительного движения 1863 года; «Резчик из Ахензее» (1873) направлен против господства иезуитов в Швейцарии, а в «Сокольничих св. Виргиля» (1881) перед читателем предстает Тироль 1800 года, когда его свободолюбивые сыны восстали против господства баварцев. И, наконец, «За свободу» (1898) — последний и самый зрелый роман писателя — представляет собой широкое полотно из эпохи Крестьянской войны.
Швейхель вложил в роман «За свободу» весь свой политический опыт, накопленный за долгую жизнь. Это помогло ему разобраться в противоречиях отдаленной эпохи.
Обращение к теме Великой крестьянской войны в 1898 году было не менее актуально, чем в 1850, когда Энгельс написал свою книгу «Крестьянская война в Германии». Маркс и Энгельс указали тогда на революционность немецкого крестьянства и на желательность «второго издания Крестьянской войны», которая дала бы мощного союзника немецкому рабочему классу. Только победоносная народная революция позволила бы решить тогда вопрос, поставленный еще в далеком 1525 году, — об объединении страны снизу, о создании единой демократической Германии.
Объединение страны завершилось в 1871 году. Но это не было объединением снизу волей революционного народа. Немецкое юнкерство и буржуазия разделили между собой власть, навязав народу реакционную империю во главе с прусской королевской династией. Против этого реакционного режима активно выступили немецкие пролетарии. Несмотря на репрессии, рабочее движение в Германии становилось все более грозной силой. Однако в 90-х годах стала ясно обнаруживаться опасность ревизионизма, стремившегося сбить немецкий пролетариат с революционного пути. Поэтому так особенно тепло был встречен передовой рабочей аудиторией роман Швейхеля с его резкой антидворянской направленностью и революционным народом в качестве главного героя.
Швейхель обращается к материалам Крестьянской войны 1525 года не как историк, а как писатель-романист. Он стремится изобразить эту отдаленную эпоху во всех подробностях, воссоздать живые картины и характеры того времени, проследить отдельные людские судьбы на фоне больших общественных событий. Но прежде всего писателя интересует Крестьянская война и судьба народа. Трудно перечислить здесь все многочисленные сюжетные линии романа, да, в сущности, в нем и нет иного сюжета, кроме событий Крестьянской войны. Ее первые вспышки во Франконии, где происходит действие, служат завязкой, трагический конец восстания — развязка романа. Главный герой — простой немецкий люд.
«За свободу» — своеобразный роман-хроника. В нем почти нет вымышленных действующих лиц и событий. Швейхель очень точно, до мельчайших подробностей следует за документальными данными. Он использует ряд летописей и документов того времени, а также книгу Циммермана «История Крестьянской войны в Германии»[5], которую Энгельс недаром назвал «похвальным исключением из немецких идеалистических исторических произведений». Швейхель досконально изучил также вслед за Циммерманом хронику некоего Томаса Цвейфеля — писца города Ротенбурга, оставившего подробное и сравнительно объективное описание волнующих событий тех лет. Благодаря этому не только отдельные герои, но даже их поступки не вымышлены писателем, а взяты из действительной истории Крестьянской войны. Можно с уверенностью предполагать, что Швейхель был хорошо знаком и с упоминавшейся работой Энгельса.
Роберт Швейхель не скользит по поверхности, не гоняется, подобно целому ряду своих современников, лишь за внешним историческим колоритом, а честно пытается разобраться в глубоких классовых противоречиях эпохи. В целом он безусловно следует анализу, данному Энгельсом.
Перед нами Германия бурной, жестокой и героической эпохи Реформации и Крестьянской воины 1525 года. Немецкий народ впервые поднялся тогда на открытую борьбу против своих угнетателей: против нестерпимого хозяйничанья в стране папского Рима и жестокого произвола немецких князей, против дворян, попов и богатых патрициев в городах.
В конце XV — начале XVI века Германия оказалась в состоянии острого экономического и политического кризиса. Для ее дальнейшего развития страшным препятствием оказалась прежде всего ее раздробленность. Всем в стране заправляли князья — многочисленные духовные и светские феодалы. Они бесконтрольно вершили суд и расправу над своими подданными, затевали междоусобные войны, чеканили монету, учреждали налоги. Император и имперский сейм имели над князьями только чисто номинальную власть, которой те вольны были подчиняться или не подчиняться.
По мере того как усиливалась власть князей, подавляющее большинство остальных дворян опустилось до положения мелких рыцарей. Рыцари рейнские, швабские, франконские все еще тщились отстаивать для себя право подчиняться только императору, но все рыцарство жестоко страдало от княжеского самовластия. В массе своей рыцари обеднели и разорились. Но все они по-прежнему были полны непомерных претензий и жадно тянулись к блеску и роскоши княжеских замков, к праздникам и турнирам, участие в которых было им давно не по карману. Стараясь выжать как можно больше средств из своих и без того разоренных владений, они особенно безжалостно эксплуатировали крестьян; без конца занимая деньги, они попадали в кабалу к богатым горожанам; рыцари не брезговали даже прямым грабежом на дорогах, когда противники были слабы и это могло сойти с рук. Рыцари завидовали богатству католической церкви, мечтая при первых беспорядках поживиться за счет церковных владений. В целом это было беспокойное сословие, жившее во вражде со всеми другими и постоянно недовольное своим положением, — вот почему некоторые рыцари оказались захваченными народным движением 1525 года.
Но надо помнить, что с народом рыцарству было не по пути. Правда, отдельные передовые представители (вроде Ульриха фон Гуттена, упоминаемого в романе) искренне стремились сгладить противоречия между мелким дворянством и низшими сословиями и возглавить восстание против князей и церкви. Но они мечтали о восстановлении германской империи во главе с дворянством, то есть их идеалы по сути своей были реакционны. Поэтому народ не поддержал рыцарского восстания под руководством Франца фон Зиккингена перед самой Крестьянской войной, а дворяне, примкнувшие в 1525 году к крестьянскому ополчению, оказались в большинстве своем союзниками недолговечными и коварными.
В романе Швейхеля правильно передано и особое положение духовенства в Германии того времени. Католических попов дружно ненавидели все сословия, но более всего народ — крестьяне и горожане. Могуществу папы и его духовенства в Германии не противостояла сильная светская власть, и это позволяло духовенству грабить народ и творить всякие бесчинства. Невежественные и жадные священники, вроде отца Бокеля у Швейхеля, обирали страну «подобно саранче египетской», как говорится в летучих листках того времени. Монастыри и обители владели обширными землями с крестьянами, а духовные господа были нередко могущественнее и беспощаднее светских. Не случайно народное восстание началось с Реформации — всеобщего возмущения против римской католической церкви.
Швейхель показывает в романе, как в годы перед Крестьянской войной по стране бродили многочисленные проповедники и сеяли семена Реформации. Мощным оружием в руках народа стало священное писание, переведенное на немецкий язык Лютером. Заветы кротости, бедности и всеобщей братской любви раннего христианства помогали тогда обличать несправедливость дворян и попов. Народ понимал Реформацию не только как реформу церкви, но и как коренное изменение всех старых порядков. Не «злокозненная Реформация» — «начало всех бед» — послужила причиной народного восстания, как думают некоторые недальновидные политики в романе Швейхеля, а сама она возникла в результате всеобщего глубокого недовольства широких слоев народа.
Волновалось бюргерство в городах, во многом руководившее умонастроением остальной Германии. Вольные имперские города и города, подчинявшиеся отдельным князьям, одинаково страдали от самовластья дворянства и поборов церкви. Но не менее острые конфликты таились и внутри городских стен. Выделившаяся из среды бюргеров зажиточная патрицианская верхушка безжалостно эксплуатировала городскую бедноту и подвластных городу земледельцев. С патрициями враждовали низы города: неимущие плебеи, бесправные подмастерья — верные союзники восставшего крестьянства. Что касается основной массы среднего бюргерства, то оно отличалось в те времена значительной шаткостью, показанной Швейхелем на примере горожан Ротенбурга далеко не достаточно. Горожане активно поддерживали крестьян, когда те одерживали победы, и отшатывались от них при первых неудачах, продавая этим прежде всего свои собственные интересы.
И, наконец, у самого основания этой пирамиды сословий находились крестьяне — огромное эксплуатируемое большинство народа. В начале XVI века более 80–85 % населения Германии жило в деревнях и кормило своим непосильным трудом все официальные сословия империи. Немецкие крестьяне делились тогда на крепостных и так называемых «зависимых», которые получали свои клочки земли в аренду на грабительских условиях и в любой момент могли лишиться их. К началу XVI века положение тех и других резко ухудшилось. У них были насильно отобраны все общинные угодья: леса, водопои и пастбища; учреждались все новые поборы, и землевладельцы присвоили себе неограниченные права не только на имущество, но и на личность крестьянина, его жены и детей.
Крестьяне были полны воспоминаний о «старых временах», когда они жили свободней. Несмотря на переходившую из поколения в поколение привычку к подчинению, с конца XV века все чаще и грознее становятся открытые вооруженные восстания крестьян отдельных областей против своих господ: в 1476 году — выступление под руководством Ганса Бегейма, но прозвищу Дударь, из Никласгаузена; в 1493 году — восстание союза «Башмака» в Эльзасе; в 1502 году — волнения в Шпейерском аббатстве; в 1513–1514 годах — многочисленные движения крестьян и горожан в разных частях Германии и восстание союза «Бедного Конрада» в Вюртемберге и т. д. (Обо всех этих восстаниях упоминается в романе)… И, наконец, весной 1525 года огромная территория Германии была охвачена грозной Крестьянской войной, невиданной доселе и приведшей в ужас всех ревнителей установившихся порядков — от князей до зажиточных горожан.
Действие романа происходит во Франконии — в районе самых напряженных боев Крестьянской войны, вокруг вольного имперского города Ротенбурга на Таубере. Но Швейхель стремится держать читателя в курсе общего развития событий Крестьянской войны. Он не раз упоминает имя замечательного немецкого революционного вождя Томаса Мюнцера — одного из главных вдохновителей и руководителей восстания крестьян и плебеев. Целый ряд других видных вождей восстания являются непосредственными героями романа: полководец Флориан Гейер, прозорливый политик Вендель Гиплер — автор «Двенадцати статей» восставших крестьян, вероломный Гец фон Берлихинген и др.
Мы уже упоминали, что даже второстепенные персонажи Швейхеля — исторические личности, имена которых известны из документов и хроник. Но автор сумел в большинстве случаев сделать действующих лиц своего романа живыми людьми. С одной стороны, они — типичные представители сословий, с другой — характеры, наделенные индивидуальными чертами. Швейхелю помогает дарование художника-психолога, порою довольно тонкого. Наиболее удачны представители революционного народа — все эти «неладно скроенные, но крепко сшитые фигуры Великой крестьянской войны»[6], Симон Нейфер — староста из Оренбаха под Ротенбургом и его смелая порывистая сестра Кэте, подмастерье Каспар Эчлих и «Большой Лингарт» — один из героических предводителей народного войска, даже «Черная Гофманша» — олицетворение народного горя и жажды мщения — все это яркие личности и вполне в духе эпохи.
Не все герои одинаково удались автору. Это относится прежде всего к вымышленным персонажам, как правило наделенным излишней мелодраматичностью. Так, нарочито романтизирован образ Ганса Лаутнера — молодого подмастерья ювелирного цеха, а также история его роковой любви к богатой горожанке Габриэле Нейретер, хотя в изображении самой этой жестокой и вероломной красавицы нет никакого приукрашивания.
Стремясь показать, что все высокие моральные качества и все подлинно человечное присуще людям из народа, а их противники подлы и бесчеловечны, Швейхель часто прибегает к приему романтического контраста: благородная крестьянка Кэте и заносчивая патрицианка Габриэла; самоотверженная любовь подмастерьев Лаутнера и Эчлиха и низменная страсть дворянина фон Розенберга. При этом Швейхель несколько отступает от свойственной ему реалистической манеры повествования. Однако несомненной заслугой автора является то, что все живое и честное в романе становится на сторону революционного народа.
Весь роман проникнут сильной антидворянской тенденцией, актуальной для времени Швейхеля, когда реакционное немецкое юнкерство все еще занимало господствующее положение в стране. У Швейхеля с негодованием изображены не только такие изуверы и притеснители крестьян, как юнкер Цейзольф фон Розенберг, но и вероломные союзники народа, предавшие его в решительный момент: Гец фон Берлихинген, ставший по инициативе Гиплера предводителем «Светлого ополчения» крестьян, рыцарь Стефан фон Менцинген — один из руководителей бюргерской оппозиции в Ротенбурге. Если историк Циммерман несколько приукрасил эти фигуры, то Швейхель воссоздал их образы правдивей. Кровавую расправу с дворянами в Вейнсберге романист показывает как «жестокую справедливость» угнетенного народа.
Благородный Флориан Гейер, особенно любимый автором, — удивительное и единственное исключение среди людей своего класса — дворян. Пусть иногда этот герой, как и его молодой друг Макс Эбергард — доктор римского права, становится рупором сокровенных и слишком современно звучащих идей автора, но преданность Флориана народному делу, сохранившаяся до самого конца, его редкое бескорыстие и принципиальность обрисованы автором убедительно, с искренней теплотой и даже преклонением перед этим человеком. У Швейхеля нет противопоставления Флориана людям из народа, как в упомянутой пьесе Гауптмана. В «верном Флориане» автор воплощает светлую фигуру настоящего вождя, для которого интересы народа выше его личных. Недаром именно в предсмертном сне Флориана Роберт Швейхель высказал свои собственные сокровенные мечты и надежды. Флориану снилось, что «крестьяне снова восстали по всей немецкой земле. Но теперь они уже боролись не только за свою деревню, за свой край, а как дети одной матери, как граждане одной страны. Своим единством они создали несокрушимую силу. Это он, Флориан, ведет их от победы к победе над угнетателями народа. Вот вспыхнул последний страшный бой — и мощь врага сломлена навсегда. Неистовые клики войны сменились радостными песнями, и они, взявшись за руки, шагают с женой через цветущие поля. Исчезли замки на холмах, сгинули монастыри в долинах, города сбросили свои стены. Повсюду процветает радостный труд. Нет больше ни господ, ни рабов, всюду лишь свободные люди» («За свободу», кн. 3, гл. 9.).
В последних частях романа Швейхель показывает, как крестьянское восстание терпит поражение, неизбежное в силу целого ряда причин: крестьянские выступления были разобщены и неорганизованны, рыцари и даже горожане оказались ненадежными союзниками и в решительный момент предали общее дело. Глава войска усмирителей, палач Трухзес, наделенный полномочиями Швабским союзом князей, маркграф Казимир и другие заливают страну потоками крови. Князья с невероятной жестокостью расправляются со всеми, даже косвенно причастными к народному делу. Но роман «За свободу» оканчивается не пессимистической нотой, а словами надежды. Он устремлен в будущее. «И в самом деле, потоки народной крови, пролитые господами, лишь приглушили огонь, но не потушили его, — говорит Швейхель в конце романа. — … Каспар рассказывал о Флориане Гейере и доставал спасенное им под Ингольштадтом черное знамя с золотым восходящим солнцем. И в сердцах крестьян с новой силой возрождалась надежда, и они верили, что наступит день, когда взойдет солнце свободы и озарит своим сиянием закабаленный и порабощенный народ».
Роман написан местами очень эмоционально. В повествовании не чувствуется нарочитой архаизации, хотя автор использует целый ряд обиходных слов и разговорных выражений эпохи Крестьянской войны. Приблизить эту эпоху, сделать ее героев понятными и близкими своим современникам — вот стремление автора, которое он выполнил с немалым мастерством. Отдельные художественно слабые места и анахронизмы не снижают общей ценности романа, давшего живую и исторически правдивую картину борьбы немецкого народа за свободу и социальное равенство.
Роман Швейхеля рано заметили в России. Он был впервые переведен на русский язык в 1905 году и вышел в следующем, 1906 году, еще при жизни Роберта Швейхеля. Тогда же в буржуазно-литературном журнале «Русская мысль» была опубликована приветственная рецензия на это произведение. Между строк в ней выражалась мысль о том, что, может быть, русской революции суждено воплотить в жизнь те светлые мечты, которые волновали когда-то немецких крестьян и плебеев во время Великой крестьянской войны 1525 года.
После революции роман Швейхеля в сокращенном переводе несколько раз переиздавался в нашей стране: в 1923, в 1928 и в 1939 годах. Большим успехом роман «За свободу» пользуется сейчас в Германской Демократической Республике. Новое издание романа, несомненно, будет с интересом встречено советскими читателями. Эта книга поможет лучше понять революционные традиции немецкого народа и тем самым будет содействовать укреплению дела мира и дружбы.
Е. Маркович
Книга первая
Глава первая
Это было в четверг, накануне крещенья. Шел 1525 год. Несмотря на сырую и холодную погоду, перед одной из самых жалких лачуг Оренбаха стеной стоял народ. Деревня раскинулась в лесистой местности, справа от большой дороги, которая вела из Ротенбурга на Таубере через Среднефранконскую возвышенность на север, до самого Майна. Непроницаемая изгородь из терновника окружала деревню, и даже кладбище было обнесено толстой стеной, выложенной из булыжника. От церковной площади расходились во все стороны кривые, изломанные улочки, тянувшиеся между крестьянскими дворами, бревенчатыми и глинобитными домиками крепостных и поденщиков. По древнефранконскому обычаю крестьянский двор представлял собой замкнутый четырехугольник, и из жилья можно было попасть в хлев или сарай, не выходя из-под крыши. Но эти четырехугольники редко имели правильную форму. Крепостные жили хуже скота, да и вольные крестьяне не могли похвастать чистотой. Куры, утки, свиньи свободно разгуливали по комнатам. Стены и потолки почернели от копоти: дымоходы были редкостью, да и те из досок, обмазанных глиной. Еще реже встречались в окнах стекла, их заменяла толстая промасленная бумага. Дома тогда крылись большей частью соломой; считалось, что она дает больше тепла, чем драница. Что ни кровля, то аистово гнездо; что ни огород, то кусты бузины вдоль покосившегося сарая; что ни сад, то кривые стволы яблонь да неуклюжая хлебная печь. Повсюду следы упадка, запустения.
Крестьяне владели по праву наследственных арендаторов теми самыми участками, которые спокон века были собственностью их предков. Крепостные получали небольшие наделы в краткосрочную аренду. Ротенбургские патриции, или «именитые граждане», державшие в своих руках всю власть в городе, давно пришли к убеждению, что земля, обрабатываемая нерадивыми крепостными, которых сгоняют на работу фогты[7], приносит куда меньше дохода, чем у арендаторов, которые работают якобы на самих себя. Поэтому вольный город Ротенбург, владевший шестью с половиной квадратными милями земли и сорока пятью деревнями, обратил своих крепостных в свободных арендаторов и вменил им в обязанность вносить непомерно высокую арендную плату — разумеется, помимо всех прочих податей и налогов. Их свобода, в противоположность крепостным, принадлежавшим светским и духовным владетелям и городским патрициям, заключалась в том, что они, попав в нужду, имели полное право умирать с голоду, не обременяя своих господ заботами о себе. В те времена земледелие составляло основной источник доходов, и чем больше испытывали феодалы потребность в роскоши, тем сильнее исходили кровавым потом не только арендаторы, но и все крестьянство или, как тогда говорили, весь «бедный люд».
В жалкой лачуге, перед которой столпились жители Оренбаха, под соломенной крышей, прогнившей и поросшей мохом, ютился крепостной Конц Гарт. Дверь хижины была заперта изнутри, и перед нею взад и вперед ходил человек, свирепо, как цепной пес, поглядывая на толпу, хранившую зловещее молчание. Это был судебный пристав Эндзейского десятинного управления, коему был подчинен Оренбах. Помимо дурной погоды, была и другая причина, вызвавшая крайнее раздражение господина пристава. Конц Гарт упорно не желал отпереть ему дверь, хотя тот требовал этого именем шультгейса[8], графа фон Верницера. Теперь пристав ждал кузнеца, за которым послал своего кнехта. Ни для кого не было тайной, чего хотел от крепостного представитель власти, и у многих сердце сжималось от страха при мысли, что рано или поздно их тоже сгонят с земли. Вся деревня могла засвидетельствовать, что Гарт и его жена работали, выбиваясь из последних сил, от зари до зари, лишь бы свести концы с концами. И вот среди зимы их выбрасывают на улицу, как собак.
— Староста! — раздались голоса. Все вздохнули с облегчением, когда со стороны площади показался Симон Нейфер, мужчина во цвете сил, лет тридцати с небольшим, среднего роста, широкоплечий, широкогрудый, с характерным грубоватым лицом и свободно посаженной головой. На бритом по-крестьянски лице — борода, как и высокие сапоги, была в те времена привилегией знати — выдавалась вперед верхняя губа и широкий подбородок. Умные карие глаза оглядывали толпу. Он был первым старостой в Оренбахе, так же как прежде был его отец, который, овдовев, поселился в доме сына. За спиной Симона показался кузнец, мейстер Виланд, с увесистым молотом на плече, в сопровождении посланного за ним кнехта с мечом и в шлеме.
— У вас есть предписание господина шультгейса выселить Конца Гарта? — спросил Симон Нейфер пристава. — Покажите.
— Что это на вас напало? — изумленно воскликнул тот. — Не узнаете, что ли, Штекерлейна из Эндзее, судебного пристава?
— А вы, как видно, не знаете своих обязанностей? Или забыли, что не имеете права распоряжаться в деревне как представитель власти, не предъявив общинному совету своих полномочий?
Спокойный тон старосты еще больше подстегнул высокомерие чиновника. Плевать ему на всех старост и на все общинные советы в мире!
— В таком случае выселение не состоится, и вы будете отвечать перед судом за оскорбление местных властей, — невозмутимо заявил Симон Нейфер. Толпа зашумела, выражая одобрение своему старосте.
— Тьфу ты, пропасть! — возмутился Штекерлейн. — Это мы еще посмотрим! — И он приказал кузнецу выломать дверь.
Закоптелый кузнец, со вздыбленными, точно аистово гнездо, волосами, вопросительно посмотрел на старосту и, увидев, что тот молчит, не двинулся с места. А тут еще его жена, худая, костлявая женщина, закричала:
— Якоб, не смей! — и, повернувшись к односельчанам, продолжала: — Если среди вас есть настоящие мужчины, вы не допустите, чтобы Конца с женой и детьми выбросили на улицу, как собак!
Судебный чиновник бросил на нее злобный взгляд, но решил, что благоразумней будет исполнить требование старосты. Яростно засопев, он выдернул из-за пояса официальное предписание о выселении Конца Гарта. Пока Симон не спеша развертывал и читал бумагу, через его плечо глядел на нее кудрявый молодой человек — общинный писец Пауль Икельзамер, брат учителя латыни в ротенбургской школе.
— Вовсе не обязательно выселять человека силой, — произнес Симон, протянув Штекерлейну бумагу, которая не вызывала возражений. — Оставь Конца в покое, ведь он тоже человек. Ручаюсь, что к утру он очистит свою лачугу. Господин граф фон Верницер будет доволен.
— Как бы не так! — зашипел пристав. — Пусть убирается сейчас же. Новый арендатор не может больше ждать. Мыслимое ли дело? Больше года Конц не платит ни аренды, ни церковной десятины! Начальство и его преподобие тоже хотят жить.
— А нам что ж, околевать? — выкрикнул кто-то из толпы.
— Конц, Конц, отопри! — возвысил голос староста.
В лачуге по-прежнему никто не отзывался. Штекерлейн повторил свое приказание кузнецу. Когда тот подошел к двери, толпа замерла, и слышно было, как шуршит его кожаный фартук, длинный и жесткий. Мейстер Виланд, даже не сняв молота с плеча, ударом ноги высадил дверь.
— Стоило отрывать человека от работы по таким пустякам, — презрительно бросил он, спускаясь по каменным ступенькам. В дверях за его спиной показалось изнуренное непосильным трудом и лишениями лицо арендатора. Костлявой рукой он судорожно сжимал топор и, угрожающе сверкая глазами, закричал:
— Не подходи, кому жизнь дорога!
— Опомнись, Конц! — крикнул ему Симон. — Не усугубляй своей беды. Подумай о жене и детях.
— Побираться они смогут и без меня, — хрипло проговорил несчастный, замахиваясь топором на кнехта, обнажившего меч.
Борьба длилась недолго. Дюжий кнехт выбил топор из рук у обессилевшего крестьянина и, схватив его за шиворот, с такой силой отбросил от дверей, что тот плашмя растянулся посреди улицы.
Толпа возмущенно зароптала. Тут вдруг раздался громкий вопль: из дома выбежала жена Гарта с ребенком на руках. Другой малыш лет трех цеплялся ей за юбку, а из-за спины, весь дрожа от страха, уставился на окровавленное лицо отчима, которому мать, причитая, помогала подняться на ноги, подросток лет тринадцати. Женщина была значительно старше Конца. Ее первый муж когда-то арендовал участок, с которого теперь сгоняли Конца. Конц собирался жениться на любимой девушке — дочери крепостного из Рейхардсроде — деревни к северу от Оренбаха, надеясь со временем получить в аренду клочок земли после смерти одного из арендаторов, но местное начальство отказало ему в разрешении и заставило взять в жены вдову умершего арендатора, оставшуюся с ребенком на руках. Ни просьбы, ни мольбы ни к чему не привели, и Конц Гарт выбивался из последних сил, чтобы прокормить нелюбимую женщину и чужого ребенка. Судебный пристав и кнехт начали очищать лачугу бедняка, выбрасывая на улицу его жалкий скарб. Толпа загудела. Штекерлейн грубо приказал попридержать языки, но староста гневно возразил:
— Э, нет! Много на себя берете! Тянете из нас жилы и запрещаете кричать? А я вам говорю, будем кричать, да так, что эти господа в Ротенбурге услышат нас, помяните мое слово!
— Коли крестьянин работает как скотина, — подлил масла в огонь Пауль Икельзамер, — начальство обязано по крайней мере не мешать ему. Где Конц среди зимы добудет хлеба для голодных ртов?
— Ох-ох-о, что же поделаешь? — вздохнул седой как лунь старик с космами, падающими на иссохшее лицо, изборожденное клинописью морщин. Тяжкий труд, годы и болезни согнули его спину, и он обеими руками тяжело опирался на костыль. Это был Мартин Нейфер, отец Симона. — В старину, когда мы еще были свободными хлебопашцами и сами судили и рядили у себя в общине по правде и справедливости, — продолжал он, — честный человек не боялся такой напасти. Не то что нынче!
— Да воздаст им за это дьявол! — крикнула Виландша.
Тем временем жена несчастного, у которой лишения и горе давно иссушили слезы, вынесла из дома небольшой, должно быть заранее приготовленный, узелок. Конц Гарт отер рукавом окровавленный лоб и, взяв на руки мальчугана, сказал остальным:
— Идем!
— Куда? — спросил Симон.
— Околевать в первой попавшейся канаве, — злобно усмехнулся Конц.
— Погодите! — закричала, протискиваясь через толпу, стройная цветущая девушка с толстыми русыми косами. — У тебя есть с собой деньги, братец? — обратилась она к Симону Нейферу. — Нельзя же их так отпустить. Пусть каждый даст что может, во имя милосердия божия.
— Правильно, Кэте! — одобрительно произнес староста и, достав из кармана кожаный кошелек, выложил несколько медных монет в протянутую руку сестры. Его примеру последовал Пауль Икельзамер, а за ним и другие. Иному и жаль было расставаться со своими геллерами, да стыд брал перед соседями. У кого с собой ничего не было, те сказали жене Гарта, чтобы она, прежде чем уйти из деревни, заглянула к ним домой. Карие глаза Кэте светились состраданием и радостью, когда она вручила несчастной женщине собранные деньги.
— Да воздаст тебе за все господь! — прошептала та дрожащими губами, и слабая краска выступила на ее бледных, ввалившихся щеках. Но то была краска стыда, а не радости. «Милостыня», — подумала она, и сердце ее больно сжалось. Ее муж, повернувшись к югу, в сторону Эндзее, потряс кулаком и, заскрежетав зубами, произнес:
— Пусть воздаст бог и тем, кто выжал из меня последние соки и выгнал из дому, как собаку!
— Бог воздаст каждому по заслугам, братья, и никто, как бы высоко он ни стоял, не уйдет от божьего суда. Меч правосудия настигнет и князей в их хоромах, и нищего в его вретище. Но что здесь происходит, люди добрые?
Эти слова произнес человек, подошедший незамеченным. Старая пастушеская шляпа прикрывала бесцветные волосы, спадавшие мокрыми от тумана космами на узкие плечи. В костлявой руке он держал посох. Грубый тиковый кафтан висел мешком на длинном и тощем теле. Впалые, желтые как пергамент, щеки и острый подбородок заросли щетиной. Мохнатые брови нависли над глубоко сидящими, горевшими, как раскаленные угли, глазами. Длинный нос списал над широким ртом с тонкими бескровными губами. Жена кузнеца, стоявшая ближе всех к незнакомцу, принялась рассказывать ему о происшедшем, стараясь опередить перебивавших ее соседей. Странник терпеливо слушал ее, опершись на посох. Тем временем судебный пристав вместе со своим помощником успел очистить лачугу и собирался приступить к продаже конфискованного имущества, но незнакомец расстроил его намерения.
— Дозвольте и мне слово молвить, — сказал он, выпрямляя согбенную спину. Он занес было ногу на ступеньку, но Штекерлейн преградил ему дорогу: он сам облюбовал себе крылечко для аукциона.
— К липе![9] К липе! — раздались голоса, и старик Нейфер увлек за собой странника к площади. Вся толпа, от мала до велика, охваченная любопытством, хлынула за ними.
— Тьфу ты, дьявол! — загремел страж правосудия. — Так он угонит весь народ! Кому же я сбуду этот хлам?
— Тому, кого ты здесь только что помянул, — бросил ему в ответ странник. Говор у него был не франконский. — Кто же еще польстится на добро бедняка?
И он направился к площади. Там он встал на скамью под раскидистой, уже облетевшей липой и горящими глазами обвел стекавшийся народ.
«Проповедник!» — пробежал шепот в толпе. Хотя никому из оренбахцев еще не привелось видеть проповедника, но и до них уже дошли слухи об этих людях. Охваченные пламенным духом Реформации, они бродили по стране, проповедуя и толкуя евангелие по собственному разумению. То были простые, неученые люди, все больше ремесленники. Многие из них лишь недавно, по библии, научились грамоте. Библия была единственной книгой, которую они читали, единственным источником, из которого они черпали свое вдохновение и свои религиозные убеждения, пренебрегая грызней богословов. С непоколебимым мужеством переносили они муки лишений, голод и жажду, зной и стужу, преследования и издевательства. Ни оковы, ни побои, ни даже угроза смерти от руки палача — ничто не могло погасить их пламенного энтузиазма.
Забредший в Оренбах странник был из числа цвиккауских ткачей-проповедников[10]. Голос его, сначала хриплый, зазвучал яснее и громче.
— Так, стало быть, ваши господа выбрасывают крепостного на улицу, лишают его крова и хлеба? Скажите, люди добрые, разве крепостной не человек? Ведь даже собаку в такую пору и нехристь не выгонит из дому. Разве крепостной не такой же человек, как вы и я? И где же это писано, что человек может стать собственностью другого человека? Разве не все мы созданы по образу и подобию божиему и разве первейшая заповедь господа нашего Иисуса Христа не гласит: «Возлюбите друг друга, как братья и сестры»? Так скажите же, может ли брат быть рабом брата своего?
— Нет, нет, нет! — загудела толпа.
— Воистину так! — подтвердил он. — Апостол Павел пишет коринфянам: «Рабом ли ты призван быть, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, избери лучшее». И когда Иосиф был продан своими братьями, подлыми завистниками, в рабство, бог повелел Моисею, чтобы каждый говорил своему сыну: «Рабами мы были в Египте у фараона, который жестоко притеснял нас».
— Да, мы изберем лучший путь! — прозвучал зычный голос Пауля Икельзамера, и проповедник торжественно продолжал:
— Слушайте, братья, как попы и монахи, пресмыкающиеся перед владетельными господами, сами посрамляют себя мудростию Соломоновой, которая гласит: «Если ты поручился за ближнего твоего и опутан словами уст твоих, сделай же, мой сын, вот что, и избави себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: спеши, одолей его и гони прочь». А через пророка Исаию глаголет господь так: «За ничто вы проданы и без серебра будете выкуплены».
Толпа зашумела, как ветер в деревьях.
— Правильно! Правильно! Вот истинное откровение божие! Довольно нас водили за нос и бесстыдно надували попы!
— И наш тоже хорош! — пронзительно крикнула жена кузнеца и погрозила кулаком в сторону церковного дома.
— Все они одним миром мазаны, — вставил общинный писарь. — Есть латинская библия и у отца Бокеля, да что толку-то? Вся латынь давно вышла из него потом в трудах праведных…
— …над жбаном вина! — закончил кто-то из стоявших сзади.
— И над его племянницей во Христе Аполлонией, — добавил другой.
Поющие монахи. Карикатура на римско-католическую церковь.
С гравюры XVI в.
В толпе раздался хохот: Аполлония была стряпухой его преподобия Непомука Бокеля.
— Все они прислужники Ваала! — громовым голосом продолжал проповедник среди водворившейся тишины. — Их раздуло от обжорства и разврата, а сердца их прогнили насквозь. Истинно говорю вам, скорее светлый родник забьет из навозной кучи, чем чистое слово божие выйдет из их отрыгающих вином уст. То сам сатана напялил рясу и благовестит к обедне, уцепившись хвостом за церковный колокол.
Старый Мартин, который стоял, опершись на костыль, ближе всех к проповеднику, прервал его возгласом:
— Надобно вернуться к древнему обычаю, когда каждый приход сам выбирал себе священника.
Но его слабый голос был едва слышен, и проповедник, громко повторив его слова, продолжал:
— От всей души скажу: да будет так! Завитые, надушенные, напомаженные стоят они у алтаря. Они пожирают и пропивают дары, приносимые на дело благочестия, а стадо свое пасут на бесплодной почве, не родящей ничего, кроме благодати рабства. Иной благодати они не признают, эти апостолы сатаны! Вырвать их надо с корнем! Уничтожить как богопротивное семя! Секира уже занесена над их головами, и скоро господь свершит свой приговор.
— Пропади они пропадом! — загремел густой бас кузнеца.
— Ведь сказано в священном писании, — продолжал проповедник, — что богу надлежит повиноваться больше, чем людям. Но попы толкуют евангелие вкривь и вкось для того, чтобы господа, подкрепляя свои ленные права священным словом, могли жестоко угнетать простой народ. Это наемники диавола и вождь их — сатана! Они взваливают на ваши плечи все новые и новые тяготы. Нынче они выпрашивают у вас доброхотное подаяние, а через год требуют его уже как должное. Нынче одолжение, завтра принуждение, а там, глядишь, и закон. Вот откуда произошли их старинные права, которыми они так кичатся.
— Правильно! Правильно! — зашумела, загудела толпа, ловившая каждое его слово.
— Это маги и волшебники! — крикнул Пауль Икельзамер. — Сегодня подавай им петуха, а завтра они сделают из него теленка[11].
— А у бедняка они из вина делают воду, — продолжал проповедник. — Они готовы выжать даже мозг из костей наших и нас же заставить платить за него проценты. Сами они обжираются, как ненасытные псы, а вас обременяют податями, десятинами, оброками и оставляют с женой и ребятишками без куска хлеба.
— Как Конца Гарта! — раздался голос из толпы.
— А ленная власть! А кулачное право! Будь они трижды прокляты, эта растленная власть, это разбойничье право! Они кладут себе в карман налоги, пошлины, десятины, которые вы платите, расточают их на кутежи и распутство, а вас заверяют, что все это идет в общую казну, на общую пользу. Но попробуй-ка только поднять голос! И тебя, как бунтовщика, ждет тюрьма, плаха или четвертование. Они истребляют нас беспощадно, как бешеных собак. Разве бог дал им на это право? В какой книге это написано? Истинно говорю вам, праведный бог не потерпит более такой несправедливости. Храните эти слова в сердце своем, дорогие братья!
Сняв широкополую шляпу, он вытер рукавом вспотевший лоб и слез со скамьи. Толпа не шевелилась. С минуту длилось молчание, потом все вокруг зашумело, забурлило, и сотни рук потянулись к проповеднику, чтобы дотронуться до него, пожать ему руку. Со всех сторон его забросали вопросами, и для каждого нашлось у него слово совета и участия.
Мейстер Виланд спросил, как избыть беду и оградить себя от козней наемников дьявола. Поглядев на голые мускулистые руки кузнеца и на его увесистый молот, странствующий проповедник только усмехнулся и сказал:
— Вы выкуплены дорогой ценой, так не будьте же рабами человека. Вы никому ничего не должны. У вас нет иного долга, кроме долга любви к ближнему. Живите в законе евангельском, и тогда никто из вас не будет выше другого, и все вы будете как братья и сестры.
У кузнеца вырвался негромкий протяжный свист. Как и другие, он ожидал более вразумительного ответа: ведь он спрашивал о том, что волновало большинство крестьян. Проповедник вынул из-за пазухи краюху хлеба и принялся ее жевать. Симон предложил ему отдохнуть и разделить с ним трапезу в его доме, но тот отказался. Как говорится в священном писании, человек должен проводить свой день в трудах, а теперь дни недолгие.
— Куда путь держите? — спросил его старый Мартин.
Проповедник показал посохом на восток.
— Коли будете в Айшгрунде, — понизив голос, сказал Симон, — помните, что есть в Оттенгофене надежный человек, Иорг Бухвальдер. Только берегитесь маркграфа Бранденбургского — Казимира Ансбах-Байрейтского;[12] он из тех, у кого, как вы сами сказали, расправа коротка. Он ведь не пощадил даже отца родного. Вместе с младшим братом они напали на него в ночь под масленицу и привезли пленником в Плассенбургский замок. Вот уж почитай десять лет, как они морят старика в башне. Маркграф говорит, что старик не в своем уме, да только кто этому поверит?
Странник осклабился, скривив свой широкий рот.
— Что может сделать мне маркграф, когда моя защита — сам бог?
И, пожав Симону руку, он удалился. Толпа повалила за ним, чтобы проводить до околицы.
— Не худо бы ему поговорить с нашими господами, чтобы в них проснулась совесть, а мы и сами знаем, где жмет башмак[13], — сказал второй староста, Вендель Гайм, обращаясь к Симону, стоявшему в стороне вместе с отцом и Паулем Икельзамером. Вендель Гайм был значительно старше Симона. На первый взгляд он казался человеком бесхитростным, душа нараспашку. Но если хорошенько к нему присмотреться, чувствовалось, что Гайм себе на уме.
— С господами? — сказал Симон, пожимая плечами. — В Ротенбурге на улицах слепой монах громит господ, награбивших себе несметные богатства. А в соборе святого Иакова доктор Дейчлин проповедует новую веру. И что же, по-твоему, нам от этого стало хоть чуточку легче?
— Будь дело в проповедях, нашему брату давно бы полегчало, — вмешался старый Мартин. — Нет, проповедями тут не поможешь. О евангельской свободе нам толковали давным-давно, когда Лютера еще и в помине не было. Людей тех звали гуситами[14]. Мне тогда годов пятнадцать было, не боле, объявился в наших местах, на Таубере, один проповедник, общинный пастух из Никласгаузена. Прозывался Гансом Дударем, потому как в престольные праздники на дуде играл. Кажись, совсем молодой был паренек, но истый златоуст. А народу что сходилось на его проповеди! Нужда и господский гнет камнем давили нам спины. Но, бывало, послушаешь его, и легче станет на душе. И мнится, будто есть бог на небесах не только для знатных и богатых, но и для нашего брата, бедняка. Как сейчас вижу его перед собой, нашего Ганса Бегейма: волосы льняные, стоит он на лугу, а вокруг народу видимо-невидимо…
Старик умолк, как бы погрузившись в дремоту. Сын окликнул его и просил продолжать, чтобы послушали другие: сам-то он уже слыхал это не раз. В долгие зимние вечера, усевшись на скамью у печи, старик любил под жужжанье веретена рассказывать про Ганса Бегейма.
— Так о чем бишь я? — забормотал старик, с трудом выпрямляя согбенную спину. — Да, в нашей деревне были такие, что каждое воскресенье ходили в Никласгаузен. Теперь уж и косточки их поистлели! И хоть лет мне тогда было немного, я от них не отставал. Однажды, дело было в воскресенье, за неделю до святой Маргариты, приказал нам Ганс Бегейм прийти в следующий раз с оружием, а женщин и детей оставить дома. Тогда он нам скажет, что делать, чтоб установить евангельскую свободу. И вот ночью снял я потихоньку отцовское копье со стены и ушел из дому. Копье было тяжелое, а путь немалый. Уж не помню, как дотащился. А когда поутру, в воскресенье святой Маргариты, привалили мы толпой в Никласгаузен, тут и узнали мы, что накануне в ночь рейтары епископа Вюрцбургского нагрянули к нашему апостолу в хижину на краю деревни и уволокли его в Мариенбергский замок. Потом они предали его лютой казни: сожгли живым на костре.
Вперив пытливый взгляд своих умных карих глаз в лицо второго старосты, Симон Нейфер спросил:
— Как полагаешь, Вендель, знал тот юный проповедник, чего стоят господа дворяне?
— А хоть и знал, что толку? Чем это ему помогло? — возразил тот, избегая Симонова взгляда. — Игра ведь нами проиграна, давно проиграна.
— Если ты это про наши старинные крестьянские вольности, то правда твоя, — отозвался старый Мартин.
— Ну уж нет, такая игра не в счет! — горячо вмешался вихрастый Икельзамер. — Играли-то они мечеными костями. Выходит, нечестная игра!
— И пожалуй, последний ход еще остается за нами. Что вы скажете, друзья? — спросил Симон, многозначительно обведя всех глазами. И когда вместо ответа Гайм, нахмурившись, в сердцах нахлобучил свою поярковую шляпчонку, Симон завершил: — Ну об этом мы еще потолкуем! А пока ступайте с миром, друзья! — и направился к себе домой.
Дом его помещался тут же, на площади. Строения были добротные, везде царил порядок. Дорожка во дворе была вымощена камнем. Пройдя через узкие сени, примыкавшие и кухне, он попал на жилую половину. Это была просторная, но не очень светлая комната. Дневной свет скудно проникал сюда через толстые зеленоватые стекла. Широкая двуспальная кровать упиралась пологом в низкий закопченный потолок. Тут же стояла кровать поменьше — для детей. Почти половину комнаты занимала большая кирпичная печь; там, где прислонялась к ней лавка, выбеленная стенка была дочерна вытерта спинами. Против кровати с пологом стоял тяжелый дубовый стол, а позади него, в простенке между небольшими окнами — скамья, а между кроватью и печью — две прялки с остатками льна. На стене висели шлем и панцирь, а по бокам — меч, аркебуз и копье, то самое, о котором рассказывал Мартин Нейфер. В ротенбургском округе не было ни одного крестьянского дома, где нельзя было найти оружия, и все мужчины умели обращаться с ним.
Симон в раздумье шагал взад и вперед по глиняному полу, грузно ступая своими тяжелыми крестьянскими башмаками; их ремни охватывали ноги крест-накрест почти до колена. Взгляд его остановился на оружии. Протянув руку, Симон снял со стены меч и подошел к окну. Вынув его из ножен, он насупил брови и стал рассматривать блестящий клинок: на нем темнело бурое пятно. То была не кровь, а ржавчина. Симон стал было тереть его рукавом своей грубой шерстяной куртки, но тут из кухни вошла в комнату жена. Она казалась гораздо старше мужа, хотя была моложе его несколькими годами. Глубокие морщины пересекали лоб, черты лица заострились, в усталых глазах притаилась забота, но выражение лица говорило, что недостаток физических сил искупается в этой женщине силой духа. Увидев в руках мужа обнаженный меч, она заволновалась и с легкой дрожью в голосе спросила:
— Что случилось? Что ты задумал?
— Ничего! — резко ответил он и, вложив меч обратно в ножны, повесил на место и уже мягче продолжал: — Завтра, как ты знаешь, мне надо ехать в Ротенбург с оброком за нейрейтерский участок. Я обещал Кэте взять ее с собой. Может, и ты поедешь с нами, Урсула?
Голос его звучал ласково, и жена взглянула на него с благодарностью, но отрицательно покачала головой.
— А кто останется с детьми? Нет уж, я лучше посижу дома. Мне и здесь хорошо. Пока вы там будете развлекаться, я здесь без вас отдохну.
— Только не терзай себя горькими думами, — сказал он, подсаживаясь к ней на лавку у печи.
— Что поделаешь? Ведь сколько зла на свете! — отвечала она со вздохом. — Чем тяжелее времена, тем больше наши господа свирепеют. Подумать только, какой у нас завтра праздник: когда-то в этот день три восточных язычника-царя пришли с драгоценными дарами поклониться младенцу Христу в яслях. А сегодня христиане пустили по миру Конца Гарта и его семью, лишили крова, отняли все, даже мешка с соломой не оставили!
Она пальцем смахнула слезу.
— Стало быть, надо все это изменить! — воскликнул Симон, и его лицо нахмурилось и потемнело. — Так больше продолжаться не может.
— Ничего ты не изменишь, только накличешь беду на свою голову, — вздохнув, сказала крестьянка. — Штекерлейн не будет молчать, а господин податной начальник еще раз возьмет тебя на заметку.
— И пусть его! — невозмутимо отвечал Симон. — Семь бед — один ответ. Кому же говорить, как не мне? Ведь не для того община выбрала меня старостой, чтобы я молча смотрел на неправое дело?
— Эка невидаль, община! Они рады-радешеньки, что ты стараешься за всех, да только отдуваться тебе придется одному. Все они готовы гнуть шею перед его высокородием графом фон Верницером. Как было с шествием в праздник тела господин? Сперва крестьяне порешили не ходить, ан на поверку вышло, что не явился ты один, и церковный суд[15] наложил на тебя штраф — фунт воску в пользу церкви.
— Наложить-то наложил, да только не видать Бокелю того воску как своих ушей, — улыбнулся Симон. — Когда я был в последний раз в Тауберцеле у брата…
— Вот кабы все священники, — перебила его жена, — пеклись о своих прихожанах, как твой брат Андрес, все было бы по-иному.
— Читал он мне одну книжонку — «Новый Карстганс»[16] называется. Там, между прочим, сказано: «Если к вам заявится поп, гоните его в шею, травите собаками». Запало мне это в душу. Фунт воску за то, что я не пожелал, как баран, плестись со всем стадом и блеять! А почему они не оштрафовали нашего преподобного, когда он в день рождества богородицы до того нализался, что, всходя на алтарь служить обедню, грохнулся со всех ступенек?
— Что правда, то правда, — молвила крестьянка, — да ведь нам от того не легче. Когда дело касается нашего брата бедняка, то духовное и светское начальство водой не разольешь.
— Но я не допущу, чтобы меня попирали ногами! — воскликнул Симон, упрямо вскинув голову. — Не унывай, хозяйка, будет и на нашей улице праздник! Раз есть травы, коими нынче в ночь мы выкуриваем из жилья и хлевов злых духов, чтобы избавить людей и скотину от всякой напасти, так верно уж где-нибудь найдется травка и против тех, кто давит нас кошмаром!
Глава вторая
На смену суровому дню пришло мягкое, пасмурное утро. Как вуаль чело красавицы, окутывал туман стены и башни вольного имперского города Ротенбурга, царившего над долиной Таубера. Казалось, природа и искусство соединились, чтобы сделать его неприступным. Исполинские стены с тремя десятками башен, омываемые с юга и с запада водами Таубера, опоясывали город и соединяли его с фамильным замком давно вымершего рода графов Ротенбургских. Эта каменная громада, увенчанная циклопической башней Фарамунда[17], высилась на круто обрывавшейся со всех сторон скале — одном из отрогов горной цепи, уходившей далеко в глубь цветущей долины Таубера, на запад, туда, где виднелись бесчисленные ветряные мельницы, сторожевые башни и готическая часовня Кобольцельской божьей матери. С севера и с юга, со стороны плоскогорья, подступы к городу были защищены широким и глубоким рвом, а также двойным рядом массивных ворот, сообщавшихся посредством подъемных мостов. На некотором расстоянии за внешними городскими стенами тянулся второй пояс укреплений: старые городские стены с воротами и башнями над ними. Здесь-то и билось сердце Ротенбурга. Здесь вокруг городской ратуши с двумя фасадами, стройные башни которой господствовали над всем городом, теснились, устремляя ввысь свои островерхие крыши, солидные каменные дома ротенбургских патрициев. Пояс внешних укреплений был обнесен так называемым крестьянским рвом, который начинался на востоке, у самых берегов Таубера, и охватывал ротенбургские владения на двадцать миль в окружности. За рвом, образуя живую преграду, буйно разросся терновник, а у выездов на дорогу высились крепкие башни, снабженные добрыми пушками.
Еще не родился тот Зигфрид, которому удалось бы развязать пояс этой Брунгильды[18]. Зато искусные в военном деле ротенбургскис горожане и крестьяне, отбиваясь от нападений хищного местного дворянства, разрушили не один замок, учинив короткую расправу над рыцарями, которые проводили жизнь в седле и почитали разбой на большой дороге единственно достойным их высокого звания занятием. Мрачная тюремная башня в юго-восточном углу городской стены приняла под свой негостеприимный кров немало золотошпорников. Среди воронья, кружившего над этой башней, быть может, еще уцелели вороны-патриархи, которые с высоких вязов у Гальгентора — ворот Висельников, переименованных в Вюрцбургские, — оглашали воздух своим зловещим карканьем еще в 1441 году, когда под топором палача скатились с плеч головы рыцарей с большой дороги — Вильгельма фон Эльма и его дворянской шайки. Их разбойничье гнездо, замок Ингольштадт близ Гибельштадта, ротенбуржцы взяли приступом и разрушили до основания.
Вормский земский мир[19], провозглашенный недавно почившим императором Максимилианом, должен был, подобно плотине, преградить путь разнузданной феодальной стихии. Но и это не положило конец самоуправству, разбоям и кровавым распрям феодалов. Не перевелись еще высокородные разбойники! Непосильный гнет, под которым изнывали подневольные люди в замках, монастырях и городах, крепостная зависимость и цеховые стеснения порождали массу бесприютного люда, наводнявшего дороги империи. Но еще опасней, чем эта открытая язва тогдашнего общества, для независимых вольных городов было растущее могущество князей. Вот почему и ротенбуржцы, на чьих границах обосновались маркграф Бранденбургский — Казимир Ансбах-Байрейтский, графы фон Гогенлоэ и епископ Вюрцбургский, всегда держали свои стены, укрепления и пушки в полной готовности и выставляли дозорных на башнях и у ворот. Питейный глашатай, в чьи обязанности входило днем объявлять во всеуслышание о назначенных к продаже винах, по ночам объезжал городские ворота и возвращался с донесениями к начальнику бюргерского ополчения, разделенного на шесть отрядов по числу кварталов. Даже в мирное время люди жили под вечным страхом.
Сегодня, по случаю праздника трех волхвов, у ворот стояли усиленные караулы. Им было приказано смотреть в оба, чтобы с толпой нищих, убогих и крестьян из окрестных и дальних деревень, с раннего утра устремившихся в город, не пробрался бы и подозрительный сброд.
По народному календарю новый год начинался лишь с крещенья. Шестого января кончались двенадцать ночей, считая с зимнего солнцеворота, в течение которых языческие боги некогда совершали свое торжественное шествие по немецким землям. Христианская церковь объявила этих богов злыми духами, но не смогла изгнать их из памяти народной. Народ свято чтил трех царей-волхвов, пришедших в Вифлеем с Востока. Но все эти двенадцать ночей так же неистово мчался над землей Вотан со своей воздушной ратью, так же шествовала по деревням в своих белоснежных льняных одеждах Перехта, ныне обезображенная христианскими попами до неузнаваемости; она проверяла, чисто ли прядут девушки, награждала усердных и наказывала нерадивых. Этой древней языческой богородице, источнику всякой жизни, главы семей приносили жертвы, окуривая в крещенскую ночь освященными травами дома и хлевы, чтобы изгнать оттуда злых духов. Зима с ее трудностями и лишениями осталась позади, и со дня трех волхвов на землю возвращались солнце, радость и весна.
В честь трех святых царей над ажурной галереей ратуши развевался городской флаг, разделенный по диагонали на красное и белое поля, а в центре его красовался щит и на нем — замок с двумя башнями.
На площадях и узких улицах старого города народ кишмя кишел, как в муравейнике. По городской знати почти не было видно. Сословные различия соблюдались в те времена строго, и знатную особу нетрудно было отличить от горожан и поселян. На однообразно темном фоне толпы горожан и крестьян яркими пятнами выделялись пестрые платья и корсажи их жен и дочерей. Многострадальный крестьянин рад был ухватиться за любой предлог, чтобы хоть на часок забыть о своей горькой доле, и крестьяне ротенбургских владений ради праздника щеголяли с мечом на боку. Неумолчный звон колоколов созывал народ в церкви и часовни, которых было в этом городе с шеститысячным населением предостаточно. Но людской поток устремлялся к северу от ратуши, к собору св. Иакова — чудесному творению готики, вздымавшему к облакам свои изящные, высеченные из камня пирамиды и стрельчатые арки двух башен. Там проповедовал новую веру — наперекор магистрату, взиравшему на Реформацию далеко не благосклонным оком, — доктор Иоганнес Дейчлин.
Всего пять лет назад, еще будучи верным сыном римской церкви, он своим пламенным красноречием разжег в сердцах ротенбуржцев такую ненависть к евреям, что их дома и синагоги были разграблены, а сыны Израиля изгнаны из города. Синагогу он обратил в часовню пречистой девы, о которой теперь, перейдя на сторону Реформации, говорил не иначе как о колдунье. Ближайшими его сподвижниками были Каспар Христиан, командор Тевтонского ордена[20], имевшего в Ротенбурге собственный дом неподалеку от собора, и слепой францисканский монах Ганс Шмидт, прозванный «лисой».
Три соборных нефа не могли вместить всех собравшихся послушать смелого реформатора. Тесно сгрудившись, люди стояли среди могил и памятников на погосте, тогда еще не перенесенном на восток, к Родерским воротам. Вид этого скопища народа, напряженно ожидавшего чего-то, говорил о том, что здесь происходит нечто необычное. Так оно в действительности и было. Отслужив обедню на немецком языке, доктор Дейчлин совершил обряд венчания над католическим священником — настоятелем церкви Тевтонского ордена отцом Мельхиором, сочетавшимся узами брака с сестрой слепого монаха.
Загремел орган, и шесть гармонически настроенных колоколов начали свой стройный перезвон. Великое событие свершилось. Толпа на погосте заколыхалась и подалась навстречу людскому потоку, медленно выливавшемуся через южный портал собора, осаждаемый разношерстным скопищем нищих, хромых, слепых, немощных и убогих. Знакомые перекликались, отыскивая друг друга; ожидавшие во дворе изнемогали от любопытства и засыпали вопросами выходивших из церкви. Лишь один человек стоял неподвижно среди бурлившей вокруг него толпы и, казалось, ничего не видел и не слышал. Думы его, как видно, были невеселы. В его синих глазах отражалась глубокая скорбь. Он был совсем еще молод: на короткой верхней губе едва пробивался первый пушок. Густые светлые волосы, подстриженные в кружок, выбивались из-под простой поярковой шляпы. Темно-синяя рубаха из грубого сукна доходила до колен; серые штаны были заправлены в башмаки из грубой кожи, куртка перетянута кожаным ремнем, на котором висели кошель и очень длинная шпага с оплетенным эфесом. Магистрат мог издавать сколько угодно указов, запрещавших длинные шпаги и регламентировавших их размеры, — все его угрозы были бессильны перед обычаем, господствовавшим среди подмастерий. Светловолосый юноша принадлежал, судя по значку, к цеху золотых дел. Вдруг кто-то хлопнул его по плечу и вывел из задумчивости, весело окликнув:
— Так вот ты где разгуливаешь! А я уж думал, что ты сквозь землю провалился!
Обернувшись, юноша увидел широкое, смеющееся лицо стригальщика Каспара Эчлиха, державшего под руку прехорошенькую девушку.
— Гляди-ка, Кэте! Это и есть мой лучший в мире друг, Ганс Лаутнер. Я говорил тебе о нем.
— О-о! — отозвалась девушка, устремив на юношу пристальный взгляд своих светло-карих глаз, и в ее возгласе не слышно было разочарования. Красивое узкое лицо и до хрупкости стройная, но сильная фигура Лаутнера, несомненно, выигрывали в глазах девушки рядом с неказистым и коренастым Каспаром Эчлихом. Да и веселые искорки в насмешливом взгляде Каспара куда меньше говорили ее девичьему сердцу, чем грусть, осенявшая бледное лицо юного ювелира, который несколькими годами был моложе своего друга. Лаутнеру нетрудно было догадаться, кто эта девушка: после июньской ярмарки в Ротенбурге Каспар не раз упоминал о своей хорошенькой двоюродной сестре из Оренбаха. И теперь Ганс мог убедиться собственными глазами, что Каспар не преувеличивал.
Красная юбка, вся в складках, ловко охватывала крепкое, гибкое тело девушки; темно-синяя кофта обтягивала высокую грудь и полные руки, оставляя открытой смуглую шею. Голубая шелковая лента — единственное украшение, не считая серебряного кольца, которое по кастовым обычаям того времени разрешалось носить крестьянским девушкам, — обвивала ее светло-русые волосы, уложенные в две тугие косы над широким умным лбом.
Каспар подтолкнул своего друга в бок и лукаво усмехнулся, как бы говоря: «Ну как, есть чем полюбоваться?» И еще ярче зарделся румянец на полных смуглых щеках Кэте. С ее алых губ уже готов был сорваться вопрос, как вдруг грянула музыка. Солнце проглянуло сквозь облака, и восторженные возгласы толпы приветствовали необычайный кортеж; его открывали музыканты, они-то и дудели, и гудели, и свистали что было мочи в свои флейты, свирели и рожки. Зрелище поистине необыкновенное: рядом с невестой, в скромном платье, с белой фатой и миртовым венцом на голове, выступал новобрачный в рясе, поверх которой был надет белый плащ с черным крестом рыцарей Тевтонского ордена. В таком же одеянии были и командор ордена Каспар Христиан, и почтеннейший ректор латинской школы магистр Вильгельм Бессенмайер, сочинивший для свадебной трапезы вдохновенную эпиталаму на языке древних римлян. Вслед за новобрачными шествовал почетный бургомистр[21] и казначей собора св. Иакова Эренфрид Кумпф. Он вел за руку фрейлен фон Бадель, которая пригласила новобрачных в свой дом, неподалеку от собора, чтобы справить там свадьбу. Фрейлейн была уже не первой молодости. Ее умное открытое лицо сияло: видно было, что она всей душой одобряет этот брак, бросавший вызов старой церкви. Оживленно болтая со своим спутником, Кумпфом, она смотрела на него, запрокинув голову. То был высокий худощавый мужчина лет сорока пяти; его черные глаза смотрели с юношеской живостью и задором. Люди здоровались с ним на каждом шагу, и всякий раз, когда он обменивался сердечным рукопожатием или отвечал на поклон, фрейлейн Бадель с улыбкой наклоняла голову. Зигфрид Кумпф пользовался большой любовью сограждан, как человек, который никогда не кривил душой, бескорыстно радея о всеобщем благе, и как открытый приверженец Реформации. К тому же он не признавал сословных различий, и это особенно кололо глаза местному патрициату, отдававшему все магистратские должности ставленникам из своей среды. Если бы бюргерство имело право голоса, то по истечении срока Кумпф был бы наверное переизбран в бургомистры.
Позади него, сверкая орлиным взором, выступал статный мужчина с раскрасневшимся от оживления лицом вдохновенного ратоборца. То был доктор Дейчлин. Он вел под руку слепого монаха, брата невесты, который обычно ходил по улицам без провожатого, опираясь на посох, с уверенностью зрячего. Сейчас этот посох болтался у него на руке. По вытянутой шее и застывшему потухшему взгляду было видно, что он слеп. На его крупной шишковатой голове тонзура разрослась в большую плешь. Густая борода низко спускалась на подпоясанную белым шнурком сутану. Босые ноги, обутые в сандалии, посинели от холода. За ним шел брат Пауля Икельзамера, учитель латыни Валентин, и стригальщик, мейстер Филипп. Шествие замыкали видные бюргеры с разодетыми по-праздничному женами.
Каспар Эчлих называл своей миловидной двоюродной сестре проходивших мимо гостей. От его шутливых замечаний она то и дело покатывалась со смеху. Каспар был коренным ротенбуржцем. Его приятель был родом из Бекингена, деревни близ Гейльброна. Они познакомились минувшей пасхой в пути. Ганс Лаутнер, закончив срок ученичества в Гейльброне, шел пешком в Нюрнберг, где процветали художественные ремесла. Каспар Эчлих возвращался к себе на родину из Ульма, где одно время работал. Так и скрестились их пути. Восторженные рассказы Каспара о красоте родного города так подействовали на Ганса, что он пошел за ним в Ротенбург. Там юному подмастерью посчастливилось найти себе искусного наставника и доброго хозяина в лице золотых дел мастера Христофа Эльвангера. Каспар работал в мастерской у своего отца. Он был единственным сыном.
Кэте Нейфер, рассеянно слушавшая своего двоюродного брата, вдруг повернулась к Гансу и спросила, отчего это он не был вместе со своим другом на храмовом празднике.
— Оттого что, когда у него выпадет свободный денек, он заползает со своей дудкой в какую-нибудь дыру, как сыч. Нет чтобы пойти повеселиться, как все порядочные люди, — отвечал Каспар за друга.
— Так ты музыкант? — удивилась Кэте. — А я думала, что ты — ювелир.
— Он у нас мастер на все руки, — снова опередил Ганса Каспар, — а как он играет! Самого городского флейтщика за пояс заткнет. Зато в танцах ему за мной не угнаться.
— Дай ты человеку самому о себе рассказать! — нетерпеливо воскликнула девушка, насупив сросшиеся над вздернутым носиком брови.
— Так он тебе и скажет, где пропадал, — опять вмешался Каспар, не давая сказать ни слова другу, чтобы подзадорить девушку. — В Шлингенбахе, вот где он был. Там по дремучему лесу бродят души нераскаянных грешников, наших благородных господ, и Ганс своей игрой на флейте старается спасти их от вечных мук.
Кэте погрозила двоюродному брату кулаком, а Ганс, усмехнувшись, сказал:
— По мне, так пусть их бродят хоть до второго пришествия — палец о палец не ударю. А что мне было делать на празднике? Ведь танцевать я не умею.
Кэте с удивлением посмотрела на юношу своими ясными карими глазами, но ничего не сказала. Людской поток, медленно уносивший их с собой, остановился в узком проходе между восточным фасадом ратуши и Дворянской питейной. Обогнув питейную, свадебный кортеж вытек на широкую улицу св. Георгия, упиравшуюся в Рыночную площадь. Там, под навесом, вдоль стен ратуши, раскинулись лавки уличных торговцев. Величественное здание в стиле Ренессанс из зернистого тауберского песчаника с выступающим вперед перистилем, с портиком и открытым балконом над ним, ныне украшающее ратушу со стороны рынка, было возведено лишь полстолетия спустя. Дворянская питейная с городскими весами на первом этаже, с многочисленными скульптурными украшениями на консолях и изящной угловой башней выглядела очень нарядно. На ратуше были часы с двумя циферблатами, обращенными к рынку: один из них показывал время, а другой — продолжительность дня и ночи.
Из окон питейной, как и изо всех окон, выходивших на площадь, высовывались головы любопытных. С трудом прокладывая себе дорогу в густой толпе, свадебный кортеж вышел на площадь и свернул на Дворянскую улицу. Нестройный гул толпы захлестнул музыку. Оглядывая высунувшихся из окон зевак, Кэте вдруг показала рукой на окно питейной и захохотала:
— Глядите, какой щеголь!
Ее спутники подняли головы, а Каспар воскликнул:
— А, милейшие соседи! Дворянчики Розенберг и Финстерлор!
— Розенберг? — захлебнувшись от волнения, переспросил Ганс. Кровь ударила ему в голову. — Который?
— Да тот, у которого нос чуркой и рыжая борода поверх зеленого камзола, — отвечал Каспар.
— Бр-р-р… — содрогнулась Кэте. — Ну и образина! Не хотела бы я повстречаться с таким в темном месте. Морда у него как у бульдога.
Плотно сжав губы, Ганс не сводил с юнкера глаз.
А тот, что рядом с ним, толстомордый, прыщавый, как есть шут! Камзол наполовину красный, наполовину синий; на голове пестрый лес перьев; один рукав красный, другой — в синюю и желтую полоску. Это его закадычный друг — Филипп фон Финстерлор из Лауденбаха. Один стоит другого: оба живодеры.
— Пойдем отсюда, — отрезал Ганс, насупившись.
— И то дело: я истомился по выпивке, как высохшее болото по дождю, — сказал Каспар. — Да и Симон, чай, заждался нас в «Медведе».
Но их задержало непредвиденное препятствие. По узкой Гончарной улице неслась блестящая кавалькада. Скакавшие впереди пышно разодетые всадники врезались в толпу, прокладывая дорогу остальным. Гневные возгласы, крики, проклятия отброшенных в сторону, плач и визг женщин и детей вызывали только наглые насмешки у знатных молодых людей, возвращавшихся с прогулки. Глаза Ганса Лаутнера загорелись ненавистью, рука схватилась за эфес, но не успел он обнажить клинок, как кровь горячей волной прихлынула к его щекам и он застыл как вкопанный. За дерзкими всадниками выехали две дамы на богато убранных конях. Одна из них колыхалась в небрежной позе на молочно-белом иноходце с длинной гривой. Ее безучастный взгляд скользил по толпе из-под синей бархатной шапочки с развевающимися перьями, белокурые волосы были подхвачены золотой сеткой, расшитой жемчугом. Стройная фигурка второй всадницы в зеленой амазонке грациозно и горделиво покачивалась в седле в такт движениям горячего вороного коня. Щеки ее раскраснелись от ветра, черные глаза блестели. Широкополая шляпа из темно-красного бархата с золотыми шнурами и кистями, украшенная белыми страусовыми перьями, оттеняла прекрасное, полное жизни лицо.
— Ух, до чего хороша! — восхищенно воскликнула Кэте.
— Недаром ее называют прекрасной Габриэлой, — сухо заметил Каспар.
Ганс молчал. Кэте посмотрела на него, и ее вишневые губки лукаво искривились, а на полных щеках обозначились две ямочки. Загоревшимися глазами Ганс провожал кавалькаду, а всадники, не обращая внимания на крики, угрозы и проклятия, пробивались через толпу в сторону Дворянской улицы.
— Тут и про питье позабудешь, — пробормотал Каспар, глядя им вслед. Кэте локтем подтолкнула Ганса, тот лишь глубоко вздохнул, и они пошли за стригальщиком к южному краю площади. Оттуда начинался спуск к Замковой улице — одной из самых старинных улиц Ротенбурга. Кэте украдкой поглядывала на Ганса. Он шел, понурив голову, погруженный в глубокое, мучительное раздумье.
— Ах! — вздохнула девушка. — Если бы мне хоть столечко быть похожей на прекрасную Габриэлу! Ну, ничего не поделаешь. Да, что это я хотела спросить? А у вас, в Швабии, тоже есть такие красавицы?
Ганс, казалось, не слышал ее, но тут поднял голову.
— Нет, — решительно ответил он и, смутившись, добавил: — То есть, может, и есть, я не присматривался.
— Ой ли? — весело рассмеялась она.
— Поверь мне, — простодушно подтвердил он. — Но не представляю, чтобы в целом мире была женщина прекрасней ее. — Глаза его засверкали.
На ярких губах Кэте опять заиграла лукавая усмешка.
— Значит, плохи твои дела, — заявила она с притворным состраданием.
Ганс нахмурил лоб.
Между тем они дошли почти до середины Замковой улицы, круто спускавшейся вниз. Здесь, где она несколько расширялась, друзья очутились у самых ворот «Медведя», всегда гостеприимно распахнутых и для людей, и для лошадей. В первом зале пол был выложен каменными плитами: в глубине виднелась лестница, ведущая на второй этаж. Туг же, налево, был просторный пивной зал с тремя окнами, выходившими на улицу. Низкий потолок поддерживали толстые балки, почерневшие от времени, копоти и пыли. Сквозь толстые зеленоватые стекла, оправленные в свинец, брезжил слабый свет. В углу, у задней стены, помещалась стойка. За ней — кухня. Оба зала были уставлены длинными столами и скамьями.
Трактир был уже полон. Собрались крестьяне со своей родней и знакомыми горожанами. Вошедших оглушил гул голосов, стук кубков и кружек, щелканье крышек. В первом зале Симона не оказалось. Они остановились на пороге, глядя на скудно освещенный второй зал, который казался еще темней от чада и винных паров. К ним тут же подошел хозяин, непрерывно сновавший между столами и стойкой, за которой прислуживала дородная трактирщица.
Игроки в кости в деревенском трактире
С гравюры XVI в.
Габриэль Лангенбергер вовсе не походил на трактирщика, как их принято изображать. У него не было ни округлого брюшка, наглядно говорившего о достоинствах его кухни, ни медно-красного носа, красноречиво свидетельствовавшего о качестве его винного погреба. У него было болезненно-желтое лицо, украшенное огромным носом, узкая впалая грудь и длинная шея. Пока он разговаривал с Каспаром Эчлихом, которого хорошо знал, его маленькие глазки беспокойно перебегали от одного стола к другому в ожидании, куда его позовут, что случалось довольно часто. Впрочем, на изделия его кухни спрос был невелик, разве что кто-нибудь закажет капусту с колбасой. Крестьяне предпочитали приносить в трактир свои припасы: кто кусок пирога, кто сыр, сало, редьку, орехи, а кто и просто ломоть черного хлеба. Непокрытый стол служил тарелкой, объедки без церемоний сбрасывались на пол. Нож у каждого был свой — в чехле за поясом.
Габриэль Лангенбергер указал трем молодым людям места за столом у последнего окна. Там сидел Симон, занятый оживленным разговором с двумя крестьянами. Старший из них, уже седеющий толстяк, приветливо поздоровался с Кэте. То был Иорг Бухвальдер из Оттенгофена в Айнцгрунде. Другой, почти одних лет с Симоном, был виноградарь Леонгард Мецлер из Бретгейма, деревни, расположенной к югу от Ротенбурга. Он бросил на молодых парней недоверчивый взгляд из-под нависших бровей и, узнав, кто они, слегка кивнул головой. Симон протянул руку приятелю своего двоюродного брата и сказал:
— Честь и место! Ради таких молодцов, как вы, мы всегда готовы потесниться.
— Вы были в соборе? — спросил Иорг Бухвальдер. — Здорово, ничего не скажешь. Что прикажешь делать нам, деревенским? Хлебай себе пойло, что намешает тебе в воскресенье поп. А туг доктор обвенчал тевтонского попа, и никто даже пикнуть не посмел.
Он обращался преимущественно к Лаутнеру, который сидел напротив Каспара, рядом с Кэте. Ганс, видимо, вызвал в нем участие. Но молодой подмастерье не мог удовлетворить любопытство Иорга: ему не удалось проникнуть в переполненную церковь. Зато Кэте с большим оживлением начала рассказывать обо всем: уж она-то ничего не пропустила.
И про обет безбрачия говорил он, и про то, что это противно слову божьему. Ведь бог создал женщину, чтобы дать ее в подруги мужчине. Безбрачие духовенства — путь к соблазну и разврату, к нарушению святости брака, ко всем порокам. Говорил он и про трех святых волхвов, принесших свои дары младенцу Христу, а попы превратили их в церковные поборы, в большую и малую десятины:[22] все это поповские выдумки, чтобы грабить народ. И пора положить этому конец.
— Правильно! Так оно и будет! — горячо откликнулся Леонгард Мецлер из Брейтгейма.
— И то сказать, — вставил Иорг Бухвальдер, — поповская плотина трещит по всем швам, а уж ту брешь, что пробил в ней Мартин Лютер[23], господам ввек не заделать.
Трактирщик поставил перед Каспаром кружку вина и два деревянных кубка. Староста заказал для своей сестры капусту и полкружки вюрцбургского и сказал:
— Сегодня еще наскребем, чем заплатить, а этак через годок, когда выжмут из нас последний геллер, тогда иди получай хоть с самого черта!
— Ну нет, староста, от такого гостя оборони меня бог! — закашлялся хозяин и перекрестился. Все рассмеялись.
Каспар налил вина Гансу и себе, пригубил и, отплевываясь, воскликнул:
— Тьфу, ну и кислятина! Послушай, Лангенбергер, тебя бы посадить на казенную должность. Тогда бы все узнали, что тебе цены нет.
— Это почему? — спросил трактирщик, и его глазки запрыгали.
— Иль ты не знаешь нашей франконской пословицы? А еще из Вильдбада! — усмехнулся Каспар. — «Нет такой мелкой должности, на которой нельзя заслужить виселицы». Хороша пословица!
— Да ты шутник, как я погляжу! — заблеял Лангенбергер и поспешил к своей стойке.
Вся компания покатилась со смеху, но Иорг Бухвальдер, насупившись, строго заметил смелому подмастерью:
— Держи язык за зубами, а не то, не ровен час, потеряешь его вместе с головой. Забыл ты, видно, милый человек, что каждый горожанин обязан, следуя присяге, доносить магистрату на всякого, кто дурно отзывается о властях.
— Если горожане станут соблюдать этот указ, немало им придется побегать! Нет, из-за такой малости Лангенбергер не захочет потерять клиента. Настолько я ему еще доверяю. Кто его кормит, как не горожане? От знати проку мало. Какая же ему корысть перед ней распинаться? Видали мы сейчас на площади, как распоясались эти молодцы.
— А ведь правда, до чего обнаглели, просто диву даешься! — воскликнула Кэте. В ожидании капусты она вынула из кармана большущий ломоть белого хлеба и уплетала его, рассказывая о наглом поведении всадников.
У Симона и его друзей потемнели лица. Ганс неподвижно смотрел в свой кубок.
— Попасть под копыта господского коня, честь-то какая для нашего брата! — воскликнул Каспар и захохотал.
— Ты только и знаешь что скалить зубы, — вскипела Кэте, — а вот твой друг сразу схватился за меч.
— И рассудил за благо оставить его в ножнах, — поддразнил ее Каспар, бросив плутоватый взгляд на Ганса, который поднес к губам кубок, стараясь скрыть смущение. — Да и что проку раньше времени портить себе кровь?
Хозяин принес капусту и вино и поспешил ретироваться, словно опасаясь шуточек суконщика. Кэте принялась с аппетитом за еду, а старик Бухвальдер, задумчиво поглядев на тарелку, провел рукой по морщинистому лбу и тихо проговорил:
— Ну и времечко! Не живем — с корочки на корочку перебиваемся. Разве в ту пору, когда я был молодым парнем, мы, крестьяне, ели так, как сейчас? Или когда отец мой был молодым? Тогда у крестьянина всякий день на столе было вдосталь мяса и всякой всячины, а уж когда ярмарка, свадьба али крестины, так столы просто ломились. Люди хлестали вино что твою воду, ели от пуза и брали с собой сколько душе угодно. Вот когда жили в довольстве! А теперь и зажиточные едят хуже, чем в прежние времена поденщики да батраки.
— Зато господа еще больше пируют и обжираются, — бросил Леонгард Мецлер, помрачнев. — А мы лезь для них из кожи, надрывайся и отрывай последний кусок у своих детей. Многие из нас за счастье почитают иметь сухую корку хлеба, а иные видят ее только по воскресеньям. Мясо? Кому оно нынче по карману, после того как магистрат ввел копытный сбор?[24] А тут еще имперский налог да питейный сбор[25] совсем доконали нашего брата виноградаря. Эчлих ругает Лангенбергера за кислое вино, а в будущем году он и этого вина ни за какие деньги не достанет.
— Есть у нас старинные грамоты, в которых записаны наши повинности — подати, оброки, барщина, только пользы от этих грамот ни на грош, — проворчал Симон Нейфер. — Никто теперь с ними не считается, ни светские, ни духовные владетели. А вздумай жаловаться на беззаконные притеснения, где найдешь справедливость? Ведь наши притеснители — наши же судьи. А уж эти новые законы! Поистине измышление дьявола! Никто в них не разберется, окромя законников, а ведь они мастаки черное делать белым, а белое — черным. Что им стоит правого представить виноватым и лишить бедняка последнего куска хлеба?
— Долгонько мы терпели, да, видно, терпенью приходит конец, — со вздохом промолвил Иорг Бухвальдер. Староста же, сверкнув глазами, подхватил:
— Потому, дорогие друзья, надо нам всем взяться за ум, покамест они не выжали последнюю каплю крови из наших жил. Я так разумею: звезда с огненным хвостом, что появилась в августе, не только была предвестником хорошего урожая винограда, как оно и вышло, но и указала нам, что нужно огненной метлой очистить дворянские и поповские осиные гнезда, замки и монастыри.
— Метла-то метлой, да где та рука, что за нее возьмется? — сказал Иорг Бухвальдер, понизив голос. — Всем нам крышка. Недаром было предсказано: кто в тысяча пятьсот двадцать третьем году не помрет, кто в тысяча пятьсот двадцать четвертом году в воде не потонет, кого в тысяча пятьсот двадцать пятом году не зарежут, тот узрит чудеса!
Ганс Лаутнер, который молча внимал говорившему, вдруг глубоко вздохнул и, густо покраснев, проговорил:
— С вашего позволения, я вот что скажу. Моя бабка видела двойное кольцо вокруг луны с крестом поперек. Это, говорит она, знак, что нам уж недолго осталось нести свой тяжкий крест. Близится час освобождения. Скоро всех нечестивцев поразит меч, и они будут стерты с лица земли.
— Эх, твоими бы устами да мед пить! — крикнул староста и, взяв кубок, осушил его до дна.
Иорг Бухвальдер покачал седой головой и с сомнением в голосе произнес:
— Да так ли оно?
— Уж будьте покойны, — горячо возразил Ганс. — Бабка знает толк в таких делах куда больше других, и у нас всякому известно — раз она что сказала, так тому и быть.
— А кто твоя бабка?
Черная Гофманша[26] из Бекингена близ Гейльброна.
В это время, пригнувшись у порога, в комнату шагнула огромная фигура, и староста воскликнул: «А вот и Большой Лингарт!» Вошедший — что называется, косая сажень в плечах — был в крестьянских башмаках с ремнями, в поярковой шляпе горшком с двумя петушиными перьями, отчего казался еще выше. Из-под узких полей шляпы виднелся плохо зарубцевавшийся шрам от переносицы через всю правую щеку. Между круглыми черными глазами загибался, словно клюв коршуна, нос, зарываясь в щетину мохнатых усов, закрученных кверху. Коротко подстриженная круглая бородка обрамляла щеки и подбородок. Это отступление от крестьянского обычая объяснялось тем, что Большой Лингарт немало побродил по белу свету в ландскнехтах. Вернувшись с военной добычей в родную деревню Шварценброн, неподалеку от Ротенбурга, он обзавелся хозяйством. Это был рослый и на редкость крепкий молодец; на бедре у него висел огромный меч, под стать богатырскому телосложению. Вместе с ним вошел человек лет сорока, в одежде горожанина, без оружия; его бритое лицо с выдающимися скулами дышало озлоблением. По-видимому, шварценбронский великан пользовался великой популярностью среди крестьянства. Его окликали и подзывали то к одному, то к другому столу, и много кубков потянулось ему навстречу. Для каждого у него находилось словечко, и все отвечали ему дружным смехом. Прошло немало времени, пока он добрался до стола, за которым сидел оренбахский староста со своими друзьями.
— Тут все свои люди, — заметил Симон, пожимая ему руку. — Однако ты порядком запоздал.
— Зато привел доброго товарища, Фрица Бютнера из Мергентгейма, — отвечал Большой Лингарт, усаживаясь за стол, и, взяв кубок, застучал им по столу, подзывая хозяина.
— У нас у всех одна забота, — многозначительно произнес Фриц Бютнер. Симон пожал ему руку, остальные приветливо кивнули.
— О чем речь ведете, друзья? — спросил Большой Лингарт, вытягивая ноги во всю длину, когда хозяин принес кувшин вина и кубки. — Можем говорить без опаски. Здесь такой дьявольский шум, что мертвому впору проснуться.
— Мы говорили о том, — отвечал Леонгард Мецлер, — что небесные знамения предвещают повсюду великие пере мены. Вы небось тоже слышали, что на Рейне среди бела дня доносится с ясного неба страшный гул и звон оружия, словно шум битвы?
— За дело! За дело![27] — густым сочным басом воскликнул Лингарт. — Давненько чешется у меня рука вынуть из ножен мой старый меч. Против кого? Как бы вы думали? Попов да дворян? Нет, это несправедливо. Хуже чумы — рыцари Тевтонского ордена. Их гроссмейстер сидит в Мергентгейме и, как паук, опутывает своей паутиной всю империю. Тевтонские рыцари, эти полупопы-полудворяне, теснят своих подданных вдвойне.
— Твоя правда, они хуже всех, — подтвердил Фриц Бютнер. — Уж недаром у нас говорится: «Неплохо живется под поповским ярмом, только избави нас от него, боже».
— Еще бы! — вставил Большой Лингарт. — Вместо нехристей они нанизывают на копья жареных каплунов, зайцев, уток, куропаток.
Наряжаться, напиваться и всхрапнуть, набив живот, — Вот работа для господ.— А мало, что ли, забот у наших крестоносцев? — насмешливо спросил Каспар. Кэте рассмеялась. Бютнер бросил на нее неодобрительный взгляд и с таким озлоблением опустил кубок на стол, что вино расплескалось.
— В июне летошнего года, — сказал он, заскрежетав зубами, — господские лошади, гончие да егеря вытоптали у меня как есть всю пшеницу. И не только у меня. А мы все сносим, ведь люди мы подневольные. Господа считают, что наши поля и огороды — хорошая потрава для их дичи, которую берегут как зеницу ока, а стоит кому из нас схватиться за дубинку али ружье, чтобы спугнуть ее, упрячут тебя в башню, как пить дать, да еще сгноят заживо.
Лаутнер так побледнел, что Кэте в испуге спросила, что с ним. Грудь его вздымалась. Не обращая внимания на девушку, он хотел что-то сказать, но Каспар опередил его.
— Ваши тевтонские рыцари еще туда-сюда, а вот когда мне по пути довелось побывать во Франкфурте-на-Майне, так там один рыцарь, фон Эпштейн, прислал в магистрат за палачом, чтоб отрубить голову крестьянину за то, что тот посмел наловить раков в господском ручье. Магистрат ему отказал, но патриции соседнего города охотно дали своего палача, и бедняга поплатился головой.
Кэте в ужасе вскрикнула, мужчины гневно выругались, а шварценбронский великан с такой силой двинул кулаком по столу, что кубки заплясали и зазвенели, а сидевшие за соседними столами обернулись.
— Эхма! — крикнул он, разразившись зловещим смехом. — Весело живется на белом свете бедняку, как я погляжу! Послушайте-ка, люди добрые!
И он повторил своим гулким басом только что рассказанную историю. Весь зал слушал его в напряженном молчании, но едва он кончил, как поднялся неописуемый шум.
Габриэль Лангенбергер подбежал к Лингарту с упреками: по его милости люди, чего доброго, потеряют вкус к вину.
— Тем лучше, — осадил его Лингарт.
Рыцарь в немецкой деревне
С гравюры начала XVI в.
— Мне пора, — сказал Ганс, с трудом подавляя волнение, и встал. — Хоть я сам и не крестьянин, но в моих жилах течет крестьянская кровь, так же как и в ваших, и ваше дело — мое дело. Можете рассчитывать на меня.
И он начал прощаться с крестьянами.
— Постой, погоди, так уходить непорядок! — остановил его Лингарт, наполняя кубок. Все чокнулись, а Кэте, протянув свой кубок, глазами умоляла молодого подмастерья остаться. Увидев, что он не обращает на нее внимания, она надула губки, а Каспар, украдкой взглянув на нее, насупился.
— Славный паренек! — воскликнул Иорг Бухвальдер, — только по глазам видать, что на сердце у него тяжко.
И он вопросительно посмотрел на Каспара.
— Ваша правда, — подтвердил Каспар. — Хуже нет, когда крестьянин пухнет с голоду. Отец его вышел как-то ночью из Бекингена — он тамошний уроженец, — перешел вюртембергский рубеж, да и застрелил оленя. Его поймали, лесничий приказал зашить его в оленью шкуру и затравить собаками. Сам фогт и все благородные господа любовались, как волкодавы рвали на куски человека. Это ли не забава для господ! Мать Ганса разрешилась им на два месяца раньше срока, и это стоило ей жизни.
Все уставились на говорившего полными ужаса глазами. Кэте вздрогнула и закрыла лицо руками.
— Они нам всем наступают на горло, — сказал Симон Нейфер, захлебнувшись от гнева. — Так неужто мы пойдем на заклание, как бараны?
— Он прав, — поддержал его Мецлер, — я тоже не раз задавал себе этот вопрос. — И он сделал знак, чтобы все придвинулись к нему поближе, и шепотом продолжал: — Я получил весточку от моего свояка Иорга. Да, да, от того самого, у которого трактир в Балленберге под Краутгеймом. Гонец еще сидит у меня, ждет ответа. По всему Оденвальду идет брожение среди бедного люда, как нас величают господа. Да и в других местах все волнуется и гудит, как в улье перед роением. Как видно, дело идет к тому, что скоро поднимут знамя Башмака.
— Черт побери! Не пуститься ли и нам в пляс? — гаркнул Большой Лингарт, тщетно стараясь приглушить свой громовой голос.
— За оружием дело не станет, — добавил староста.
— У наших, орденских, оружия нет, — прошептал Фриц Бютнер из Мергентгейма, — да мы и цепами и косами не хуже управимся.
— Как бы не просчитаться, — предостерегающе вставил Бухвальдер. — Одним нам с ними не совладать.
— Да ведь ты слышал, что творится кругом? — нетерпеливо вскричал Леонгард Мецлер.
— Берусь затеять дома такую игру, что у тевтонских рыцарей рожи станут белее, чем их плащи! — крикнул Фриц Бютнер и со всей силы хватил кулаком но столу.
— А я отвечаю за Оренбах, — сказал Симон Нейфер. — Пусть каждый даст сигнал своим друзьям быть наготове.
Прежде чем разойтись, крестьяне договорились о ближайшей встрече в «Медведе».
— Ну, а ты как? — спросила Кэте Каспара, молча сидевшего за столом.
— Когда начнется пляс, я пойду в паре с тобой, — шутливо отвечал он.
Она двинула плечом, как бы отталкивая его.
— Конец дворянскому царству! — рявкнул Большой Лингарт и забарабанил пустой кружкой по столу. — Добавь-ка еще, хозяин! — загремел он басом подбежавшему трактирщику.
Глава третья
Первый бургомистр Ротенбурга Эразм фон Муслор поднял чашу, искрившуюся золотистым рейнским вином, за здоровье дорогих гостей, собравшихся в его доме на Дворянской улице в день трех волхвов. Трапезный зал помещался в первом этаже; стены были покрыты яркими фресками, изображавшими сцены из священного писания, выполненные несколько топорной кистью ульмского мастера Варфоломея Цейтблома[28]. Его муза к тому времени еще не успела расправить свои крылья. Зато расписанный резной потолок заслуживал восхищения. Многолапая бронзовая люстра с множеством причудливых украшений в виде вьющихся растений и листьев, висевшая посреди зала, была, несомненно, произведением нюрнбергского мастера. Уставленный драгоценной посудой художественной работы, стол сверкал хрусталем, золотом и серебром.
Молодежь с нетерпением ожидала приглашения к столу, так как представители старшего поколения, особенно же досточтимые члены обоих советов[29], углубились в нескончаемый разговор, всесторонне обсуждая возможные политические последствия брака, заключенного в соборе св. Иакова. Юные патриции потешались над четой молодоженов, которые, несомненно, были уже не первой молодости, и над участниками свадебной церемонии. Отцы города спорили о том, какие меры надлежит применить магистрату против доктора Дейчлина, который в свое время был приглашен городом в качестве проповедника. На духовного пастыря Тевтонского ордена и на отца Мельхиора власть магистрата не простиралась.
Второй бургомистр Конрад Эбергард резко высказывался за самые решительные меры. Настало время, когда магистрат должен беспощадно покарать еретика, угрожающего поколебать основы порядка, установленного богом и людьми. Однако господин Эразм фон Муслор с улыбочкой заметил, что не следовало посягать на прерогативы его преосвященства епископа Вюрцбургского, повелевающего священнослужителями ордена.
В лице досточтимого господина Эразма величавость главы имперского вольного города сочеталась с лоском светского человека. Надменность, венчавшая его высокий, но узкий лоб, умерялась любезной улыбкой, не сходившей с его медоточивых уст. Величаво-любезным было и краткое застольное слово, с которым он обратился к своим гостям. Вслед за тем большая серебряная чаша с фамильным гербом фон Муслоров заходила вкруговую.
На столе, сверкавшем тяжелой роскошью сервировки, особенно выделялись изготовленные напоказ кушанья, делающие честь изобретательности повара. Но главной приманкой — и не только для глаз — был поистине исполинский пирог с запеченным в нем «бобом счастья». Кому при разделе пирога доставался этот боб, того объявляли королем или королевой празднества. Ученый канцлер и летописец города Ротенбурга Томас Цвейфель[30] заметил, обращаясь к своему соседу, ратсгеру Георгу фон Берметеру, весьма уважаемому его согражданами за честность, тем более что небо не благословило его богатством, — что запеченный в пироге боб, несомненно, является символом солнца, возвращающегося на землю после зимнего царства мрака.
Пестрым венком окружали гости обеденный стол. В те времена люди любили яркие краски, и на темном фоне одежд ратсгеров выделялись красными, зелеными, синими, желтыми пятнами костюмы молодежи. И дамы и кавалеры равно старались соединить в своем костюме как можно больше красок. Мужчины в своих пестрых камзолах с прорезями, брыжами и пуфами, превосходили роскошью одежды заправских франтих. Воздух был насыщен благовониями, так как даже мужчины обильно душились. И женщины и мужчины не считали для себя зазорным прибегать к помощи искусства, чтобы сохранить розы и лилии на своих увядших щеках.
С роскошью нарядов соперничало богатство стола, ломившегося под тяжестью изысканнейших яств. Здесь было все, что можно добыть на земле, в воде и в воздухе для услаждения самого изощренного вкуса. Магистратские слуги в бело-красных ливреях, соответственно цветам города, непрерывно обносили гостей и неустанно следили за тем, чтобы кубки не переставали искриться франконским, майнским и рейнским винами. Никого не приходилось упрашивать. Даже прекрасные дамы, отбросив всякое жеманство, поскольку вилок еще не было в употреблении, запускали свои нежные пальчики прямо в кушанье. Представительницы слабого пола не считали нужным церемонно потягивать золотистую влагу крошечными глотками. Щечки разгорались все ярче, язычки развязывались все смелее, и трапезная оглашалась таким щебетаньем и такими взрывами смеха, что никто не услышал шума, донесшегося с Рыночной площади, хотя он был достаточно громким.
Прекраснейшей среди прекрасных была, конечно, Габриэла Нейрейтер. Ее горделивая осанка говорила о том, что она сознает силу своих чар. Обвитая тройной ниткой жемчуга, белая шея оттенялась золотыми кружевами, обрамлявшими края прозрачной рубашки. Золотой венец в виде роз, увитых плющом, украшал ее распущенные черные волосы, ниспадавшие блестящей шелковой волной до пояса. Венец, задуманный и выполненный Гансом Лаутнером, оттенял белизну ее лба, сверкающего как алебастр на солнце. Нитка искристых самоцветов охватывала пышный стройный стан. Открытое верхнее платье из пурпурной парчи с очень широкими откидными рукавами позволяло видеть нижнее платье из белого венецианского атласа с узкими рукавами, плотно облегавшими ее полные округлые руки. И верхнее и нижнее платья были затканы по краям золотыми цветами. Расшитая красным шелком бархатная киса, нож в осыпанных драгоценными камнями ножнах и опахало из павлиньих перьев висели у пояса. Ее тонкие белые пальцы были унизаны сверкающими кольцами.
Знатная дама
С гравюры Лукаса Кранаха
Не удивительно, что глаза всех молодых аристократов метали огненные стрелы в это обольстительное создание, но эти стрелы, встретившись с презрительно-равнодушным взглядом прекрасной Габриэлы, отскакивали, не задев ее.
Она была сиротой. Эпидемия оспы унесла ее родителей, когда она вместе с Сабиной фон Муслор еще воспитывалась в доминиканском монастыре. Монастырь на Оружейной улице славился тем, что давал своим воспитанницам изысканнейший светский лоск. За исключением нищенствующих орденов, все монастыри уже давно допускали в свои пределы лишь тех из числа жаждущих замкнуться в их стенах от мирской суеты, кто был достаточно богат, чтобы дать обет бедности. Послушницы Ротенбургского доминиканского монастыря вербовались только из самых состоятельных слоев землевладельческой и городской знати. Зато они пользовались привилегией: они могли снять монашеское покрывало и даже выйти замуж; в этом случае, однако, в пользу монастыря оставался весьма солидный куш в виде компенсации за утраченную невесту Христову. Благочестивые сестры пользовались неограниченным правом принимать у себя своих родственников. Сынки городских патрициев и сельских дворян усердно навещали своих сестер, кузин и тетушек в белых рясах под черными вуалями еще и потому, что монастырь славился лучшим тауберским вином. Монастырю принадлежали богатейшие виноградники в нижней части города. Горожане поговаривали, что в святой обители не только пьют вино, но и частенько режутся в карты и кости не хуже, чем в Дворянской питейной на Рыночной площади. У Цейзольфа фон Розенберга была в монастыре тетушка. Соскучившись в одиночестве в своем прилепившемся на высокой горе замке, он прискакал как-то ранним утром к монастырским воротам на Оружейной улице вместе со своим дружком Филиппом фон Финстерлором, владельцем замка к северу от Лауденбаха.
Смерть родителей сделала Габриэлу наследницей крупного состояния, а богатство, как известно, только усиливает блеск красоты. Ее покойный отец, Иозеф Нейрейтер, был человеком предприимчивым и, призаняв где только можно, пустился в спекуляцию вином и зерном. Это был единственный род торговли, не считавшийся зазорным для патриция, и дома городской знати были специально приспособлены для нее. Под просторными сенями, служившими торговым помещением, находились огромные подвалы, в которых хранились предназначенные на продажу вина собственных виноградников, а в господских дворах высились островерхие кровли двух- и трехэтажных хлебных амбаров. Иозеф Нейрейтер торговал вином и зерном не только на рынке и у своих ворог, он продавал вино в лозах и хлеб на корню. Не беда, что его удачливые спекуляции сильно смахивали на ростовщичество, ведь он лишь шел по стопам почтенных торговых компаний в Нюрнберге, Аугсбурге, Ульме, которые, вступая в «ринги»[31], устанавливали высокие цены на любые товары. Правда, горожане и крестьяне проклинали их на чем свет стоит, но ничего не могли поделать. Имперские сеймы неоднократно выносили постановления о недопустимости такого злостного ограбления народа ростовщическими торговыми компаниями, но все решения оставались мертвой буквой. Объединенная сила денежного мешка оказалась могущественней самого императора.
Богатство Габриэлы состояло почти исключительно из оброков и других феодальных повинностей ротенбургских крестьян. Такой оброк лежал и на дворе Симона Нейфера. Управлял ее владениями нынешний второй бургомистр, Конрад Эбергард, которого магистрат назначил ей в опекуны после смерти ее родителей. Эбергард ревниво оберегал интересы своей подопечной; в этом имели полную возможность убедиться в то же самое утро многие из арендаторов, которые, на свою беду, не могли внести сполна, как Симон Нейфер, причитающийся с них оброк в геллерах и пфеннигах или натурой.
У прекрасной Габриэлы не было родственников в городе, и, когда обе девушки вышли из монастыря, Эразм фон Муслор, уступая просьбам дочери, взял к себе в дом ее осиротевшую подругу. Конрад Эбергард не мог предложить Габриэле свой дом, так как был вдовцом.
Его сыну выпала честь, которой завидовали многие, — вести прекрасную Габриэлу к столу. Макс Эбергард лишь поздней осенью вернулся из Италии, получив в знаменитом Болонском университете степень доктора римского права. Это был суровый с виду молодой человек с резко очерченным одухотворенным лицом. Простая черная одежда ученого придавала ему еще больше серьезности на фоне всей этой пестрой мишуры. Даже красота его соседки по столу не могла согнать тень с его нахмуренного чела. Глядя на него, Сабина фон Муслор бросала на свою подругу недоумевающие взгляды, и этим, казалось, исчерпывался весь интерес Сабины к происходившему за столом. Столь же безучастная, как и утром на своем иноходце, сидела она рядом с начальником городской стражи, рыцарем фон Адельсгеймом, который должен был на пасху ввести ее в свой дом. Прекрасная Габриэла отвечала на взгляды подруги, насмешливо поджимая губки.
— Боже мой, господин доктор, — обратилась она к соседу, — вы все время так смотрите в пространство, как будто вас преследуют видения.
— А может, так оно и есть? — отвечал Макс Эбергард, вперив в нее серьезный взгляд глубоко посаженных черных глаз. — А что бы вы сказали, если бы великий чародей Виргилий заставил эти фигуры на стенах, написанные мейстером Цейтбломом, исполнять пляску смерти?
— Фи, какой ужас! — с отвращением воскликнула Габриэла. — Если вас преследуют подобные видения, вам бы следовало сделаться проповедником.
— Я и сам подумываю, что ошибся в своем призвании. Простите мою неловкость в светском обращении. В университетах этому не обучают.
— Мне кажется, даже отучают, — отпарировала она. — По крайней мере я припоминаю, что в прежнее время вы были не прочь повеселиться. И даже охотно проводили время с такими ничтожными созданиями, как Сабина и я. Бедной фрау фон Муслор порядком от нас доставалось.
— Да, это все было до поездки в Италию, — согласился он и отрывисто рассмеялся.
— Томас Цвейфель, которому и книги в руки, утверждает, что вы там только и делали, что занимались науками. Конечно, ему лучше знать, но вы меня не убедите, что в Италии вы все время корпели над книгами. Неужели, уважаемый доктор, вы не побывали в обучении у жгучих итальянских красавиц?
И она вызывающе вскинула на него свои блестящие бархатные глаза.
— К сожалению, не могу похвастаться такими наставницами, — уклончиво произнес он. — Что до красоты, то единственное, чему я отдавал должное в часы досуга, это нетленная красота величайших произведений итальянского зодчества. В наше тревожное время есть дела посерьезней, чем вздыхать у ног красавиц.
Надменно изогнутые брови Габриэлы насупились, предвещая бурю, но все же она ответила веселым тоном:
— Неужели наше время так тревожно, как вы утверждаете, господин доктор? Ну что ж, коли так, тем более нужно спешить срывать цветы наслажденья, где только можно. Так думаю я, и можете порицать меня сколько угодно. Если вы решили отказаться от прав вашей молодости, это — ваше дело. Я же, напротив, постараюсь взять от нее все, что смогу. Неужели ваша некогда кипучая кровь застыла под знойным небом юга? Я бы вас пожалела, если бы… если бы могла этому поверить.
Она выпрямилась и повернулась к нему, как бы призывая в свидетели своей правоты свою молодость и красоту. Он посмотрел ей прямо в сверкающие глаза, и она зарделась.
— Я приехал из Италии совсем другим человеком. Я стал глубже понимать жизнь и больше не верю, что погоня за призрачными удовольствиями может дать истинное удовлетворение.
Габриэла закусила нижнюю губу, обнажив ровные и мелкие, как бисер, зубы, и отвернулась, он же настойчиво продолжал:
— Нет, прекрасная Габриэла, эта мишура и пустые забавы и вас не могут удовлетворить. Вы слишком горды. Есть более высокая цель, чем жизнь ради собственного «я». Новая заря занимается в небе, и миллионы угнетенных обращают к ней свои взоры. Поймите, какая великая и прекрасная цель — отдать все свои силы для осуществления Этой надежды. Помочь угнетенным сбросить ярмо рабства, чтобы они могли высоко поднять головы и жить свободными, как их создал господь, — что может быть прекраснее?
— Слышите? — воскликнула вдруг Габриэла, двумя пальчиками коснувшись его руки, и ее прекрасное лицо искри вил ось злобой.
Насторожившись, он уловил глухой шум, доносившийся с рынка.
— И этой грубой черни вы хотите отдать свои силы? — спросила она, тяжело дыша. — Да разве это люди? Ваш отец как-то сказал господину Берметеру, что их надо взнуздать еще крепче, иначе с ними не будет сладу. Ведь они воют, как дикие звери!
— А если они и превратились в диких зверей, чья в том вина? Не наша ли и не наших ли отцов? — спросил Макс Эбергард, устремив на нее ясный взгляд. — Наш долг — уничтожить несправедливость, лишившую их человеческого достоинства. Не сделай мы этого, нам же придется пенять на себя, когда они покажут зубы.
— Ах, так вы хотите задобрить их пряниками? — звонко рассмеялась Габриэла. — А я стою за кнут, господин доктор, да, за кнут! — Грудь ее вздымалась, ноздри трепетали, глаза метали молнии. В гневе она не замечала озабоченного взгляда Сабины, встревоженной ее злым смехом.
— И это говорит женщина? — с упреком произнес Макс. — Ну что ж, в таком случае мне остается только молчать.
— Это вызов? — порывисто повернулась она к нему.
— Простите, я не воюю с женщинами, — почтительно ответил он холодным тоном.
Она промолчала. В это время слуги разносили крещенский пирог, разрезанный на куски по числу гостей. Габриэла машинально искрошила свой кусок. В нем оказался боб.
— Кто счастлив в игре… — прошептала она и, не договорив до конца, подняла боб высоко над головой. Весь стол разразился ликующими возгласами. Хозяин дома провозгласил Габриэлу королевой пиршества, и все поднялись с полными кубками, чтобы поздравить ее. Каждому хотелось чокнуться с нею и пожелать счастья, и она принимала поздравления как должное, с величественной снисходительностью настоящей королевы. Затем Габриэла избрала себе свиту и распределила роли между счастливцами. Первого бургомистра она назначила своим канцлером, и он, как и прочие сановники, преклонил колено перед своей прекрасной повелительницей и поцеловал ей руку, благодаря за высокую честь. Макса Эбергарда она обошла. Отец Макса, сидевший рядом с дородной госпожой фон Муслор, нахмурил брови. У второго бургомистра, как и у его сына, были резкие черты лица, которые с годами стали жестче, а темные глаза приобрели стальной блеск.
Герб римского папы. Карикатура
С гравюры начала XVI в.
Между тем компания, собравшаяся в «Медведе», высыпала на площадь, кишмя кишевшую всяким бродячим людом. Только Бухвальдер отправился восвояси, а Симон Нейфер — к своему дяде, суконщику Килиану Эчлиху, чтобы там дожидаться Кэте. На площади стоял неумолчный гам. Все горланили, пели, смеялись, кричали и бранились. Многие играли на свирелях, дудках и трубах. Мудрено было здесь не оглохнуть, но от шума разгул и веселье только разгорались. Кэте на каждом шагу останавливала своего двоюродного брата: и перед зубодером, и перед площадным лекарем, охрипшим от крика, чтобы сбыть свои снадобья, и перед скоморохом, глотавшим паклю и изрыгающим пламя, и перед поводырем, заставлявшим своего облезлого медведя плясать под дудку и барабан, и перед силачом, шутя поднимавшим тяжелые гири и каменные шары, и перед уличным певцом, воспевавшим под аккомпанемент своей жены славные подвиги знаменитого главаря разбойников Конца Вирта из Гальдена[32]. Каспар остановился перед лотком книгопродавца, расположившегося у торговых рядов под навесом у ратуши, и начал читать своим спутникам заглавия выставленных книг и разъяснять содержание развешенных картин и карикатур, отпуская колкие замечания. Там были календари, травники, предсказатели, старые, но вечно юные истории и народные книги о Роговом Зигфриде, о Прекрасной Магеллоне, о Спящей красавице и тому подобных диковинках. Был там и украшенный многочисленными гравюрами брантовский «Корабль дураков»[33], из которого любили черпать свое вдохновение проповедники. Возле толстенных фолиантов за и против Реформации с их длиннейшими заглавиями Каспар не задержался. Зато он подолгу рассматривал летучие листки[34], то в сатирической форме, то с пламенным красноречием призывавшие к борьбе против римского «бегемота», против распущенности, невежества, скаредности и алчности попов. Эти зажигательные листки, большей частью с иллюстрациями, очень бойко раскупались столпившимися у лотков любопытными. Большой спрос был и на сатиры против католического духовенства. Немало гравюр с портретами Лютера, Фрундсберга, Зиккингена, Гуттена расходилось отсюда по крестьянским хижинам. Впрочем, там не было недостатка и в карикатурах на деятелей Реформации, и многие из них были достаточно хлесткими. Но чтобы купить их, ни один бюргер и ни один крестьянин не развязал своего кожаного кошеля.
Насмешливые замечания молодого стригальщика то и дело вызывали взрывы смеха в толпе. Но Кэте рассеянно слушала его; взгляд ее искал кого-то.
— Вот этого я знал лично, — произнес Большой Лингарт, стоявший позади нее вместе с Бютнером, указывая на портрет Франца фон Зиккингена[35]. — Это было еще в девятнадцатом году, герцогу Ульриху досталось тогда на орехи из-за Рейглингена. Видел я своими глазами, как Гец фон Берлихинген сдавался в плен. То был мой последний поход, а служил я под знаменем Гейера фон Гейерсберга[36]. Клянусь святым Иоргом, вот настоящий полководец, рыцарь Флориан! Когда он вступил во владенье своим родовым поместьем, он отпустил своих крестьян на волю.
Пронзительные звуки трубы созывали публику на выступление канатного плясуна. Вдруг Кэте бросила руку Каспара и стала протискиваться сквозь толпу. Она увидела молодого ювелира. После пережитого волненья он решил прогуляться по долине Таубера и теперь, войдя в город через Кобольцельские ворота, шел через площадь к дому своего мастера на площади св. Марии.
— Как я рада, что нашла тебя! — воскликнула Кэте, и ее глаза говорили красноречивей слов. Она взяла его за руку и подвела к друзьям, поджидавшим неподалеку.
— Гляди-ка, а ты уже подружилась с Гансом? — поддразнил ее Каспар.
— Не знаю, — отпарировала Кэте. — Вот приходите вместе в Оренбах, там видно будет.
Каспар скорчил гримасу.
Со всех сторон стекались любопытные поглазеть на канатного плясуна. Скоморох не переставал трубить, а шут тем временем забавлял толпу смачными шутками, ужимками, прыжками. Половина его камзола состояла из продольных красных и белых полос, а другая половина — из поперечных черных и желтых. Один рукав был в обтяжку, другой — непомерной ширины, а обшлага заканчивались бубенчиками. Бубенчик висел и на кончике колпака, сшитого из разноцветных лоскутов и облегавшего голову так, что оставалось открытым только лицо. Шут еще не раскрывал рта и только гримасничал, а народ уже покатывался со смеху. Смуглая девушка в фантастическом наряде с блестящими металлическими украшениями, вплетенными в черные волосы, скользила между зрителями, извиваясь как змея соблазнительным гибким телом, и, встряхивая бубном, собирала монеты. Шут только что рассказал непристойную историю про попа, который играл в ней роль не совсем целомудренного Иосифа[37]. Толпа залилась жирным смехом, как вдруг возле Дворянской питейной раздались пьяные возгласы. Это Цейзольф фон Розенберг и Филипп фон Финстерлор вместе со своими собутыльниками из молодых патрициев искали на площади достойного завершения попойки. Охмелевшие молодчики грубо расталкивали всех, кто недостаточно проворно уступал им дорогу. Смуглянка тотчас бросилась им навстречу, ударила в бубен и метнула на них свой жгучий взгляд.
— Сто чертей! — рявкнул фон Розенберг и ударил снизу по бубну, так что медяки разлетелись во все стороны. Он схватил девушку за талию, и не успела она пикнуть, как он зажал ей рот своими рыжими усищами. Шут подпрыгнул на месте и завопил:
— Чудеса в решете! Благородные юнкеры превратились в сеятелей. Но что они сеют? Деньги!
Раздался смех, который сразу стих, когда Бютнер зычным голосом крикнул:
— Чужие деньги! И сеем мы, а они расточают то, что добыто нашим тяжким трудом!
— А крепостных своих морят голодом! — загудел Большой Лингарт.
Канатный плясун вне себя завопил:
— Это мои деньги! Пусть юнкер заплатит!
— Да, да, пусть заплатит! — поддержали все хором.
Бешеный Цейзольф захохотал. Многие бросились поднимать разлетевшиеся монеты и, ползая по земле, вырывали их друг у друга. Розенберг все еще не выпускал цыганку, которая и не думала сопротивляться, а только смеялась.
— Постойте, я что-то придумал! — вдруг заорал юнкер фон Финстерлор. Его желтые, как солома, волосы выбились из-под заломленного на затылок берета и свисали на багровое от вина лицо.
— Постойте, постойте, сам Финстерлор что-то придумал! — потешались над ним молодые бездельники, а он так хохотал, заранее наслаждаясь своей выдумкой, что его изрядное не по летам брюшко тряслось от смеха.
— Дурак получит свои деньги, если сейчас же, при нас, подберет их языком, на четвереньках, как собака. Ведь он и есть собачье отродье!
Приятели юнкера, да и кое-кто из зрителей загоготали. Но в толпе послышался ропот возмущения, который еще усилился, когда фон Финстерлор продолжал:
— Пропустите-ка собаку! Эй, ты, вперед, да пошевеливайся, не то я тебя подгоню!
Выхватив кинжал, он замахнулся на шута, который побледнел как полотно и беспомощно озирался по сторонам.
— Это недостойная шутка! Стыдитесь, юнкер! — загремел Мецлер.
Кое-кто из молодых аристократов отошел в сторону, но фон Финстерлор, размахивая кинжалом, продолжал вопить:
— На четвереньки, собачье отродье!
— Берегись, Филипп, воробьи всполошились! — насмешливо крикнул Бешеный Цейзольф.
В мгновенье ока Ганс Лаутнер, вырвавшись из рук Кэте, которая пыталась его удержать, бросился на юнкера и клинком своей шпаги выбил у него из рук кинжал.
У зрителей вырвался ликующий крик. Шут перекувырнулся и исчез в толпе. В тот же миг рядом с Гансом выросла фигура Большого Лингарта. Фон Финстерлор, разинув рот, уставился на великана, но его друг рассвирепел.
— Проклятье! — зарычал Розенберг. — Бей вшивый сброд! Коли их! — Он отшвырнул цыганку, но, стиснутый со всех сторон, не мог нанести удара. Тем временем его друг, тоже разъяренный, напал на Большого Лингарта, который отмахивался от него своим огромным мечом, как от назойливой осы. Но тут уже и Розенберг развернулся и со страшной силой замахнулся кинжалом на бывшего ландскнехта. Но его клинок лишь скользнул по длинной шпаге Лаутнера, который с неистовым ожесточением набросился на Бешеного Цейзольфа.
— Бей дворянских сынков! — раздался громкий крик, и толпа хлынула неудержимым потоком вперед. Разносчики и бродячие комедианты бросились врассыпную; торговцы кинулись запирать свои лавки, женщины и дети завопили. Каспар силком вытащил из свалки свою двоюродную сестру.
— Смерть им, смерть! — вопила толпа. Клинки и ножи заблестели в воздухе и зазвенели, сталкиваясь. Юнкерам и дворянам пришлось отступить, их было явное меньшинство. Они яростно отбивались от наседавшей толпы и нанесли немало ран, но их песенка была бы спета, не подоспей к ним на помощь из караульной при ратуше отряд городской стражи, который длинными алебардами рознял сражавшихся. Толпу оттеснили в узкий проход между ратушей и Дворянской питейной, и, воспользовавшись тем, что стражники, напрягая все силы, удерживали натиск крестьян и горожан, дворянские молодчики за спинами стражников проскользнули в собор. Впереди возбужденной толпы Ганс с Лингартом тщетно пытались прорвать цепь стражников. Вдруг кто-то крикнул:
— К доминиканкам!
Повинуясь призыву, разгоряченная толпа с улицы св. Георгия хлынула к собору св. Иакова и под аркой, что шла под галереей хоров, — прямо к монастырю на Оружейной улице. Но монастырская калитка уже захлопнулась за беглецами, и преследовавшие столпились в узком закоулке у ворот монастыря и на Оружейной улице. Взломать крепкие ворота они не могли — не было топоров, перелезть через высокие стены нечего было и думать. Тщетно они колотили мечами и кулаками в ворота, бросали камни через стены, никому никакого вреда они причинить не могли.
В то время как осаждавшие монастырь с неистовым ревом колотили в ворота, юнкеры утоляли жажду прохладным монастырским вином. Все они, не исключая и Розенберга, бежали с поля брани невредимые, хотя и в довольно жалком виде. У Розенберга была задета шпагой правая рука, но толстые буфы рукава ослабили удар, и юнкер отделался пустячной царапиной. Все же он громко требовал «пробить собак, воющих за стеной», как он выражался, и уговаривал своего дружка Филиппа оседлать коней и вместе с двумя слугами сделать вылазку из монастыря. Но юнкер фон Финстерлор старался отделаться шутками, подзадоривая Цейзольфа тем, что он, видно, принял смуглую подружку канатного плясуна за прекрасную Габриэлу, и распространялся о том, как красавица будет издеваться над ним, когда узнает о его бегстве под натиском кучки сапожников, портных и прочего сброда. Дворянчики старались унять друзей.
Возможно, эта дерзкая вылазка и была бы осуществлена, не появись на Оружейной улице в сопровождении всего караула ратуши сам городской судья Хорнер, который именем магистрата приказал толпе разойтись. Стражники из бывших ландскнехтов с алебардами наперевес придали особую внушительность его требованию, и Оружейная улица была очищена в несколько минут. Гораздо труднее оказалось рассеять скопище в монастырском закоулке. Дюжие стражники немало потрудились, пустив в ход древки своего оружия. Несколько наиболее упорных буянов были схвачены. Однако возбуждение улеглось не скоро. В узких тесных улочках, куда постепенно отхлынула толпа из Оружейной улицы, люди то и дело собирались кучками и взволнованно обсуждали происшествие. Там раздавалось немало резких слов по адресу магистрата, который берет под свою защиту монастырские привилегии и вообще до сих пор терпит монастыри.
Большой Лингарт, Ганс и Фриц Бютнер, вооружившийся шестом канатного плясуна, так и не смогли пробиться к монастырю. Во время стычки возле питейной они были в первом ряду, но, когда толпа повернула назад, к монастырю, оказались почти последними. Только тут Бютнер заметил кровь на куртке молодого подмастерья, выступившую на правом боку. Ганс, не чувствовавший боли, уверял, что царапина пустяковая. Но Большой Лингарт чуть ли не силком затащил его на церковный двор и осмотрел рану. Клинок прошел, по-видимому, через портупею, что, к счастью, ослабило силу удара.
Ландскнехты с алебардами и двуручными мечами
С гравюры Николаса Штера.
— Цирюльник и портной заштопают тебе мигом и куртку и бок, — утешал его Большой Лингарт. Чтобы охладить разгоряченную голову, он снял свою горшкообразную шляпу, и тут обнаружилось, что одно из украшавших ее петушиных перьев сломано, а от другого осталось одно воспоминание.
— Эхма! Гляди, как они отделали мой султан! — воскликнул он, сокрушенно качая головой, а его спутники рассмеялись.
— Скажи спасибо Лаутнеру, что заодно тебе не отхватили и башку, — сказал Фриц Бютнер. — Я видел, как ловко он отразил удар Бешеного Цейзольфа.
Круглые как у совы глаза бывшего ландскнехта на секунду задержались на лице Ганса. Потом он схватил его руку своей широченной лапой и потряс ее что было силы.
— Когда мы начнем выщипывать хвосты у этих надутых петухов, может, и мне доведется сослужить тебе службу, — воскликнул он. — Ну и задал же ты перцу Розенбергу, дуй его горой! Любо-дорого было смотреть.
— Ах, дали бы мне расквитаться с ним… — начал было Ганс недовольным тоном, хотя и польщенный похвалой бывалого вояки. И он прицепил к поясу отстегнутую шпагу.
Все вместе они отправились на поиски цирюльника. Шест канатного плясуна остался лежать на церковном дворе, где его и нашли на другое утро.
Глава четвертая
По нынешним понятиям было еще совсем рано. Дозорный на башне только что ударил в колокол семь раз, но все тринадцать досточтимых членов внутреннего совета в длинных черных мантиях и плоских черных беретах уже чинно восседали на массивных дубовых креслах за столом, покрытым зеленым сукном. Многие из них были бы не прочь в это утро подольше понежиться в постели, ибо накануне за обедом у первого бургомистра буйные духи искрометных вин — вюрцбургского, франконского и рейнского — сыграли злую шутку с благородными, любезными и милостивыми господами. К тому же подробное сообщение городского судьи Георга Хорнера о вчерашних беспорядках подействовало на ратсгеров далеко не успокаивающе. Правда, драки на рынках и ярмарках были явлением заурядным и не стоило придавать им большого значения, но Конрад Эбергард прервал судью, резко воскликнув:
— Вот плоды кощунственного брака клятвопреступного расстриги!
Глаза почетного бургомистра Эренфрида Кумпфа вспыхнули, но Георг фон Берметер, питавший инстинктивное отвращение ко всяким ссорам и разногласиям и не упускавший случая выступить в роли миротворца, бросил на него умоляющий взгляд. Фон Берметер был единственным из членов внутреннего совета, который в глубине души склонялся на сторону Реформации.
— Но из сообщения явствует, что в затеянной драке повинны приезжие юнкеры, — заметил он.
— Что? Что? — негодующе воскликнул ратсгер фон Винтербах. — Если дворянин позволил себе подшутить над дураком, значит он затеял драку?
Эразм фон Муслор поднял свою белую пухлую руку, призывая господ ратсгеров к порядку.
— Дослушаем до конца, досточтимые господа!
Городской судья продолжал. Он сообщил, что канатный плясун и книгопродавец, у которого в свалке опрокинули лоток и потоптали товар, подняли большой шум на площади, взывая к гражданам, и требуют от магистрата возмещения убытков. Они просят разрешения войти и лично принести свои жалобы. С ними пришел и шут, который требует удовлетворения за пережитый испуг.
Досточтимые разразились хохотом: «Возмещение убытков из городской казны? Да они рехнулись! Пошлите их к юнкерам. Пусть те заплатят».
— Не подлежит никакому сомнению, что ответственность за убытки лежит на юнкерах, — заявил первый бургомистр. — Но люди поступили правильно, обратившись в магистрат. Они пришли в Ротенбург, положившись на наше обещание охранять спокойствие и порядок, и уплатили рыночный сбор за право заниматься своим ремеслом. Досточтимый совет должен согласиться, что их жалобы надлежит выслушать и поступить по справедливости. Скомороху за причиненное ему беспокойство я полагал бы выдать безотлагательно четверть гульдена из городской кассы. Поелику же установлено, что юнкеры фон Розенберг и фон Финстерлор нарушили общественный порядок, я считал бы справедливым наложить на них штраф в размере пяти гульденов с каждого и, помимо того, обязать их возместить городу ущерб и убыток, как происшедший, так и могущий в будущем произойти в результате вчерашних бесчинств.
Шепот одобрения пробежал вокруг зеленого стола, и городскому судье было поручено потребовать от пострадавших письменное заявление о сумме причиненных убытков. О молодых патрициях, подвизавшихся вместе с юнкерами, никто не проронил ни звука. Лишь Конрад Эбергард холодно заметил:
— Мне думается, что совет, столь единодушно вынесший свое решение, не менее единодушно убежден в том, что юнкеры из Гальтенбергштеттена и Лауденбаха не заплатят штрафа и не возместят убытков. Посему полагаю, что мы поступили неправильно, дав им уехать. Застигнутые на месте преступления, они подлежали городскому суду. Город имеет право лишить неприкосновенности всякого злоумышленника, укрывающегося в священных местах, будь то в храмах, монастырях и даже у алтаря.
— Это право предоставлено Ротенбургу договором, — закивал господин Эразм. — Но, досточтимый коллега, если мы прибегнем к этому праву в данное время, не даст ли это лишний козырь в руки еретиков, причинив тем самым ущерб нашей святой матери-церкви? Это вряд ли поднимет в народе авторитет благочестивых сестер, а нам, должностным лицам, — тут он бросил взгляд на почетного бургомистра, — не пристало лить воду на чужую мельницу. Я же полагаю, что юнкеры заплатят. Не пожелают они, чтобы перед ними захлопнулись ворота города как раз накануне карнавала, что было бы весьма прискорбно и для нас. Если я не ошибаюсь, у нас еще остается право апеллировать в имперский верховный суд[38].
— Имперский верховный суд?! — Эренфрид Кумпф даже подскочил на месте, но овладев собой, внешне спокойно продолжал: — Меня радует, что совет по справедливости удовлетворил книгопродавца и скомороха. И я тем более укрепляюсь в надежде, что совет поможет наконец одному из коренных граждан нашего города восстановить свои права, признанные имперским судом.
Ратсгеры в изумлении переглянулись. Кого он имеет в виду?
— Я говорю о суконщике Килиане Эчлихе, — пояснил он.
Глухой ропот был ему ответом. Первый бургомистр надменно выпрямился и закинул голову. Это дело было хорошо известно каждому. Десять лет тому назад Георг фон Верницер, нынешний эндзейский шультгейс, за игорным столом в Дворянской питейной ударом кинжала прикончил своего кузена Иоаса Трюба. Подобно большинству представителей Золотой молодежи, Иоас Трюб растрачивал пыл своей молодости, не щадя сил и средств. Порвав со своей семьей, он погряз в долгах и брал у каждого, кто из симпатии к его веселому нраву раскрывал перед ним свой кошелек. Семейство Трюбов, как и Верницеры, принадлежало к старейшим фамилиям Ротенбурга, и Килиан Эчлих, подобно многим другим, считал, что Иоас Трюб вполне надежный должник. Утром, накануне своей смерти, Иоас пришел к Килиану рассчитаться, другими словами — округлить свой долг до ста гульденов, после чего в радужном расположении духа отправился в Дворянскую питейную… Но глава семьи отказался платить долги убитого сына. Старик Трюб был не просто скупым, он разыгрывал из себя Катона[39] и, когда суконщик подал на него в суд, стал взывать к его совести. Развращенность нынешней молодежи, ставшая притчей во языцех, находит себе благодатную почву главным образом в услужливости бюргерства, которое по непонятным причинам доверяет этим вертопрахам. Что станет с обществом, что станет с государством, если власти будут смотреть сквозь пальцы на гибель молодого поколения, которому предстоит сменить своих отцов у кормила правления? Нужно пресечь зло в корне. Нужно показать пример. Посему следует не только отвергнуть домогательства истца, но и наложить на него штраф за совращение молодежи и порчу нравов.
Магистрат согласился с этими доводами. Он стремился в первую голову к примирению влиятельнейших семейств города — Трюбов и Верницеров, чтобы предотвратить раскол среди патрициата. Со своей стороны, Верницеры рьяно добивались помилования убийцы, который бежал и был заочно приговорен к изгнанию из города… Что могли значить в таких условиях попранные права какого-то ремесленника? Правда, Килиан Эчлих после долгих мытарств добился в имперском суде решения в свою пользу, но он и по сей день ждет, чтобы ротенбургский магистрат привел его в исполнение. Между тем Георгу фон Верницеру достаточно было пожертвовать известную сумму в пользу госпиталя св. духа, и ворота родного города снова раскрылись перед ним.
Эразм фон Муслор высокопарно предложил почетному бургомистру оставить в покое мертвых, но это не соответствовало намерениям Эренфрида Кумпфа, который выпрямился во весь рост и возразил:
— Мертв закон, но беззаконие разгуливает на свободе. Можно ли рассчитывать на повиновение, преданность и любовь сограждан, когда мы сами подрываем их веру в правосудие магистрата?
Тут все обрушились на него. Тщетны были старания Георга фон Берметера, призывавшего к миру и согласию.
Никто не слушал его.
— Что нам до бюргерства? Что нам до императора в Испании?[40] — выкрикнул ратсгер фон Винтербах. — Здесь Ротенбург, мы здесь — господа! — И он что было силы стукнул кулаком по столу.
— Что нам до императора? — переспросил, сверкнув глазами, Эренфрид Кумпф. — Я вижу, господа, вы только того и ждете, чтобы Ансбах-Байрейтский прибрал к рукам наш город? Маркграф Казимир только и ждет удобного случая.
Ландскнехт с ружьем
С гравюры Эргарда Шёна
— Полагаю, что наши стены покрепче его бранденбургской башки, — презрительно фыркнул ратсгер фон Зейбот.
— Да, до тех пор, пока бюргерство будет заодно с патрициатом, — предостерегающим тоном произнес почетный бургомистр.
Всеобщий язвительный смех был ему ответом. Эразм фон Муслор коротко и выразительно подтвердил:
— Они всегда будут заодно!
— Еще бы! — запищал маленький и шарообразный ратсгер фон Гиплер.
— Так ли? — смело возразил Эренфрид Кумпф. — И даже тогда, когда вы своими беззакониями заставляете бюргеров вспомнить, что они тоже имеют подтвержденное грамотами право участия в управлении городом?
Эти слова произвели на уважаемых отцов города действие разорвавшейся бомбы. Но тут поспешил вмешаться второй бургомистр.
— О чем мы спорим? Дело давно решено. Совет сказал свое слово. Всякие словопрения излишни.
— Что? Как? — запальчиво возразил Эренфрид Кумпф. — Такого решения совет не принимал и не мог принять. Какое право имеет магистрат отменять приговор имперского верховного суда? Нет, тут пахнет кумовством. Чья-то услужливая рука в магистрате положила этот приговор под сукно!
Тут разразилась настоящая буря. Ратсгеры вскочили со своих мест, опрокидывая дубовые кресла, кричали, размахивали руками и осыпали угрозами Эренфрида Кумпфа. Председатель порывался заговорить, но прошло немало времени, прежде чем ему удалось водворить тишину. Его лицо побагровело от натуги. Затем он степенно и с достоинством произнес:
— Не пристало магистрату осуждать своих предшественников. Вынесенные ими решения обязательны и для нас. Дело Килиана Эчлиха решено и подписано. Почтенные и уважаемые господа советники, кто согласен, пусть поднимет руку.
— Все мы, все согласны! — закричали хором ратсгеры, за исключением Георга фон Берметера, который не поднял руки и только сокрушенно качал головой. Эренфрид Кумпф встал, окинул взором зеленый стол и, с трудом сдерживая негодование, сказал:
— Этим решением магистрат расписался в беззаконии своих предшественников, а следовательно, возложил ответственность на себя. Увидите, кара не заставит себя долго ждать.
— Вы до того погрязли в своих еретических заблуждениях, что смеете угрожать магистрату? — воскликнул Конрад Эбергард, наступая на него. — Ротенбург добрый католический город и всегда останется таковым, готов в этом присягнуть!
— Все мы готовы! — отозвался коротконогий ратсгер фон Гиплер, а тучный фон Зейбот, засопев, добавил:
— Нет, шалишь, вам не удастся подсунуть нам кукушкино яйцо!
Эренфрид Кумпф остался невозмутим. Своими маленькими, сверкающими из-под густых бровей глазами он сверлил холодное лицо Эбергарда.
— Я не угрожаю, — возразил он, — но знайте, господин Эбергард, что там, где у вас среди бюргерства один сторонник, у меня их по меньшей мере два.
С этими словами он подхватил свою длинную мантию из простого сукна и быстро пошел к двери.
Эразм фон Муслор, проводив недобрым взглядом коллегу по магистрату, предложил перейти к очередным делам, но его предложение не нашло поддержки. Все были слишком возбуждены. Обвинение в кумовстве попало не в бровь, а в глаз. Большинство аристократических фамилий было связано между собой узами родства и свойства. Господин Эразм был вынужден закрыть заседание. Отцы города направились в питейную: гнев возбуждает жажду.
Георг фон Берметер пошел со всеми, надеясь за стаканом вина поговорить со своими товарищами и решить, насколько справедливы упреки, с которыми обрушился на них Эренфрид Кумпф. Второй бургомистр проводил коллег только до Рыночной площади, казавшейся вымершей. Там он попрощался с ними и направился домой. Он чуждался грубых удовольствий своего времени вовсе не из соображений высокой нравственности, а в силу холодности темперамента. Он рано овдовел, и Макс был единственным плодом его недолгой супружеской жизни.
Дом господина Конрада Эбергарда был расположен на южной короткой стороне прямоугольника, образуемого Рыночной площадью, напротив Дворянской питейной. Дом был трехэтажный, и верхние этажи выступали над нижними. Одной стороной дом выходил на улицу, круто спускавшуюся к трактиру Габриэля Лангенбергера, другой — на самую длинную в городе Кузнечную улицу, упиравшуюся в ворота госпиталя Святого Духа. Каменные ступеньки крыльца были стерты ногами трех поколений, но больше всего им досталось от нынешнего. Конрад Эбергард управлял не только огромным состоянием Габриэлы Нейрейтер, но и фондом вспомоществования неимущим вдовам бюргеров, а также исправлял обязанности второго бургомистра и второго старосты собора св. Иакова. Поэтому двери его дома редко оставались закрытыми. Направо от входа помещался кабинет хозяина, налево — приемная его сына, который по возвращении на родину вступил на поприще нотариуса и адвоката. Эта профессия пока еще оставляла ему больше свободного времени, чем ему бы того хотелось, и он заполнял свой досуг чтением истории Ротенбурга и поисками старинных грамот и документов в пыли городского архива.
За одним из таких пергаментов и застал его отец. Господин Конрад, быстро протянув руку, взял документ и опустился в кресло перед простым письменным столом, из-за которого Макс поднялся при его появлении. Документ был датирован 1100 годом и имел отношение к госпиталю ордена иоаннитов[41] на Кузнечной улице. Равнодушно отбросив в сторону пергамент, Конрад Эбергард сказал:
— Предоставь другим рыться в архивной пыли. Пользуйся жизнью, пока молод. Разумеется, не так, как наши городские дворянчики; ты для этого слишком серьезен. Тебе пора жениться.
— Пользоваться жизнью можно и другими, более надежными способами, — возразил Макс, крайне удивленный его словами.
— Напротив, смолоду жениться — не кручиниться, — отпарировал Эбергард-старший, тщетно пытаясь изобразить на своем застывшем лице подобие улыбки. — Ты знаешь старинный обычай нашего города: женить сыновей, как только они становятся на ноги. Для твоего же блага мне хочется, чтобы ты возможно скорей последовал этому доброму обычаю. Пришло время расправить крылья. Ротенбург для тебя лишь начало пути. Что ждет тебя здесь даже при самых благоприятных обстоятельствах? Самое большее — должность городского писца, да и то через много лет. Томас Цвейфель еще не так стар, чтобы скоро уступить свое место. Быть ходатаем по крестьянским делам? Что ж, профессия хлебная, не спорю, но стоило ли для этого кончать Болонский университет и получать докторскую степень? Нет, тебя ждет, мне думается, более завидная участь.
Макс, сидевший по другую сторону стола, широко раскрыл глаза.
— По правде говоря, я вас не понимаю, любезный батюшка. Обладай я даже честолюбием, влекущим к более высокой цели…
— Для достижения которой у тебя нет средств, не так ли? — прервал его отец, положив ногу на ногу и играя взятым со стола гусиным пером. — Вот почему и следует жениться, и, разумеется, на девушке с состоянием. То, чего тебе недостает, есть у моей питомицы, и я постараюсь уладить дело.
— Вы думаете о Габриэле? — воскликнул, смутившись, сын. — В таком случае убедительно прошу вас, отец, ничего не предпринимать. Я имею все основания думать, что Габриэла не отнесется благосклонно к вашим замыслам.
— Это из-за вчерашней-то ссоры за обедом? Я заметил. Ну, да вы помиритесь…
В тоне Эбергарда-старшего сквозила легкая ирония. Но ответ сына прозвучал серьезно:
— Нет, это ни к чему не приведет. Нам с Габриэлой нечего друг другу прощать. Нас разделяет пропасть, которую не заполнить ничем, даже любовью, а Габриэлу Нейрейтер я не люблю. Словом, этот брак невозможен.
Сеющий крестьянин
С рисунка Ганса Франка
— Не любишь? — воскликнул старик и отшвырнул перо. — Я не думал, что ты способен придавать значение подобным, давно вышедшим из моды, глупостям. Для брака необходимы более прочные основы, чем мимолетное волнение сердца. Такие условия с обеих сторон налицо. Неужели ты лишь затем добивался докторского диплома с отличием, чтобы он плесневел в нашем городе? А таков и будет твой удел: ведь у тебя нет ничего, корме жалких грошей, оставленных матерью; я же не располагаю никакими средствами. Как тебе известно, Ротенбург даже своим высшим чиновникам платит такие гроши, что я вынужден был взвалить на свои плечи дополнительное бремя, чтобы обеспечить приличествующее моему положению существование и дать тебе образование. Это стоило мне очень, очень дорого. Особенно твое учение в Италии и поездки за границу. Но я не останавливался ни перед чем, будучи убежден, что при твоих способностях все затраты окупятся. И вот теперь, когда перед тобой открыто блестящее поприще, ты не можешь на него вступить, как хромой на ристалище. Всякий тебя обгонит. В наше время не мечом, а знаниями прокладывают себе дорогу к высшим, почетнейшим местам в совете князей, и в первую очередь знанием римского права. Состояние моей подопечной откроет перед тобой заманчивую перспективу, а лучшей спутницы жизни тебе не найти. Она честолюбива и благодаря своей красоте и воспитанию, полученному в доминиканском монастыре, достойна блистать при самом пышном дворе.
— Помилосердствуйте, отец! Как низко вы ставите меня! — воскликнул глубоко задетый Макс. — Быть обязанным своим будущим не собственным силам, а золоту, чужому золоту. Да еще чьему! — И, переведя дух, продолжал: — Во время поездки по империи я видел много нужды, беспросветной нужды. Я видел наших крестьян, у которых нет и куска хлеба, хотя изнывают они в тяжком труде, изо дня в день, от зари до зари, и в дождь и в непогоду. Я видел их убогие хижины, жалкое рубище, голодное существование и тяжкий гнет господ, которые обращаются с ними хуже, чем со скотом. Я видел, как изнуренные непосильным трудом крестьяне по ночам выходят с трещоткой на поля, чтобы уберечь от дичи хлеб, который кормит их семьи. Я видел, как несчастных женщин лишают отдыха по праздникам и воскресеньям, выгоняя чуть свет на луга собирать раковины для того, чтобы их госпожа могла наматывать нитки. Я видел, отец, крестьян и крестьянок, запряженных в плуг, как скот; на них пахали землю под бичом фогта. И я спросил себя, откуда эти беспредельные страдания простых людей? Кому достаются плоды их тяжкого труда? Если на золото владетельных господ позорным клеймом ложатся слезы, голод, проклятья обездоленных и угнетенных, то трижды заклеймены сокровища той, кого глас народа называет дочерью ростовщика. И никакой красотой не прикрыть этого позора!
Лицо Конрада Эбергарда, похожее на изъеденный временем камень, стало еще неподвижней. Но в его голосе послышались раскаты приближавшейся грозы.
— Нужда и голод всегда были и всегда будут, пока стоит мир. И никаким реформаторам этого не изменить, ибо так устроено самим богом. Но берегись ложного учения этих новоявленных пророков, всех этих мюнцеров, карлштадтов, дейчлинов и как их там еще. Они навлекут погибель на головы несчастных, кого стремятся уловить в свои сети, пользуясь их легковерием и слепотой. Да что тебе до людских толков? Старик Нейрейтер был умным человеком. Он начал с малого. Впрочем, и прогремевшие на весь мир Фуггеры[42], которые теперь богаче любого из князей, когда-то пришли в Аугсбург бедными ткачами. Подобно им, он сумел воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Это не только право, но и долг каждого разумного человека. Такие люди двигают мир вперед и способствуют преуспеянию своего родного края. Ничего противозаконного Нейрейтер не совершал. Коль скоро его дочь принимают с распростертыми объятиями в лучших домах наших патрициев и коль скоро ее приютил под своим кровом наш первый бургомистр, я полагаю, даже твоя чрезмерная щепетильность должна быть удовлетворена. Ее богатство незапятнанно.
— Я не разделяю ваших взглядов на жизнь, — твердо, но сдержанно возразил молодой Эбергард. — Но даже если б я мог сиять с Габриэлы всякую ответственность за дела отца, то на богатстве ее все же остается пятно. Я уронил бы себя в собственных глазах, если б воспользовался ее средствами в угоду своему честолюбию. Я всегда ценил ваши благодеяния и благодарен вам за них от всего сердца. Ваши честолюбивые замыслы вызваны заботой о моем счастье, но они для меня неприемлемы. Почему — теперь вы знаете сами. Прошу вас, не настаивайте.
— Твои доводы свидетельствуют лишь о незрелости твоего разума, — возразил старик, и его впалые щеки вспыхнули от гнева. — Так, стало быть, мне придется думать и действовать за тебя. На правах отца я сам выбрал тебе жену. Ты обязан повиноваться. — И, оттолкнув кресло, он встал.
— Мне очень прискорбно, но я не могу подчиниться, отец, — решительно произнес Макс Эбергард и тоже встал. — Я уже не мальчик, и вы не заставите меня поступать противно моим убеждениям. Но, прошу вас, не будем ссориться.
— Это зависит от тебя, — ответил Конрад Эбергард и вышел из комнаты.
Оставшись один, Макс тяжело вздохнул. С тех пор как он вернулся из Италии, ему с каждым днем все яснее становилась неизбежность столкновения между его мировоззрением, сложившимся на чужбине, и взглядами его отца, глубоко уходящими своими корнями в прошлое. Началась борьба, которая не только не могла разрешить противоречия, но еще больше обостряла их, и это глубоко огорчало его. Рано потеряв мать, он рос, исполненный уважения перед незаурядным умом и волей своего отца. После столкновения из-за Габриэлы к его сыновней привязанности примешалось чувство горечи. Живя в Италии, он охотно вспоминал часы, проведенные вместе с ней и ее подругой Сабиной в доме ратегера Эразма. Он лелеял надежду сделать Габриэлу поверенной своих тайных мыслей. Вчерашний разговор за столом открыл ему глаза, он обманулся в своих ожиданиях.
— Jacta est alea![43] Я отважился! — повторил он слова Ульриха фон Гуттена, чьи творения главным образом и привели его на новый путь. Имя этого гениального и дерзновеннейшего из гуманистов взывало к нему со стены его университетского двора, где оно было высечено рядом с именами других его славных соотечественников. Возвращаясь на родину, он избрал дорогу через Швейцарию лишь для того, чтобы побывать на могиле Гуттена, на острове Уффенау посреди Цюрихского озера. Искусный врачеватель, пастор Шнеег, давший приют страдальцу в его последние дни, поведал Максу многое о Гуттене. И сейчас тени минувшего оживали перед его глазами. Он вспомнил франконского рыцаря, приславшего деньги отцу Шнеегу на памятник безвременно погибшему борцу. Этого рыцаря звали Флорианом Гейером из Гейерсберга. Как ротенбуржцу, Максу знакомо было это имя, и, томясь одиночеством, он не раз боролся с искушением раскрыть перед рыцарем свое сердце, в котором также жила привязанность к Гуттену. Теперь наконец он решился и, написав письмо, отнес его в «Медведь» Лангенбергеру. Там можно было скорей всего рассчитывать на оказию. Почты в Ротенбурге тогда еще не было.
Вернувшись домой, Макс нашел в своем кабинете посетителя, прибывшего в Ротенбург накануне крещенья. Об этом человеке было говорено немало всякого за столом у Эразма фон Муслора. Кое-что о нем Макс слышал и от отца, и все эти разговоры создали в воображении Макса довольно причудливый образ незнакомца. Теперь перед ним стоял во плоти сам рыцарь фон Менцинген. Стефан фон Менцинген[44] происходил из старинного швабского знатного рода. Переселившись в Ротенбург в начале столетия, он женился на дочери ратсгера Преля Маргарете и приобрел здесь права гражданства. Вскоре после того он поступил на службу к маркграфу Бранденбургскому на должность оберамтмана[45] соседнего городка Креглингена на Таубере. Оставив через несколько лет этот пост, он купил небольшой замок Рейнсберг во владениях Ротенбурга. Покупка эта повлекла тяжбу с ротенбургским магистратом, ибо рыцарь фон Менцинген уклонился от уплаты рекогниционного налога, взимаемого городом при переходе недвижимости в другие руки. В то же время креглингенцы обратились в имперский верховный суд с жалобой на Менцингена за учиненные им притеснения. Суд предложил рыцарю возместить ущерб и поручил ротенбургскому магистрату взыскать с него исковую сумму. Это еще подлило масла в огонь и укрепило подозрения в том, что благородный рыцарь, чье материальное положение по прибытии в Ротенбург было далеко не блестящим, обогатился путем вымогательств в Креглингене. Но не такой человек был Стефан фон Менцинген, чтобы смириться перед неудачей. Он нанес оскорбления виднейшим членам магистрата и бежал к герцогу Ульриху Вюртембергскому. Теперь же, заручившись охранной грамотой, он прибыл в Ротенбург, чтобы уладить свою тяжбу с городом.
Якоб Фуггер
С гравюры Ганса Буркмайра
Внешний вид и манеры рыцаря красноречиво свидетельствовали о том, что превратности судьбы нимало не сбили с него спеси. Черный камзол испанского покроя, по новейшей моде, распространившейся в Германии при Карле V, был из тончайшего фламандского сукна. На плечи был наброшен изящный камлотовый плащ. Высокий стан рыцаря обнаруживал склонность к полноте; голова сидела на толстой и короткой шее. Коротко остриженные волосы оставляли острую прядь на высоком выпуклом лбу; черные, слегка навыкате, глаза были окаймлены тяжелыми веками. Яркая полоса чувственных губ отделяла бородку от закрученных кверху усов. При виде посетителя Максу сначала стало как-то не по себе, словно не Стефану фон Менцингену, а ему самому сопутствовала дурная слава. Но рыцарь не замедлил сообщить ему о цели своего прихода.
— Вот уж не представлял себе, любезнейший доктор, что вы так молоды! Ведь я ищу юриста, умудренного опытом, — заговорил тоном сердечной откровенности посетитель. — Впрочем, ваши клиенты охотно доверятся вам, угадав, с каким усердием и любовью вы отдадитесь их делу.
— При условии, что это усердие не будет посрамлено знаниями и опытом противной стороны, — заметил Макс, приглашая гостя сесть.
— Приступим к делу без лишних слов, — продолжал рыцарь, — хотя, по чести говоря, за бокалом доброго кипа я иногда не прочь и поспорить. Причина моего возвращения в Ротенбург с разрешения городских властей не составляет государственной тайны. И вам эта причина, конечно, известна, милейший доктор? Тем лучше. Почетный бургомистр Эренфрид Кумпф и Томас Цвейфель указали мне на вас, как на превосходного юриста, которому можно доверить мою тяжбу с магистратом и имперским верховным судом. Особенно же с последним. Креглингенское дело должно быть пересмотрено и решение суда отменено. Возьметесь ли вы за это?
Макс колебался.
— Я еще не имел случая доказать на деле, что заслуживаю высокого доверия господ из магистрата, да и вашего доверия, почтенный рыцарь.
— Клянусь честью, я готов рискнуть! — воскликнул фон Менцинген, движеньем руки как бы отметая всякие возраженья. — Вы убедитесь, любезный доктор, из документов, что в Креглингене я действовал лишь строго в соответствии с полученными мною инструкциями. Вы не хуже меня знаете, где находятся насосы, выкачивающие средства, которые прокучивают в Онольцбахском замке. Приказы всемилостивейшего маркграфа гласят неизменно одно и то же: денег, денег и еще раз денег! Не спорю, я сам тогда усугубил свое тяжелое положение, но кто бы сдержал законное негодование, убедившись в том, что правосудие — это двуликий Янус? Будь я в родстве со здешними именитыми господами, они бы и не подумали требовать с меня рекогниционный налог. У меня просто все закипает внутри. Не будь я твердо убежден в правоте своего дела, разве я привез бы сюда с собой семью?
— Что ж, я готов помочь вам одержать победу, — решился наконец Макс.
Стефан фон Менцинген крепко пожал ему руку. В это время на городской башне пробило одиннадцать.
— А ведь уже пора обедать! — воскликнул рыцарь, поднимаясь. — Жаль, мне хотелось потолковать с вами о том о сем. Ну и времена настали! Старые друзья превращаются в заклятых врагов, бывшие противники протягивают друг другу руку и вступают в тесный союз. Вот что, любезнейший доктор, не окажете ли вы мне честь завтра разделить со мной скромную трапезу? Прошу вас.
Макс не нашел благовидного предлога, чтобы отклонить приглашение. Он предпочел бы воздержаться от общения с рыцарем, пока не ознакомится с документами и не убедится в необоснованности выдвинутых против него обвинений в притеснении креглингенцев. Вымогательство у населения казалось Максу тягчайшим преступлением.
Стефан фон Менцинген жил на Рыночной площади. Пройдя через просторную сводчатую прихожую, Макс очутился в трапезной, выходящей окнами на улицу.
— Мой отважный лоцман среди подводных рифов судопроизводства! — такими напыщенными словами представил хозяин гостя своей супруге и дочери. Пока рыцарь пребывал в бегах, его семья оставалась в Рейнсбергском замке. Фрау фон Менцинген, одетая просто и скромно, приветливо встретила Макса. Все в ней дышало кротостью и достоинством, Злоключения мужа и долгие годы разлуки оставили на ней неизгладимые следы: в ее волосах, покрытых черной наколкой, преждевременно протянулись серебряные нити, в глазах затаилась скорбь. И синие глаза дочери — девушки лет девятнадцати — глядели на редкость серьезно. На ее точеном, ослепительно белом лице не было и тени юного задора. Серьезность рта придавала удивительное благородство высокому челу, окруженному золотистым сиянием густых, свободно вьющихся светло-каштановых кудрей. Ее стройный гибкий стан облегало платье цвета морской волны с розовыми прорезами. Тонкая талия была перехвачена серебристым пояском. На поклон Эбергарда она ответила едва заметным кивком головы и быстрым взмахом длинных шелковистых ресниц. Но лицо ее оставалось серьезным.
— Не побрезгайте вкусить вместе с нами от сих скудных благ, — обратился к гостю фон Менцинген, приглашая его к столу.
На деле скудные блага оказались изобилием отменных яств и тонких вин, поставлявшихся хозяину дома питейным старшиной магистрата. Рыцарь Стефан воздавал должное еде и напиткам и усердно потчевал гостя, не пренебрегая и разговором. Он вообще отличался живостью ума, а хороший обед, несомненно, вдохновлял его. Макс, равнодушный к радостям стола, тем временем любовался строгой красотой девушки, которая, так же как и ее мать, молча прислушивалась к разговору мужчин. Подшучивая сам над своей тяжбой, рыцарь рассказал о своей встрече на гейльбронском постоялом дворе с бывшим канцлером графов фон Гогенлоэ, Венделем Гиплером[46], который приезжал туда каждый базарный день и рыскал по окрестным городам и селам, давая безвозмездно советы бедным людям, притесняемым господами. В тот раз он направлялся в Нюрнберг защищать двух бедняков от графского произвола в имперском верховном суде.
— Какой прекрасный человек! — воскликнула девушка, и ее темно-синие глаза заблестели. — Можно ли оставаться равнодушной, когда сильный угнетает слабого!
— Уверен, что он выиграет свое дело, так же как и мы — свое, — подхватил ее отец. — Так выпьем за наш успех, милейший доктор!
— Дай-то боже, — тихо промолвила хозяйка дома. Мужчины чокнулись.
— В интересах знатных господ благоразумней было бы не играть с огнем, — продолжал рыцарь. — Третьего дня у этого самого окна мы наблюдали поучительную сцену. Видно, и здесь среди горожан и крестьян начинается брожение, как и повсюду. Иначе они покорно снесли бы шалость юнкеров.
И он бросил из-под полуопущенных тяжелых век испытующий взгляд на своего гостя.
— Ах, это было ужасно! — воскликнула фрейлейн фон Менцинген, и ее нежные щеки залились краской негодования.
— Эльза! — мягко остановила ее мать.
— Это лишний раз подтверждает, что бесправие и произвол неизменно сказываются и на самих угнетателях, приводя их к одичанию, — поддержал девушку Макс. — Господа становятся рабами своих низменных страстей и сами толкают себя к гибели.
— Мне думается, власть городского патрициата нигде не в почете, — заметил фон Менцинген.
— Мы стоим на грани великого поворота, господин рыцарь, — отвечал Макс, — и, надо надеяться, поворота к лучшему, если только каждый исполнит свой долг.
— И мы, женщины, тоже чувствуем дыхание нового времени, — сказала фрау фон Менцинген, сочувственно взглянув на гостя. — И перед нами тоже стоит великая цель — научиться самоотверженно помогать другим и не тратить попусту время на ничтожные мелочи. Нет ничего унизительней существования бесполезных трутней. И Эльза тоже разделяет мое мнение…
— Ну ладно, ладно! — с неожиданной резкостью перебил ее хозяин. — Ведь это вовсе не значит, что нужно замкнуться в четырех стенах, вдали от общества, как то было раньше. Уединение нам не годится. И ты, Эльза, должна наконец понять, что тот, кто не жил в молодости, вовсе не жил. От того, что мы будем отказывать себе во всем, бедным легче не станет.
Эльза покачала кудрявой головкой:
— Но я не гонюсь за удовольствиями, и мне ничего не надо, только бы не разлучаться больше с вами, батюшка!
— И бог даст, не придется, — добавила ее мать. — То были годы тяжелых испытаний.
— Для нас они миновали, — проговорил рыцарь. — Теперь мы возложим горящие уголья на головы тех, кто когда-то принес их нам[47]. И как бы им не обжечься! — Он отрывисто рассмеялся.
Когда Макс поднялся из-за стола, чтобы откланяться, хозяин сказал:
— Считайте мой дом своим домом.
— Мы всегда будем рады вас видеть, — радушно прибавила фрау фон Менцинген, протягивая ему руку, которую он почтительно поцеловал.
Прощаясь с ним, Эльза склонила свою красивую головку, и легкая улыбка пробежала по ее прелестным изогнутым губам. Когда он вышел на улицу, на душе у него было так радостно, как не бывало еще никогда со времени возвращения из Италии.
Глава пятая
Прежде чем вместе с Каспаром выйти из Ротенбурга, Кэте взяла с него обещание разузнать, что сталось с его другом, и дать ей знать. Вспоминая, с какой отвагой Ганс бросился на юнкера Розенберга, она была полна тревоги, хотя его смелость и радовала ее сердце. Наступило воскресенье, но Каспар не появлялся, ни один, ни с Гансом, на что она втайне надеялась. После обеда, взяв за руку своего четырехлетнего племянника, она вышла за околицу и остановилась у терновой изгороди, отделявшей деревню от ротенбургской дороги. Долго она стояла там, с тоской глядя вдаль, но никто не появлялся. Маленький Мартин, ее любимец, весело щебетал, что-то рассказывая ей, но она его почти не слышала. В нерешительности она прошла еще несколько шагов вперед. Слева от дороги в промозглом воздухе вороны затеяли ожесточенную перебранку и, пронесясь над самой ее головой, скрылись за темной стеной леса, которая, прерываясь кое-где редкими прогалинами, тянулась вдоль правого берега Таубера до самого Гренбаха. Зловещее карканье ворон было дурной приметой, и Кэте повернула обратно. На сердце у нее было неспокойно, но она еще так плохо читала в нем, и ей было невдомек, что ее тревога может иметь иную причину, кроме простого участия к Гансу, осиротевшему после страшной гибели его родных. А теперь, может быть, и с ним самим стряслась беда!
До сих пор и с Каспаром и с другими молодыми людьми она держалась просто и непринужденно. А ведь многим из них уже хотелось большего, чем шутить и смеяться с ней. Ведь она была не только хороша собой и бойка на язык. Она была проворна и неутомима в работе. Выйдя замуж, она получила бы от Симона некоторую сумму за свою долю в усадьбе, и, кроме того, другой ее брат, священник тауберцельского прихода, отказался от своей доли в ее пользу. Поэтому на всех воскресных и праздничных гулянках в деревне или у кого-нибудь на дому Кэте никогда не жаловалась на недостаток кавалеров. И сейчас не успела она подойти к площади, как ее уже окружили со всех сторон. Но, вопреки обыкновению, она была молчалива.
Тем временем общее внимание привлекла крытая парусиной и запряженная двумя клячами телега, которая со скрипом выкатила на середину площади и остановилась под старой липой. И повозка, и шествовавший рядом с лошадьми возница были хорошо известны не только в Оренбахе, но и во всех деревнях между Ротенбургом и Вюрцбургом. Эго был коробейник Криспин Вёльфль. Его тюки и ящики заключали в себе, можно сказать, все, чего только могла пожелать женская душа. Он развозил по деревням ножи, ножницы, иголки, тесьму и пряжу, крючки и петли, материи для мужской и женской одежды, цветные передники и пестрые кофты, головные платки и шелковые ленты для кос, зеркальна, четки, иконы и даже «Самоновейшие песни, сочиненные об этом годе». Но Криспин Вёльфль был не только купцом, но и живой газетой. Не было ни свадьбы, ни крестин, ни похорон, ни тому подобного выдающегося события во всех деревнях и селах, усадьбах и замках от Ротенбурга до Вюрцбурга, о которых не проведал бы Криспин Вёльфль. Он принимал поручения, устные и письменные заказы и выполнял их безупречно. Никто не слышал, чтобы его когда-нибудь ограбили в пути. Поговаривали, что он платит дань дерзкому разбойнику Концу Вирту Гальденскому, которого крестьяне всюду брали под свое покровительство и укрывали от слепого правосудия. Что ж, это был всего-навсего еще один налог в дополнение к бесчисленным мостовым и дорожным сборам, стеснявшим промыслы и торговлю.
Не успел Криспин устроиться со своей телегой под липой, как его окружила толпа крестьян. Он поворачивал во все стороны свое немолодое, дубленное солнцем и ветром лицо и едва успевал пожимать тянувшиеся к нему руки, потом начал распрягать и разнуздывать лошадей, весело покрикивая:
— Подходите, не стесняйтесь, любезные! По глазам вижу, что у вас денежки залежались в мошне. А уж для хозяюшек есть у меня новинка! Фартуки, фартуки с Бамбергской ярмарки!
— Эх, Вёльфль, у нас ты навряд ли разживешься, больно тугие настали времена, — со вздохом произнес Вендель Гайм.
— Сегодня туго, завтра будет вольготней, — возразил неунывающий коробейник, отстегивая парусину с одной стороны телеги. — Благо земля наша кругла: что нынче внизу, завтра будет наверху.
— Твоими бы устами да мед пить! — громко произнес подошедший Симон Нейфер. — Откуда прилетел, сокол?
— Из Эндзее, — отвечал Вёльфль. — Там и ночевал.
— А какие там новости?
— Поди что никаких. Случился, правда, в эту ночь пожар. Да вы сами небось видели зарево. Горело в замке. Сущая безделица. Амбары десятинного управления. И все добро — дотла.
Крестьяне слушали его затаив дыхание. А жена кузнеца, пристукнув кулаком по ладони, злорадно вскричала:
— Чужое добро впрок не идет!
Но старый Мартин Нейфер осадил ее:
— Полно зря болтать. Теперь, как пить дать, сдерут с нас десятину вдругорядь… Только с чего бы это загореться амбарам? Ходить туда с огнем как будто некому.
— Само собой, — поддакнул коробейник и, чувствуя, что покамест он не удовлетворит любопытства, о торговле нечего и думать, продолжал: — Только нынешней зимой в епископских амбарах жарко, как в пекле. Ведь у нюрнбержцев и бамбержцев тоже от поповских амбаров остался один пепел.
— Стало быть, поджог? — спросил, впившись в него глазами, Симон Нейфер.
— Кто б это мог сделать? — поинтересовался второй староста.
— Тому, кто укажет поджигателей, — сказал, пожав плечами, Вёльфль, — епископ Бамбергский обещал награду в пятьдесят гульденов, только по сю пору никто не объявился. В Эндзее никто и во сне не видал, как это случилось. Когда глухой ночью сторож поднял тревогу, амбарчики уже пылали как факел и о тушении нечего было и думать. А надо вам сказать, что накануне пожара, утром, туда в замок приходила жена Конца Гарта с двумя малышами от второго брака и Христом-богом молила высокородного господина графа фон Верницера, чтобы он не сгонял ее мужа с земли или дал бы ему другой участок. Потом она сама рассказывала в деревне, что граф отказал ей наотрез. Все, мол, как есть занято.
— Так это Конц? — послышался испуганный шепот.
— Он отомстил! — зычно крикнул Пауль Икельзамер.
— Как трус! — оборвал его Вендель Гайм.
— Око за око, зуб за зуб, — отчеканила в пику Гайму Виландша.
— Видать Конца никто не видал, — продолжал Криспин Вёльфль, — а хотя бы и он — ищи ветра в поле! Рейтары епископа рыщут с самого утра, разыскивая его повсюду. Конца-то они, правда, не нашли, но зато, когда я выезжал из Эндзее…
— Ну что? Да не тяни! — нетерпеливо понукали его из толпы.
— Зато нашли его жену и обоих ребятишек, — сказал коробейник и замялся.
— Смилуйся над ними творец, — с чувством произнес Симон Нейфер.
— Уже смиловался, — продолжал Вёльфль и замолчал, теребя свою меховую шапку, как будто слова застряли у него в горле. — Как раз когда я собрался в путь, их вытащили… всех троих… мертвыми из пруда.
Эти слова потрясли всех. Женщины постарше застыли в молчании; молодые, дав волю чувствам, разразились плачем и криками негодования; мужчины же старались не смотреть друг другу в глаза, словно боялись выдать сокровенные мысли.
— А ведь еще намедни, под этой самой липой, проповедник толковал нам о правах, дарованных нашему брату самим богом, о правах, на которые не смеет посягать ни один смертный! — с жаром произнес Симон Нейфер.
Вендель Гайм зашагал прочь. Симон последовал за ним.
— Так, по-твоему, Конц — трус? — тихо спросил его Симон. Вендель Гайм вздрогнул и осмотрелся. — Трус? Сам посуди, ведь он был один как перст перед угнетателями, которые довели его до крайности. Да и мы тоже хороши. С кротостью баранов позволяли драть с нас по три шкуры. Нет чтобы дать отпор нашим мучителям. Это, по-твоему, как называется? Мы наполняем церковные амбары, как пчелы улей, и предоставляем господам пожирать весь мед.
— Плетью обуха не перешибешь, — возразил Вендель Гайм. — Разве не пробовали бедняки восставать против господ? Только к добру это никогда не приводило. То их предавал какой-нибудь дворянин, то поп нарушал священную тайну исповеди, и каждый раз восстание топили в крови. Нет, я никому не верю.
Но Симона не так легко было разубедить. Уж лучше, думал он, погибнуть с мечом в руке, чем жить, влача ярмо рабства. Пока Вёльфль разносил по деревням печальную историю Конца Гарта, Симон, пользуясь перерывом в полевых работах, собирал крестьян и вел обстоятельные беседы о горькой доле народной. Слова проповедника уже вывели многих из тупого смирения, в которое погрузила их беспросветная нужда. Встрепенувшись, они увидели, что стоят на краю пропасти, и с жадностью ухватились за руку, протянутую им Симоном.
В субботу он отправился с возом полбы в Ротенбург, на рынок. Накануне выпал первый снег, ударил мороз и установился отличный санный путь. С Симоном поехал по первопутку и его работник Фридель. Поездка на рынок была лишь благовидным предлогом, чтобы встретиться с друзьями в «Медведе», как бы ненароком. Кэте не терпелось попросить брата разузнать о Гансе Лаутнере, но она не решилась.
Всю неделю девушка работала не покладая рук, чтобы «выбить дурь из головы», как она мысленно называла свое состояние. С какой стати у нее не идет из головы этот светловолосый подмастерье? Если 6 с ним стряслась беда, Каспар, конечно, дал бы ей знать. С ней творилось что-то непонятное, а сегодня в особенности. Урсула, ее невестка, давно заметила, что Кэте вернулась из Ротенбурга сама не своя. Ее прежней веселости и беззаботности словно не бывало. «Девчонку точно подменили», — жаловалась она мужу. «Да если вы, бабы, друг дружку не понимаете, кто же вас поймет?» — отшучивался он. Да и за него тоже Урсула была не спокойна. Ей было внове, что муж пропадает по целым дням, приходит домой озабоченный и не делится с нею ни своими думами, ни заботами. Последнее время Урсулу мучили подозрения, и ей было не до золовки.
Никогда еще Симон не задерживался допоздна. На дворе стемнело. Кэте пошла в кухню разжечь огонь в очаге. Урсула вышла за нею. Дети играли в комнате у деда.
— Ума не приложу, почему так долго нет Симона, — сказала Урсула, не в силах превозмочь тревогу. — Об эту пору он всегда бывает дома. Чует мое сердце, не к добру это.
Кэте раздула огонь и спросила:
— О чем ты?
— Уж поверь мне, что-то гнетет его с тех пор, как он побывал последний раз в Ротенбурге. И хоть он отмалчивается, я смекаю, в чем дело, — со вздохом сказала Урсула. — Только ни к чему это не приведет. Заварили кашу на свою голову, а расхлебывать-то ее хватит и нашим детям.
Смуглые щеки Кэте запылали. Она дала слово брату никому не говорить о том, что было решено в «Медведе».
— Уж больно ты мрачно смотришь, Урсула! — воскликнула она. — Будет конец и нашим мученьям, невестушка. Ах, как бы я хотела быть мужчиной и отстаивать наши нрава вместе со всеми! Ведь я не робкого десятка, и силенок у меня не меньше, чем у любого парня. Но раз на тебе юбка, нет тебе ходу!
— Господи Иисусе! Что это тебе взбрело на ум, голубка? — изумленно уставилась на нее Урсула и опустилась на скамью.
— Ну так сиди дома и жди хозяина, а он… а он… — вырвалось у Кэте. — Ах, как это глупо, что мы, женщины, всегда сидим и ждем, когда у тебя, может, руки чешутся!
И от возмущения она надула губки.
Урсула все еще смотрела на нее широко раскрытыми глазами.
— Погоди, научишься терпенью, когда обзаведешься мужем и детьми, — сказала она.
— Вот уж не было печали! Никогда я не пойду замуж, — решительно заявила Кэте.
— Так все говорят, — возразила невестка, и слабая улыбка пробежала по ее исхудалому, озабоченному лицу. — Да, терпенье прежде всего. Что толку бежать навстречу тому, чего и так не миновать? Пришла беда, отворяй ворота.
— Беда? — переспросила Кэте, встрепенувшись, и сердце у нее бешено заколотилось. — Ты что-нибудь знаешь? Говори прямо.
Крестьянка отрицательно покачала головой.
— Ничего я не знаю, но откуда же взяться хорошему в такие времена?
Их беседу прервал старик Нейфер, вошедший вместе с детьми. Двое светлоголовых малышей, с румяными, как яблоки, щеками, подбежали к матери и защебетали, наперебой рассказывая сказку, только что услышанную от деда. То была сказка про Спящую красавицу. Старик слушал, грея руки у очага, пламя которого плясало, отражаясь на медных кастрюлях и оловянных мисках, начищенных Кэте у колодца до блеска.
— Спящая красавица — это мы, крестьяне, — пояснил старик, повернувшись к Кэте морщинистым лицом, — а принц, что разбудит ее от очарованного сна, — евангельская свобода. Дударь из Никласгаузена был не настоящий принц.
Кэте рассеянно слушала его. Слова невестки тяжело легли на ее сердце, и, собирая ужин, она гремела посудой громче обычного. Вдруг со стороны площади зазвенели бубенцы. Послышался лай собак, щелканье бича. «Хозяин!» — воскликнула Урсула и, когда заскрипели ворота, проворно вскочила с места. Старый Мартин снял с гвоздя фонарь и подошел к очагу, чтобы засветить его. Но не успел он добыть огня, как из сеней донеслись громкие звуки свирели, которые тотчас оборвались. Дверь распахнулась, и Симон, смеясь, втолкнул в комнату молодого подмастерья, у которого плечи были прикрыты от холода плотным мешком. Еще при звуке свирели Кэте едва слышно вскрикнула и почувствовала, что ее ноги словно налились свинцом. Но через минуту она овладела собой, быстро подошла к Гансу и, улыбаясь сияющими глазами, сказала:
— Так это ты?
— Ну да, он, — смеясь, подтвердил ее брат и, звонко поцеловав хозяйку, подхватил на руки детей и, лаская их, продолжал: — Надо же было проверить, что оставили от него юнкеры. Он хотел было прийти завтра с Каспаром, но уж коль скоро он зашабашил, я и прихватил его с собой. И, как видите, он цел-целехонек. Даже куртка в полной исправности.
— В самом деле? — недоверчиво спросила Кэте, с тревогой глядя на пострадавшего. — А мне казалось, что с тобой что-то стряслось.
— Пустое, об этом не стоит и толковать, — возразил Ганс. — Пришлось, правда, несколько дней проваляться в постели, но Каспар все время не отходил от меня, да и хозяйка нянчилась со мной, как с родным сыном, хоть это вовсе не в ее правилах.
— Уж это я могу подтвердить, — засмеялся Симон, оделяя маленького Мартина и его сестренку привезенными из города пряниками. — Ну и досталось нам на орехи, мне и Большому Лингарту, когда мы пришли навестить Ганса! Мое почтение! И как не стыдно нам впутывать такого юнца в наши ссоры с дворянами! Тоже, нашли на ком отыграться. Ну и баба! Даром что птичка-невеличка. Даже Большой Лингарт и тот еле ноги унес.
Тем временем Ганс, сбросив мешок и шляпу, протянул хозяйке руку. Он стоял, озаренный ярким отблеском пламени очага, и Урсула с видимым удовольствием рассматривала его, украдкой поглядывая на Кэте. Старый Мартин смотрел на светловолосого подмастерья широко раскрытыми глазами, держа в руке зажженный фонарь, который он собирался отнести работнику. Но Фридель сам пришел и забрал его. Только тогда к старику вернулся дар речи, и дрожащим голосом, показывая пальцем на Ганса, он спросил:
— Кто это?
Симон назвал его.
— Ганс Лаутнер? — повторил старик, не сводя с него глаз. — Нет, такого я что-то не припомню… — и, глубоко вздохнув, продолжал: — А я уж думал, что мертвые воскресают. Ну и сходство, как две капли воды: такие же льняные волосы, такие же синие глаза, такое же бледное лицо.
С каким-то суеверным страхом все уставились на старика. Симон положил ему на плечо руку, словно желая привести его в себя, и спросил:
— О ком это вы, отец?
— О ком же, как не о Гансе Бегейме[48], о Дударе? — отвечал старик.
— Это мой дед по матери, — сказал молодой человек и в ответ на изумленные возгласы продолжал: — Вы его знали? Бабка тоже находит, что я на него похож.
Старый Мартин обнял его и расцеловал в обе щеки. Две крупные слезы скатились по морщинистым щекам старика, и он взволнованно проговорил:
— Так ты внук Бегейма? Я слышал его проповеди в Никласгаузене, но не знал, что он женат.
Ганс отбросил белокурую прядь с выпуклого лба, посмотрел на Кэте и после некоторого колебания продолжал:
— Бабка ходила в Никласгаузен слушать его, и он перевернул ей всю душу. Но она была так бедна, что ничего не могла пожертвовать на общее дело, как делали другие. Тогда она отрезала свои прекрасные черные косы, которыми так гордилась, и принесла ему. Она пошла за ним в пастушескую хижину, за околицей, где он жил, обняла его колени и со слезами умоляла, чтобы он позволил ей остаться служить ему. И она служила ему и стала его женой перед богом. Но вы сами знаете, — закончил он с горечью, — попы сильней всемогущего бога и сожгли его на костре во славу божию.
— Да, знаем, — глухо произнес Симон.
— Ах ты горемычный, сколько выпало тебе на долю! — воскликнула Кэте и с плачем обвила руками шею Ганса и прижалась головой к его груди.
Хозяйка тоже плакала. Все притихли. Тишину нарушало лишь потрескивание дров в очаге да шипенье воды. Дети в испуге уцепились за юбку матери. Высморкавшись в передник, Урсула подошла к очагу. Кэте выпрямилась и отерла глаза. Помрачнев, Ганс продолжал:
— Бабке моей почти семьдесят, но она крепка, словно сталь. А ведь ей пришлось изведать столько горя и нужды, сколько редко выпадает даже на долю бедняка. Сердце у нее горит огнем. И она знает, что не умрет до тех пор, пока рыжебородый кайзер не выйдет из горы, в глубине которой спит глубоким сном[49]. Для нее он вовсе не умер. Когда воронье перестанет кружиться над вершиной горы, он встанет от сна и придет творить суд и расправу, а впереди него будет шествовать крестьянин с обнаженным мечом в руке.
— Да, уж творить суд будем мы, — зычно произнес Симон и выпрямился во весь рост.
Работник Фридель, задав корм лошадям, вернулся из конюшни. Кэте положила на стол большой каравай ржаного хлеба, приготовила каждому по ложке и принесла из погреба — в честь гостя — кувшин молодого вина. Хозяйка подала ужин: ржаной кисель и селедку. Кэте прочитала вечернюю молитву, и все заработали ложками, черпая разом из общей миски. Только для маленького Мартина, которому трудно было дотянуться, поставили отдельную чашку. Он сидел рядом с отцом, а его маленькая сестренка — рядом с матерью, и та кормила ее. Ели молча. Слышались лишь тоненькие голоса малышей, то и дело обращавшихся к родителям. Старый Мартин не сводил глаз с Ганса. Взгляд Кэте тоже часто устремлялся в его сторону. Как он бледен! Глядя на его печальное лицо, девушка думала: «Ведь это лицо обреченного, недаром мое сердце чует беду».
Когда после ужина все собрались у пылавшего очага, Кэте заставила Ганса подробно рассказать о том, как он был ранен. Вытащив из-за пояса флейту, он показал заплату на куртке.
— Это моя праздничная одежда, лучшей у меня нет, — смущенно проговорил он, как бы извиняясь. Рядом с ним, в углу, дремал Фридель, слегка посапывая.
Старый Мартин, выглянув из-за печи, спросил:
— Скажи, откуда ты родом?
— Из Бекингена.
— И твоя бабка ходила оттуда в такую даль, в Никласгаузен? — удивился старик.
— Нет, она из Гальтенбергштеттена, — сказал Ганс, и лицо его потемнело. — Она была там крепостной.
— Как! Крепостной Розенберга? — воскликнул Симон; он сидел по другую сторону печи, подбрасывая на колене мальчугана. — Теперь я понимаю, почему ты с такой яростью накинулся на юнкера. Большой Лингарт все мне рассказал.
Ганс побагровел. Грудь его тяжело вздымалась, но он молчал. Самое страшное не шло у него с языка. Он взял свирель и заиграл.
— Эх, хорошо! — сказал Симон. — А давеча, когда пальцы у него закоченели, дело не ладилось. Сыграй-ка что-нибудь повеселей.
Прижавшись к коленям Ганса, малыши впились в него круглыми изумленными глазами. Но как он ни старался, ничего веселого у него не получалось. Видно, было ему не до веселья, и его свирель знала лишь печальные напевы. Кэте сочувственно вздыхала. Вдруг он оборвал песню и заиграл новую мелодию, напоминавшую церковный хорал, в ней зазвучали мятежные призывы. Мелодия лилась все громче и пламенней и вдруг закончилась короткими резкими звуками, похожими на победный клич.
— Стой! Стой! Откуда у тебя эта песня? — взволнованно воскликнул старик. — Ведь я ее знаю, знаю!
— Ее часто пела моя бабка, вот и запомнил, — отвечал Ганс. В его глазах заблестели синие молнии. — Она рассказывала, что с этой песней шли в бой гуситы.
— И я тоже пел ее когда-то! — промолвил старик и словно помолодел. — Сотни, тысячи людей пели ее на лугу под Никласгаузеном в воскресенье святой Маргариты.
— Наступит час, когда и мы ее запоем! — воскликнул Симон. — Поверьте моему слову, эта песня спугнет черную стаю с Тюрингской горы. — Он встал, расстегнул куртку, достал из-за пазухи какие-то сшитые вместе листки и, подойдя к лучине, горевшей на столе в железном поставце, положил их перед изумленным Гансом и сказал:
— Вот, смотри!
Все, в том числе и проснувшийся Фридель, с любопытством уставились на брошюру.
Гравюра на заглавном листке изображала рыцаря с большим султаном на закованном в доспехи коне. За рыцарем следовал целый отряд крестьян, вооруженных копьями, палицами и косами. Сверху был нарисован агнец божий.
— Эх, будь он императором! — воскликнул Ганс. — Дворянских вождей крестьянину не надобно.
— Что правда, то правда, — подтвердил старый Мартин. — В Никласгаузене в ту пору тоже были дворяне — ленники[50] епископа Вюрцбургского. Они, видно, надеялись нашими руками жар загребать. А пришло время выручать нашего святого, их и след простыл!
— Оно, конечно, иной раз и среди дворян попадаются такие, что честно стоят за народное дело, да только не чаще, чем белые вороны, — заметил Симон.
— Спокойной ночи всей честной компании! — сказал работник Фридель и, тяжело ступая, вышел из комнаты.
Наморщив лоб, Ганс молча пробегал глазами заглавие летучих листков, оно гласило: «Истинные и справедливые статьи всего крестьянского сословия и всех подневольных людей, притесняемых своими духовными и светскими властями».
Титул листовки Памфила Генгенбаха о восстании под знаменем Башмака
— Это жалобы простого народа, собранные по всей стране, — пояснил Симон. — Все они изложены в «Двенадцати статьях»[51]. Святым писанием подтверждено, что угнетение противно слову божию. Завтра вечером Пауль Икельзамер прочитает нам эти статьи. Они посланы также на одобрение доктору Мартину Лютеру.
— А что толку? — со вздохом промолвила хозяйка. — Вот и проповедник давеча нам объяснял, что многие тяготы наложены на нас противно священному писанию.
— Статьи будут предъявлены властям, — сказал Симон. — Во многих местах это уже сделано. Мы не требуем ничего такого, на что не имеем законных прав. Ты спрашиваешь, что толку? А толк в том, что теперь мы знаем свои права. А право — это сила даже в слабых руках!
И он спрятал брошюру, которую доставил в Оренбах странствующий жестянщик бретгеймцу Мецлеру от его брата из Балленберга.
Ганс задумчиво глядел на красноватое пламя лучины. Лицо его было печально, даже скорбно. Кэте с сочувствием смотрела на него. Казалось, она понимала, что происходит в его душе. По деревенскому обычаю спать ложились рано. Симон взял со стола лучину, повел гостя через сени в комнату, где для него была приготовлена постель, и, пожелав ему доброй ночи, оставил одного.
Но, несмотря на пожелание хозяина, растревоженные в этот вечер воспоминанья не дали Гансу сомкнуть глаз. Снова он видел себя в убогой хижине, где жил впроголодь со своей бабкой, выносившей на гейльбронский рынок яйца и птицу. Снова слышал повесть об ужасной гибели своих родителей, повесть, которую она рассказывала ему там, в хижине, в долгие вечера, под монотонный стук дождя по крыше или неистовые завывания ветра. Она только и жила этими страшными воспоминаниями, которые стали для Ганса тем, чем для других детей были сказки бабушки. Вот там стояла она на пригорке, перед Мариенбергским замком, когда ее любимого сжигали на костре, а через несколько месяцев, когда родилась мать Ганса, она ушла с ребенком на руках и больше не вернулась в родное село. Спасая свою дочь от рабства и ненасытной похоти господ, жертвой которой пала сама, — дли владетельных господ крепостная всего лишь вещь, — она обрекла себя на нищету и скитанья. И перед Гансом вновь и вновь вставал образ высокой женщины с малюткой на руках; она брела по дорогам и в дождь и непогоду, и в зной и в лютую стужу, из деревни в деревню, из города в город, прося подаяния, голодная, холодная, бесприютная. Она была рада получить хоть какую-нибудь работу во время жатвы, только никто не брал работницу с ребенком. Но могла ли она расстаться с детищем того, кто своей любовью пробудил ее сердце и вырвал из омута рабства? В конце концов она обосновалась в Бекингене, в богатой вином и хлебом долине Неккара. Там она вырастила и выдала замуж дочь.
Но еще больше, чем эти воспоминания, его терзала в эту бессонную ночь мысль, что он изменил своему долгу мстить за своих близких. Как могло притупиться в нем чувство мести? «Помни о мертвых!» — напутствовала его бабка, он же вспомнил об этом лишь в день трех волхвов, в «Медведе», а потом, когда лежал, раненный, в постели, и сознание вины жгло ему сердце. Он горько упрекал себя, муки совести раздирали грудь.
Утром он встал с тяжелой головой и охотно согласился проводить Симона после завтрака по дороге в Тауберцель, куда тот шел повидаться с братом, приходским священником. Был ясный солнечный день, снег скрипел под ногами, и лесок, через который пролегал их путь, сверкал на солнце, словно посеребренный. На свежем воздухе у Ганса немного отлегло от сердца. Вернувшись к Нейферам, он застал Кэте с детьми; взрослые ушли в церковь. В большой горнице было прибрано, глиняный пол чисто выметен и посыпан песком. Девочка играла под столом с безголовой куклой; ее маленький братишка, издавая воинственные клики, скакал на своей строптивой деревянной лошадке. Кэте сидела на скамье у окна, сложа руки и скрестив ноги. Она по-прежнему принарядилась, волосы ее были заплетены в косы и перевязаны красной лентой; из темного корсажа выглядывал край белоснежной рубашки из грубого холста. Короткие рукава оставляли открытыми полные округлые руки. Пристально посмотрев на Ганса, она с довольным смехом потянула его за руку и усадила рядом с собой. Его бледные щеки порозовели от ходьбы.
— Вот теперь у тебя совсем другой вид. Остался бы здесь на недельку, так вовсе бы поправился.
Юноша отвечал, что об этом нечего и думать. В понедельник утром он должен быть в мастерской. Работы у него по горло. Она скорчила недовольную мину:
— Непременно?
Он отвечал утвердительно, и она, подавив вздох, сказала:
— Понятно, твой хозяин не может без тебя обойтись. Каспар говорил мне, что ты большой мастер своего дела и недавно смастерил золотой девичий венец необыкновенной красоты, какого он в жизни не видывал. Для кого это?
Улыбка, с которой он выслушивал похвалу, исчезла с его лица.
— Для кого? Для дочери Нейрейтера, — произнес он с притворно равнодушным видом.
— А! — невольно вырвалось у Кэте, и она покраснела. — Он пойдет к ее черным волосам, — прибавила она.
— Еще бы! — подхватил он с таким жаром, что Кэте только раскрыла глаза.
— А разве ты его видел на ней?
Чтоб удовлетворить ее любопытство, Ганс не без внутренней борьбы принялся рассказывать.
— Видишь ли, в награду за такой венец мастер позволил мне самому отнести его к бургомистру на дом. Когда я пришел, в горнице были фрау фон Муслор с дочерью, Нейрейтерша и еще несколько молодых девиц.
— И она говорила с тобой? — взволнованно перебила его Кэте.
— Ни слова не вымолвила! — ответил, покачав головой, Ганс. — Она надела венец, стала вертеться перед зеркалом и так и эдак, и все закричали хором, что она прелесть как хороша. И то была святая истина. Но она скорчила гримасу и сказала: «Эх, была бы то княжеская корона!»
— Вот спесивая! — вспыхнула Кэте.
— Ну и что ж! Ведь она живет в другом мире, не нашему чета, — попытался оправдать ее молодой подмастерье.
— Низко же ты себя ставишь! — укоризненно заметила она. — Эх, да будь я на твоем месте, я бы не ударила лицом в грязь. Смелость города берет.
Он добродушно усмехнулся.
— Ты думаешь, раз цех золотых дел[52] — самый благородный из цехов, так стоит мне только сделаться мастером, и можно смело явиться пред ее светлые очи? — И уже серьезно продолжал: — Я бы рад изготовить свой мейстерштюк[53] и стать мастером, да только не примут меня в мастера ни здесь, ни в другом месте. Вот если б я был сыном мастера, тогда иное дело. Для них двери открыты. А другим они ходу не дают, и как бы ты ни проявил себя, тебе не найдется местечка среди мастеров. Наша доля — быть «вечными подмастерьями», а если бедняга впадет в отчаянье, что ж, кабак да большая дорога для всех открыты! Немало искусных подмастерьев скитаются бесприютными бродягами. Скоморох, что был с канатным плясуном в Ротенбурге, тоже из нашей братии: бывший подмастерье сапожного цеха. Каспар разговорился с ним… Так о чем это я? Да, что я низко себя ставлю. Вот уж нет. Чего ради? Ты думаешь, одних знатных господ бог создал по образу и подобию своему? А на таких, как мы с тобой, только материал испортил? Как какой-нибудь косорукий мастеровой? Нет, нет, с теми людьми у меня нет и не может быть ничего общего! Никогда!
— А все-таки… — начала было Кэте и замялась, покраснев до корней волос, но, пересилив себя, продолжала: — А все-таки не на шутку влюбился в нее?
— Нет, не бывать этому никогда! — с жаром воскликнул он и, вскочив на ноги, заметался по комнате. — Ты ведь знаешь, какое зло они мне причинили! Но если б ты знала все! Нет, этому никогда не бывать!
— Я все знаю, — тихо сказала она и с умоляющим взором протянула ему руку.
Он отбросил непокорную прядь со лба, посмотрел на Кэте долгим взглядом и, присев рядом с ней на скамью, уже сдержанней продолжал:
— Если б ты знала, какое детство выпало мне на долю!
И он начал рассказывать о той мрачной, унылой поре, когда он рос без отца и без матери, а Кэте с глубоким сочувствием ловила каждое его слово.
— Да и как могло быть иначе? — продолжал он свою печальную повесть, — ведь бабка только и жила надеждой, что карающий меч господний поразит виновных, и когда говорила об этом, мне мерещилось кровавое зарево, полыхавшее в ночном небе. Только когда меня отдали в ученье в Гейльброн, я впервые почувствовал, каким беспросветным мраком была окутана до тех пор моя жизнь. И жить-то по-настоящему я стал только в годы странствий и ученичества. Я увидел, как прекрасен мир, я ощутил тепло солнца, я полюбил свое искусство и возмечтал стать таким же мастером, как итальянские ювелиры, а ведь там есть замечательные мастера!
Он замолчал. Его синие глаза блестели, но в них светилась грусть.
Кэте положила ему на плечо руку и сказала:
— А потом ты встретил ее, в тысячу раз более прекрасную, чем все, что ты до тех пор видел и о чем мог мечтать. Ты сделал для нее венец, ты увидел ее во всем блеске красоты, и она завладела всеми твоими помыслами.
Он со вздохом поник головой, и горькая усмешка искривила его губы.
— Она околдовала тебя, — прошептала Кэте.
— Может, ты и права, — глухо проговорил он. — Разве я мог забыть все, все? Ведь тогда в «Медведе» меня точно ножом полоснуло по сердцу и завертело вихрем. Я потерял голову и пришел в себя только в часовне пречистой девы, за Таубером. Там я увидел своего деда, отца и мать. Они сурово, с укоризной смотрели на меня, указывая на окровавленное тело спасителя. Я изменил им! Я предал их! — И он закрыл руками лицо.
Девушка оперлась на его плечо.
— Изменил из-за нее! — простонал он. — Нет, я вырву ее из своего сердца! — и вскочил с места.
По смуглым щекам Кэте катились слезы. Повернувшись к нему мокрым лицом, она сказала:
— Конечно, она из тех, кто смотрит на нас, бедняков, как на грязь под ногами, но все равно, когда любишь, вырвать из сердца не так-то легко.
— Нет, так должно быть, и так будет! — с решимостью воскликнул он.
Кэте сидела, опустив глаза. Он все еще метался по комнате. Когда он остановился перед ней, она подняла глаза и, зардевшись, сказала:
— А я знаю, что может спасти тебя от ее чар. Ты ведь полюбил ее, пленившись ее красотой? Это не настоящая любовь.
Она медленно поднялась со скамьи, заглянула ему в глаза, обвила его голову обеими руками и трижды поцеловала в губы.
— Ну что, как рукой сняло? — смущенно рассмеялась она, пытаясь вырваться из его объятий, но Ганс, вне себя, не выпускал ее, в замешательстве бормоча: «Кэте, о Кэте!»
Тогда она обняла его за шею и прошептала:
— Ах, Ганс, я так люблю тебя!
Маленький Мартин, верхом на палочке, остановился перед ними, разинув от изумления рот, но они его не замечали.
Загудели колокола, призывая к вечерне. Кэте вздохнула. Еще раз потянулась она к белокурому парню своими рдяными, как спелые вишни, губами, он же воскликнул:
— Эх, будь это набатный колокол!.
Приблизительно в это же время трактирщик Габриэль Лангенбергер стоял в кабинете первого бургомистра на Дворянской улице. Хозяин «Медведя» вырядился в штаны канареечного цвета до колен, огненно-красные чулки и ярко-зеленое полукафтанье, отчего его бледное дряблое лицо гоже казалось зеленым. Досточтимый герр Эразм в подбитом мехом шлафроке — по случаю легкого недомогания — с трудом удержался от смеха при виде столь яркого оперения. Вошедший остановился на почтительном расстоянии от хозяина, и по привычке его маленькие глазки забегали по богато обставленной комнате.
Но бургомистру скоро стало не до смеха, ибо Габриэль Лангенбергер, повинуясь голосу гражданского долга, пришел донести главе города, что вчера, в базарный день, несколько крестьян, собравшись в отдельной комнате его трактира, вели промеж себя опасные речи. Они горько жаловались, что жить стало невмоготу от всяких податей, налогов да десятин, а особенно от новых сборов — копытного да питейного, что теперь ни одному крестьянину во всей округе не под силу иметь коровенку и что они могли бы сбросить с себя ярмо и установить евангельскую свободу, если бы объединились и действовали все заодно, как лехрайнские, верхнешвабские и шварцвальдские крестьяне. Всего их было человек пятнадцать из разных деревень, но лично ему известны лишь оренбахский староста Симон Нейфер, Лингарт Бреннэкен по прозвищу Большой Лингарт, из Шварценброна, свояк владельца «Красного петуха» да Леонгард Мецлер из Бретгейма. Из горожан никого не было.
Эразм фон Муслор записал на листке имена и похвалил трактирщика за его гражданскую доблесть, но голос его звучал холодно. Столь же холодно простился он с Лангенбергером, после того как тот до конца облегчил свою совесть. Жаль только, что ему не удалось подслушать весь разговор, у него была пропасть народу с рынка, добавил он и с низким поклоном попятился к двери. На крыльце он остановился и с недовольным видом нахлобучил свою войлочную шляпу. Столь важные сведения заслуживали, по его мнению, совсем иного приема. Выйдя на улицу, он ядовито усмехнулся и сплюнул. Нет, пусть на будущее время эти господа из магистрата сами о себе заботятся. Что до него, то он умывает руки.
Катанье на санях
С гравюры Ганса Зебальда Бегама
Оставшись один за письменным столом, бургомистр потер свой узкий треугольный лоб, словно пытаясь стереть какое-то пятно. Доносы он приветствовал, но доносчиков гнушался. Впрочем, он отнюдь не был склонен переоценивать это сообщение. Эка важность! Кучка каких-то мужланов! Ведь они вечно недовольны. В дождь подавай им солнце, а в вёдро — дождь. В неурожайный год они жалуются на голод, а в урожайный — на низкие цены на хлеб. Ропот и мятежи среди подданных других феодальных владетелей его нисколько не тревожили: это их дело, пусть сами выкручиваются, как могут.
Звон бубенцов и щелканье бичей на улице прервали его размышления. Приписав несколько слов к списку заговорщиков, он запер его в стол и подошел к окну. Перед самым домом выстроилась длинная вереница саней: городская знать спешила воспользоваться ясным зимним днем. Выкрашенные в яркие цвета одиночные и парные сани имели самую причудливую форму; там были раковины, русалки, драконы, лебеди, гондолы. На круто загнутых кверху полозьях стояли мифологические или аллегорические фигуры. На головах лошадей развевались пестрые султаны, сбруи были унизаны бубенцами. Два переодетых турками форейтора, непрерывно щелкая бичами, гарцевали впереди кортежа. Переливая всеми цветами радуги, шумный кортеж пересек площадь, выехал через Родерские ворота и вихрем понесся по искрящейся накатанной дороге на Ансбах. В первых санях, в золотой раковине на красных полозьях, рядом с Сабиной фон Муслор, жених которой правил лошадьми, сидела в вишневой атласной шубке прекрасная Габриэла. Она кокетливо надвинула отороченный куньим мехом берет на бледный лоб, и ее черные глаза горели задором.
Глава шестая
На кровлях, башнях и зубчатых стенах Гибельштадтского замка в лучах полуденного солнца сверкал и искрился снег. Замок стоял на Среднефранконской возвышенности, по соседству с деревней Гибельштадт. Часах в трех пути к северу дорога понижалась и подходила к стенам города Гейдингсфельда, лежавшего на левом берегу Майна, наискосок от Вюрцбурга. Замок был невелик. Его окружал болотистый, поросший ивняком ров, теперь затянутый тонкой коркой льда. За рвом возвышались стены с четырьмя толстыми круглыми башнями по углам. К юго-востоку от деревни через ров был перекинут подъемный мост, который вел к воротам замка. Над стрельчатой аркой ворот широко распростер свои крылья каменный коршун. Правую сторону тесного двора занимал господский дом; оба верхних этажа его сообщались с примыкавшими к нему угловыми башнями. На противоположной стороне двора, у стены, между двумя другими угловыми башнями, помещались службы: конюшни и амбары для фуража и зерна. Подступы к стенам были защищены круглыми бастионами, сообщавшимися между собой куртинами, скрытыми за зубцами стены.
В замке с незапамятных времен сидели Гейеры Гейерсбергские. Этот древний род, представленный двумя процветающими ветвями, принадлежал еще к той партии знати, которая, совершив государственный переворот, возвела на престол Конрада III — первого императора из династии Гогенштауфенов[54]. Гейеры Гейерсбергские блистали и в ратных делах, и при дворе императоров швабской фамилии, и когда в Ротенбургском замке младший сын Конрада III со своей юной супругой задавал веселые пиры, Гейеры бывали там желанными гостями. Но в середине XV столетия алчная феодальная знать, приходя в упадок, стала покушаться на вольности имперского города на Таубере, дарованные ему высочайшей милостью рыжебородого Фридриха, и гражданам живописного города пришлось тогда взяться за меч, чтоб отстоять свои права. Тогда под натиском ротенбуржцев рухнули стены Гибельштадтского замка. Такая же участь постигла и замок Цобелей Цобельштейнских, стоявший у северо-западного края деревни, всего на расстоянии выстрела от родного гнезда Гейеров. Теперь эти бурные времена отошли в далекое прошлое. Разрушенные стены замков восстановлены, и в старых гнездах живут новые поколения знатных родов.
Рыцарь Флориан Гейер фон Гейерсберг был на охоте. Во внутренних покоях, на втором этаже замка, его ожидала жена. Она сидела у камина, в котором пылали буковые поленья. На руках она держала грудного младенца — первый плод их брака. Откинувшись в большом кресле — единственном уютном месте в этой комнате замка, — она положила ноги на медвежью шкуру. На ней было простое темное домашнее платье. Отороченная мехом черная бархатная шапочка оттеняла белокурые, отливающие бронзой косы, уложенные в узел на затылке. Яркие щеки и нежно-белая кожа — под стать волосам — напоминали алые розы на снегу. Ее нельзя было назвать красавицей, но лицо ее дышало умом и добротой, а в синих глазах светилась чистая радость материнства. Она ласкала младенца, который тянулся к ней и улыбался, дрыгая пухлыми ножками. Эту очаровательную группу оживляла игра солнечных бликов, проникавших сквозь узкие оконницы с гранеными, оправленными в свинец стеклами. Занавеси из зеленого аррасского шелка были раздвинуты. Стены, увешанные охотничьими трофеями и оружием, были обшиты мореным дубом; сводчатый потолок и стены над панелью — выбелены. В простенках и глубоких амбразурах стояли дубовые скамьи, покрытые подушками, а посреди комнаты — накрытый к обеду стол на скрещивающихся ножках. По обеим сторонам стола — ничем не покрытые скамьи. Уже пробило двенадцать часов; стало быть, господа опаздывали с обедом на целый час. Дворовая челядь и крестьяне обедали в десять часов. Стол был накрыт чистой домотканой скатертью. На нем были расставлены тарелки из блестящего олова, кувшин с легким местным вином, серебряные кубки и солонка.
Фрау Барбара вдруг перестала играть с сыном и прислушалась. «Тише, отец едет, Мецхен!» — воскликнула она, и ее нежное лицо порозовело. Она поднялась с кресел. Слух не обманул ее. На пороге появился владелец замка, стройный мужчина лет тридцати пяти, широкогрудый и мускулистый. На нем был зеленый колет и серые штаны из домотканой шерсти, заправленные в высокие сапоги. В руках у него был мушкет, через плечо висел рог с порохом, а на бедре — короткий меч. Широкополая шляпа с петушиными перьями оттеняла энергичное лицо, крупный нос и серьезные глаза. Над резко очерченным ртом дыбились закрученные кверху усы. Загорелое лицо и крепкая сухощавая фигура говорили о жизни на вольном воздухе. Когда он выехал на охоту, мать и дитя еще спали, и теперь, приветствуя жену, он запечатлел на ее устах нежный поцелуй. Мальчуган плаксиво сморщился, хотя отец коснулся его лба осторожно, стараясь не уколоть усами. Но мать успокоила ребенка поцелуем.
— Удачна ли охота? — спросила она рыцаря Флориана, пока тот снимал шляпу и оружие.
— Не очень. Снег глубокий и рыхлый, — отвечал он, отбросив со лба прядь волос. — Егерь понес на кухню несколько зайцев. Но скоро предстоит охота на зверя покрупнее. Ингольштадтские крестьяне поговаривают, будто в Гуттенбергском лесу объявились волки. Надо, не мешкая, уничтожить хищников.
— В лесу, близ Римпара, мне нередко приходилось слышать их вой, — сказала молодая женщина. — Зимой мы слышали, как они завывают за Плейхахом, в Грамшацском лесу, и так жутко становилось.
— И ты спешила юркнуть с головой под одеяло? — поддразнил он ее.
— Разве я городская барышня? — рассмеялась она в ответ. — Да, на камине лежит письмо из Ротенбурга. Его принес Вёльфль. Если с ответом время терпит, он заедет. За ним на обратном пути из Вюрцбурга. Должно быть, он еще в деревне со своим товаром.
— А что он принес для тебя? Дала ли ты ему что-нибудь заработать?
— Да, мне нужны были кой-какие мелочи. Но прочитай письмо. Остальное потерпит.
— Ясно, ясно. Единственное, что не может терпеть, это женское любопытство, — шутливо продолжал он. — Так неужто у Вёльфля не нашлось для тебя ничего занимательного?
— В Оренбахе случилось страшное дело, — замявшись, отвечала она и рассказала о выселении Конца Гарта, о самоубийстве его жены, утопившейся вместе с двумя маленькими детьми, и о том, как Гарт из мести поджег церковные амбары в Эндзее. Сам он, говорят, скрылся, забрав с собой старшего мальчика.
В глазах фрау Барбары блестели слезы, и она крепко прижала к груди дитя. Муж слушал ее, нахмурившись, и шагал взад и вперед по комнате.
— Кровавый посев даст кровавые всходы. Что ж, пусть сами пеняют на себя, — произнес он, стиснув зубы.
Потом он подошел к жене, посмотрел на сына, который вытаращил на него глазенки, и сказал:
— Бедный ребенок. Ты появился на свет в печальное время. Всюду царит насилие и произвол. Несчастный народ, замученный непосильным трудом, изнывает под гнетом. Что ждет тебя в будущем? Увидишь ли ты зарю освобождения? Пробьется ли она сквозь черные тучи? Доживешь ли ты до того дня, когда восторжествует свобода и справедливость? — Он провел рукой по лбу и продолжал: — Один в поле не воин. Чтобы завоевать свободу, мы все должны объединиться. Нужно вырастить из нашего мальчугана бесстрашного борца за правду и справедливость.
— Это не так уж трудно, — ответила фрау Барбара. — Чтобы стать человеком с благородным сердцем, сильной волей и бесстрашным духом, ему достаточно брать пример с отца.
— Замолчи, Барбара! — сурово воскликнул рыцарь Флориан.
— Нет, мой дорогой, я вовсе не льщу, — живо возразила она. — Я лишь повторяю то, что говорят все. Впрочем, я и сама знаю тебя до самых глубин твоей души. Однако пора к столу.
Она вышла из комнаты, чтобы отдать ребенка няне и распорядиться обедом. Он взял с камина письмо, вскрыл кинжалом перешитый крест-накрест конверт и углубился в чтение. Когда фрау Барбара вернулась, она застала его в глубоком раздумье с письмом в бессильно повисшей руке.
— Опять дурные вести? — озабоченно спросила она.
— Это письмо о моем незабвенном друге, Ульрихе фон Гуттене[55], — сказал он, покачав головой, и, сложив его, спрятал за пояс. — Автор мне неизвестен. Это некий Макс Эбергард, доктор права. Конечно, там, в Ротенбурге, говорить открыто о трудах и взглядах Ульриха невозможно, и вот он высказывает мне, чужому человеку, свое преклонение перед Гуттеном и открывает свое сердце. Гуттен внушает страх своим врагам даже после смерти, и ненависть, преследовавшая славного рыцаря при жизни, не пощадит, вероятно, и камня на его одинокой могиле.
— Благо, что он обрел наконец покой, — тихо промолвила фрау Барбара. — Ты ведь рассказывал, что он много лет страдал неисцелимым недугом.
— Его пламенный дух понуждал тщедушное тело служить ему до конца. Но когда после злосчастного похода Зиккингена против архиепископа Трирского я оставлял друга в Ландштуле, наскоро пожав ему руку, то я не думал, что мы расстаемся навсегда. Он отправился тогда в Швейцарию за помощью, Франц — на Рейн, а я — сюда, чтобы расшевелить наше тяжелое на подъем дворянство и заставить его вложить ногу в стремя.
— Что до меня, то я нисколько не жалею, что ты не заперся с Францем фон Зиккингеном в его Ландштуле, — сказала фрау Барбара, многозначительно посмотрев на него смеющимися глазами.
Он понял намек. Как раз тогда, в замке Римпар, родовом гнезде Грумбахов, где она жила вместе с братьями Гансом и Вильгельмом, он и встретился с нею впервые. Он обнял ее за плечи и прижал к своей груди.
— Счастье улыбнулось Ульриху лишь однажды, — сказал Флориан, чувствуя на себе ее полный нежности и гордости взгляд, — и это случилось как раз в те дни, когда мы встретились впервые. То было в Вюрцбурге, зимой тысяча пятьсот семнадцатого — восемнадцатого года. Он только что вернулся в Германию из Болонского университета, и в Аугсбурге сам император Максимилиан увенчал его во время сейма лаврами поэта. Венок сплела для него красавица Констанция Пейтингер. Он был молод, в ореоле славы, полон веры в то, что возвещенная гуманистами заря действительно взойдет. Таким он был, когда я встретился с ним при дворе епископа Вюрцбургского, Лоренца фон Бибра, склонявшегося к идеям Реформации. То была прекрасная пора. В такое время стоило жить, как говорил, бывало, Гуттен. А теперь — черная ночь, какой еще не видела наша страна.
И он махнул рукой, точно отгоняя гнетущие мысли.
Молодая женщина ласково потянула его к столу, где уже ждал их обед: говядина с брюквой и жареная задняя нога вепря. Рыцарь Флориан был состоятельным человеком и мог бы себе позволить более изысканный стол, но он не испытывал в этом потребности. С юных лет, закалив свое тело на охоте и в ратных делах, он был врагом всяких излишеств и роскоши, расцветавших тогда пышным цветом. Поступив еще в юные годы на службу к императору Максимилиану, он обучался военному искусству у Георга фон Фрундсберга, который в корне преобразовал армию, выдвинув на первый план пехоту. Рыцарство, как основное и привилегированное военное сословие, составлявшее до того времени вместе со своими дружинами ядро армии, отжило свой век. Феодальное войско из рыцарей, закованных в тяжелые доспехи, стало ненужным с изобретением пороха. Рыцарский дух угасал, и рыцарство само подписало себе смертный приговор, когда еще во время гуситских войн, в сражении под Таусом[56], при одном известии о приближении народной армии, состоявшей преимущественно из крестьян, оно разлетелось, как мякина на ветру, несмотря на то что сам кардинал освятил его оружие на борьбу с еретиками.
Император Максимилиан взирал благосклонным оком на молодых дворян, вступавших в его ландскнехтские отряды для изучения новой военной тактики. Это пополнение могло дать неплохих военачальников. В одном из таких отрядов, численностью в четыреста человек, обучался военному искусству, начиная с копейных приемов, и рыцарь Флориан Гейер. С этим отрядом он проделал поход в Италию, где под знаменами Георга Фрундсберга сражался против французов. Несмотря на свою молодость, он, должно быть, проявил незаурядные способности, ибо, когда в 1519 году, в год смерти императора Максимилиана, герцог Ульрих Вюртембергский, нарушив всеобщий мир, напал на имперский вольный город Рейтлинген якобы за то, что рейтлингенцы убили фогта Ахальмского лесничества, и когда Швабский союз[57] выступил, чтобы по приговору имперских властей изгнать герцога, Флориан Гейер получил под свое командование самостоятельную часть. В то время как главные силы Союза во главе с Трухзесом фон Вальдбургом двинулись к Гогенаспергу и Тюбингену, Флориану было приказано повернуть на север против Геца фон Берлихингена[58] — рыцаря с железной рукой, защищавшего в Мекмюле дело герцога. И грозный эпигон кулачного права вынужден был сдаться молодому полководцу и следовать за ним, как пленник, в Гейльброн. Во время этого же похода, в результате которого Вюртемберг попал в руки австрийского правительства, рыцарь Флориан встретился с Францем фон Зиккингеном, который пригласил его в Эбербург — «убежище справедливости», как окрестил этот замок Гуттен. Ибо там должна была взойти заря новой эры — эры справедливости, когда в государстве не будет иного главы, кроме императора, и иной церкви, кроме протестантской.
— Но теперь я больше не жалею, — продолжал свои мысли вслух хозяин замка, сидя за обедом, — что Зиккингену пришлось заставить поплясать архиепископа Трирского, не дождавшись, пока будет подготовлена почва для свержения князей. Хотя по настоянию Гуттена Зиккинген и договорился с имперскими городами, но он с чисто дворянским предубеждением недооценивал роль бюргерства и городских масс, а о привлечении на свою сторону крестьян не допускал и мысли. С Реформацией он считался, но как с делом второстепенным. Главной же его целью было, теперь мне это ясно, расчистить себе, с помощью дворянства и новой религии, местечко среди князей и в качестве светского курфюрста самому усесться на трон архиепископа Трирского. Достигнув вершин могущества, богатства, славы, Зиккинген не мог бы примириться с положением подданного. Если б он победил и даже помимо собственной воли двигался бы дальше к намеченной цели, у нас была бы теперь аристократическая республика с бессильным императором во главе. Вместо кучки князей появился бы целый легион мелких деспотов из знати, которые выжимали бы из народа последние соки. Империя стала бы жертвой безграничного произвола. Подумать страшно.
Фрау Барбара, сидевшая до сих пор в задумчивости, при последних словах мужа вздохнула и, подняв свои синие глаза, устремила на него взгляд, полный тепла.
Ульрих фон Гуттен
С портрета работы неизвестного художника XVI в.
— Дома у нас, в Римпаре, тоже немало говорили об этом походе, но все только и думали о том, чтобы увильнуть от исполнения своего ленного долга перед епископом Вюрцбургским и поделить между собой его владения. Облегчить страдания народа — этого и в помышлении ни у кого не было. Я тоже считала, что это в порядке вещей, — созналась она, покраснев. — Но тогда ведь я еще не знала тебя и думала, что исполняю свой долг в полной мере, подавая время от времени милостыню нашим крепостным. Мой брат Вильгельм хвастался, что он тоже в один прекрасный день, по примеру Берлихингена, на свой страх и риск пустится в военные приключения и будет потрошить сундуки богатых горожан; он убеждал меня, что тогда у меня будет сколько угодно нарядов и драгоценностей, а я только смеялась. К несчастью, наш отец умер как раз в то время, когда его сильная рука нужней всего была этому дикарю.
— Твой брат только высказал вслух то, о чем так мечтают они все, — с негодованием воскликнул Флориан Гейер. — Будь у них наглость Берлихингена, кулачное право и разбой на большой дороге процветали бы и поныне. Это волки, и всех их надо уничтожить.
— Увы, все это так, но за Вильгельма ты возьмись. — Ее голос при упоминании о брате зазвучал умоляюще. — Из него еще можно сделать человека. Ведь он так молод — ему всего двадцать лет. С тобой он очень считается, ведь ты взял в плен Берлихингена, перед которым он так преклонялся.
— Из молодых, да ранний, — сурово возразил ей муж. — Как и подобает младшему сыну, он так и смотрит, чьи плечи покрепче, чтобы вскарабкаться повыше.
— Пуще всего ненавистно ему, что он, Грумбах, должен быть вассалом духовного лица, именующего себя герцогом Франконским[59]. Да еще такого, как нынешний епископ Конрад Тюнгенский, который слывет за человека жестокого и несправедливого.
— Таков он и есть, недаром вюрцбуржцы так его ненавидят. Что ж, ладно, я попытаюсь приобщить твоего братца к новым идеям.
Сам он не потерял веры в победу новых идей, несмотря на крушение дела Зиккингена. Он не обладал ни легко воспламеняющимся вдохновением, ни неотразимым красноречием Гуттена, но пламя гуттеновских идей, раз вспыхнув в нем, уже не угасало. Человек большого практического ума, он в такой же мере был способен бороться делом, как его покойный друг — словом, и неустанно работал, претворяя в жизнь свои идеи. Не теряя времени, он принялся восстанавливать нити, оказавшиеся разорванными после поражения Зиккингена и смерти Гуттена, и завязывать новые связи. Пока меч покоился в ножнах, он с удвоенным усердием работал пером, не нуждаясь в так называемых «письмоводах». Все светлые умы того времени были убеждены, что религиозные, политические и социальные условия существования в Германской империи стали невыносимы и нуждаются в немедленном преобразовании. На этой почве единомышленники легко узнавали друг друга, и в Гибельштадтском замке то и дело появлялись гонцы странного вида.
Стук копыт во дворе заставил Флориана Гейера подняться из-за стола.
— Кто-то приехал, — сказал он, выглянув в окно.
Всадник в длинном черном плаще и меховой шапке, надвинутой на глаза, сошел с коня. К седлу был приторочен дорожный мешок. Фрау Барбара, стоя за спиной мужа, видела, как незнакомец направился к подъезду замка, между тем как подбежавший слуга повел его коня в конюшню. Послышались шаги, звон шпор, и на пороге показался человек. Приподняв меховую шапку, он обнажил седеющую голову. Умные глаза смотрели прямо и честно.
— Мы никогда с вами не встречались, почтеннейший рыцарь, — заговорил он приятным голосом, — но друзья наших друзей — наши друзья. Я знаю вас по переписке с питейным старшиной курфюрста Майнцского, Фридрихом Вейгандом из Мильтенберга[60]. Зовут меня Вендель Гиплер.
— Добро пожаловать, господин канцлер, — радушно произнес хозяин и крепко пожал гостю руку, с которой тот уже стащил перчатку. — Разоблачайтесь и устраивайтесь поудобней.
— Позвольте мне прежде всего засвидетельствовать свое почтение благородной хозяйке дома, — ответил Вендель Гиплер. Фрау Барбара радушно приветствовала гостя:
— Вы застали нас за трапезой, господин канцлер, так прошу вас, уж не взыщите…
— Благодарствуйте, сударыня, но я не канцлер более. Это звание я бросил к ногам графов Гогенлоэ, — ответил Вендель Гиплер.
Ответ этот несколько удивил Флориана Гейера и его жену, но они не сочли возможным докучать гостю расспросами. Впрочем, он сам, отстегивая меч, который носил поверх кожаного колета, рассказал, что, направляясь из Нюрнберга к своему другу в Мильтенберг, не хотел упустить случая лично познакомиться с рыцарем Флорианом. Хозяйка тем временем вышла из комнаты распорядиться, чтобы для гостя поставили прибор и подали лучшее вино.
— Мой пример, — продолжал Гиплер, грея руки у камина, — лишний раз подтверждает старую истину, что скорей можно дождаться смоквы от терновника, чем благодарности от князей.
Он оставил службу у графов Гогенлоэ. За его долголетние бескорыстные труды их сиятельства отплатили ему черной неблагодарностью. Отстаивая их интересы, он потерял собственное состояние и ушел от них таким бедняком, что вынужден был жить у тестя в долине Вимпфена, близ Гейльброна. Правда, уступая его законным требованиям, графы пообещали ему доходы с одного из своих имений, но когда он пожелал получить их, оказалось, что те уже давно взысканы владельцами. Так он и остался ни с чем. А теперь он защищал в имперском суде права двух графских подданных, жестоко обиженных ими, и выиграл дело.
Замок Эбербург Франца фон Зиккингена
С гравюры Иоста де Неккера
— Кто знает графов Альбрехта и Иорга фон Гогенлоэ, — заключил он, — тот, конечно, не станет ждать от них справедливости, а тем более милосердия. Да что говорить о неблагодарности, они еще оскорбили меня, бросили тень на мою честь. Вот каковы они, эти господа!
— Меня это нисколько не удивляет, — сурово заметил Флориан Гейер. — Своекорыстие и алчность князей виной тому, что страна наша пришла в упадок. Но какое дело нашим князьям, графам и рыцарям до страны? Они и в грош не ставят ее интересы. Коли им это не в убыток, пусть нехристи опустошат всю Германию, они и пальцем не шевельнут и уж конечно не развяжут своей мошны.
Между тем слуга принес прибор и вино и придвинул к столу кресло для гостя. Хозяин наполнил кубки. Это был чудесный напиток из винограда, произраставшего на солнечных склонах Мариенберга, близ Вюрцбурга, и Вендель Гиплер отдал ему должное.
— Прекрасная лоза, — сказал он. — Но тем, кто в поте лица возделывает ее, не приходится даже отведать плодов. Впрочем, так же, как и других благ земных. Их дело — обрабатывать поля, косить луга, сеять лен, стлать его, мочить, мыть, чесать и прясть, шелушить горох, копать морковь и спаржу, — и все это для господ. Даже хорошая погода только для господ, ибо когда же как не в вёдро трудится на них бедняк, оставляя свой хлеб гнить на поле.
— И как только терпит такое господь? — обратилась к нему хозяйка, вернувшаяся из кухни. — Однако прошу вас, кушайте на здоровье.
Вендель Гиплер немалое время пробыл в пути, и уговаривать его не пришлось. За едой он не забывал и о разговоре. Помня истину, что женщина — враг политики, он рассказывал о чудесном городе, где только что побывал, о его замечательных храмах, великолепных дворцах и фонтанах, о сокровищах живописи, ваяния и зодчества, собранных в Нюрнберге. Фрау Барбара, знавшая лишь Вюрцбург, до которого от замка Римпар был какой-нибудь час пути, с большим вниманием слушала гостя. Хозяин замка, поглощенный своими мыслями, рассеянно прислушивался к рассказу, но наконец спросил:
— А что вы скажете о нюрнбержцах? Чем они дышат?
— О, они себе на уме, — с тонкой усмешкой отвечал гость. — Они любят кусок пожирнее и не спрашивают, есть ли что-нибудь в тарелке у соседа. Они готовы помочь тому, кто им полезен, если только им самим это не в ущерб. Они вовремя допустили представителей цехов в магистрат в надежде, что когда грянет буря, она разобьется о стены их города.
— А буря грянет, и ждать уже недолго, — задумчиво произнес Гейер. Гость многозначительно посмотрел на него и пожал плечами. Ему самому не терпелось высказаться, и как только фрау Барбара оставила мужчин одних, он отодвинул тарелку и, отхлебнув вина, проговорил:
— Верьте мне, я всей душой скорблю при виде тяжких страданий нашего народа, и, если мы воспользуемся сложившимися благоприятными обстоятельствами, его освобождение уже не за горами.
— О каких обстоятельствах вы говорите? — насторожившись, спросил Флориан Гейер.
— О кознях изгнанного из Вюртемберга герцога Ульриха, который тайно вооружается, чтобы вернуть свои владения.
— Мне это известно. Мои друзья, укрывшиеся в Швейцарии после падения Ландштуля, писали мне об этом, предлагая присоединиться к герцогу. Присоединиться к герцогу? Никогда!
— Иного ответа я от вас и не ждал, — согласился Гиплер. — Но в Вюртемберге ветер как будто переменился. Герцог объявил, что дарует свободу изнемогающему от непосильного бремени бедному люду и будет отцом родным для своих подданных. Теперь он собственной персоной объезжает Унтерзее и Шварцвальд и всюду заигрывает с крестьянами.
— Ему, конечно, все равно, кто поможет вернуть его владения: башмак или сапог, крестьянин или дворянин, — воскликнул Флориан Гейер, нахмурившись. — Герцог Вюртембергский в роли освободителя народа! Герцог, чья власть была непрерывной цепью насилия, подлости и преступлений! Он думает, вюртембержцы забыли, с какой бесчеловечной жестокостью он расправился с крестьянами Ремской долины, когда безысходная нужда заставила их примкнуть к «Бедному Конраду»? Он думает, они забыли о его ненасытной жажде роскоши и наслаждений, в погоне за которыми он довел свой народ до нищеты? Забыли, как он чеканил неполноценную монету, подделывал гири, как издевался над правосудием и торговал государственными должностями? Забыли о коварном убийстве[61] своего друга — двоюродного брата Гуттена, которого он заколол, воспылав страстью к его красавице жене? Забыли о его разнузданности, превратившей Вюртемберг в Содом и Гоморру, так что его жене пришлось бежать в Баварию к родным? Да разве можно забыть все это? Даже если правосудие осталось глухо к голосу такого обвинителя, как Ульрих фон Гуттен, голосу звучавшему как трубы Страшного суда.
— Правосудие осталось бы глухо и после рейтлингенского дела, если бы знатные господа не перегрызлись из-за лакомого куска, — спокойно заметил Вендель Гиплер. — Сохранилось ли в памяти у вюртембержцев что-нибудь из всего этого — я не знаю. Возможно, что и нет. И все же крестьяне и горожане поднимутся за герцога по первому его зову. Несчастные рады ухватиться за малейшую надежду, а австрийское господство равно ненавидят и в городе и в деревне. И конечно, чтобы насолить австрийскому дому, его закоренелый враг, король Франциск охотно раскошелится на вооружение герцога, а Швейцарский союз уже обещал прислать ему вспомогательные войска. Быть может, вы находите, любезный рыцарь, что герцогу не пристало брать французские деньги? Но ведь он лишь идет по стопам многих немецких князей, которые без всякого зазрения совести набивали себе карманы французским золотом, пообещав голосовать за галльского Франциска против испанского Карла.
Франц фон Зиккинген
С гравюры Иеронима Гопфера
— Поистине приходится стыдиться того, что ты немец, — произнес Флориан Гейер и стиснул зубы. — Если герцог не располагает другими средствами, кроме перечисленных вами, господин Гиплер, то ему долго не удержаться на своем вновь завоеванном престоле, как бы он ни изворачивался. Летом по дорогам империи колесили вербовщики Фрундсберга[62], и все праздношатающиеся и отлынивающие от службы ландскнехты устремились на зов барабанов и были переправлены через Альпы. Что станется с герцогом, когда в Ломбардии кончится старая драка между Германией и Францией[63]?
— Вы затронули самый важный для нашего дела вопрос. Не будь его, стоило бы нам думать об интригах герцога? — отвечал бывший канцлер. — Он делает ставку на отчаянное положение крестьян во всей империи. Везде под пеплом тлеют искры, и его эмиссары изо всех сил стараются раздуть пламя. Они рыщут по всей стране — от Шварцвальда до Богемского Леса. Канцлер герцога, очень ловкий человек, он же доктор Фуксштейн…
…объявившийся в Кауфберене как проповедник евангелия и сторонник крестьян, — продолжил Флориан Гейер. — Мне это известно. Он агитирует среди крестьян епископа Аугсбургского, князя-аббата Кемптенского, аббата Ирнейского и многих других между Изаром, Лехом и Дунаем, до самой границы Баварии…
…на которую должны одновременно напасть Богемия и Швабия, чтобы вклиниться между нею и Швабским союзом, — заключил Вендель Гиплер.
— Я сам так предполагал, но у вас, должно быть, имеются точные сведения?
— По дороге в Нюрнберг, в гейльбронском трактире «Сокол» мне повстречался рыцарь Стефан фон Менцинген, направлявшийся в Ротенбург, — с тонкой усмешкой заметил гость.
— Менцинген? — в изумлении повторил Гейер. — Тот самый Менцинген, чья подпись красовалась под отречением герцога Ульриха в пользу Швабского союза, Менцинген, которому герцог доверил своих детей в Гогентюбингене? И он направился в Ротенбург, несмотря на ссору с магистратом?
Убийство Ганса фон Гуттена герцогом Ульрихом Вюртембергским
С гравюры XVI в.
— Да, он самый, — подтвердил Вендель Гиплер. — Он обратился в суд и получил охранную грамоту. Прежде всего он заехал в Рейнсберг и взял с собой семью, чтобы внушить к себе доверие в Ротенбурге. За бокалом вина легко развязывается язык — и я не скрыл от него, что всюду, где только можно, стараюсь насолить графам фон Гогенлоэ. Он не остался в долгу и тоже раскрыл свои карты. С наступлением весны герцог собирается двинуться из Гогенгвиля на Вюртемберг. А к тому времени по всей стране запылает пламя восстания, и господам придется так туго, что они не смогут оказать сопротивления герцогу.
— И на таком гигантском костре герцог собирается сварить себе похлебку? — едко усмехнулся Флориан Гейер. — А не боится ли он, что горшок выкипит еще до того, как будет готово это варево?
— Должно быть, он не знает мудрого изречения кардинала Кузы, — сказал, лукаво посмотрев на своего собеседника, Вендель Гиплер. — По-немецки «Как князья пожирают империю, так народ пожрет князей». Так и у нас в Германии. Пусть герцог рискует на этот ход, в выигрыше останутся крестьяне.
Он налил себе вина и крупными глотками осушил кубок. Флориан Гейер сидел в глубоком раздумье. Затем он встал, зашагал взад и вперед по комнате, потом остановился перед гостем и, насупив брови, сказал:
— С нашей стороны действительно было бы изменой делу свободы упустить благоприятную возможность, которую дает нам в руки герцог. Мы не должны препятствовать его выступлению, хотя меня несказанно огорчает, что мы не можем отделить наше святое дело от его нечистой игры.
И он продолжал ходить по комнате.
— Иного выбора нет, — сказал он, остановившись и откинув назад голову. — Так смелей же за дело, направим все силы на борьбу для достижения нашей цели.
— Я преклоняюсь перед вашей решимостью, — отвечал гость. — Победа — в наших руках. Ведь за нас не только крестьяне, в которых новая вера пробудила чувство собственного достоинства и которые не станут больше покорно сносить нужду и рабство. Их сердца горят огнем возмущения. К нам примкнет и бюргерство, особенно же бюргерство имперских вольных городов. Оно тяготится господством патрициата. Ремесла и торговля нуждаются в просторе, чтобы развернуться во всю ширь, и все сословия одинаково страшатся возросшего могущества князей, которые присваивают себе непомерную власть, не гнушаясь никакими средствами. Наша задача — расчистить дорогу для создания нового, возрожденного государства, которое станет храмом свободы для всех.
— Мой меч принадлежит народу, — с глубоким чувством произнес Флориан Гейер.
— Как и острое перо Вейганда, — заключил Вендель Гиплер. — Да будет благословен этот час, дорогой рыцарь Гейер фон Гейерсберг. Так смелей же за дело!
И, крепко пожав мужественную руку рыцаря, он распростился с ним.
Глава седьмая
Когда сторож на башне городской ратуши пробил девять часов, из большого дома на Церковной площади вышел человек, закутанный с головы до пят в длинный плащ. Впрочем, вряд ли была необходимость так кутаться и надвигать на глаза шляпу из страха быть узнанным. Одни лишь звезды, блиставшие как алмазы в прозрачном зимнем небе, глядели на улицы Ротенбурга. Даже окна в первых этажах были закрыты ставнями, и лишь кое-где сквозь них светились огоньки. Город спал, и запоздалый путник, обогнув длинную площадь за церковью пречистой девы и свернув на Замковую улицу, а потом на улицу Роз, не встретил ни живой души. Только мирный топот ночного дозора отдавался в гулкой тишине. Закутанный в плащ путник шел посреди улицы. Идти вблизи домов было рискованно, в темноте прохожего на каждом шагу подстерегала опасность: он мог наткнуться на выступы лестниц, провалиться в подвал, а то и угодить в свиной хлев. Из любого окна на голову пешехода мог пролиться душ самого подозрительного свойства. Дойдя до середины улицы Роз, незнакомец свернул налево, на Дворцовую улицу, в конце которой на фоне звездного неба зловеще высилась над городской стеной громада башни. Остановившись возле высокого узкого дома, он тихо трижды постучался в ставень у входа. Дверь тотчас бесшумно отворилась и так же бесшумно закрылась за вошедшим.
— Он пришел, мейстер Эчлих? — спросил вполголоса ночной гость, остановившись в сенях в полосе света, падавшего через полуоткрытую дверь из соседней комнаты.
— Да, пришел, как только наступили сумерки, господин почетный бургомистр, — отвечал отец Каспара Эчлиха, узнав посетителя, и принес свечу в железном поставце. Колеблющееся пламя осветило лицо хозяина, такое же суровое, как и у сына, но лишенное его юмора. Тонкие, скорбно сжатые губы, большой рот, глубокая вертикальная складка, прорезавшая лоб, и мохнатые брови, сросшиеся у переносицы, придавали старику Эчлиху угрюмый вид.
— Не откажите в любезности следовать за мной, господин бургомистр, — сказал он, направляясь к лестнице.
— А он еще не отдыхает? — спросил Эренфрид Кумпф.
— Не знаю, отдыхает ли он вообще когда-нибудь.
— Как, мейстер Килиан, что вы хотите этим сказать?
Стригальщик лишь молча покачал головой и повел гостя на второй этаж, где открыл ему дверь и со словами: «Входите, пожалуйста, я позже за вами приду», — удалился.
Бургомистр вошел в просторную комнату с низким потолком и выбеленными стенами. Оба окна, выходившие во двор, на здание стригальни, были закрыты изнутри ставнями. Узкая кровать, несколько соломенных стульев и простой еловый стол составляли всю обстановку комнаты. За столом сидел человек и писал; лампа с жестяным абажуром отбрасывала небольшой кружок света. На столе стояла миска с почти нетронутой едой; поодаль лежал меч в истрепанных ножнах и видавшая виды шляпа с отвислыми полями. Приход бургомистра остался незамеченным, гусиное перо продолжало скрипеть по грубой бумаге. Сидевший за столом оторвался от своего занятья лишь тогда, когда бургомистр после минутного молчания заговорил:
— Поистине пламенное рвение! Едва избегнув опасности, вы снова за работой. Дозвольте мне, Эренфриду Кумпфу, приветствовать вас в Ротенбурге, почтеннейший господин доктор!
Доктор отложил перо и, приподняв абажур, вскочил из-за стола и живо бросился пожимать руку вошедшему. Это был маленький человек, худощавый и смуглый, его черные глаза горели внутренним огнем. Одет он был по-крестьянски: в грубый тиковый кафтан и башмаки с ремнями.
— Я слишком долго отдыхал поневоле, а время не терпит, — сказал он, не выпуская рук бургомистра из своих и пристально разглядывая его. — Вот я и хочу раззадорить виттенбергского быка, ожиревшего в холе. Уж и возрадуется Томас Мюнцер, читая это. И мои новые друзья в Страсбурге и Базеле не меньше его. Не угодно ли взглянуть?
Сложив по порядку листки, он протянул их гостю, который тем временем снял плащ и берет.
«Поход против Лютера и его толкования таинства причащения»! — воскликнул гость и принялся читать.
— Вам, конечно, знаком его трактат, где он утверждает, что вино и хлеб действительно суть кровь и плоть Христовы? — спросил щупленький доктор. — Я воздаю ему по заслугам за эту небылицу. Склонив на свою сторону Цвингли[64] в толковании святых даров как чисто символического акта, я окончательно впал в немилость у Лютера, и теперь он сам открыто заявляет, что против меня и моих друзей все средства хороши. Он кричит, что мы — бунтовщики, и подстрекает князей и имперские власти запретить нам проповедовать и изгнать нас из страны. Он делает все, чтобы в Германии не осталось такого уголка, где мы могли бы приклонить голову или напечатать что-либо в свою защиту против его клеветы и брани, его ultima ratio[65]. Римский гонитель еретиков вряд ли способен преследовать инакомыслящих с большим ожесточением!
Эти тяжкие обвинения исходили из уст доктора Карлштадта, который назывался так по месту рождения — Карлштадту близ Вюрцбурга. Настоящее его имя было Андреас Боденштейн[66]. Даже его враги вынуждены были признать, что глубиной и обширностью знаний он превосходил знаменитого реформатора, которому, будучи деканом богословского факультета в Виттенберге, он вручил докторскую шапку. Жертва нетерпимости «божьего человека»[67], Карлштадт, изгнанный им из Саксонии, направился сначала в Верхнерейнскую область, где находились Томас Мюнцер, Буцер и другие изгнанники, лишенные права проповедовать и преподавать. Выразив желание вернуться на родину, в Восточную Франконию, Карлштадт подвергся гонению со стороны маркграфа Казимира. Но Валентин Икельзамер, ротенбургский учитель латыни, один из его наиболее способных учеников в Виттенбергском университете, который он покинул вместе со своим учителем, помог ему тайно проникнуть в город. Стража у Родерских ворот, близ которых жил стригальщик Эчлих, не обратила внимания на невзрачного с виду человека в крестьянской одежде. Шедший с ним учитель латыни пользовался популярностью в городе, и все знали, что он родом из Оренбаха и что у него в деревне многочисленная родня.
Как было условлено, Карлштадт ждал своего бывшего ученика на постоялом дворе, где имели обыкновение останавливаться возчики с товаром на пути из Аугсбурга в Вюрцбург. Его крестьянское платье не было маскарадным костюмом в противоположность дворянскому камзолу Лютера в Вартбурге. Лютер еще не вернулся из своего вартбургского убежища, когда Карлштадт уже проповедовал в Виттенберге, что лучше заниматься ремеслом, чем теологией, что доктора и магистры богословия — сущий бич божий, что молодые люди должны оставить университеты, а монахи — монастыри и изучать какое-нибудь ремесло или, подобно Адаму, возделывать землю. Он сам первый подал пример и, поселившись у своего тестя, взялся за мотыгу и велел называть себя не доктором, а соседом Андреасом.
Беседа с ним интересовала Эренфрида Кумпфа больше, чем неоконченная рукопись.
— Скорблю душой, — заявил почетный бургомистр, со вздохом положив листки на стол, — что этот высокочтимый реформатор все больше и больше льет воду на папскую мельницу и стремится опять ввергнуть в оковы едва освободившийся разум.
— Я тоже ценил его за природные дарования больше, чем кто бы ни было, — с горячностью вымолвил Карлштадт. — За него я был готов хоть в преисподнюю, а надо вам сказать, любезный мой покровитель, что князь тьмы задал ему немалую работу. Но настоящего беса, взявшего над ним верх в его вартбургском уединении и приведшего его к гибели, он, к сожалению, так и не признал. Этот бес тщеславия внушил ему, еще когда он предстал перед князьями и имперскими чинами на Вормском сейме[68], что Реформация вышла из его головы, как Афина Паллада из головы Зевса. Он считает себя непогрешимым и убежден, что сам господь глаголет его устами. Он мужественный человек, слова нет, и в душе его горит пламень, без коего никакие дерзания не осуществимы. Но лукавый помутил его разум, ему недостает проницательности и дальновидности, а без них нельзя довести дело Реформации до победы. Теперь же по наущению диавола он стал столь жестоковыйным, что готов скорей вызвать раскол среди протестантов, чем признать свое заблуждение в толковании святых таинств и принять руку, которую протягивает ему Цвингли.
— Да простит ему бог! — взволнованно воскликнул почетный бургомистр.
— А как вы полагаете, почему он в таком гневе примчался из Вартбурга в Виттенберг, где я отменил исповедь, прекратил католическое богослужение и ввел причащение под двумя видами?[69]
— И удалил иконы из церквей? — дополнил Эренфрид Кумпф.
— Это было сделано без моего участия, — возразил Карлштадт.
— И правильно сделано! Идолам не место в храме! — воскликнул почетный бургомистр. — Никто в толк не возьмет, почему он повернул к старому и даже снова надел сутану, вместо того чтобы окончательно порвать с Римом. Зато вы, доктор, действовали поистине в духе Реформации.
— Он не оспаривал справедливости моих действий, да и не мог оспорить, — сказал Карлштадт. — Но он решил, что все должно исходить лишь от него и совершаться лишь через него, — вот в чем суть. Вот что явилось поворотным пунктом в его жизни. С той поры он начал лебезить перед князьями и выпустил свои когти против нас, не позволивших ему опутать наш разум.
Эренфрид Кумпф задумался и не сразу прервал молчание.
— Достойно удивления, что князья потакают ему. Видно, память у них коротка. Давно ли он сам призывал громы небесные на их головы?
— Уж он сумеет их ублажить, помяните мое слово, — и горькая усмешка искривила губы Карлштадта. — Князей он ублажит церковными и монастырскими владениями.
— Гм… наш магистрат тоже был бы не прочь наложить руку на имения духовенства, — сказал, покачав головой, Эренфрид Кумпф. — Тут и доминиканки, и серые сестры[70], и францисканцы — мужской и женский монастыри, и Тевтонский орден, и иоанниты, и вечный трезвон, и песнопенья, и молебствия, и крестные ходы, хоть святых выноси! Но наши «именитые» боятся вызвать бурю: не ровен час, она выметет их вместе со всем сором и хламом, в который вросли корнями они сами. Совесть их нечиста, им стыдно смотреть в глаза согражданам. И так как доктор Дейчлин воочию показал им, как велико его влияние на умы, то внутренний совет не осмеливается изгнать его, даже получив на это полномочия от внешнего совета. Из Вюрцбурга, насколько мне известно, уже послано тайное предписание на этот счет, и если магистрат не трогает доктора, то потому лишь, что надеется освободиться от этого страшного смутьяна с помощью епископа.
— Если это так, то тем легче нам будет сломить сопротивление магистрата. Позаботьтесь только, дорогой друг, о том, чтобы я выступил в городе. Вы знаете, что я, как и вы сами, готов воздавать кесарю кесарево. Я не политик. Я стою лишь за то, чтобы алчущие духом могли утолить свою жажду чистым и укрепляющим вином евангелия, а не разбавленным пойлом виттенбергского отступника.
Почетный бургомистр, видимо, был озадачен.
— Это нелегко будет осуществить, — сказал он. — Не скрою, любезный доктор, что ваш пламенный дух внушает им даже больший страх, чем красноречие Дейчлина. Положитесь на меня. Я сделаю все, чтобы исполнить ваше желание. Заканчивайте поскорей вашу брошюру, а о ее напечатании позабочусь я сам.
— Так спешите, действуйте, дорогой покровитель и друг, чтобы не потерять столь могущественного союзника, как доктор Дейчлин, — горячо подхватил щуплый человечек. — Друзья в Верхней Швабии, на Дунае, в Шварцвальде и нюрнбергские эмиссары призывают всех немцев к совместному походу против Рима. Так исполним же и мы свой долг! Когда я сидел в трактире у Родерских ворот в ожидании Икельзамера, мимо окон вдруг промчалась со звоном, щелканьем и свистом блестящая кавалькада патрициев. Конечно, ни одному из этих господ никогда не придет в голову, что лишь упорный труд бедняка одевает их в бархат и атлас, что его кровавому поту обязаны они своим благоуханием. Рим толкает их к гибели, невзирая на то, что в Деяниях апостолов сказано: «Не было между ними никого, кто бы нуждался, ибо все они, кто владел землями или домами, продали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем он имел нужду». Да, любезнейший покровитель, единственное спасение человечества — в возвращении христианской церкви к ее первоначальной чистоте.
Увлеченный своим пламенным воображением, он предался мечтам о грядущем золотом веке. То были видения глубокого, мистически настроенного ума, видения вечного царствия божиего, подобные тем, что возвещали своему порабощенному народу пророки Исайя и Даниил. Слова, лившиеся из уст вдохновенного проповедника, уже перестали быть понятными Эренфриду Кумпфу, а тем более Килиану Эчлиху: стригальщик вошел во время речи Карлштадта, сел в уголок и стал слушать. Когда тот умолк и в комнате воцарилась тишина, почетный бургомистр вскочил, как молодой, в глазах его горело воодушевление. Он протянул брату Андреасу руку и воскликнул:
— Да, победа будет на нашей стороне! Однако вам пора отдохнуть, дорогой друг. В ближайшее время я приведу к вам наших единомышленников — Дейчлина, командора и слепого монаха.
— Буду очень рад встретиться с ними, — тепло откликнулся Карлштадт.
— Мейстер Килиан, — уже на лестнице обратился Эренфрид Кумпф к стригальщику, провожавшему его со светильником в руке, — излишне напоминать вам, сколь необходимо соблюдать осторожность для безопасности нашего гостя. Вы знаете, как обстоит дело. Не откажите взять на себя также заботу о его жизненных удобствах. Сам он пренебрегает ими.
— Будьте покойны, — заверил его мейстер Эчлих. — Я тоже заметил, что он не щадит себя. Но, господин Кумпф, уж не обессудьте меня, хоть я и одобряю все, что предлагает нам доктор, только, по моему разумению, пером зла не одолеешь.
— Но перо распространяет правду, а правда убивает ложь.
Мейстер Килиан только покачал головой.
— Слишком медленно убивает, когда тебя душит ложь. А тем временем сила одержит верх над правом. Зачем доктору ждать, пока магистрат разрешит ему проповедовать? Пусть только выйдет на улицу. Если он знает свое дело, наши ротенбуржцы сумеют за него постоять, как сумели постоять за слепого монаха.
Мартин Лютер
С гравюры Лукаса Кранаха
— Только не надо насилия, мейстер! — предостерег его Кумпф. — Несокрушимая сила евангельской истины растопит сопротивление упорствующих папистов, как огонь топит воск.
— Я не сторонник насилия, — возразил стригальщик, — но разве допустимо, господин бургомистр, чтобы доктор бедствовал и скитался из-за своей веры? Имеет ли право кто-либо преследовать человека за его религию? Учитель латыни мне все объяснил. Моя покойная жена — царство ей небесное — тоже была из Оренбаха, и он мой старый знакомец. Что толку в вере, если я не могу ее исповедовать? Что толку в праве, раз я не могу его добиться? Что толку терпеть и вечно ждать?
Между тем они спустились в сени, и бургомистр, остановясь, участливо спросил:
— Так, стало быть, старая рана еще не зарубцевалась? Но ведь вы теперь человек с достатком?
И без того угрюмое лицо старого стригальщика помрачнело и брови ниже нависли над глазами.
— О деньгах я давно и думать забыл, но не забыл о вопиющей несправедливости. И рад бы забыть, да не могу. От своего права я никогда не отступлюсь, как ни гни меня и ни ломай.
— Рассудительный человек применяется к обстоятельствам, раз он бессилен их изменить, — возразил бургомистр. — Вы носитесь со своей обидой, как капризное дитя, и только изводите себя.
— Я добиваюсь своего права, — упорно твердил Килиан, отодвигая засов.
Эренфрид Кумпф положил руку ему на плечо и убежденно произнес:
— Интересы нашего города требуют ваших забот. Похороните прошлое и излечитесь от своей болезни. Доброй ночи, мейстер.
И он исчез во мраке.
Килиан Эчлих не внял совету. Жизнь его была отравлена нанесенной ему обидой. Вечно погруженный в свои мучительные думы, даже за работой у прялок, он стал почти человеконенавистником. А в последнее время его рану еще разбередила уверенность в том, что магистрат не приведет в исполнение своего решения в отношении Стефана фон Менцингена, как не привел его и по отношению к знатному семейству Трюбов. Он собственными глазами видел, как рыцарь расхаживает по улицам с таким гордым видом, будто сам черт ему не брат.
Через несколько дней, уже в сумерки, к старику Эчлиху ввалились гурьбой знакомые цеховые мастера. Перед тем они провели часок за вечерней кружкой вина в «Красном петухе» на Кузнечной улице, напротив церкви св. Иоанна. Этот трактир посещали преимущественно бюргеры. Его владелец, Ганс Кретцер, был женат на сестре Большого Липгарта. Все гости, явившиеся в дом стригальщика, были видные в цеховом мире люди. Не успели они войти в комнату, где Каспар заправлял лампу на тяжелом дубовом столе, как поджарый и шустрый скорняк, мейстер Лоренц Дим, расхохотался:
— Ну, Эчлих, сегодня на твоей улице праздник!
— Счастье твое, что юнкеры Розенберг и Финстерлор отплатили за тебя магистрату, — перебил его скрипучим голосом сапожник Мельхиор Мадер. Глядя на его огромный нос, высокий выпуклый лоб и полные мысли глаза, его скорей можно было принять за ученого.
— Правда, можешь порадоваться, — подтвердил третий гость, мужчина атлетического сложения, настоящий геркулес по сравнению с остальными. Мастер цеха мясников Фриц Дальк славился на весь Ротенбург своей силой.
— Что вы говорите загадками? — спросил Килиан Эчлих, вопросительно обводя всех глазами. — Однако садитесь, друзья. Надеюсь, не откажетесь выпить по стаканчику.
Фриц Дальк поспешил его заверить, что отказа не будет, хотя они и успели малость заправиться в трактире, и Каспар, закрыв ставни, отправился с пузатым кувшином в погреб.
— Да он и впрямь ничего не знает! — удивился скорняк Лоренц Дим.
— Час тому назад возвратился магистратский гонец, — сказал Мельхиор Мадер, — и поднял на Рыночной площади и в трактирах шум до небес. Городу нанесено тяжкое оскорбление, и мы не можем его снести. Магистрат должен открыть арсеналы и вооружить цеха. В «Красном петухе» кто-то даже затянул старую боевую песню, которую ротенбуржцы распевали еще в те времена, когда ходили в поход на Ингольштадт против Вильгельма фон Эльма и его шайки дворян-разбойников.
— Песню эту пел портной, но он не помнил дальше первого куплета, — засмеялся Лоренц Дим. — Так значит, магистрат послал Фингерлинга к этим двум дворянчикам, чтобы потребовать от них уплаты штрафа и возмещения убытков от бесчинства в день трех волхвов. Фингерлинг — хитрая бестия — сперва подался в Лауденбах. Но юнкер Филипп даже не соблаговолил принять повестку, расхохотался посланному в лицо и заявил, что в знак уважения к мудрому магистрату готов уплатить один гульден, если магистрат пришлет к нему в замок девку канатного плясуна.
Фриц Дальк так и залился жирным смехом, а его мясистое круглое лицо побагровело.
Тем временем Каспар принес вино и наполнил кубки. Скорняк облизал языком губы и продолжал:
— В Гальтенбергштеттене Бешеный Цейзольф, правда, принял повестку, но разорвал ее в клочки и бросил Фингерлингу в лицо, да еще спустил на него собак. Они его изрядно потрепали, а юнкер со своей челядью хохотали до упаду, любуясь этим зрелищем. Он сам потом хвастался в городе.
Килиан Эчлих слушал рассказчика, насупив брови.
— Ну, ну, и что же дальше? — нетерпеливо спросил он.
Мясник Дальк хриплым голосом, отчаянно фальшивя, затянул:
Я, мастер Петер Вогелей, Во славу цеха пекарей Всегда пропеть вам рад Про то, как кликнули мы клич: «Пора дворянчиков постричь!» — И загудел набат. И ротенбургский наш народ С крестьянством двинулся в поход На замок Ингольштадт.Он оборвал песню, смеясь, и Каспар сухо заметил:
— Теперь бы до этого не дошло.
— Даже если б горожане были все заодно, ничего бы из этого не вышло, — сказал сапожник. — Времена не те. Разве что натравили бы на себя Швабский союз. Юнкеры-то ведь из имперского рыцарства. Магистрат должен жаловаться на них в имперский суд.
Стригальщик едко ухмыльнулся:
— Знаю я на собственном опыте, чем это пахнет. Ворон ворону глаз не выклюет. Магистрат только слабым показывает зубы. Будь наш брат горожанин хоть тысячу раз прав, жалуясь на притеснения знатных особ, магистрату хоть бы что. Так пусть же теперь наши досточтимые испытают на собственной шкуре, что значит несправедливость, а я уж посмеюсь над ними, посмеюсь…
И он разразился язвительным смехом.
— А все-таки позор для нашего города остается позором и для всех нас! — рявкнул сапожных дел мастер.
— А что случилось со мной, разве не позор? Не позор для города? — простонал стригальщик.
— Черт побери, он прав! — воскликнул Фриц Дальк и что было силы стукнул по столу кулачищем. — Магистрат пожинает, что посеял. Вытащи он этих юнкеров за шиворот в день трех волхвов, до этого бы дело не дошло.
— Уж эти мне монастыри да духовные ордена! — заговорил Мельхиор Мадер. — Они пользуются всем, что мы добываем в поте лица, а сами не платят ни геллера. Ведь мы трудимся на благо нашего города. Следовало бы заставить и их нести городские повинности.
— Что правда, то правда! — поддакнул шустрый Лоренц Дим. — Да и на кой нам прах монастыри да ордена? Пользы от них ни на грош. Будь то в моей воле, закрыл бы я их все, да и дело с концом!
— А кто этому мешает, как не магистрат? — спросил Килиан Эчлих. — По чьей милости я вынужден ждать того, что мне полагается по праву, до дня святого Никовоки, как говорит мой племянник, оренбахский староста?
— Стыд и позор, что мы, ротенбуржцы, плетемся в хвосте всех имперских городов в деле новой веры, — заметил скорняк.
— В других местах цехи уже давно заседают в магистрате, — добавил Мельхиор Мадер.
— А я вам прямо скажу: нынешний магистрат ни к черту не годится! — загремел Фриц Дальк.
В этот момент кто-то трижды постучался в окошко. Но в пылу беседы никто, кроме хозяина, ничего не услышал. Килиан зажег лучину и пошел открывать дверь. Со времени тайного прихода бургомистра этот условный стук раздавался каждый вечер; верный своему обещанию, Эренфрид Кумпф приводил к Карлштадту то Дейчлина, то командора, то других сторонников Реформации.
На этот раз, с опаской впустив посетителя, Килиан отпрянул в изумлении: перед ним стоял рыцарь Стефан фон Менцинген. Хозяин направился было к лестнице, ведущей наверх к Карлштадту, но рыцарь остановил его словами:
— У вас гости? Я слышал с улицы. Слышал невольно: они говорят слишком громко. Будьте осторожны, мейстер. Разве у вас все окна выходят на улицу?
Килиан смущенно посмотрел на него и пробормотал:
— У нас нет никаких тайн.
— Ну конечно. Недоставало только, чтобы вы кричали среди бела дня на площади, что нынешний магистрат ни к черту не годится, — возразил рыцарь с легкой усмешкой.
— Особенно после того, что случилось сегодня? Однако пожалуйте в комнаты.
Но рыцарь снова остановил его.
— Терпение, мейстер. Ваше мнение о магистрате меня нисколько не удивляет после того, как он поступил с вами. Скверно поступил, клянусь честью, очень скверно. Что называется, прибавил к старой несправедливости новое беззаконие. Мне рассказал обо всем почетный бургомистр. Хуже быть не может. Но вы так глядите на меня, будто я говорю по-халдейски. Неужели Кумпф, щадя вас, скрыл последнюю новость? Так вы действительно не знаете, что он недавно добился пересмотра вашего дела во внутреннем совете и что магистрат положил считать его решенным раз и навсегда?
Из груди старого стригальщика вырвалось нечто вроде хрипа. Он позеленел.
— Успокойтесь, мейстер, — подбодрил его фон Менцинген. — Я сам не хуже вашего знаю все лицемерие здешнего магистрата и подумал, раз вы советуетесь с вашими друзьями, как вам добиться справедливости, быть может, и я смогу быть вам полезен советом.
Килиан Эчлих стоял как громом пораженный и, казалось, ничего не слышал. Видно, он до последней минуты не расставался с надеждой отстоять свое право. Теперь он был подобен кораблю, который, лишившись последнего якоря во время бури, очутился во власти разъяренной стихии. Вдруг в его мозгу молниеносно промелькнули слова, недавно произнесенные почетным бургомистром: «Только никакого насилия», — и он повторил их вслух со злобной усмешкой. Потом, после минутного колебания, глубоко перевел дух и сказал:
— Да, это мне было неизвестно. Если вы, благородный рыцарь, не побрезгаете обществом таких мелких людишек, как я и мои друзья, и удостоите нас чести…
— Прошу не чиниться, мейстер, — прервал его фон Менцинген. — С братом Андреасом я повидаюсь в другой раз. Идемте к вашим друзьям. Любить магистрат у меня так же мало оснований, как и у вас.
Когда Килиан ввел знатного гостя, беседа мастеров сразу оборвалась и все глаза с изумлением устремились на вошедшего. Радушно поздоровавшись со всеми, рыцарь уселся за стол, как с равными. Стригальщик достал из буфета огромный серебряный кубок — приз, полученный им когда-то на состязаниях в стрельбе по птицам на лугу у Родерских ворот, и, наполнив его, поднес с поклоном высокому гостю. Стефан фон Менцинген с честью вышел из испытания, хотя кислое вино едва ли пришлось по вкусу избалованному рыцарю.
— Простите, почтеннейшие, что я задержал нашего хозяина. Если не ошибаюсь, вы обсуждали вопрос, как вновь поднять добрую славу нашего города, уничтожив беззаконие?
Первым заговорил Мельхиор Мадер. Степенно откашлявшись, он промолвил:
— Действительно, таковы наши намерения, ваша милость. Мы так полагаем: закон должен оставаться законом, не то верность и честность полетят…
— К чертям! — закончил басом мясник.
— Ведь на нас держится община, — заметил Лоренц Дим. — Мы несем все тяготы на своих плечах, а именитые граждане живут, как моль в меху.
— Так ты бы выколотил ее оттуда, на то ты и скорняк! — вполголоса произнес за его спиной Каспар, исполнявший обязанности виночерпия.
Все засмеялись, а Мельхиор продолжал:
— Да ведь нас теснят не одни именитые. Нам, горожанам, не дают свободно вздохнуть и дворяне и попы. Нет от них житья ни ремеслу, ни торговле.
— Они везде снимают сливки! — крикнул Фриц Дальк.
— К сожалению, это так, — подтвердил рыцарь. — Однако это дело надо обсудить на свободе. Прежде всего надо поразмыслить, как вернуть честным людям их попранные права.
— Одно упирается в другое, — сказал скорняк Лоренц Дим.
— Вот если б цехи были допущены в большой совет и имели право голоса, тогда все было бы по-иному, — начал мясник.
А сапожных дел мастер закончил:
— Да ведь суть в том, что все они — одна шайка, не исключая и поповских гнезд.
— А почему, собственно, цехи не имеют своих представителей в магистрате, почтеннейшие мастера? — спросил фон Менцинген, обводя всех пытливым взором из-под тяжелых век.
— Этот орешек нам не по зубам, — сказал Дальк.
— Так разрешите раскусить его за вас, мейстер, — отвечал рыцарь. — Цехи сами позволили дворянам вытеснить себя из внешнего совета, где они прежде заседали.
Мастера с недоверием покачали головами. Об этом они никогда не слыхивали.
— Святая истина, — заверил фон Менцинген. — И было это в тысяча четыреста пятидесятом году, стало быть не так уж давно. Тогда, как только что сказал мейстер Мадер, именитые господа жестоко теснили горожан и подневольных людей, и в один прекрасный день угнетенные восстали и принудили угнетателей дать цехам представительство во внешнем совете. Заключенный между сословиями договор и по сей день хранится в архиве городской ратуши.
Старшины слушали рыцаря затаив дыхание и продолжали смотреть ему в рот, даже когда он замолчал. В комнате наступила такая тишина, что слышно было, как червь точит балку на потолке. Старшины переглянулись. Насладившись их оцепенением, рыцарь с оттенком пренебрежения в голосе продолжал:
— В те времена у горожан еще текла кровь в жилах: города с оружием в руках боролись против местной знати. Мирное житье остудило им кровь.
— Ну это как сказать! — воскликнул мясник и потряс громадным кулаком.
— Тем лучше, если я ошибаюсь, почтенный мейстер, — согласился рыцарь. — Но, ей-богу, — продолжал он, покручивая кончики усов, — если б наши отцы и деды были дальновидней, магистрату не удалось бы сыграть такую скверную шутку с мейстером Эчлихом.
— Где уж нам это понять! Может, оно и было, да быльем поросло! — воскликнул Лоренц Дим, разглаживая обеими руками спускавшиеся на лоб подстриженные в скобку волосы.
— Понять не так уж трудно, — возразил рыцарь. — Бюргерство решило, что раз оно одержало победу над дворянами и заставило их признать и подтвердить документом и клятвой его права, то оно может опочить на лаврах. А как вы полагаете, мейстер Эчлих, много ли стоит бумажное право, когда нет силы, чтобы его поддержать?
Килиан Эчлих гневно ударил кулаком по столу, и рыцарь продолжал:
— Итак, бюргеры вернулись к своим мирным занятьям, трудились и наживались, и в заботах о своем личном благе забыли про благо общее. И общественных делах они разбирались туго и были даже рады, что именитые граждане избавили их от хлопот. Они и не заметили, как те разными уловками и хитростями постепенно оттеснили их в сторону от общественных дел. Если кто и почуял, что дело неладно, то было поздно — среди бюргерства уже не было единодушия. Так и случилось, что старинные права горожан были забыты.
— Забыты? Так, стало быть, нужно напомнить о них магистрату и бюргерству! — крикнул скорняк, побагровев.
— Да, и напомнить так, чтоб господа не скоро очухались! — чуть не задохнулся от ярости Фриц Дальк.
— Если горожане твердо потребуют признания своих прав, подтвержденных грамотой, я уверен, они их получат, — произнес фон Менцинген, обращаясь ко всем мастерам. — Тогда и мейстер Эчлих добился бы своего, и цехи законным путем положили бы конец злоупотреблениям патрицианского правительства. Ей-богу, беззакония магистрата зашли слишком уж далеко, у меня просто желчь вскипает, стоит мне об этом подумать.
Разгоряченные мастера заговорили, закричали наперебой. Каспар старательно подливал им вина. Только Килиан Эчлих не проронил ни звука, но глаза его горели.
— Однако час уже поздний. Отложим нашу беседу до следующего раза, — промолвил фон Менцинген. — И не плохо бы приготовить нам комнату окнами во двор, мейстер Эчлих.
— Сделайте одолжение, — отвечал тот.
— Ну, стало быть, до голубого понедельника[71], если почтеннейшие мастера не возражают, — предложил рыцарь.
Все согласились.
— К тому же эта комната слишком тесна, — заметил Мельхиор Мадер. — Среди горожан немало таких, что с нами заодно.
— Итак, да хранит вас бог. — И рыцарь сердечно простился с мастерами, взяв плащ и шляпу.
Мейстер Килиан проводил его до двери.
— Теперь я спокоен за свои права, — сказал он.
Порывистый западный ветер разгуливал по темным улицам, разгоняя тучи, сквозь которые изредка проглядывали звезды. Визжали и скрипели флюгера на крышах и вывески на длинных железных шестах, протянутых над тротуарами, «Погодите, — думал рыцарь, шагая к Родерским воротам и плотнее закутываясь в плащ, — скоро налетит вихрь не чета этому и развеет в прах все ваше прогнившее могущество!» Вдруг он остановился и прислушался. Ветер донес до его слуха неясный шум, к которому словно примешивался звон оружия. Шум доносился с Райской улицы, начинавшейся вправо от Родерских ворот. Там, неподалеку от бань, находился публичный дом. Патрицианские сынки не редко затевали там ссоры с подмастерьями, подчас спор решали мечи и далеко не всегда в пользу молодых дворянчиков. Так золотая молодежь готовилась к роли будущих градоправителей. Усмехнувшись про себя, рыцарь скрылся под темной аркой, которая вела к центру города.
Глава восьмая
С юга и запада уже задули весенние ветры, и на горизонте стали сгущаться грозные тучи. Горе тем, на кого надвигалась эта гроза: от нее не спасешься ни покорностью, ни силой. И до слуха ротенбургских господ дошла весть о том, что брат императора эрцгерцог Фердинанд[72], получив заем у Вельзеров[73] в Аугсбурге, поручил Трухзесу Георгу фон Вальдбургу набирать войска для упрочения власти Габсбургского дома на Верхнем Рейне и в Вюртемберге. Но в Рогенбурге об этом мало думали.
Габриэль Лангенбергер больше не появлялся у высокородного господина бургомистра, хотя крестьяне продолжали совещаться в трактире Лангенбергера по базарным дням. Трактирщик вдруг стал глух на оба уха. Возмущение горожан, вызванное наглым поведением юнкеров Розенберга и Финстерлора, кончилось ничем, и магистрат воспринял это как доказательство прочности своей власти, так что почетному бургомистру пришлось вынести немало насмешек по поводу его пессимизма. Никогда еще в Ротенбурге так шумно не развлекались, как в эту зиму. Предстоявшая на пасху свадьба Сабины фон Муслор с Альбрехтом фон Адельсгеймом явилась удобным предлогом для аристократических домов города, которые принялись состязаться друг с другом в пышности балов. Но истинной царицей балов была не невеста, а ее прекрасная подруга, отдававшая дань своей молодости и красоте с таким пылом и упивавшаяся балами с такой ненасытностью, что Сабина только диву давалась. Когда Сабина взмолилась об отдыхе, прекрасная Габриэла отвечала, смеясь, что для отдыха еще будет время, что молодость не длится вечно. Чем больше она кружилась в вихре развлечений, тем больше чувствовала себя в своей стихии.
Лишь слабые отголоски шумных развлечений патрициата доходили до слуха фрау фон Менцинген и ее дочери. Фрау фон Менцинген считала, что ей не следует «бывать в свете» до тех пор, пока честь ее мужа не будет восстановлена публично. Будучи последней в роде Прелей, она не имела родственников в Ротенбурге, а знакомства, завязанные еще в годы девичества и в первое время после замужества, оборвались с отъездом из Ротенбурга, вызванным столь тяжкими обстоятельствами. Ее болезненная щепетильность помешала ей тогда напомнить о себе рейнбургским друзьям. Она надеялась, что они сами, по собственной инициативе, докажут свою преданность, но те предпочли забыть о жене опального беглеца. Тем меньше она была расположена искать сближения со старыми друзьями теперь. И Эльза и ее мать лишь изредка выходили из дому, разве только чтобы послушать проповедь доктора Дейчлина или командора Христиана в соборе св. Иакова. Фрау фон Менцинген отдавала предпочтение проповедям командора, который умел сочетать мужественность с известной долей кротости, тогда как полнокровный доктор Иоганнес казался ей чересчур неистовым и бурным. Молодые патриции, которые по окончании богослужения обычно толпились на паперти, чтобы поглазеть на молодых прихожанок, обратили внимание на Эльзу. В храме они наперебой старались поднести ей сосуд со святой водой. О ней уже поговаривали в городе. Глядя на ее головку, окруженную золотистым ореолом чудесных каштановых волос, ее прозвали прекраснокудрой. Слухи о ней дошли и до Габриэлы Нейрейтер.
Но внимание золотой молодежи не только не льстило Эльзе, но даже оскорбляло ее девичью скромность. Ее не влекло к развлечениям. Дни в Ротенбурге и без того были заполнены. «Ну конечно, — подсмеивался над нею отец, не одобрявший такого поведения, — наряды, чтение рыцарских романов и игра на лютне не оставляют молодой девице ни минуты свободного времени». Но Эльза не любила наряжаться, не умела играть на лютне, а единственной книгой, которую она по вечерам читала вслух матери, была библия. Для своей матери она была не только дочерью, но и подругой. Их сблизили невзгоды и уединенная жизнь в Рейнбургском замке. Она взвалила на свои юные плечи труднейшую часть забот: она преданно помогала матери по хозяйству и в воспитании младших сестер и утешала ее, когда отец был в изгнании. Но испытаниям фрау фон Менцинген еще не пришел конец. От нее не могло долго оставаться тайной, что ни годы, ни превратности судьбы не укротили честолюбия ее супруга и что он затаил обиду против магистрата, считая его иск тяжким оскорблением своей чести.
Все это отнюдь не укрепляло в ней надежды на примирение мужа с ротенбургскими градоправителями, и для нее было большим утешением, когда Макс Эбергард так горячо и серьезно взялся защищать дело фон Менцингена. Ознакомившись с актами и документами, переданными ему рыцарем, он стал добиваться пересмотра его процесса в имперском верховном суде. Молодой Эбергард внушал ей доверие. И мать и дочь неизменно оказывали ему теплый прием.
Приняв не без колебаний приглашение рыцаря, Макс вскоре стал частым гостем в его доме. Спокойствие и приветливость фрау фон Менцинген, прошедшей через тяжкие испытания, и серьезность юной Эльзы, которая среди всех треволнений сохранила невозмутимость духа, освежали его, как вечерняя прохлада освежает истомленного зноем путника. Выросший без матери и сестер, он лишь теперь познал облагораживающее влияние возвышенной женской души. Впервые по возвращении из Италии он вырвался из одиночества, в котором жил, замкнувшись в своем внутреннем мире из отвращения к распущенности своих сверстников. Фрау Маргарета и Эльза с увлечением слушали его рассказы об Италии, о замечательных произведениях итальянского искусства. Они хорошо знали горький жребий простых людей и разделяли его надежды на близкое освобождение народа. Какое глубокое понимание он видел в синих глазах Эльзы! И вот однажды вечером, когда он читал им ответ, полученный от рыцаря Флориана, сиянье ее очей проникло в его сердце, как солнечный луч, и переполнило его до краев.
Флориан Гейер писал ярко, но просто, без всяких словесных прикрас. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Только в союзе подлинно свободных людей, писал он, можно создать счастье народа. Нужно быть до конца верным своим убеждениям и не останавливаться ни перед чем для достижения высокой цели. Не словами, а делами обновится мир.
Письмо Гейера пришло вовремя; оно поддержало Макса в его борьбе с отцом. Недовольство Конрада Эбергарда сыном, который отказался стать орудием его честолюбивых замыслов, построенных на деньгах Габриэлы Нейрейтер, получило новую пищу, когда Макс взялся вести дело фон Менцингена. Такое начало карьеры не сулило, по мнению отца, ни славы, ни денег. Наперед можно было сказать, что это дело проигранное. Жизнь в родительском доме становилась Максу все более в тягость. Только в обществе Эльзы и ее матери находил он забвенье.
К письму Флориана Гейера было приложено второе письмо, написанное другим почерком, для Стефана фон Менцингена. «От Венделя Гиплера», — сказал Макс, вручая его рыцарю.
— Он пишет мне из замка Гейера фон Гейерсберга! — воскликнул фон Менцинген, поспешно развернув письмо. — Добрый знак! Рыцарь Флориан тоже был со своим отрядом под Гогентюбингеном, и я убежден, что дело не дошло бы до такой крайности, если бы главнокомандующим был назначен он, а не этот коварный и жестокий солдафон Трухзес фон Вальдбург. Конечно, Трухзес — самый подходящий человек, чтобы добыть для Габсбурга такую жемчужину, как Вюртемберг. Но посмотрим! Ведь герцог Ульрих еще жив!
Он вторично пробежал глазами письмо и продолжал:
— А! Он выиграл дело по иску крестьян к графам фон Гогенлоэ. И советует мне для ведения моего дела обратиться к вам, милейший доктор. Его рекомендация имеет в моих глазах большой вес: во-первых, за его спиной стоит, конечно, Флориан Гейер, во-вторых, как он мне сам заявил в Гейльброне, он питает ужас к докторам римского права. Конечно, тогда он еще не знал вас, милейший доктор. Эти doctores, сказал он тогда, залечат Германию до смерти. Не в обиду вам будь сказано, доктор.
— Вполне согласен с Венделем Гиплером, — поспешил заверить его Макс. — Римское право — гнилой нарост на теле империи. Оно так же под стать немецким условиям, как дряхлая старуха псовой охоте. Римское право лишило наши сельские общины земли и свободы, вольных крестьян обратило в крепостных, а крепостных — в рабов. Когда наша городская и землевладельческая знать — светская или духовная, безразлично — замышляет какой-либо захват или насилие, что ей служит опорой, как не римское право? Оно вскармливает алчность и своекорыстие, освящает их и возводит в закон, само черпая в них свою силу.
Император Карл V
С гравюры Кристофа Амбергера
— Охотно верю вам, милейший доктор, — невозмутимо произнес рыцарь. — Но так уж устроен мир, что им управляет корысть, а не прекрасные идеалы. Лишь тот свободен, кто силен, ибо на его стороне право. Посему я утверждаю: сила, сила и сила превыше всего. Это волшебный жезл, открывающий все клады мира.
Жена бросала на рыцаря робкие взгляды. Он не имел обыкновения посвящать ее в свои дела. Но сегодня он был радужно настроен, разговорился при ней и велел подать вина, чтобы выпить за здоровье Венделя Гиплера и Флориана Гейера. Макса он попросил, когда тот будет писать в Гибельштадт, передать его нижайший поклон рыцарю Флориану, затем, снова наполнив кубки, сказал:
— Впрочем, я хоть сейчас готов, наперекор моим словам, для общего блага поступиться собственными интересами. Кроме того, любезный доктор, я в некотором роде звездочет. Посему да позволено мне будет поднять этот кубок за скорейшее осуществление благоприятствующих нашему делу знамений, которые я читаю на небе.
Но знамения знамениями, а на всякий случай рыцарь и сам не плошал и по возвращении в Ротенбург со всем усердием принялся двигать свое дело. Не теряя времени, он завязал связи с многими сторонниками Реформации, получив с помощью почетного бургомистра доступ в дом фрейлейн фон Бадель, служивший им местом встреч. Правда, эти знакомства не могли поднять его репутацию в глазах магистрата, зато они снискали ему расположение бюргерства. Он проявлял особую предупредительность к горожанам, а его гордое и сдержанное обращение с аристократами принималось бюргерством как доказательство чистоты его совести и вздорности возведенных против него обвинений. Он не гнушался обществом даже самых маленьких людей и, проходя через Рыночную площадь, неизменно останавливался возле мелочных лавочек у ратуши, чтобы перекинуться словечком с торговцами и разным слонявшимся там без дела людом. На площади всегда было много всяких праздношатающихся, и оттуда распространялись по городу самые свежие новости. И цеховые мастера, с которыми фон Менцинген совещался в доме Килиана Эрлиха, тоже способствовали росту его популярности в городе.
Однажды он подарил Эльзе кусок драгоценного венецианского шелка на платье. Приближался традиционный бал патрициата, и рыцарь счел это удобным случаем, чтобы вывезти в свет свою дочь. Он решился наконец выйти из своего уединения, опасаясь, что оно будет превратно истолковано аристократией. Столь дорогой подарок привел в смущение фрау фон Менцинген. Для нее не было тайной, что материальное положение ее супруга отнюдь не оправдывало подобной расточительности. Она и так отказывала во многом себе и детям, чтобы удовлетворить пристрастие рыцаря к изысканному столу. Он был из тех мужей, которые привыкли, чтобы их малейшее желание исполнялось. Но фрау фон Менцинген старалась оправдать тяготение своего мужа к роскоши лишениями, выпавшими на его долю после изгнания его господина, герцога Ульриха Вюртембергского. Коль скоро упреки все равно ничего не могли изменить, она не стала укорять его и омрачать радость дочери, любовавшейся прекрасной тканью при ярком свете дня. Но вдруг Эльза свернула материю и, отложив ее в сторону, сказала:
— Нет, это слишком дорогая вещь. Такое платье пристало носить какой-нибудь графской дочери при дворе.
— А тебе так не пристало? — спросил отец, наморщив лоб. — Почему? Фон Менцингены принадлежат к древнему рыцарскому роду, имевшему с незапамятных времен право участвовать в турнирах. Кто знает, быть может, и тебе суждено блистать при княжеском дворе. И даже скорее, чем ты думаешь.
Эльза с удивлением посмотрела на отца, упрямо покачала кудрявой головкой и, взяв материю, вышла из комнаты.
— Напрасно вы смущаете девичью душу честолюбивыми мечтами, — сказала рыцарю жена. — Много ли дала вам милость князей, любезный мой супруг? Один из них спокойно допустил, чтобы вы принесли ему в жертву свое доброе имя, а другой увлек вас за собой в своем падении. Наше дитя — сама простота и скромность. Светский блеск не даст ей счастья.
— Пусть она сначала узнает его, — возразил фон Менцинген. — По своему происхождению Эльза должна вращаться в более высоких кругах, а не среди здешнего дворянства аршина, четверика и давильного пресса. Туда же в знать лезут! Смех, да и только!
— Но ведь вы сами взяли себе жену из этого круга! — горячо возразила фрау Маргарета.
— Ну и что ж, что взял? — раздраженно воскликнул он. — Мужчина либо возвышает, либо низводит женщину до своего уровня. Но будущее Эльзы — не ваша печаль. Позаботьтесь только, чтобы на балу она имела подобающий ее происхождению вид.
Фрау фон Менцинген, сокрушенно вздохнув, промолчала.
В то время как Эльза с матерью занимались приготовлениями к балу, прекрасная Габриэла получила из монастыря записочку от почтенной матери игуменьи Ламперты с просьбой навестить ее. Игуменья Ламперта посвящала своих питомиц в тайны женских рукоделий, первое место среди которых занимало вышиванье. Чтобы за этим занятьем не оставлять праздным ум, она заставляла своих воспитанниц читать ей вслух, по очереди, жития святых или же раскрывала перед ними сокровищницу собственного житейского опыта, повествуя о жизни знати, турнирах и придворных празднествах, и поучала, как в различных случаях жизни приличествует вести себя благородным девицам. Габриэла и Сабина также принадлежали к числу ее питомиц, и множество подушечек, скатертей, накидок и покрышек, красовавшихся на креслах, молитвенных скамеечках, столах и стульях в дортуаре девушек, красноречиво свидетельствовали о приобретенном ими искусстве выводить причудливые золотые и разноцветные узоры по сукну, бархату и шелку. Однако справедливость требует заметить, что большинство этих произведений искусства было создано прилежными пальчиками Сабины. У ее подруги не хватало терпения заниматься рукодельем. Она предпочитала, полулежа в глубоком и мягком кресле с резной спинкой, мечтательно созерцать пеструю ткань ковров на стенах или искусную роспись золотых, серебряных и хрустальных сосудов, служивших украшением камина. О чем мечтала она?
Хотя Габриэла не принадлежала к числу прилежных и послушных учениц, все же она всегда была любимицей матери Ламперты, вероятно потому, что в характере девушки и в ее многообещающей красоте она видела материал, из которого можно вылепить идеал знатной дамы. Вероятно, поэтому она и не поддержала своих благочестивых сестер монахинь, которые пытались было после смерти родителей Габриэлы заполучить эту золотую рыбку в свой монастырский пруд в пику магистрату, заинтересованному в том, чтобы сохранить состояние богатой наследницы для города и патрициата.
С какой целью хотела мать Ламперта видеть свою бывшую питомицу между десятью и одиннадцатью часами утра, об этом в письме не говорилось ни слова. Габриэла не раз получала такие записочки, ибо благочестивая мать игуменья была великая охотница до светских новостей. Привратница проводила Габриэлу в сад, окруженный с трех сторон сводчатой галереей; четвертой стороной являлась городская стена, за которой расстилалась долина Таубера. Монахиня прогуливалась по крытой галерее не одна: рядом с нею шагал мужчина в черном плаще и гладком берете. Они шли спиной к Габриэле. Монахиня первая услышала шуршанье шелкового платья по каменным плитам.
— Ах, наконец-то, милое дитя! — радостно воскликнула она, оглянувшись, и поплыла вперевалку навстречу девушке. Благочестивым людям все идет впрок, и почтенной матери Ламперте, как видно, монастырская жизнь шла на пользу. Это была весьма упитанная особа, и, глядя на ее круглое лицо, приветливо улыбающееся гостье из-под белой повязки и черной вуали, ей никто бы не дал ее сорока лет. Лицо у нее было гладкое, белое, румяное и лоснящееся, как будто только что покрытое восковыми красками. Рука, которую она протянула девушке для поцелуя, отбросив широкий рукав рясы, вся была в ямочках.
— Очаровательна, как всегда! — воскликнула она, окидывая прекрасную гостью восхищенным взглядом своих маленьких, заплывших жиром глаз.
Между тем ее спутник тоже повернулся лицом к девушке, и изумленная Габриэла узнала в нем юнкера Цейзольфа фон Розенберга. Но ее удивление длилось лишь миг. Она вспомнила, что юнкер был племянником матушки Ламперты и что там, где северное крыло галереи упиралось в городскую стену, была калитка, избавлявшая обитателей монастыря от необходимости делать большой крюк через городские ворота, чтобы пройти к своим виноградникам в долине Таубера. Легкая насмешливая улыбка заиграла на гордых устах Габриэлы, когда она отвечала на приветствие молодого дворянина, склонившегося перед нею с ловкостью, которой трудно было ожидать от его приземистой фигуры.
Монахини с четками
С гравюры Георга Пенца
— Ты пришла как раз вовремя, чтобы помочь мне, — продолжала монахиня. — Мне пришлось прочитать суровую проповедь этому нечестивцу. Ты, верно, помнишь моего племянника еще с той поры, когда ты, как резвая козочка, носилась по монастырскому двору. Но сядем, дитя мое.
И она присела на дубовую скамью, а Габриэла опустилась рядом с нею.
— Этот закоренелый грешник, — продолжала плести свою нить мать Лампорта, устремив на молодого дворянина исполненный материнской нежности взгляд, — не желает уплатить магистрату штраф. Я убеждала его, но он не поддается. Ты должна помочь мне убедить его.
— Я? — с холодным изумлением спросила девушка.
— Это было бы воистину по-христиански: ведь он просто погибает от скуки в своем Гальтенбергштеттене, — со вздохом сказала монахиня и рассмеялась.
Габриэла равнодушно пожала плечами. Цейзольф фон Розенберг посматривал на нее своими водянистыми глазами, подергивая рыжие обвислые усы. Но его тетушка, внезапно оживившись, воскликнула:
— Благодарение пречистой деве, что я никогда не была красива! Красота могла бы сделать меня такой же жестокой, как ты, милое дитя!
— Прекрасная фрейлейн не должна думать, что я отказываюсь из упрямства, — сказал, откашлявшись, юнкер, — у меня есть свои основания.
— Но не мне судить о них, — отрезала Габриэла.
— Нет, благородная фрейлейн заблуждается на мой счет…
— Я вас не знаю, господин фон Розенберг, и, следовательно, не могу заблуждаться, — холодно отпарировала Габриэла.
— И все-таки заблуждаетесь, — пробормотал он.
— Ломайте, ломайте копья и не обращайте внимания на меня, — добродушно вставила игуменья. — Люблю, когда молодежь горячится.
Холодный взгляд Габриэлы скользнул, не задев этой младенчески невинной души.
— Так она заблуждается на твой счет, племянник? Но кто это? Кажется, сестра Беата выглянула из трапезной!
Она встала, засеменила, переваливаясь, к двери, приоткрыла ее и, просунув голову, сделала вид, будто обращается к кому-то. Потом, повернувшись к молодым людям, крикнула: «Я сейчас приду!» — и скрылась.
Габриэла проводила ее взглядом, насупив тонкие черные брови.
— Так в чем же я заблуждаюсь? — равнодушно спросила она.
— В том, что не видите, какую власть надо мной имеет ваша красота! — весь загоревшись, воскликнул Цейзольф фон Розенберг.
Габриэла широко раскрыла глаза, но юнкер с воодушевлением продолжал:
— Клянусь честью! Я помню вас еще с монастырских лет. Потом я видел вас в день трех волхвов, когда вы проезжали верхом через площадь. Гром и молния! Как вы прекрасны! — И он с такой силой ударил себя кулаком в грудь, что скрытый под плащом панцирь глухо загудел.
Лицо Габриэлы вспыхнуло от гнева, губы искривились, она поднялась со скамьи и едко сказала:
— Так меня позвали сюда, чтобы выслушать вашу исповедь?
Он смутился, но, чтобы скрыть замешательство, воскликнул:
— Да, черт возьми! Должен же я вам сказать, что меня околдовала ваша красота!
Она молча пожала плечами и повернулась, чтобы уйти, Он протянул руку, удерживая ее, но она посмотрела на него таким ледяным взором, что его рука повисла в воздухе.
— Выслушайте меня! — воскликнул он. — Вы должны меня выслушать, прекрасная Габриэла! Клянусь сатаной, я безумно вас люблю!
— Кричите громче! Вы хотите, чтобы вас слышал весь монастырь? — спросила она, гневно нахмурив лоб, казавшийся еще белее под черной меховой опушкой ее бархатной шапочки.
— Что мне до того? — вскричал он, но уже несколько тише. — По мне, пусть знает целый свет…
— Что вы дурак! — процедила она сквозь зубы.
Он отпрянул, но тут же продолжал:
— Напротив, в жизни я еще не был рассудительней, чем сейчас. Клянусь… моим патроном — чтобы не оскорблять ваши прелестные ушки упоминанием о его сатанинском величестве, — я люблю вас, прекрасная Габриэла.
Эти признания Бешеного Цейзольфа начинали ее забавлять, и она уже насмешливо сказала:
— Должно быть, это совсем особенный святой, если он рискнул взять под свое покровительство Бешеного юнкера фон Розенберга?
Он, видимо, был польщен, услышав свое прозвище из ее уст. Обеими руками он сгреб свою огненно-рыжую бороду и, пожирая Габриэлу страстным взглядом, пробормотал:
— Теперь я верю: это не пустые бредни, что дьявол иногда принимает образ прекрасной женщины, чтобы сводить нас с ума.
— Так перекреститесь, если не разучились, и наваждение исчезнет, — насмешливо продолжала Габриэла.
— Чтобы действительно оказаться дураком, каким вы меня считаете? — крикнул он с плохо сдерживаемой страстью. — Нет, такого обольстительного дьявола я бы не выпустил из своих рук, и, клянусь, он сам не захотел бы вырваться, если б попался в мои объятия.
— Если бы попался! — повторила она с вызывающим видом. — Но оставим в покое дьявола и святых. Ваши клятвы для них пустой звук, так же как и для меня.
Она снова попыталась уйти, но он, засопев, преградил ей дорогу.
— Если вы не верите моим словам, я докажу вам на деле, как я вас люблю. Чего вы желаете? Приказывайте. Я — ваш раб. Хотите, я подожгу с четырех концов этот проклятый город и обращу его в пепел вместе с магистратом?
— Правда?! — воскликнула она с презреньем. — Вы так трусливы, что хотите ухватиться за меня, как за предлог, чтобы свести счеты с городом?
— Тысяча смертей! Если б это посмел мне сказать кто-либо другой в мире! — загремел он, судорожно хватаясь за меч. — У вас есть враги?
— У кого их нет?
— Назовите мне их, и кто бы они ни были, они умрут!
Глаза прекрасной Габриэлы загорелись зловещим огнем, но она промолчала.
— Назовите! — настаивал он.
— Довольно! — воскликнула она, отстраняя его повелительным жестом. — Обратитесь к вашей благочестивой тетушке и попросите научить вас, как добиваются женской любви.
И она упорхнула. Бешеный Цейзольф смотрел ей вслед, словно окаменевший. Мать Ламперта, вернувшись вскоре после того из трапезной и не найдя Габриэлы, сделала изумленное лицо.
— Ушла? — спросила она. — Но ты добился своего?
Рыцарь яростно задергал кончики своих рыжих усов и с глухим рычаньем произнес:
— Клянусь всеми чертями, она будет моей!
Благочестивая монахиня перекрестилась.
— Да простит тебе пресвятая дева твою ужасную божбу, племянничек. Так значит, ты уверен в успехе? Хвала всевышнему! Пора тебе покончить с распутной жизнью. Да и денежки тебе, конечно, тоже пригодятся. Ну рассказывай же!
Сгорая от любопытства, она опустилась на скамью. Он окинул ее насмешливым взглядом, покрутил усы и сказал:
— Вы должны помочь мне, благочестивая тетушка. Она сказала, чтобы я попросил вас научить меня, как добиваются женской любви. — И он осклабился.
— Так и сказала? — протянула мать Ламперта и после короткого раздумья добавила: — Она права. В делах любви вы все, мужчины, простофили. Представляю себе, как ты увивался за этой избалованной красавицей. Должно быть, как рыцарь с большой дороги за толстой сумой проезжего купца! Хорошо, я тебе помогу. Я уверена, что вы предназначены друг для друга самим небом! Ах, когда наконец все вы, молодые дикари, научитесь применяться ко времени и поймете, что лучше устроиться при дворе, чем, сидя в кустах, подстерегать добычу, как твой милейший кузен Кунц фон Розенберг, как Паппенгейм, как Томас фон Абсберг и сколько их там еще! Да, племянничек, нечего тебе тайком прокрадываться сюда. Ухаживай за ней открыто. Кстати, вот удобный случай — патрицианский бал.
Рыцарь слушал ее с возрастающим нетерпением.
— Рассчитываю на вашу помощь, — сказал он. — Коль ваше благочестие вступит в союз с моей греховностью, то черт меня побери, если прекрасная Габриэла не будет моей!
Почтенная мать игуменья в ужасе всплеснула руками. Но он почти насильно поднес ее руку к своим губам.
— Ужасный человек! — простонала она. — Да простят тебе святые угодники!
— Аминь, благочестивая тетушка, — засмеялся он и быстро вышел через калитку в городской стене. Оттуда к Тауберу круто спускалась тропинка, извивавшаяся между густыми зарослями. Дальше дорога вела через зыбкий мостик на другой берег реки и тянулась до самой Фуксмюле. Под ольхой у мельницы его ожидал конюх с лошадьми. У дороги стоял старик нищий, и юнкер плюнул в протянутую им шляпу. Это было его подаяние. Старик злобно погрозил кулаком вслед удалявшемуся вскачь всаднику. И у мельницы и позже в городе старик рассказывал, что видел собственными глазами, как дьявол в образе рыжебородого юнкера фон Розенберга выскочил из женского доминиканского монастыря.
Прекрасная Габриэла так поспешно удалилась из подворья, как будто опасалась погони. Только на Оружейной улице, под галереей хоров св. Иакова, она замедлила шаг. Дома она с игривым смехом рассказывала Сабине, как ей объяснялся в любви Бешеный Цейзольф и как предлагал поджечь город в доказательство неподдельности своей страсти. О предложении уничтожить ее врагов она умолчала.
— Не правда ли, душенька, у меня есть основание гордиться? — закончила она, заливаясь смехом и любуясь собой в венецианском зеркале в серебряной оправе, украшенной павлиньими перьями. — По сему случаю я желаю быть завтра прекрасней, чем всегда.
— Наряжаться для всего света значит наряжаться для самой себя. Ах, если б у меня был человек, для которого стоило так стараться! — вздохнула белокурая невеста рыцаря фон Адельсгейма.
Но ее подруга не стала терять времени.
Танцевальный дом патрициата, в котором происходил бал, помещался на Дворянской улице, наискосок от городской ратуши. На этом месте когда-то стояло старое, сгоревшее здание ратуши. От него оставались толстые стены первого этажа с тремя входами. Верхние этажи были надстроены из легкого материала, а на крыше красовались два Золотых шара — добыча, захваченная ротенбуржцами во время похода против Архсгофенского замка. В нижнем этаже были расставлены столы мясников, которым воспрещалось продавать свой товар в другом месте под угрозой штрафа в пять фунтов геллеров или десять гульденов, подобно тому как булочникам разрешалось торговать только в булочной на площади, между Дворянской питейной и ратушей. Большой танцевальный зал примыкал непосредственно к мясным рядам. По случаю празднества он был разукрашен флагами и еловыми ветками, а тянувшиеся вдоль стен скамьи устланы подушками. Хотя до открытия бала — в три часа пополудни — оставалось еще много времени, узкая галерея хоров была уже переполнена любопытными. Те, кому не посчастливилось проникнуть внутрь, толпились на Дворянской, чтобы хоть одним глазком посмотреть, как будут съезжаться именитые гости. Нельзя было сказать, чтобы среди ожидавших царила торжественная тишина. Толпа прямо сгорала от нетерпения, а среднефранконцы всегда славились бойким характером.
Работая своими широкими плечами, Каспар Эчлих протиснулся на хоры и проложил дорогу Гансу, неохотно следовавшему за ним. Постепенно они пробились к самому барьеру: тут Каспару помог его острый язычок. Подобно ротенбургскому летописцу Томасу Цвейфелю, знатоку истории своего города, Каспар знал всю подноготную про каждого из именитых горожан. И по мере того как гости, сняв с себя плащи, накидки, шарфы и капюшоны, входили в зал, он сопровождал их появление меткими шуточками. Громкий задорный смех, вызываемый его замечаниями, уже стал привлекать к хорам внимание собравшихся внизу.
— Гляньте-ка на этого важного индюка в камзоле из рубчатого черного бархата, с белыми пышными брыжами, на которых его башка лежит как голова Иоанна Крестителя на блюде! Это рыцарь фон Менцинген. Ты его знаешь, Ганс.
Ганс повернул голову, но его глаза остановились не на рыцаре, а на его дочери, которая шла рядом с матерью, скромно потупив взор. Густые каштановые волосы, волнистыми локонами рассыпавшиеся по ослепительно белым плечам, были стянуты ниткой жемчуга, скрепленной крупным сапфиром на ее чистом лбу. Жемчуг мерцал на нем, как предрассветная роса, и затканный серебром шелк охватывал ее стройную девичью фигурку, каждое движение которой дышало простотой и благородством. Легкое смущение, отражавшееся на ее лице, исчезло, когда к ней подошел Макс Эбергард и предложил руку.
— Ах, хороша девчонка! — шепнул Каспар на ухо своему другу, задумчиво следившему за Эльзой глазами. Зал быстро наполнялся.
— А ты заметил голову женщины на хорах святого Иакова? — спросил Ганс.
— Ну конечно, это изображение знатной девицы, построившей эти хоры на собственные деньги. Да и собор тоже сооружен на средства горожан.
— Ее кости поди давно истлели, а образ остался на века, — промолвил Ганс и, вздохнув, добавил: — Эх, и есть же счастливцы, которым дано увековечить красоту.
Каспар покосился на него, но тот этого не заметил. Глаза его с тоской устремились вдаль. Вдруг грянула музыка. Заревели трубы и рожки, забили литавры. В зал вошел глава города со своей семьей. Плацмейстеры в красных камзолах с белыми рукавами помчались навстречу почетным гостям, чтобы проводить их на отведенные им места. Лицо Ганса Лаутнера вдруг запылало. С истинно царственным величием отвечала Габриэла на приветствия обступившей ее знатной молодежи, как будто ее гордое чело, обрамленное распущенными волосами, украшал не венец из золотых листьев, а королевский венец. Ее высокую стройную фигуру облегало платье из желтого атласа, в серьгах и ожерелье сверкали драгоценные камни. Края одежды и рукава на запястьях были затканы цветным шелком. Синяя атласная лента дважды перехватывала рукава с буфами, сквозь прорезы в которых также виднелся синий шелк. Короткая пелерина, доходившая до локтей, прикрывала обнаженные плечи. Во время танцев она сняла ее; кавалеры также сбросили свои короткие, отороченные мехом плащи с меховыми воротниками.
Окинув беглым взглядом зал, Габриэла заметила Эльзу фон Менцинген. Она видела эту красивую головку впервые, но узнала ее по описанию подруг. Ее алые губки вытянулись слегка в пренебрежительную гримасу. Нет, решительно Эльза не стоила похвал, расточавшихся по ее адресу молодыми патрициями.
Между тем музыканты сменили свои трубы на скрипки, флейты и лютни, нежные звуки которых призывали к хороводному танцу. Прекрасную Габриэлу подхватил юнкер Герман фон Горнбург. Один из его предков, желая обеспечить себе вечное блаженство, основал францисканский монастырь у Городских ворот, напротив дома фрейлейн фон Бадель. Но его потомок заботился лишь о земном блаженстве и, как говорили тогда, сеял свой дикий овес полными пригоршнями. Тускло-бледное лицо изобличало в нем прожигателя жизни, пышный наряд — завзятого щеголя. В то время начал входить в моду причудливый костюм ландскнехтов, и молодой фон Горнбург первым ввел его в Ротенбурге. На нем был красно-бело-зеленый камзол с пышными шелковыми буфами и с прорезами на рукавах, на бедрах и коленях. Даже его башмаки, так называемые «коровьи копыта» или «медвежьи лапы», с широченными круглыми носками, были с буфами и прорезами, как и сдвинутый на правое ухо огненно-красный берет с развевающимся пером.
У Габриэлы вдруг едва не подкосились ноги. Макс, этот суровый проповедник, танцует! Незаметный среди этой пестрой толпы, в скромной черной одежде юриста, Макс вел за руку в танце свою прекрасную даму. Габриэла готова была разразиться злым смехом, но что-то сдавило ей горло. Так вот почему он пренебрег ею, почему он не показывался в доме бургомистра с самого крещенья! Муки уязвленного самолюбия и униженной гордости еще усугубились ревностью, острым жалом впившейся в ее сердце. Машинально следуя за своим кавалером, она не слышала ни одного его слова.
Ганс не сводил с нее глаз. Блестящей пестрой змеей, под воркующий рокот и всплески лютней, скрипок и флейт, проносился через весь зал хоровод. Пары скользили, окутанные легкой дымкой пыли. Танцующих вел плацмейстер, распорядитель танцев, со своей дамой, и каждое их движение должна была повторять за ними каждая пара. Распорядитель с дамой старались превзойти самих себя не только в изображении замысловатых фигур, но и заставляя танцующих проделывать забавные и непристойные прыжки, к немалому удовольствию зрителей. В тот грубый век о приличиях люди имели самое смутное представление. Эльзе, воспитанной в деревенском уединении, было не по себе; об этом говорил ее растерянный взгляд, то и дело устремлявшийся к матери. Они с Максом не повторяли прыжков плацмейстера. Вдруг первая пара остановилась, распорядитель и его дама обнялись и обменялись преувеличенно страстным поцелуем. Остальные пары последовали их примеру под хохот и шутки молодежи и громкое гоготанье пожилых зрителей. У Эльзы от страха судорожно заколотилось сердце, да и у Макса захватило дух. Распущенность претила ему, и он лишь почтительно поднес к губам похолодевшую руку девушки. Наградой ему был взгляд, показавшийся ему слаще поцелуя, который он мог бы сорвать здесь, на глазах у всех, с этих прелестных уст.
Хороводный танец кончился. Пожилая публика устремилась в соседний зал к столам с напитками и едой. В зале поднялся шум и гам, возбужденный говор, громкий смех. Многие терялись в догадках, кто заплатил распорядителю за фигуру с поцелуем. Подобного рода подкуп был самым обычным делом. Если молва не ошибалась, приписывая этот трюк юнкеру фон Торнбургу, то он все равно не достиг цели. Ганс видел, как прекрасная Габриэла резко отвернулась и как похотливые губы юнкера едва коснулись ее черных кудрей.
Танцы в доме патриция
С гравюры XVI в.
Каспар, исподтишка наблюдавший за Гансом, толкнул его локтем в бок.
— Ну, пойдем, старина, тебе здесь вредно оставаться.
Ганс вздрогнул, точно спросонья, но подчинился. Бросив прощальный взгляд на чернокудрую головку в золотом венце, он спустился вслед за другом с галереи по крутой черной лестнице прямо на улицу. Перед входом в танцевальный зал собрался народ, окруживший слепого монаха. Посох, с помощью которого он обычно пробирался по улице, болтался у него на руке. В ином поводыре он не нуждался: коренной житель Ротенбурга, он знал здесь каждый камень. Ослеп он уже в монастыре. На нем была черная ряса, перепоясанная бечевкой. Монах откинул капюшон, обнажив огромный лысый череп. Когда Каспар и Ганс подошли, он говорил толпе:
— И вы, глупцы, внимаете бряцанию кимвалов, под сладкие звуки которых отплясывают господа, попирая ногами вас, угнетенных! Ведь им принадлежит и рыба в воде, и птица в воздухе, и все плоды земные! Но если умирающий с голоду, боже упаси, украдет кусок хлеба, они казнят его смертию. Набив себе брюхо до отвалу, они проповедуют воздержание, а сами глухи к голосу истины, господи их прости!
— Монах, придержи язык! Ведь это мятеж! — раздался скрипучий голос Конрада Эбергарда, который, выйдя из дому, незаметно подошел к толпе.
— Бургомистр! — смущенно зашептали кругом.
Но францисканец неустрашимо продолжал:
— Чтобы не было мятежей, пусть господа уничтожат причины, их порождающие.
Забыв, что перед ним слепой, почтенный господин Конрад впился в лицо монаха испепеляющим взором и угрожающе произнес:
— Зачтутся тебе эти слова, уж погоди. Придет день, и я тебе их припомню! — И он направился к танцевальному залу.
Ганс Шмидт запустил узловатые пальцы в пышную бороду, ниспадавшую ему на грудь, и сказал:
— Придет день, и мы все предстанем перед всевышним судией. Тогда обнаружится тот, о ком написаны слова: «Мене, текел, фарес»[74], — что значит: взвешено, измерено и признано недостаточным. Трудитесь, дабы не впасть во искушение… Да хранит вас господь.
И он зашагал по направлению к своему монастырю у Городских ворот, где, следуя учению Карлштадта, старался убедить монахов сбросить рясу и добывать себе пропитание, научившись какому-нибудь ремеслу.
Каспар уговаривал своего друга завернуть с ним в «Медведя» или «Красного петуха». «Вино веселит сердце, а тебе это так необходимо». Но Ганс отказался, ему хотелось поскорей остаться одному.
— Когда же мы наконец перейдем от слов к делу? — сказал он со вздохом, расставаясь с Каспаром на площади.
Тем временем второй бургомистр вошел в танцевальный зал. Его приход вызвал всеобщее удивление. Все знали, что он не охотник до забав. После столкновения с монахом его и без того неподвижное лицо окаменело.
— Что за чудо! Вы — здесь! — обратилась к нему Габриэла, когда только что окончился танец.
— Я ищу фон Муслора, — не слишком любезным тоном ответил он.
— О! Ну конечно, как я не догадалась! — засмеялась она. — Вы найдете его там, где звенят бокалы. А я — то думала, что вы пришли повеселиться туда, где веселятся все. Ведь у вас теперь для этого есть полное основание, любезный опекун.
— Какое, дитя? Ты говоришь загадками.
— Ведь вас, кажется, можно поздравить? — спросила она, насмешливо глядя на него.
— С чем? Ты знаешь, я желаю лишь одного.
Она сделала вид, что не поняла намека, и, понизив голос, продолжала:
— Пожалуй, кроме свадьбы Сабины, мы заодно отпразднуем пасхой и вторую? Или это пока еще тайна? — И она молча показала взглядом на Макса, который стоя разговаривал с Эльзой, сидевшей подле матери.
— Кто это? — резко спросил Конрад Эбергард.
— Как, любезный опекун, вы не знаете фрейлейн фон Менцинген?
Он бросил взгляд на молодых людей и сухо произнес:
— К сожалению, он ведет дело ее отца.
— И свое собственное, добиваясь взаимности его дочери. Второе-то он несомненно выиграет. — Злая усмешка искривила ее прелестный рот.
— Вздор, дитя мое, сущий вздор! — воскликнул он, сдвинув густые брови.
Габриэла лишь повела своими полными обнаженными плечами. В это время к ней подошел кавалер, чтобы пригласить ее на очередной танец, а Конрад Эбергард направился к столам с закуской. За столом, оживленно беседуя с ратсгером Георгом фон Берметером и городским писцом Томасом Цвейфелем, восседал Стефан фон Менцинген. Эбергард подозвал знаком бургомистра, отвел его в сторону и углубился с ним в разговор.
— Даже здесь нет покоя от дел, черт бы их побрал! — засопел советник фон Зейбот. — Как будто нельзя отложить до завтра.
— Чтоб опохмелиться! — пискливым голосом вставил ратсгер фон Шраг. Все шумно засмеялись.
— Стало быть, яичко снесено? — спросил дородный ратсгер фон Винтербах, подойдя к столу бургомистра, и поднял кубок. — Ваше здоровье, милейший господин Конрад. По лицу видно, что вам необходимо подкрепиться.
— Да, яичко давно снесено, и скоро вылупится птенец, — ответствовал господин Конрад с принужденной улыбкой.
— Готов побиться об заклад, что вылупится утенок! — воскликнул ратсгер фон Бухау с багрово-сизыми от вина щеками и носом.
— Могу открыть вам тайну, почтеннейшие господа, — заговорил Эразм фон Муслор. — Согласно сведениям, полученным из Ульма, из канцелярии Швабского союза, герцог Ульрих выступил из Гогентвиля в поход, чтобы вернуть себе Вюртемберг.
Все зашумели, загудели, забросали бургомистра вопросами. Известие ошеломило Стефана фон Менцингена, но он не подал и виду. Почувствовав на своем лице взгляд Конрада Эбергарда, он с холодным высокомерием отвернулся.
— Это будет охота почище чем у Верницера, куда мы приглашены на заговенье, — рассудил один из градоправителей.
— У-лю-лю! У-лю-лю! — заулюлюкал кто-то, подражая охотнику, преследующему раненого оленя, а ратсгер фон Винтербах искусно воспроизвел губами звук охотничьего рога. Полные губы рыцаря фон Менцингена сложились в презрительную гримасу, и, чтобы не выдать свои чувства, он поспешно приложился к кубку.
А в зале опять мерно покачивались пары. Красотой Эльза не могла соперничать с Габриэлой, но юность, ослепительная свежесть и новизна ее появления в обществе давали ей перевес. Золотая молодежь так и увивалась вокруг нее, и Габриэла почувствовала в ее лице серьезную соперницу. Она делала вид, что не замечает Эльзы, но исподтишка метала на девушку злобные взгляды, особенно когда плацмейстеры подводили к Эльзе все новых молодых людей, добивавшихся чести танцевать с нею. Как ни старалась Габриэла скрыть свою неприязнь, все иге Эльза уловила один-другой красноречивый взгляд. Однако не это злобное пламя, горевшее в черных глазах красавицы, пламя зависти, непостижимой простодушию Эльзы, побуждало ее всем сердцем стремиться вон из этого зала. Нескромные, нет, более того, циничные и развязные речи кавалеров внушали ей глубокое отвращение. Этот развратный мир пугал ее. Только танцуя с Максом, она дышала полной грудью. Только чувствуя свою руку в его руке и прильнув плечом к его плечу, она погружалась в спокойствие и безмятежность. И когда она обращала к нему свое прекрасное, но строгое лицо, в ее глубоких и синих, как озеро, глазах светилась вся ее душа.
Глава девятая
Стефан фон Менцинген с женой и дочерью уехал с бала раньше, чем другие. Он спешил домой, где надеялся получить объяснение причины, побудившей герцога уже теперь, в середине февраля, привести в исполнение замысел, приуроченный к началу весны. Впереди шел слуга с факелом, освещая дорогу. Макс вел свою даму под руку, что допускалось обычаем того времени. Шли они в молчании, которое было красноречивей всяких слов.
— Спокойной ночи! — прошептал он, расставаясь с девушкой. Ее губы беззвучно зашевелились, но Макс и так понял, что говорит ее сердце. Он почувствовал это в легком пожатии ее пальцев.
Дома рыцарь не нашел никакого известия. Это привело его в столь угнетенное состояние духа, что жена даже осмелилась спросить, не случилось ли чего. Разве она сама не слыхала на балу, с раздражением отвечал он, что герцог Ульрих выступил, чтобы отвоевать свои владения.
— Избави боже! — в испуге воскликнула она.
— Силой у него их отняли, силой он их и вернет. Такой порядок в этом мире.
— Ужасный порядок! — сказала со вздохом фрау фон Менцинген. — А сколько прольется невинной крови.
— Велика беда! — резко возразил он, но, спохватившись, уже спокойней продолжал: — Впрочем, герцог, наученный горьким опытом, стал другим человеком, и вюртембержцам будет под его державой куда легче, чем здешним людям под этим насквозь прогнившим патрициатом. Я, со своей стороны, предпочел бы подчиняться одному владыке, чем этой шайке «именитых». Здесь сколько голов, столько и пиявок, присосавшихся к общественному добру.
— Неужели ты все еще возлагаешь надежды на герцога? — спросила она и так испытующе посмотрела на него, что он почувствовал смущенье.
— Герцог всегда был для меня милостивым господином, так же как и маркграфы Ансбах-Байрейтские, — уклончиво отвечал он. — Человек должен склоняться перед силой обстоятельств.
Его жена промолчала, с тоскою думая о том, что дни тяжких испытаний все еще не миновали ни для нее, ни для ее семьи. Гнетущие заботы, страх за судьбу дочери, в сердце которой она читала лучше самой Эльзы, не дали ей сомкнуть глаз всю ночь.
И Макс Эбергард тоже не спал, думая об Эльзе. Он не сомневался более в том, что любит ее. Но трепетная надежда, которую он уносил в душе, прощаясь с Эльзой, теперь, в одиночестве, погасла. А что, если он ошибался? Ну конечно, он ошибался. Быть любимым ею — неслыханное, несбыточное счастье! Мучительные, но сладостные сомнения теснили его грудь. Но даже если он не ошибается и она действительно любит его, к чему все это приведет? Ведь у него нет никаких средств, и понадобится много времени, пока его профессия даст ему возможность создать свой домашний очаг. В обычных условиях все это не помешало бы ему назвать Эльзу своей женой. По принятому в ту эпоху обычаю сын вводил жену в родительский дом, и родные поддерживали его до тех пор, пока он не станет на ноги. Дома патрициев были достаточно просторны, чтобы приютить под своим кровом две семьи, и дом Конрада Эбергарда не составлял исключения. Но при существующих отношениях с отцом нечего было и думать об этой возможности, даже если бы его мужская гордость позволила Максу решиться на такой шаг. Нечего также было надеяться и на то, что его отец согласится просить руки Эльзы у рыцаря фон Менцингена. Нет, придется быть собственным сватом. Но чем глубже становился разлад между ним и отцом, лишавший его всякой поддержки, тем нестерпимей казалась мысль завладеть сердцем Эльзы за спиной у ее родителей и наслаждаться ее любовью тайком, как вор — похищенным кладом. Нет, пусть обстоятельства против него, — он все же откроется ее родителям, откроется не откладывая. Если они откажут, — при одной мысли об этом его сердце сжималось от боли, — он перенесет этот удар, как подобает мужчине. Но он не свяжет Эльзы и не бросит тень на ее честь.
Терзаемый сомнениями и нерешительностью, он с трудом заставил себя на следующее утро приняться за дела. К счастью, клиенты еще не слишком донимали молодого юриста, и часам к одиннадцати утра он уже покинул свой кабинет, чтобы, отдавая долг вежливости, осведомиться у фрау фон Менцинген и своей дамы, как они себя чувствуют после вчерашнего бала. Дома он застал лишь хозяйку и ее супруга. Фон Менцинген в задумчивости расхаживал по комнате. При виде Макса он с напускной веселостью воскликнул:
— Ну, доктор, как вы находите карнавальную шутку герцога Ульриха? Нет ли у вас свежих новостей? Может быть, от Венделя Гиплера?
Но Макс, который в данную минуту был так же далек от авантюры герцога, как от Северного полюса, ничего не знал и никаких писем не получал.
— Он ошеломил всех! — воскликнул рыцарь, неприятно удивленный. — И сейчас, я в этом больше чем уверен, заседают досточтимые, милостивые и любезные господа, — продолжал он, высмеивая сакраментальную формулу обращения к магистрату и указывая перстом на ратушу. — Они совещаются о спешном подкреплении, которое обязаны выставить по требованию Швабского союза.
Под спешным подкреплением разумелись пешие и конные войска, которые в случае войны обязался выставить каждый член Швабского союза. Фон Менцинген не ошибся в своих предположениях: отцы города порешили снарядить в двухнедельный срок лишь треть предусмотренного договором числа ратников.
— Я видел, как отцы города слетались в ратушу, словно стая воронов. Но так как военные силы империи, навербованные Трухзесом Иоргом для эрцгерцогу незначительны, то, пожалуй, вчера вечером эти господа слишком поторопились трубить победу.
Макс был избавлен от необходимости отвечать на эту тираду. Вошла Эльза, вернувшаяся домой. На ней была простая черная шубка и гладкий берет. При виде гостя она покраснела, но не от смущения. На ее розовых устах, в ответ на приветствие Макса, промелькнула радостная улыбка. Она ходила в церковь в сопровождении слуги: ее мать чувствовала усталость после вчерашнего бала.
— Да, батюшка, чтобы не забыть, — сказала она, снимая шубку и берет. — Там в прихожей вас ожидает крестьянин. Он хочет передать вам письмо в собственные руки.
— Прошу прощенья, любезный доктор. — И рыцарь поспешил к двери.
Эльза подошла к матери и прислонилась к ее креслу, опершись рукой на высокую спинку. Макс, сидя в кресле напротив, думал о том, что сегодня удобный случай открыться родителям Эльзы уже упущен. Он смотрел восхищенным взором на стройную грациозную фигурку девушки, — рядом с увядающей пожилой женщиной она казалась еще более цветущей.
— Должно быть, это и есть известие, которого супруг мой ждет с таким нетерпением со вчерашнего вечера, — сказала фрау фон Менцинген, когда рыцарь вышел из комнаты. — И без того мы живем в постоянных волнениях, а этот поход герцога только усугубит смятение и тревогу.
— Вы правы, сударыня, — подхватил Макс. — Но тем более необходимо, чтобы те, кто связан узами крови или взаимным тяготеньем сердец, тесней объединились друг с другом. Ибо откуда же им черпать силы для борьбы, а коли суждено, и для страданий, как не из любви друг к другу? — И он недвусмысленно устремил свой взгляд на Эльзу.
Эльза обвила руками шею матери и прижалась к ее бледной щеке своим лицом, залившимся ярким румянцем. При виде внезапного подтверждения своих подозрений фрау фон Менцинген вздрогнула. Как ни ценил Макса ее супруг, все же он так презирал городскую знать и так высоко воспарил в своих честолюбивых замыслах, что вырвать у него согласие на этот брак казалось ей делом исключительно трудным и едва ли возможным. Особенно теперь, когда авантюра герцога раздула в нем затаенные надежды, подобно тому как свежий ветер раздувает паруса.
— Простите меня, сударыня, что я позволил себе отдаться внезапному порыву, — вновь заговорил Макс, стараясь победить волненье. — Я пришел, чтобы говорить с родителями Эльзы и выслушать их решение: могу ли я надеяться получить руку вашей дочери и стать ее опорой в это столь трудное время? Фрейлейн об этом ничего не знает и может свободно располагать своей рукой.
Оторвавшись вдруг от матери, Эльза протянула ему руку, и он пылко сжал ее в своих. Их взгляды слились в безграничном доверии друг к другу.
— Ах, вы рассчитываете без хозяина, — вздохнула растроганная фрау Маргарета. — Прежде всего нужно получить его согласие, а для этого необходимо время. Говорить с ним сейчас — значит испортить все дело. Вооружитесь терпением. Я не откажу вам в своем благословении, милый доктор, и знаю, что мой супруг питает к вам большое доверие, но вы поймите его, если он не пожелает дать вам согласие сейчас. Он счел бы недопустимым связать вашу судьбу с судьбой своей семьи до окончания этого злосчастного процесса, бросившего тень на его честь. Его гордость никогда с этим не примирилась бы.
Максу пришлось склониться перед этими доводами, хотя его прямой натуре было противно скрывать свое чувство к Эльзе. С почтительной благодарностью он поднес к своим губам руку той, кому отныне он вверял свою судьбу. Эльза обняла мать и осушила ее глаза нежными поцелуями. Потом, смущенная и сияющая, бросилась на грудь любимому, который в немом восторге обнял ее.
Стефан фон Менцинген не вернулся в гостиную и не потревожил влюбленных, ворковавших под крылышком матери Эльзы. Его ждал нарочный с письмом из Кауфберена. Получив от рыцаря награду за труд, он тотчас же ускакал обратно. Письмо было от герцогского канцлера — рыцаря и ученого доктора фон Фуксштейна. Стефан фон Менцинген вскрыл его с лихорадочной поспешностью. Но вести были неутешительные. Подстегиваемый стремлением поскорей вернуть свои владения, а главное, недостатком денег, герцог преждевременно раскрыл свои карты. Король Франциск не сдержал полностью своих обещаний, так как сам нуждался в деньгах на вооружение против императора; от ростовщиков же ему не удалось получить ни единого геллера. Герцогу Ульриху нечем было платить завербованным в его войска ландскнехтам, даже до начала весны, и, не выступи он немедленно, можно было опасаться, что вся его армия растает, как вешний снег. Поэтому он двинулся в поход из Гогентвиля, имея всего-навсего шесть тысяч человек пехоты, двести всадников, три больших картауны, три кулеврины и четыре фальконета[75]. Он шел прямо на Вюртемберг в надежде, что там его примут с распростертыми объятьями. За несколько дней до выступления он связался с предводителями шварцвальских крестьян. Швабский союз не успеет и опомниться, как герцог уже будет в Штуттгарте, где намерен отпраздновать карнавал. Он даже приказал приготовить себе постель в штуттгартском замке. «Когда вы получите это послание, — заключал свое письмо Фуксштейн, — я уже буду в лагере его высочества. Дальнейших вестей ждите оттуда или из самого Штуттгарта».
Фон Менцинген с горечью и досадой отбросил письмо. Все, что могло бы обеспечить успех герцога, еще даже не начато! Зажечь фитиль, не насыпав пороху! Фуксштейн поступил правильно, бросив эту хитроумную комбинацию, которую он начал создавать в Кауфберене. Ибо если герцогу удастся не позже чем через две недели взять Штуттгарт, все хитросплетения окажутся излишними. В случае же неудачи никакие интриги его все равно не спасут. Рыцарь фон Менцинген погрузился в тяжкое раздумье. Его личные интересы настоятельно требовали продолжать начатое им в Ротенбурге дело. Ведь если он замыслил свергнуть господство патрициев, то для того чтобы платить за нанесенную ему обиду и тем самым способствовать успеху герцога. Последовать примеру Фуксштейна означало отказаться от желанной мести и унизиться перед магистратом. Нет, ни его самолюбие, ни его стесненные обстоятельства не позволяют этого. Теперь не время сидеть сложа руки! Если герцог восторжествует, у него еще будет время для отступления; если он потерпит поражение, у него останется опора в бюргерстве.
Между тем весть об авантюре герцога проникла и в мастерскую на Церковной площади, где Ганс Лаутнер трудился над моделью серебряного кубка, заказанного начальниками шести городских кварталов ко дню бракосочетания их главы — Альбрехта фон Адельсгейма. Украшенная гирляндами, плодами, масками и фигурками, вещица обещала быть нарядной. У мастера Эльвангера, кроме белокурого шваба, было еще двое подмастерьев и двое учеников, но Ганс мог всех заткнуть за пояс способностями и усердием. Последние недели он работал не покладая рук, стараясь не думать ни о чем, кроме своей работы, но это ему плохо удавалось. Даже любовь Кэте не могла разрушить чар Габриэлы. Непосредственность и живость Кэте освежали его душу, как прохладный родник истомленного зноем путника. Да, эта девушка нравилась ему, и когда он сидел подле нее в Оренбахе, слушая ее болтовню, а она с томной нежностью устремляла на него свои темно-карие глаза и подставляла упругие девичьи губы, он целовал ее и верил, что любит. Но стоило ему вернуться в Ротенбург и подышать одним воздухом с Габриэлой, а тем более увидеть ее, как все шло насмарку. Увы, и не только тогда! Уже сколько раз в его воображении Кэте превращалась в Габриэлу: лаская одну, он видел перед собой другую, прижимал ее к своей груди, целовал в губы! А вчерашний бал был последней каплей. Никогда еще Габриэла не казалась ему столь обольстительно прекрасной! В атласном золотистом платье, с обнаженными плечами… К чему это приведет? Как искупит он свою вину перед Кэте? Уже не раз думал он о том, что, пожалуй, лучше всего оставить Ротенбург и уйти в Нюрнберг, куда давно влекло его стремление совершенствоваться в своем искусстве.
Его привел в себя квакающий голос Бронтлейна, почтенного торговца пряностями, рассказывавшего своему куму — мейстеру Эльвангеру о походе герцога Ульриха.
— Э-хе-хе! — закончил Бронтлейн свое повествование, покачивая тыквообразной головой на длинной шее. — Ну и времена настали! Вечные смуты и неурядицы. Торговлишке совсем конец.
— Ничего не поделаешь, куманек, нужно применяться к обстоятельствам, — философски заметил мастер. — Большие господа не могут жить без драки. Это у них в крови.
— А нашему брату горожанину расплачиваться за все своими боками! — заквакал торговец. — Мы не притязательны, были бы тишина да порядок. Но помяни мое слово, на этот раз Швабский союз не даст спуску бунтовщикам и смутьянам! — ядовито продолжал он под вечерний благовест, доносившийся с колокольни пречистой девы. — И что только власти миндальничают с этими обнаглевшими мужланами — никак в толк не возьму. Колоть, рубить, четвертовать их надо — и дело с концом!
— Побойся бога, кум! Пожалуй, со страху ты сам заделаешься кровожадным тираном! — смеясь, воскликнул золотых дел мастер. — Ну, шабаш! Зайдем, что ли, ко мне да выпьем стаканчик шалькбергского заместо княжеской иль крестьянской крови. — И он повел гостя в дом.
Ганс вспомнил, как шесть лет тому назад он стоял вместе с бабкой в Бекингене, на пороге постоялого двора Еклейна Рорбаха, и смотрел на проходившие мимо войска. Они шли под знаменами Гейера фон Гейерсберга на Штуттгарт, разбив под Мекмюлем войска герцога Ульриха и взяв в плен Геца фон Берлихингена. Старуха неистово благословляла их оружие и заклинала Гейера не выпускать герцога живым. И вот теперь герцог снова возвращается в свои земли, а кровь отца и матери, умерших страшной смертью, останется неотмщенной. В его ушах звучал зловещий хохот старухи. Наспех убрав инструменты, он забрался к себе наверх, чтобы вдали от посторонних сбросить свою маску невозмутимости и дать волю клокотавшей в нем буре.
В воскресенье, накануне заговенья, выпавшего на последний день февраля, Ганс решил отправиться в Оренбах. С ним пошел и Каспар. Было раннее утро. В воздухе веяло кротким дыханьем весны. Поля в веселом ярко-зеленом наряде озимых всходов точно подсмеивались над хмурой суровостью елового бора. Пройдя немного по извивавшейся большой дороге, друзья свернули на тропинку, которая вела кратчайшим путем из Штейнбахской долины в деревню Гаттенгофен. Ганс шел молча, погруженный в свои думы, и Каспар не мешал ему. Странствуя с другом, тот привык к молчанию. Сам он все время насвистывал и мурлыкал себе под нос. Так они дошли до Штеффлейнского колодца, где перед ними во всей своей дикой красе открылась Штейнбахская долина. Этот колодец напоминал о том, что здесь некогда была деревня Оберштейнбах. Лет восемьдесят назад ее снесли по распоряжению ротенбургского магистрата, стремившегося увеличить население города. Каспар приник к источнику и напился прозрачной родниковой воды.
— Выпей и ты, дружище. Это славно освежает мозги. О чем ты замечтался?
Но Гансу пить не хотелось.
— Да вот я думаю, долго ли мне еще ходить этой дорогой? — отвечал тот.
— Почему? Что это тебе взбрело на ум? — спросил изумленный Каспар.
— Ну, пойдем.
И они углубились в чащу леса, окружавшего Лендахское и Линдлейнское озера.
— Сколько раз, ясным воскресным утром, я проходил по этой долине, — сказал Ганс. — Здесь такая тишина, и кругом всегда ни души. Только и слышно, как шепчутся деревья, поют птицы да журчит ручей.
— И ты, конечно, доставал свою дудку и наигрывал, как в тот раз, когда мы с тобой повстречались в пути?
— Бывало и так, — улыбнулся Ганс. — Иной раз придет в голову такое, что словами не выскажешь. Порой думалось, как бы хорошо жилось на свете, не будь ни князей, ни дворян, ни господ, ни попов, ни крепостных. Одни лишь свободные люди! Как ты думаешь, Каспар, придет ли такая пора?
— Нет, Ганс, такого не будет, — решительно отрезал тот. — Видишь ли, в человеке сидит какой-то бес и так вот и подзуживает его попирать ногами слабых. Ведь каков обычай среди мастеров? Они громче всех орут о свободе. Но свобода им нужна только для себя. А уж если кто из них дорвется до магистрата, то нашего брата подмастерья и вовсе в бараний рог согнет.
— А я все-таки верю! — задумчиво произнес Ганс. — Пора, о которой пророчила бабка, наступит, и ты еще доживешь до лучших времен.
— А ты — нет? — воскликнул Каспар, уже теряя терпенье.
— Не знаю… только не в Ротенбурге. — И Ганс глубоко вздохнул. — Вчера мастер расплачивался со мной за неделю, и я попросил расчета. Да и срок мой кончился.
Каспар словно остолбенел.
— Да ты что-о о? — протянул он.
— Здесь мне больше нечему учиться, — пояснил Ганс. — Вот сделаю кубок, соберу свой узелок и марш отсюда. До тех пор я обещал хозяину повременить.
— Нечему учиться? — переспросил Каспар, ошеломленный, и после минутного молчания продолжал: — А как же месть за своих? Побоку? Так я тебя понимаю?
— Нет, дружище, — с жаром возразил Ганс. — Видно, еще надо потерпеть. Теперь, когда Швабский союз готовится выступить против герцога Ульриха, обстоятельства не благоприятствуют нашему делу. Но это ничего не значит. Поднимется народ под знаменем Башмака, и я не останусь в стороне, где бы я ни был. Верь моему слову.
— Верю, охотно верю. А вот насчет ученья, это ты зря!
— Однако пора, идем, — сказал Ганс, избегая его взгляда.
— Ладно, ладно, — проворчал Каспар, следуя за ним.
Немного погодя он с укоризной продолжал:
— Нет, не ожидал я от тебя такого. Испортил ты мне вконец все воскресенье. Не я ли тебя предостерегал от этой… этой…
— Молчи, прошу тебя, молчи! — горячо прервал его Ганс.
— Да уж ладно, — проворчал Каспар.
По камням они перебрались через ручей, и Каспар, уже на другом берегу, спросил:
— А как же Кэте?
— Ох, это тяжелый крест на моей совести, — сказал Ганс, и густая краска залила его бледные щеки.
— Не уходи, Ганс! — решительно запротестовал Каспар. — Ради нее. Ради всего святого. Прошу тебя. Ведь она в тебе души не чает. Я заметил это еще на крещенье.
Ганс пристально посмотрел ему в глаза и сказал:
— И я тогда кое-что заметил. Ты ведь… Боже, как я был слеп!
— При чем тут я? — в сердцах воскликнул Каспар. — Я ей не пара. Люби ее на здоровье. Думаешь, на ней свет клином сошелся? У меня уже есть на примете… И не одна!
И он расхохотался.
Ганс, растроганный, крепко стиснул его руку.
— Ты славный парень, Каспар. Я не имел права ответить на ее любовь. Может статься, повстречайся мы раньше, все было бы иначе. А теперь все это ни к чему.
— Не понимаю тебя. Где твои глаза? Ведь стоит сравнить одну и другую… — Каспар только покачал головой, не находя слов. — Повремени, Ганс.
Он взял друга под руку, и они зашагали по тропинке, под оголившимися буками, на север, к Гаттенгофену. Грустная улыбка появилась на губах молодого подмастерья, когда он заговорил снова:
— Нет, я бы только сделал несчастными ее и себя. Теперь ты знаешь все, Каспар, и у меня стало легче на сердце. Первым делом поговорю с Кэте, а там будь что будет. Пусть она узнает тебя, как знаю я, и, голову даю на отсечение, вы будете счастливы.
Каспар горько рассмеялся, как бы насмехаясь над самим собой.
— Ты меня знаешь? Не говори обо мне девчонке ни слова. Я не хочу этого. Она сама знает куда лучше твоего, что я просто… кусок дерюги…
— Олух ты царя небесного, вот ты кто! — отвечал Ганс.
Они взошли на холм у самого Гаттенгофена и, переведя дух, зашагали дальше. Перед ними простиралось плоскогорье, поросшее лесом. На северо-востоке высились башни и кровли Эндзейского замка; на севере, над темной стеной елового бора — колокольня оренбахской церкви. По правую руку лентой тянулась большая дорога; миновав Гаттенгофен, она, извиваясь между холмами, терялась в лесной чаще. Взор Ганса остановился на замке, на башне которого под ветром полоскался флаг.
В замке всю неделю жизнь била ключом. Леса оглашались веселыми звуками охотничьих рогов и звонким лаем гончих. До поздней ночи там выслеживали и травили оленей, козуль, диких кабанов, били стрелами и огневым боем тетеревов, уток, фазанов, спускали соколов на красную дичь. Вечером, когда при свете факелов в замок свозили охотничьи трофеи, все гости собирались за столом, и день заканчивался музыкой, танцами и веселым пиром.
Георг фон Верницер, прозванный Богемцем, — один из его предков был отправлен когда-то во главе посольства к императору Сигизмунду в Богемию, — имел обыкновение устраивать каждый год на исходе зимы большую охоту. Это было как бы выражением благодарности городу с его стороны за приглашения на пиры в дома патрициата. Однако фон Верницер, представитель одной из самых древних фамилий города, бывал только на пирах, которые носили официальный характер. Убийство, совершенное им под горячую руку в молодости, а также преждевременная смерть жены наложили печать угрюмой замкнутости на его характер. Он был скуп на слова, строг, но справедлив, если можно говорить о справедливости там, где законом считается произвол господствующих классов. От приступов черной меланхолии он искал спасения в вине. После кровавого дела в Дворянской питейной он больше не прикасался ни к картам, ни к костям. Бедная родственница заменяла мать его единственному сыну, она же вела хозяйство в замке.
У фон Верницера собрался весь цвет ротенбургской знати. В числе дам были также Сабина и Габриэла в сопровождении жениха Сабины, Альбрехта фон Адельсгейма. Прекрасная Габриэла слыла неутомимой и бесстрашной охотницей. В субботу, когда все общество собралось за столом, прибыл новый гость, появление которого вызвало почти всеобщее удивление. То был юнкер Цейзольф фон Розенберг. Когда Георгу фон Верницеру пришлось бежать из Ротенбурга, он провел не одну неделю в Гальтенбергштеттене, у покойного отца Цейзольфа. В силу давнишнего знакомства фон Розенберг из года в год, с тех пор как фон Верницер сделался тамошним шультгейсом, получал приглашение на охоту в Эндзее. Ротенбургские патриции привыкли видеть здесь Бешеного Цейзольфа. Но явиться в ротенбургские владения и искать их общества теперь, после того как он самым недвусмысленным образом выразил свое неуважение к магистрату, — это было уж слишком.
Хозяин замка принял гостя с обычным радушием, но большинство патрициев встретило его подчеркнуто холодно. Впрочем, он не обратил на это ни малейшего внимания и как ни в чем не бывало уселся за стол. Не такой он был человек, чтобы считаться с чужим мнением.
Дам он приветствовал общим поклоном и больше не смотрел в их сторону. Все же, вероятно, от его внимания не ускользнуло, что при его появлении прекрасная Габриэла мрачно насупила брови. Должно быть, поэтому он и решил держаться от нее подальше. Наблюдательная Сабина с удивлением отметила, что за столом он ни разу не взглянул на ее очаровательную подругу. Она отметила также, что за время ужина отношение общества к Бешеному Цейзольфу резко изменилось. И когда после трапезы мужчины остались одни за традиционным кубком вина, разыгралась шумная попойка, душой которой оказался юнкер фон Розенберг. Его способность поглощать напитки вызывала всеобщее восхищение, а грубые шутки, которыми он приправлял каждый бокал, — веселое ржанье. Под воздействием винных паров его поступок принял в глазах щепетильных градоправителей характер невинной шутки. Мертвецки пьяных гостей одного за другим уносили и укладывали в постель, и поле брани осталось за Розенбергом. И на следующее утро, едва протрубили рога и залились в ответ бешеным лаем собаки, он раньше всех был на ногах.
После ночной пирушки завтрак задержался, и было уже довольно поздно, когда гостям подвели лошадей, седлать которых усердно помогал конюх Цейзольфа. Подсаживая своего господина в седло, он шепнул:
— Все сделано, как вы приказали, ваша милость.
— Не теряй меня из виду, — шепнул ему в ответ юнкер.
Он спустился по склону холма, на вершине которого стоял замок, одним из последних и так же, как накануне, избегал приближаться к прекрасной Габриэле. Она была бледна и в ответ на участливые расспросы сослалась на бессонницу.
Лесничий вывел охотников на прогалину, где было становище матерого оленя. Спустили легавую, и вскоре яростный лай дал знать, что пес напал на след зверя. Тогда спустили всю свору, и охотники бросились вслед за лесничим. Охота бешеным галопом пронеслась на запад.
Вдруг прекрасная Габриэла осадила коня и соскользнула на землю. Остальные промчались вперед, не заметив отставшей. Габриэла почувствовала, что ее седло съехало набок. В ту же минуту к ней подлетел Цейзольф фон Розенберг.
— Что случилось? — спросил он и тоже спешился.
Вместо ответа Габриэла показала хлыстом на длинный конец подпруги, волочившийся по земле под брюхом лошади. Если бы она потрудилась осмотреть лопнувшую подпругу, она бы обнаружила на переднем крае надрез шириной в три пальца. Но она лишь беспомощно промолвила:
— Что делать?
Юнкер пожал плечами.
— В данную минуту беда непоправима.
И, подумав немного, прибавил:
— Пожалуй, лучше всего отправиться туда, где назначен первый привал. Наш хозяин подробно описал мне это место, и я надеюсь найти его без труда.
— Какая досада! — воскликнула она, наморщив лоб.
— Понятно, раз вам придется воспользоваться мною в качестве провожатого. Ба! Да вот и мой конюх! Штоффель, сюда! — грозно крикнул он. И он поручил подошедшему конюху отвести лошадей к старому каменному дубу, где был назначен первый привал.
— Ты знаешь дорогу? — спросил он.
Тот кивнул и, взяв под уздцы лошадей, пошел вперед. Юнкер предложил Габриэле следовать за ним, и она, перебросив через руку шлейф амазонки, зашагала через просеку.
— Где ж этот дуб? — спросила она.
Он показал на юг. Спустя некоторое время он остановился у тропинки, сворачивающей направо, и сказал:
— Нужно повернуть сюда, и мы скоро будем у цели.
— Вы, кажется, чувствуете себя в этом лесу, как в собственном доме?
— Это не первая моя охота в ротенбургских угодьях, — отвечал он.
Довольно долго они шли молча. Потом Габриэла сказала:
— Я только в Эндзее узнала, что вы знакомы с фон Верницером, и даже с давних пор.
— Вы хотите сказать, что, знай вы это раньше, вы бы ее приехали сюда? — глухо произнес он.
— А почему? — холодно возразила она. — Хоть я и женщина, но не так тщеславна, как вы. Мне и в голову не приходило, что вы приняли приглашение Верницера из-за моей персоны.
— Но это так! Я приехал в надежде увидеть вас! — сказал он, едва сдерживая страсть.
— Ах, вот оно что… — протянула она и насмешливо прибавила: — Так вы хотели доказать мне, что ради меня готовы на все? Я так и думала. Да, конечно, при ваших отношениях с Ротенбургом надо обладать известной смелостью, чтоб явиться сюда. Но знайте, мне не нужно доказательств вашей отваги. Все ваши старанья напрасны.
Она ожидала бешеной вспышки, но обманулась. Он, правда, весь побагровел, но продолжал следовать за ней молча. Лишь когда они вышли на просеку, он зашагал рядом с ней и сказал:
— В одном вы попали в самую точку: мне не место среди этих городских хлыщей, так же как и вам, прекрасная Габриэла. Но вы глубоко ошибаетесь, надеясь насмешками погасить мою любовь. Она как греческий огонь. Ее нельзя погасить ничем. И сейчас, в зеленой амазонке и шляпе с пером, вы так чертовски хороши, что я лишился бы рассудка, если бы вы не похитили его давно.
— Раз насмешки на вас не действуют, я серьезно вам запрещаю даже думать обо мне, — оборвала она юнкера и остановилась. — Скоро ли мы придем?
Он огляделся по сторонам.
— Да, скоро. Теперь надо взять вправо, — сказал он и свернул по узкой тропинке, которая вела в лесную чащу. — Ваша власть надо мной велика, прекрасная Габриэла, но запретить мне думать о вас вы не вольны. Прикажите луне не смотреть на землю или черту перекреститься. И как бы там ни было, любите вы меня или нет, все равно никому другому вы не достанетесь. Пусть только кто-нибудь посмеет вас пожелать, и, клянусь адом, дни его сочтены.
— А вы мастер клясться, как я погляжу, — насмешливо заметила Габриэла. — Сегодня вы грозите убить того, кто осмелится меня полюбить; недавно вы клялись уничтожить моих врагов. Уничтожьте себя, и я поверю в вашу любовь.
— Я сдержу обе клятвы, можете не сомневаться! — воскликнул он, и глаза его загорелись.
— В таком случае составим список осужденных, — попробовала она отделаться шуткой. — Моей руки не добивается никто. Перейдем к моим врагам.
Кровь бросилась в лицо Бешеному Цейзольфу, и он угрожающе произнес:
— Не пытайтесь ускользнуть от меня таким путем. Вы думаете, я не знаю, что вас должен ввести в свой дом сын бургомистра?
— Ах! — воскликнула она, глубоко вздохнув, и остановилась. Вдали, между деревьями, она заметила всадника и показала на него рукой.
— Это мой конюх. Мы уже почти у цели, — сказал он.
Габриэла повернулась к нему. Лицо ее побледнело, глаза горели странным огнем, и, впиваясь в юнкера взглядом, она прошипела:
— Тот, кого вы назвали, мой злейший враг. Он нанес тяжкое оскорбление моей чести. Я ненавижу его всей душой.
Юнкер Цейзольф сгреб обеими руками свою козлиную огненно-рыжую бороду и выдержал взгляд Габриэлы.
— Как глупо, что я разоткровенничалась с вами! Идемте!
Он не тронулся с места.
— Я вам верю. Скажите, что вы будете моей, и я отомщу за вас.
— Оставим этот разговор. Идемте же.
— Если я отомщу за вас, будете ли вы моей? — с жаром повторил он и схватил ее за руку. Она пыталась вырваться, но безуспешно. — Слово мое твердо, как камень. Так обещаете? Не хотите? Надеетесь меня провести? Ошибаетесь, прекрасная Габриэла. Союз заключен. Ну, по рукам? Он — в могиле, вы — в моей постели!
— Пустите! Что вы делаете! Мне больно! — кричала она, отбиваясь.
— Нет, дудки! — грубо крикнул он. — Вспомните, что я вам говорил в монастыре. Если прекрасный дьявол попадет в мои руки, я уж его не выпущу.
— Вы с ума сошли! — в ужасе вскричала она. — Помогите! На помощь!
— Никто вас не услышит, — и, схватив ее в охапку, несмотря на яростное сопротивление, он поднял ее и понес.
Пройдя несколько шагов, он очутился у старого дуба, где, по его словам, был назначен привал. Но там был лишь его конюх с двумя лошадьми и всадник в черной маске и длинном плаще. Этот всадник поскакал навстречу Цейзольфу, который закричал:
— Скорей плащ. Нужно заткнуть рот этой дикой кошке.
Не успел всадник протянуть ему плащ, как раздались крики: «Стой! Держи!» Из-за кустов выбежали Ганс и Каспар и, обнажив мечи, ринулись на похитителей. Юнкер Цейзольф, набросив плащ на голову Габриэлы, намеревался подсадить ее на седло своего сообщника, и Ганс, сразу узнавший рыжебородого, с криком бешенства набросился на него. Пока Цейзольф обнажал свой короткий меч, Габриэла вырвалась из рук всадника, но тот схватил ее за волосы, и она дико закричала. Шляпа свалилась с ее головы. Каспар кинулся на всадника, и тому пришлось выпустить прекрасную добычу, чтобы защитить себя от меча подмастерья. Воспользовавшись этим, Габриэла с громким воплем умчалась в лес. Враги сражались с молчаливым ожесточением. Ганс наносил юнкеру яростные удары.
Вдруг раздался крик:
— Бей их! Бей дворянчиков! — и на просеку выбежали несколько человек; страшные и одичалые, они набросились на Розенберга и его сообщников. Нападавшие были вооружены чем попало: топорами, мечами, самопалами, копьями. Сражение длилось не более минуты. Бешеному Цейзольфу удалось вскочить в седло и вместе со своим спутником и конюхом умчаться на запад. Разбойники — так называли скрывавшихся в лесах беглых крестьян — бросились за ними в погоню. Каспар узнал в их предводителе выселенного из Оренбаха крепостного Конца Гарта. Бросив взгляд вслед нежданным спасителям, он обернулся, ища своего друга. Силы небесные! Ганс Лаутнер лежал на земле, и блеклая трава быстро окрашивалась в алый цвет. Цейзольф фон Розенберг, ускользнув от длинной шпаги Ганса, пронзил ему грудь своим охотничьим мечом. Каспар опустился на землю рядом с другом и в скорбном молчании положил его голову к себе на колени. Он был бледен, как истекавший кровью Ганс. Каспар был один с умирающим, лицо которого, еще искаженное яростью борьбы, постепенно прояснялось. Старый дуб распростер над ними свои еще голые, могучие ветви. В отдалении мирно пощипывала траву лошадь Габриэлы. Глаза Ганса в предсмертной тоске устремились на друга; побелевшие губы зашевелились. Каспар приник ухом к его губам.
— Бабка… передай ей… — прошептал умирающий.
— Да, да, Ганс, я знаю, что ей передать, — едва сдерживая рыдания, вскричал Каспар. — Ради бога, держись. Слышишь голоса, к нам идут на помощь. Держись, Ганс, голубчик.
Улыбка скользнула по лицу юноши.
— Кэте… — прошептал он едва слышно и испустил дух.
— Ганс! Ганс! — простонал Каспар, впиваясь глазами в его бледное лицо, на которое смерть уже наложила свою печать.
Голова друга покоилась на коленях у Каспара, а сам он погрузился в забытье. Как долго он просидел так — он и сам не знал. Только представилось ему, будто он спит и видит сон. Лес ожил, вокруг старого дуба появилась целая ватага охотников: егеря, загонщики, ловчие, псари со сворой. Олень убит, и все весело спешат на привал, правда не к каменному дубу, а совсем в другое место. Услышав по пути крики Габриэлы, все направились к ней. Фон Верницер и лесничий, знавшие этот дуб, помогли Габриэле найти место привала. Широко раскрытыми глазами смотрела она на труп бедного Ганса. Волосы ее рассыпались, амазонка была в беспорядке, шлейф висел клочьями.
Пока егеря ловили ее коня и скрепляли подпругу, фон Верницер, мрачнее обычного, спрыгнул с лошади и подошел к телу Ганса Лаутнера. Все стояли молча в напряженном ожидании. Убедившись, что Ганс уже не нуждается ни в чьей помощи, он сказал: «Мертв», — и это слово беззвучно упало в тишину.
У Каспара вырвался гортанный звук, похожий на сдавленное рыдание. Фон Верницер, подозвав знаком лесничего, о чем-то с ним заговорил. Сабина направила своего белого, как молоко, иноходца к Габриэле и сказала вполголоса:
— Это тот самый красивый малый, который приносил тебе золотой венец. Бедняжка!
Тонкие брови красавицы сурово сдвинулись. Что ей за дело до бедняка подмастерья, которому вздумалось рисковать из-за нее жизнью? Или, может быть, она думала в эту минуту о том, кого она только что обрекла на смерть от меча Розенберга? Егерь принес ей шляпу, кто-то подвел коня.
— Благодарю за услугу, любезный, — небрежно бросила она Каспару, который, закрыв глаза другу, осторожно положил его голову на землю. — Приходи ко мне в город за наградой.
— За наградой? — вспыхнул он. — Да разве все ваше золото может вернуть жизнь тому, кто умер за вас?
Она отвернулась, оправила платье и с помощью подошедшего юнкера фон Торнбурга вскочила в седло.
— На сегодня охота окончена, господа. Вернемся в Эндзее, — громко сказал фон Верницер.
И пестрая толпа исчезла за деревьями. Остались только лесничий с двумя егерями да несколько загонщиков. Пока они ломали молодые ветки для носилок, старик лесничий расспрашивал Каспара о том, что произошло под дубом.
— Какова наглость! — воскликнул старик, когда Каспар закончил свой рассказ. — Должно быть, юнкер знает эти места не хуже меня, раз он надеялся добраться с фрейлейн до Таубера. Не сносить ему головы за похищение девушки.
— Так ли? Ведь господа рубят головы только воришкам, — с горечью возразил Каспар.
Тело положили на носилки, и Каспар прикрыл его плащом, брошенным всадником в маске. Кто бы это мог быть? По дородной фигуре и желтым, как солома, волосам можно было предположить, что под маской скрывался юнкер фон Финстерлор. О появлении беглых крестьян Каспар предпочел умолчать, не желая выдавать лесничему Конца Гарта. Печальное шествие двинулось по направлению к Гумпельдорфу — ближайшей деревне у большой дороги. Там раздобыли телегу, на нее и положили покойника.
Женщины плакали и причитали:
— Ах, сердечный! Совсем еще мальчик!
— Что для господ жизнь бедняка? — озлобленно крикнул Каспар. Мужчины молчали, искоса посматривая на лесничего: они боялись его. Но лесничий со своими людьми скоро отправился в Эндзее. Остался только старший егерь, чтобы проводить тело в Ротенбург и дать показания городскому судье.
Не успела процессия выйти из деревни, как Каспар услышал знакомый бас Большого Лингарта:
— Боже правый! Да ведь это Лаутнер! — Каспар остановил телегу. — Ох, беда, беда! Ему бы жить да жить! А я еще надеялся поплясать под его музыку.
И бывший ландскнехт горестно покачал головой, и две слезы скатились по его усам.
— Он погиб от руки Розенберга, — глухо проговорил Каспар.
Лингарт выпрямился во весь свой богатырский рост и, потрясая кулаком в сторону Гальтенбергштеттенского замка, злобно крикнул:
— Так пусть рыжебородый убийца простится с жизнью! Клянусь дьяволом, ему несдобровать! Эх, бедняга!
Каспар спросил, куда он направляется.
— В Оренбах, — отвечал тот.
— Может, я могу справить за тебя твое дело? — спросил Каспар и, указав на тело друга, добавил: — А ты бы проводил его. Мне до зарезу надо в Оренбах.
— Что ж, ладно, иди. Только не завидую тебе: с такой вестью… Если воротишься засветло, найдешь меня у свояка, в «Красном петухе».
И он медленно зашагал вслед за телегой, а Каспар направился в противоположную сторону. Чем ближе он подходил к Оренбаху, тем больше замедлял шаг. Мысль о Кэте тяжелым грузом давила его сердце. Он мучительно старался придумать, как бы поосторожней сообщить ей роковое известие. Солнце уже склонялось к закату, когда он вошел в деревню.
Симон Нейфер с семьей сидел за большим дубовым столом и читал вслух из библии, подаренной ему братом Андреасом, восьмую главу книги пророка Самуила. Он читал о том, как народ Израиля пришел к Самуилу просить, чтобы он поставил над ним царя, и как бог повелел внять мольбам народным, но предупредить его о гнете и притеснениях, которые ему придется претерпеть от царей. «И будете вы ему рабами, — сказал Самуил, — и возопиете тогда из-за царя вашего, которого вы избрали себе, но не услышит вас господь».
Тут в комнату вошел Каспар. Детвора с радостным визгом бросилась к нему. Он любил возиться с малышами и был им куда больше по душе, чем его угрюмый друг. Приласкав детей, он начал играть с ними и лишь мимоходом заметил, что встретил Большого Лингарта.
— А что твой друг? — спросила Кэте.
— Кто? Ганс? Просил тебе кланяться, — отвечал он и нагнулся к мальчугану, чтобы не встретиться взглядом с девушкой. — Он не мог прийти, — продолжал он с деланным спокойствием. — У него работа… спешная… ему надо поскорей развязаться… Видишь ли, дело к спеху, потому как… гоп, гоп, Мартин! — и, подхватив мальчугана, он начал подбрасывать его.
— Да не тяни, говори толком, в чем дело, — сказал Симон.
…потому как он опять собирается в путь, — отвечал Каспар, поставив ребенка на пол.
— Еще! Еще! — просил мальчуган.
Но Кэте, все время не сводившая глаз с Каспара, растерянно повторила:
— В путь? Не может быть, я бы знала.
— Право слово, — поспешил ее заверить тот и далее осмелился посмотреть на нее в подтверждение своих слов, но, встретившись с ее взглядом, опустил глаза.
— Ты врешь, Каспар! — вскричала она. — Ты что-то скрываешь. — И, вскочив из-за стола, крепко схватила его за руку. — Что случилось? Смотри мне в глаза. Я хочу знать.
— Ну да, — отвечал он в страшном смущенье. — Сейчас скажу. Только ты не волнуйся. Случилось несчастье.
— Что?! — в один голос вскрикнули все, кроме Кэте. Каспар искал слов, но не находил. Кэте широко раскрыла глаза.
— Он умер! — вскрикнула она, задыхаясь, и, бледная, как полотно, упала на скамью.
Каспар только опустил голову. Лицо его мучительно исказилось. У всех точно отнялся язык. Кэте сидела неподвижно, глядя в одну точку. Глаза ее застыли. Рот был полуоткрыт. Она точно оцепенела. Старый Мартин сокрушенно качал головой. Его невестка, горестно заломив руки, простонала:
— Царица небесная, как же это случилось?
Симон с усилием несколько раз провел рукой по лицу и каким-то чужим голосом, словно ему сдавили горло, попросил Каспара рассказать о происшедшем. Но едва тот раскрыл рот, как Кэте обеими руками схватилась за голову и опрометью выбежала из комнаты. Вслед за тем из кухни донесся ее страшный крик. У взрослых кровь застыла в жилах. От испуга ребятишки заплакали и прижались к коленям матери. Кое-как успокоив малышей, она дрожащими руками отстранила их и поспешила к Кэте.
Глава десятая
Между тем в Ротенбурге произошло событие, которого с таким нетерпением ожидал магистрат. На это намекал почетный бургомистр Кумпф еще при первой своей встрече с доктором Карлштадтом. Рим сказал свое слово устами епископа Вюрцбургского. Командор Тевтонского ордена и доктор Дейчлин были отлучены от церкви. Но отлучение это возымело совершенно непредвиденное действие. Еще когда Каспар с Гансом были на пути в Оренбах, доктор Дейчлин сам объявил с амвона собора св. Иакова об анафеме, которой предали его и его друга. Он говорил с полным спокойствием и тонкой иронией, свидетельствовавшими о том, что его вовсе не приводят в содрогание молнии, которые мечет Рим. Его лишь удивляет, сказал он, что в Вюрцбурге слово человеческое почитают больше, чем слово божие, которое пребудет живо и нетленно, присно и вовеки, людское же слово рассыплется в прах. Он полагал, что люди уже достаточно хорошо знают евангелие и не дадут больше водить себя за нос.
Предчувствие надвигающихся грозных событий, надежды и опасения не давали многим спокойно сидеть дома. А тут еще яркое солнце манило на улицу из низеньких комнат. Хотелось в беседе с друзьями отвести душу. Смутное предчувствие развязки томило всех не меньше, чем дыханье весны. И вот через Ворота висельников в город, громыхая, въехала телега с телом юного подмастерья. Рядом с телегой шагал Большой Лингарт, мрачный и грозный, а впереди шествовал посланный лесничим егерь в зеленой куртке, красных штанах, с охотничьим копьем в руке и арбалетом за спиной. Телегу окружили любопытные и, замирая от ужаса, расспрашивали о кровавом деле. На Вюрцбургской окна распахнулись настежь. Люди выбегали из домов, толпа росла с каждой минутой. Весть об убийстве облетела весь город. Печальное шествие с трудом прокладывало себе дорогу в густой толпе. У высокой квадратной башни над воротами, ведущими во внутренний город, пришлось остановиться. Большой Лингарт, которого все время забрасывали вопросами, загремел басом:
— Да, беднягу Ганса убил Розенберг. Из-за Нейрейтерши, за которую Ганс вступился. Но будь я проклят, если не раздавлю подлеца юнкера! — и он с силой ударил себя в грудь кулаком. Возбужденная толпа загудела: «Смерть юнкеру!»
Когда народ наконец расступился, телега свернула налево, на Капелленплац, обогнув Белую башню, а егерь направился к дому городского судьи Хорнера. Вскоре толпа запрудила всю площадь, и Георгу Хорнеру, вышедшему в сопровождении писца и лекаря для осмотра тела, лишь с большим трудом удалось протиснуться к дому Эльвангера. Сочувствие к несчастному парню, павшему жертвой Бешеного Цейзольфа, все возрастало. Ганс пользовался популярностью в городе. Особую же благосклонность снискал себе этот красивый подмастерье с печальными синими глазами среди женщин. Его трагическая гибель взволновала всех.
Макс Эбергард знал его лично. На указательном пальце доктора была печатка с камнем, вывезенным из Италии, карнеолем искусной резьбы, изображавшей прощанье Гектора с Андромахой. Ратсгер Георг фон Берметер, человек бездетный и большой любитель искусства, указал ему на способного подмастерья, и Ганс, с разрешения Эльвангера, сделал оправу для камня. Макс объяснил ему содержание рисунка. Эльза, увидев перстень, многозначительно посмотрела на возлюбленного: может быть, и ей когда-нибудь придется скрепя сердце протянуть ему меч. Теперь он с грустью вспоминал о бедном юнце, которого, как и троянского героя, погубила прекрасная женщина.
А в Эндзейском замке Ганса успели забыть. Кто он, подмастерье? Зато неудавшееся покушение окружило прекрасную Габриэлу в глазах знатной молодежи новым ореолом. Разгоряченные вином, молодые юнкеры клялись отомстить за оскорбление и сразиться не на жизнь, а на смерть с Бешеным Цейзольфом. Даже Герман фон Горнбург вышел из себя. Черные глаза прекрасной Габриэлы сверкали, но она запретила своим рыцарям рисковать из-за нее жизнью, заявив, что наглость юнкера фон Розенберга так же не может оскорбить ее честь, как нападение дикого зверя.
— К тому же, господа, прекрасная фрейлейн и не нуждается в ваших рыцарских услугах, — заявил фон Верницер. — Бургомистр и магистрат не оставят этого оскорбления без последствий, ибо в лице прелестной фрейлейн оскорблен весь ротенбургский патрициат. К сожалению, мы лишены возможности предать юнкера нашему суду, поскольку он принадлежит к имперскому рыцарству Оденвальдского кантона. Но не подлежит сомнению, что магистрат не замедлит подать на юнкера жалобу в имперский верховный суд. Я первый позабочусь об этом, ибо я оскорблен более других: он злоупотребил моим гостеприимством в угоду своим низким замыслам.
Прекрасная Габриэла склонила головку с улыбкой благодарности на устах, но со страхом в сердце. Сославшись на усталость от переживаний этого бурного дня, она вскоре удалилась от общества. Предложение Сабины сопровождать ее в отведенные им покои она решительно отвергла. Когда позже Сабина пришла в спальню, Габриэла лежала в постели с закрытыми глазами. Но она не спала. Бушевавшая в ее груди буря не давала ей уснуть. Ее тщеславие было уязвлено покушением Цейзольфа больше, чем ее женская честь. Его безрассудная выходка свидетельствовала о неукротимости его страсти, что до некоторой степени смягчало вину в ее глазах. Однако раньше она думала, что может командовать этой страстью и пользоваться ею по своему усмотрению. Теперь ее ошибка казалась ей тем более непростительной, что она не только не достигла своей цели, но и скомпрометировала себя. Даже вырвавшись из объятий Розенберга, она осталась его сообщницей, и слова фон Верницера наполнили ее сознанием угрожающей ей опасности. Зная Эразма фон Муслора и своего опекуна, она не сомневалась, что они не упустят случая отомстить Цейзольфу. А кто может поручиться, что он будет держать язык за зубами и в отместку не расскажет о ее предложении убить Макса Эбергарда? Ведь юнкер рискует головой. Даже попытка похищения девушки каралась по закону смертной казнью. Увы, ни один из молодых патрициев, предлагавших ей свою шпагу, не мог тягаться с Цейзольфом по силе и искусству владеть оружием. И кому, как не Максу Эбергарду, она обязана ужасным положением, в котором очутилась? При одной мысли об этом у нее выступал холодный пот.
Когда наступило утро, горечь отвергнутой любви и муки ревности уступили место ледяной ненависти. Теперь ей казалось непонятным, как она могла считать смерть достаточным для Макса наказанием. Нет, она придумает для него и Эльзы такое, что смерть покажется им благодеянием!
Наутро Альбрехт фон Адельсгейм предупредил свою невесту и ее подругу, чтобы они собирались домой. Его прислал магистрат, опасавшийся, что отлучение от церкви Дейчлина и командора может привести к беспорядкам. Прекрасной Габриэле не терпелось покинуть Эндзее, и она как никогда обрадовалась появлению этого сухого молчаливого человека. Теперь все зависело от того, успеет ли она пустить в ход свое влияние на отца Сабины и своего опекуна, чтобы помешать им возбудить дело против Розенберга.
Добрейшая фрау фон Муслор приняла Габриэлу, как родную дочь — с нежным участием и заботой. Она нашла, что у девушки совсем больной вид и что ей необходимо как можно скорее лечь в постель, но, однако, не оставляла ее, продолжая расспрашивать о подробностях прискорбного происшествия. Господин фон Муслор с усмешкой обратил внимание супруги на это противоречие между ее советами и поведением. Нетерпеливо поведя бровями, Габриэла поспешила его заверить, что чувствует себя вполне здоровой, и прибавила:
— Но я не спокойна. Фон Верницер сказал, что магистрат возбудит из-за меня преследование против юнкера фон Розенберга. Так ли это, господин фон Муслор?
— На этот счет я ничего не могу сказать, пока не получено официальное сообщение эндзейского шультгейса. Я не понимаю, однако, почему это может беспокоить тебя, дитя мое? Должно быть, ты еще не пришла в себя от пережитых волнений?
— Нет, нет, ни за что! Я не нуждаюсь в удовлетворении через суд! — крикнула она. — Я могу лишь повторить то, что уже сказала в Эндзейском замке. Я слишком высоко ставлю свою честь, чтобы на нее мог набросить тень какой-то Розенберг. Сабина может подтвердить. Я презираю его. Лучшая защита для женщины — незапятнанное имя. А этой защиты я лишусь, если мое имя будут трепать по судам, если оно будет у всех на языке, если его запачкает клевета. Меня ужас охватывает при одной мысли, что всякий, кто пожелает, сможет забрасывать меня грязью, и я не смогу защитить себя.
— Ты сгущаешь краски, милая Габриэла, — попытался успокоить ее господин Эразм.
— Она права, — заметила Сабина, устало откинувшись полным телом на пурпурные подушки.
— Будь вы моим отцом, — с необычной живостью воскликнула Габриэла, и ее черные глаза вспыхнули, — вы сделали бы все, чтобы избавить вашу дочь от позора. Я прошу, я заклинаю вас, откажитесь от жалобы. — И она умоляюще сложила руки.
— Повторяю, ты сгущаешь краски, — ласково ответил он. — Во всяком случае, ты будешь избавлена от необходимости лично давать показания перед судом. В свидетелях нет недостатка. И, наконец, ты сама понимаешь, решить это дело не в моей власти.
— О да, я знаю, что нам, женщинам, вечно приходится расплачиваться за тупость мужчин.
Эразм фон Муслор только улыбнулся и развел руками.
— Ты умная девушка, — заговорил он серьезным тоном, — и должна понять, что эта прискорбная история задевает не только твою честь. Наглым нападением юнкера, перешедшего от грубых забав к насилию, нанесено тяжкое оскорбление всем нашим патрициям. Можешь ли ты требовать от магистрата, чтобы он покорно снес подобное оскорбление? Да он и не вправе так поступить. Ибо это значило бы убрать все преграды, стесняющие преступные наклонности этого деревенского барчука. Но даже если б магистрат на это пошел, кровь заколотого вопиет об отмщении. Все бюргерство требует наказания убийцы. Мы не имеем права молчать и играть в великодушие, как ты. Интересы сохранения мира в наших стенах властно повелевают не препятствовать правосудию. И ты, Габриэла, не должна становиться ему поперек дороги. Ведь бедный парень лишился жизни, защищая твою честь. И единственная благодарность, которую ты еще можешь воздать ему, заключается в том, чтобы дать свершиться правосудию.
Кровь отхлынула от лица Габриэлы. Страстные возражения уже готовы были сорваться с ее губ, но, почувствовав, что она только испортит все дело, она превозмогла себя. Сабина встала, подошла к ней и обняла за талию, но та резким движением вырвалась и выбежала из комнаты. Сабина опять опустилась в кресло и спокойно погрузилась в созерцание своих белых рук. Как часто ее подруга высказывала свое пренебрежение, даже презрение к мнению света. И вдруг теперь она так страшится его! Нет, она не понимала больше Габриэлы.
— Но она все-таки права, отец, — повторила Сабина, медленно отрывая взгляд от своих рук.
— Ну конечно, и мы были бы превосходными градоправителями, если б руководствовались в наших действиях расстроенными чувствами молодых девиц, — насмешливо произнес господин Эразм.
Сабина последовала за подругой. Габриэла металась по комнате. На столе стоял открытый ларец, рядом с ним были разбросаны ее драгоценности, а на полу валялся растоптанный и погнутый золотой венец, сделанный для нее Гансом Лаутнером.
— О, как ты могла, Габриэла! — с ужасом воскликнула Сабина, укоризненно глядя на подругу. Ответом был лишь язвительный, отталкивающий смех.
Благо Гансу Лаутнеру, что он не слышал этого смеха. Он лежал на возвышении, в часовне, под траурной пеленой, покрытый целой грудой венков, освещенных мерцающим пламенем свечей. Под темными сводами часовни гулко отдавались голоса пришедших помолиться за упокой его души.
На следующее утро траурная процессия двинулась из часовни на кладбище во дворе собора св. Иакова. Даже в дни карнавала ротенбуржцам не случалось видеть такое Зрелище. Подмастерья цеха золотых дел несли на носилках зашитое в саван тело под красным покровом с большим золотым крестом. В те времена было принято хоронить в гробу только знатных и богатых. За носилками шли Симон Нейфер с женой и сестрой, Каспар Эчлих и Большой Лингарт. За мейстером Эльвангером и старшиной цеха золотых дел шли подмастерья и делегации других цехов, присланные на похороны другими ремесленными корпорациями. Траурное шествие открывали городские музыканты. Пригласить оркестр уговорил мейстера Эльвангера Каспар. Друг покойного не мог допустить, чтобы Ганса, который был таким прекрасным музыкантом, проводили в последний путь без музыки. Мейстер Эльвангер был человек старого закала, и по его настоянию священник отпевал покойного по католическому обряду. Но среди собравшихся на кладбище было немало видных представителей реформатского движения. Там были доктор Дейчлин, командор Тевтонского ордена Мельхиор, слепой монах, почетный бургомистр, ректор латинской школы Валентин Икельзамер. Стефан фон Менцинген и доктор Макс Эбергард тоже пришли на похороны. Бедная Кэте была вся в черном, с черным платком на голове. На ее смуглых полных щеках еще играл юный румянец, но ямочки исчезли и не было больше лукавой усмешки. Ее глаза потеряли яркий блеск, а в сдвинутых бровях затаилась скорбь. Когда тело опустили в могилу, Кэте разрыдалась. Только теперь она поняла со страшной, леденящей душу ясностью, что надежда завоевать его любовь потеряна безвозвратно. Она никогда не переставала надеяться, хоть и чувствовала с болью в сердце, что его ласки только милостыня и что им всецело владеет слепая страсть к другой. И теперь он погиб, погиб из-за той! Крепким пожатием Каспар стиснул ее бессильно опущенную руку. Она сделала над собой усилие и вытерла мокрые глаза тыльной стороной ладони. Взглянув на нее, Большой Лингарт мрачно задергал кончики усов.
Священник начал читать «Отче наш», и присутствующие, обнажив головы, громко повторяли за ним слова молитвы. Затем наступила тишина. И вдруг раздался громкий голос:
— Нет, дорогие друзья, мы не можем так покинуть эту могилу. Мы не можем уйти, не сказав ни слова на прощанье!
Маленький человек в крестьянской одежде выступил вперед. Утреннее солнце играло на его исхудалом, смуглом лице. «Брат Андреас!» — в изумлении вскрикнул Каспар. «Доктор Карлштадт!» — с не меньшим удивлением воскликнули все знавшие его. Его брошюра о святых таинствах была не только написана, но благодаря посредничеству Эренфрида Кумпфа тайно отпечатана в Ротенбурге и разослана с указанием вымышленного издателя и места издания. После недавнего выступления доктора Дейчлина ему стало невмоготу скрываться, и он покинул свое убежище.
— Засыпайте могилу! — крикнул он могильщикам. — Да, вы можете тело засыпать землей, но преступление, жертвой которого он пал, будет взывать к небесам. И взывать тем громче, что преступник принадлежит к сильным мира сего, а жертва — к низкорожденным. Но ведь низкорожденный тоже наш брат, наш признанный брат во Христе. И вот мы стоим перед его могилой и поднимаем голос против погубившего его насилия. Подобно взбесившемуся коню оно мчится, закусив удила, и в слепой ярости топчет своими копытами всех, кто попадется ему на пути. Это дитя народа, само того не подозревая, отдало свою жизнь за высокую цель. Но знайте, если целый народ безропотно терпит жесточайшее иго и не стремится к освобождению, значит он сам заслужил свое проклятие.
Завтра — среда первой недели великого поста. Завтра мы начнем переживать вновь смерть во плоти Иисуса Христа и его воскресение из мертвых для жизни вечной. Ах, дорогие друзья, сколь долгие годы длится великий пост для народа, который в рубище и пепле несет покаяние за чужие грехи? Не тщетно ли он ждет дня своего освобождения? Не пребудет ли он во веки веков во тьме безысходной? Но ведь спасительное откровение возвещено всем христианам — и господину и рабу. Ибо Христос хотел не только спасти мир от мрака язычества, но и призывал к себе всех страждущих и обремененных, призывал к себе простой народ, чтобы освободить его от гнета нужды. Иисус Назарей не знал церкви. Но церковь разрушила то, что он построил. Сын божий не имел даже где приклонить голову, а церковь завладела всеми благами здесь, на земле, и не оставила народу ничего, кроме неба там, наверху, к которому он тщетно взывает в тисках голода и нужды, под гнетом крепостничества и рабства. Ибо пока царствует эта церковь, пока владычествует Рим, до той поры не свершится обновление мира. Так долой же Рим! Да воссияет истина! Да воскреснет народ! И да свершится воля господня!
Все стремительней и кипучей несся поток его слов, и его хилое тело трепетало, как лист на ветру. Речь его потрясла слушателей до глубины души. Правда, среди бюргеров было немало таких, кому речь Карлштадта пришлась не по вкусу. Но то ли они не решились возражать, то ли сами были увлечены общим воодушевлением, только все они присоединили свой голос к единодушному громовому крику «Долой Рим!».
Маленького доктора тотчас окружили друзья. Фриц Дальк, Лоренц Дим, Иос Шад, Мельхиор Мадер и другие горожане обступили Карлштадта, как почетная охрана, и проводили его домой. Между тем кучка наиболее экзальтированных горожан носилась по улицам с оглушительными криками «Долой Рим!». Начиная с того дня стоило показаться на улице монаху или монахине, как им вслед неслись оскорбительные возгласы. Особенно доставалось доминиканкам, и магистрат еще великим постом распорядился замуровать калитку в городской стене, которая вела в сад при монастыре.
Симон Нейфер с женой и сестрой, Большой Лингарт и Каспар оставили кладбище в числе последних. Лингарт уговаривал их зайти по пути в «Красный Петух» подкрепиться стаканчиком вина, но Симон обещал своему дяде разделить с ним его скромную трапезу. Прощаясь с Кэте, Лингарт сжал в своем огромном кулаке ее маленькую жесткую руку:
— Не вешай голову, девонька. Ты еще слишком молода. А с юнкером я уж рассчитаюсь, можешь на меня положиться.
Кэте только покачала головой.
— А ведь он прав. Ты не должна губить себя, предаваясь отчаянью, — заговорил Каспар, идя рядом с ней. — Поверь мне, Кэтхен, и в твоем сердце будет еще светлый праздник. Эх, черт побери, что-то я порастерял свои шутки, а то бы я тебя рассмешил, право слово.
— Я и сама могу тебя рассмешить, — произнесла она с горечью, полоснувшей его но сердцу. — Он хотел отдать свою жизнь за нас, за простой народ, а вот пролил свою кровь за эту знатную куклу. Чего же ты не смеешься, Каспар?
— Смеюсь, смеюсь! — хрипло воскликнул он. — И непременно заведу себе дурацкий колпак… Ведь сегодня во всем мире праздник дураков[76], хейо! Но терпение, терпение!
— Терпение? — с презрением спросила Кэте. — У вас, мужчин, слишком много терпения.
То же самое сказал и доктор Карлштадт своим друзьям, упрекавшим его в том, что он покинул свое убежище. Теперь не время думать о личной безопасности, сказал он. Он пригласил своих спутников к себе, и мейстер Эчлих проводил их в большую комнату на втором этаже. Слепой монах Ганс Шмидт поддержал Карлштадта, заявив, что настало время — теперь или никогда — осуществить Реформацию в Ротенбурге. Валентин Икельзамер в связи с этим предложил, чтобы бюргерство отрядило делегацию к магистрату.
— Чтобы нам наконец вернули наши законные права, — добавил Килиан Эчлих.
— И предоставили право заседать, как прежде, во внешнем совете, — закончил Мельхиор Мадер. — Это наше старинное право, подтвержденное грамотой.
— Которую давно мыши изъели, — раздался грубый голос мясника Далька.
Магистр Бессенмейер посоветовал остерегаться опрометчивых решений, а доктор Дейчлин воскликнул:
— Первым делом мы должны добиться того, что для всех является высшей целью: очищения веры. Выждем, пока магистрат примет наш вызов. Пусть он отрешит меня от должности, я все равно не покину город. Пусть передо мной закроют кафедру святого Иакова, я буду проповедовать под открытым небом.
— Мы не дадим вас в обиду! — воскликнул дубильщик Иос Шад под одобрительные возгласы всех мастеров.
— Все это прекрасно, господа, — произнес, отчеканивая каждое слово, Стефан фон Менцинген, — но положение дел таково, что мы не добьемся Реформации, пока бюргерство не восстановит своих прав.
— Нет, нет, мы не должны мешать религию с политикой! — горячо возразил Эренфрид Кумпф.
— В таком случае, да позволено мне будет спросить почтенных господ, что же получим мы, простой народ?
Перед ними стоял незаметно вошедший в комнату оренбахский староста. Все взоры устремились на него.
— Новая вера освободит вас так же, как и горожан, — отвечал Карлштадт. — Мы не хотим браться за мечи; вера должна быть нашим щитом перед лицом врага. Новая вера реформирует не только церковь, но и государство. И мир увидит новое общество, все члены которого будут связаны узами братства.
— Гм… братство по вере, братство во Христе, это еще куда ни шло, только… — начал зажиточный скобяной торговец с двойным подбородком. Но, почувствовав на себе пристальный взгляд Симона Нейфера, он счел за благо оставить свои сомнения невысказанными.
— И каждый член братства будет трудиться, — закончил слепой монах. — Основой нового общества будет труд.
— К труду-то нашему брату крестьянину, чай, не привыкать, — сказал Симон. — Только как мыслят почтеннейшие господа претворить это в жизнь? Медведь еще не убит, а мы спорим о шкуре. Добром у магистрата ничего не возьмешь, как есть ничего. И коль скоро у всех нас жмет башмак — у одних здесь, у других там, — то, сдается мне, нужно всем, и городским и деревенским людям, понатужиться вместе, чтобы дело пошло на лад.
Ремесленные мастера, слепой монах, учитель латыни поддержали его. Но некоторые стали возражать. Макс Эбергард напряженно наблюдал за спокойно стоявшим у дверей Симоном, за которым внимательно следил, покручивая усы, и рыцарь фон Менцинген. Среди гула голосов спорящих отчетливо прозвучали слова Эренфрида Кумпфа.
— Только заклинаю вас, друзья мои, никакого насилия! — призывал он, воздевая руки к потолку.
Мейстер Килиан резко и отрывисто рассмеялся, но почетный бургомистр, не обращая на него внимания, продолжал:
— При нынешнем положении дел, я твердо убежден, никакого насилия и не потребуется. Достаточно будет одного морального воздействия, и магистрат уступит.
Симон Нейфер медленно обвел собравшихся умным взглядом карих глаз, слегка пожал плечами и, повернувшись, спустился вниз, где его ждали жена и сестра вместе с Каспаром. Кундлихер, почтенный торговец скобяным товаром, вздохнул с облегчением.
В тяжелом раздумье вышел Макс Эбергард из дома стригальщика. Он полагал, что если доведенный до отчаяния народ с таким пламенным воодушевлением бросается в объятья новой веры, то причина тому — разложение старого мира, упадок нравов, вырождение старой религии, беспощадная эксплуатация бедняков. В новой вере бедный люд видел свою опору, которая поможет ему выпрямить спину. Теперь Макс увидел пропасть, отделявшую сторонников религиозной реформы от тех, кто одновременно добивался и политических преобразований. Лишь благодаря вмешательству почетного бургомистра удалось предотвратить открытый разрыв. Но если этот раскол произойдет, не приведет ли он к окончательной гибели их дела, которое может победить лишь при теснейшем единении всех?
Когда, вернувшись домой, Макс поднимался к себе, его окликнул отец, появившийся на пороге своего кабинета. Отец и сын уже давно разговаривали друг с другом лишь в случаях крайней необходимости. Рабочая комната Конрада Эбергарда была обставлена очень просто, являя собой полную противоположность кабинету первого бургомистра. Старик зашагал взад и вперед по комнате, а Макс остановился в молчаливом ожидании; он слишком хорошо знал отца, чтобы не понять по его застывшему лицу, что тот старается овладеть собой и не замедлит открыть причину своего волнения. Наконец господин Конрад, резко повернувшись, сделал несколько шагов по направлению к сыну и спросил:
— Ты был на похоронах этого подмастерья? — Голос его звучал хрипло, и он откашлялся.
Макс утвердительно кивнул головой.
— Знаешь ли, что, в сущности, ты — виновник его смерти?
— Я, отец? — воскликнул Макс, вне себя от изумления.
— Да, ты, — продолжал старик, отчеканивая каждый слог. — Если б ты не отказался от руки моей подопечной, юнкер фон Розенберг никогда бы не отважился на свою безумную выходку по отношению к невесте моего сына. Мы избежали бы кровопролития и всех прискорбнейших последствий: и возбуждения умов, и возмутительной надгробной речи Карлштадта, и бесчинств черни.
Обвинения были слишком нелепы, чтоб их опровергать. Макс продолжал молчать.
— Почему ты пренебрег ею? — спросил Эбергард-старший и снова зашагал по комнате. — Ведь это просто смешно!
— Мне казалось, отец, что с этим вопросом мы уже покончили? — спокойно заметил Макс.
— Нисколько! Еще не поздно исправить твою ошибку. — И так как сын продолжал молчать, он добавил: — Ты не хочешь? Ну хорошо, я скажу тебе, почему ты не хочешь.
— Остановитесь, отец! — прервал его Макс так решительно, что тот смешался и молча подошел к окну. На улице начиналась суета карнавальной ночи.
— Мне кажется, для нас обоих было бы лучше оставить этот разговор, — сказал спустя некоторое время Макс приглушенным голосом.
— Не в моих правилах откладывать то, что можно сделать сейчас же, — отвечал отец, не оборачиваясь. Голос его звучал спокойней. Он отошел от окна, опустился в кресло и сказал: — Садись. Давай покончим с этим. На правах отца я буду с тобой, как всегда, вполне откровенен. Впрочем, это в твоих интересах. Я хочу услышать из твоих уст, правда ли, как это утверждают, что ты увиваешься за Эльзой фон Менцинген?
— Да, это так, — слегка покраснев, произнес Макс. — Я надеюсь в будущем назвать ее своей женой.
Хотя Конрад Эбергард и ждал такого ответа, все же его нависшие брови чуть вздрогнули.
— Вот как! — хрипло произнес он. И сухим деловым тоном продолжал: — Ты заявил мне однажды, что твоя честь не позволяет тебе жениться на моей питомице, потому что ее состояние якобы приобретено не совсем чистыми путями. А знаешь ли, какое обвинение тяготеет над Стефаном фон Менцингеном?
— Знаю, — отвечал Макс. — Но, ознакомившись с документами — копии их уже отправлены в имперский верховный суд, — я убедился в том, что он действовал исключительно по распоряжению своего суверена.
— И что суммы, вырванные им у креглингенцев путем вымогательства, он пересылал в Ансбах, ничего не положив себе в карман?
— Отец! — в негодовании воскликнул Макс.
Тот знаком приказал ему успокоиться и продолжал:
— Я задал лишь тот вопрос, на который тебе придется отвечать перед судом, если дело твоего клиента будет пересматриваться. Тебе, как юристу, следовало бы это знать.
— Я вызову свидетелей: казначея маркграфа, да и его самого, и они подтвердят невиновность рыцаря, — с горячностью сказал Макс.
— Что ж, вполне возможно, что маркграф Казимир и поможет своему старому слуге выйти сухим из воды. Но допустим даже, что фон Менцинген честно исполнил свой долг по отношению к маркграфу. Откуда же в таком случае это богатство, приобретенное в такой короткий срок? Ведь на службу к маркграфу он поступил бедняком? Откуда у него средства, дающие ему возможность так широко жить теперь? Ты должен признать, что над ним тяготеют серьезнейшие подозрения, даже если ты сумеешь снять с него обвинение в вымогательстве.
— Эти подозрения рассеются, — с убеждением ответил сын.
Но отец, не обращая внимания на его слова, продолжал:
— Что же касается его процесса с нашим магистратом, то последний отнюдь не намерен освободить его от уплаты налога, несмотря на все его уловки. Насколько мне известно, ему придется обратиться к оскорбленным им членам магистрата с письменным извинением. Магистрат отвергнет эту просьбу, и фон Менцингену придется лично предстать перед собранием обоих советов и принести во всеуслышание свои извинения, которые будут предметом обсуждения. Правда, оскорбленные им советники уже выступили из состава магистрата за истечением срока их полномочий, но это нисколько не меняет дела.
Макс порывисто встал:
— На такое унижение рыцарь никогда не согласится.
— Так его заставят, — холодно возразил господин Конрад. — Но объясни мне, что за двуликая у тебя честь, которая разрешает тебе в отношении дочери Менцингена то, что запрещает по отношению к моей опекаемой. Я предоставляю тебе возможность быть своим собственным судьей. Решай.
Макс глубоко перевел дух и, чтобы совладать с собой, ухватился обеими руками за спинку кресла.
— Позвольте мне прямо объяснить то, чем отличается один случай от другого. Я люблю Эльзу, а Габриэлу не люблю. Вы, вероятно, помните, что я не возлагал на вашу опекаемую ответственности за дурную славу ее отца, так почему же я должен быть менее справедлив к Эльзе, которую люблю? Ведь я должен был жениться не на Габриэле, а на ее деньгах. Я отказался, не желая стать соучастником нечистоплотных дел ее отца, которыми создано ее состояние. Фрейлейн фон Менцинген бедна. То немногое, что имеет семья, должно быть распределено между всеми братьями и сестрами. И я женюсь на ней не ранее, чем будет упрочено мое положение.
— Да разве ты не видишь, — воскликнул его отец, и молния сверкнула в его холодных глазах, — что твое роковое ослепление этой девчонкой отдает тебя целиком в руки Менцингена, который, судя по его окружению, перешел в лагерь новоявленных пророков. Зная твои, мягко выражаясь, заблуждения, которые ты так гордо называешь своими убеждениями, я нисколько не удивляюсь, что ты пренебрегаешь моими советами и становишься на сторону людей, преступно подрывающих священные основы церкви и государства. Проповеди Дейчлина и командора, их дерзкий вызов высшим церковным властям, речь Карлштадта на кладбище, бесчинства черни — все это могло бы открыть глаза даже тебе. Ведь эти люди помышляют лишь об одном — разорвать все узы повиновения, ниспровергнуть всякий порядок, разрушить все, и далее нашу святую мать-церковь. Конечно, что им за дело до того, что их махинации сеют ненависть и рознь, смерть и разрушение в нашем прекрасном городе? Они здесь чужие. Среди них нет ни одного ротенбуржца. Опомнись же, Макс! Одумайся, пока не поздно! Настало время, когда все, кто желает блага своему родному городу, должны сплотиться воедино на защиту самых высоких, самых священных идеалов от посягательств этой мятежной черни.
— Полно, так ли это, отец? Магистрат располагает средствами отстоять мир от всяких покушений, от кого бы они ни исходили. Но почему же он противится духу и настоятельным нуждам нашего времени? Пусть он введет наконец Реформацию в Ротенбурге, пусть возвратит цехам их старинное право участия в управлении городом, пусть облегчит непосильные тяготы своих подданных, пусть уничтожит позорное крепостничество, и тогда наступит для нашего города прекрасная пора мирного труда, довольства и процветания. То, что некогда было вызвано к жизни нуждами времени, должно отойти в прошлое, когда наступают новые времена. Старый порядок изжил себя, и человеческий разум строит новую жизнь. Если и можно говорить о сеятелях мятежа, то, мне думается, в этом следует обвинять тех, кто, вопреки назревшей необходимости, своекорыстно стремится погасить светоч разума и оставить мир навсегда во власти тьмы.
— Довольно! — воскликнул старик, повелительным жестом остановив его, и встал. — Ты просто фантазер. Я надеялся образумить тебя, но и эта надежда рухнула, как, впрочем, и все мои надежды на тебя. Иди же навстречу своей гибели, раз ты не слушаешь ни советов, ни предостережений. Но знай, что то старое, которое, по твоим словам, уже изжило себя, еще достаточно сильно, чтобы разгромить ваше новое. И, бог свидетель, так оно и будет, и не ждите тогда ни пощады, ни сожаления! Довольно!
Он подошел к письменному столу, взял какие-то бумаги и, протянув их сыну, сказал:
— К сожалению, я предвидел, что так случится. Вот отчет об управлении оставленным тебе матерью наследством. А вот распоряжение моему банкиру выплатить тебе эту сумму. Здесь всего четыреста с лишним гульденов. Мы в расчете.
Макс долго молча смотрел на бумаги. Потом поднял глаза на отца и с дрожью в голосе произнес:
— Мне остается лишь поблагодарить вас, отец, за все то доброе, что вы сделали для меня. Верьте мне, я не хотел бы отплатить вам черной неблагодарностью. Но высшее благо для человека — верность своим убеждениям. Я презирал бы себя, если бы поступил против своей совести. Прощайте, отец!
Он поклонился и вышел. Последняя нить между ними порвалась. Теперь Макс должен был искать себе новый кров.
Конец первой книги
Книга вторая
Глава первая
Герцог Ульрих не прибыл на карнавал в Штуттгартский замок. Он не был полководцем и, вместо того чтобы не мешкая занять свою столицу, где бюргерство держало его сторону, терял попусту драгоценное время, принимая изъявления верноподданнических чувств от вюртембергских крестьян, которые в большинстве своем оставались ему враждебны. Тем временем Трухзесу фон Вальдбургу[77] удалось его предупредить, бросив на Штуттгарт значительные силы во главе с графом Людвигом фон Гельфенштейном[78]. Бюргеры не решились на восстание, а в лагерь герцога прокралась измена. Швейцарцы, которым герцог предложил занять столицу, сочли это недостаточно надежным обеспечением уплаты их давно просроченного жалования. Наконец 24 февраля в сражении при Павии Георг фон Фрундсберг взял в плен французского короля Франциска, и победоносная Австрия решительно потребовала от союзных кантонов отозвания войск, предоставленных герцогу. Доблестные сыны Швейцарии, тогда еще входившей в Империю, с большой готовностью протянули руки, когда посланцы Трухзеса фон Вальдбурга предложили им невыплаченное жалование и задаток в счет будущих благ за обязательство не только оставить герцога, но и выдать его австрийскому командованию». Герцогу пришлось повернуть вспять, не дойдя до своей столицы, и бежать под покровом темноты, чтобы не попасть в руки врагов. Братья его жены, герцоги Баварские, подстрекаемые канцлером фон Экком, не жалели средств, чтобы погубить герцога. Канцлер Экк, одержимый фанатической ненавистью к Реформации, нашел себе послушное орудие в лице коварного и жестокого Трухзеса фон Вальдбурга. Путая следствие с причиной, как это вообще свойственно правящим классам, канцлер считал Реформацию, которую он называл не иначе как «лютеровским обманом», источником всеобщего недовольства и возмущения и настаивал на применении против нее беспощадного террора.
Вскоре после того как герцог Ульрих потерпел неудачу под стенами своей столицы, в Балленберге, в трактире Георга Мецлера[79], на хозяйской половине, собралось несколько человек. Городок был расположен на возвышенности, в двух часах ходьбы к западу от Краутгейма на Яксте, на стыке владений графов Гогенлоэ и архиепископа Майнцского, и благодаря своей близости к Оденвальдскому лесу был особенно удобен для свиданий заговорщиков. В трактире нередко устраивали свои тайные сборища оденвальдские крестьяне, нищие, измученные непосильным гнетом. Они готовы были положиться на Георга Мецлера как на каменную гору. В этот трактир пригласил Вендель Гиплер владетельного господина Гибельштадтского замка, а хозяин трактира препоручил своему двоюродному брату Леонгарду Мецлеру из Бретгейма привести Симона Нейфера.
Флориан Гейер явился в одежде простого рейтара. Без малейших признаков высокомерия и снисходительности, способных повлиять лишь на лакейские душонки, протянул он крестьянину свою сильную руку. Симон Нейфер не сводил с него глаз: он немало наслышался про него от Большого Лингарта. Перед ним был тот, о ком он думал как о возможном предводителе крестьян в тот самый день, когда, рассматривая гравюру, приложенную к «Двенадцати статьям», убеждал Ганса Лаутнера, что и среди дворян еще встречаются изредка люди, желающие добра простому народу».
Флориан Гейер был рад в душе, что преждевременный поход герцога Ульриха потерпел неудачу, и не скрывал этого.
— Теперь мы можем действовать без оглядки на князей и идти прямо к цели. Не пришлось кукушке положить свое яйцо в гнездо евангельской свободы. Теперь нам больше нечего бояться, что нам изменит союзник, когда этого не требует его личная выгода. Ибо положиться на княжеское слово, данное в трудную минуту, все равно что строить дом на песке. Очень важно, что, побывав в союзе с герцогом, крестьяне потеряли к нему всякое доверие. Его же собственные подданные не пожелали поднять за него оружие. До меня дошли вести, что, перейдя границы Вюртемберга, шварцвальдцы убедились в этом и тотчас повернули вспять.
— Удивляться нечему, — заметил Вендель Гиплер, — раз сам герцог без зазрения совести говорил, что ему совершенно безразлично, поможет ли ему вернуть его владения рыцарский сапог или крестьянский башмак.
— А все-таки не нужно забывать, что теперь, когда господам больше нечего бояться герцога, они, пожалуй, обрушатся всей силой на крестьянство, — сказал Георг Мецлер.
— Если смогут, — согласился Флориан Гейер. — Но ведь они прибегают не только к силе. Вступая в переговоры со своими возмутившимися подданными, феодалы стараются выиграть время — до первого удобного случая.
— Ясное дело! — крикнули в один голос Симон Нейфер и оба Мецлера.
— Но, пожалуй, у Иорга Трухзеса для этого не хватит сил, — продолжал Флориан Гейер, — а Швабский союз остался при пиковом интересе. Трухзес зависит от армии ландскнехтов, а она до конца зимы застряла в Италии и не сможет пожаловать к нам, пока не откроются перевалы в Альпах.
— Да и станут ли они драться с нами, это еще бабушка надвое сказала, — вставил Георг Мецлер. — Ведь они из того же крестьянского теста, что и мы.
— Ну, на это я не советовал бы особенно полагаться, — сказал, покачав своей красивой головой, Вендель Гиплер, — хотя, конечно, для них мало радости повернуть оружие против своих же отцов и братьев.
— Поэтому, сдается мне, мы должны опередить Швабский союз и, прежде чем они воротятся на родину, перетянуть их на нашу сторону, — убежденно сказал Флориан Гейер. — Ведь за своих близких они будут драться до последнего, как мы за свою свободу. А крестьянское войско получит прочное ядро из закаленных в походах солдат, которых не будут отрывать от знамен заботы о семье и хозяйстве.
Тем временем в комнате стало темно, и Георг Мецлер зажег несколько сосновых лучин. Потом он принес и поставил на стол хлеб и сыр и просил гостей не побрезговать вином, хотя оно и не из лучших. Это все, что имелось в его погребе. Человек он был небогатый: бедность оденвальдцев и неустанные труды ревнителя евангелической свободы помешали ему составить себе состояние. Да он и мало заботился о личном благополучии. На лице Мецлера нельзя было прочитать и тени озлобленности, свойственной его двоюродному брату из Бретгейма. Это был человек куда более обходительный и словоохотливый, чем бретгеймец.
— Эх, была нужда огорчаться, братец, — подзадорил его Георг. — Вот доберемся до монастырских погребов, так отведаем вволю доброго винца. А пока налей-ка себе да передай жбан дальше.
Флориан Гейер поднял свой кубок.
— За свободу и за великую цель нашей борьбы! За свободу, которая не знает никаких привилегий происхождения, никаких сословных различий. Она сделает нас всех братьями!
— И за ее манифест, за наше знамя — за «Двенадцать статей»! — добавил Вендель Гиплер.
Сомкнулись оловянные кубки. Потом заговорил Нейфер:
— Деревья давно налились соками, но только теперь, с приходом весны, появляются почки. Так и у людей: лишь с наступлением весны они чувствуют, как в их жилах бродит сила. Руки сами тянутся к оружию. Пора, пора!
Флориан Гейер кивнул. Они порешили назначить всеобщее восстание на судное воскресенье[80] (4 апреля). Сборный пункт — цистерцианский монастырь в Шентале на Яксте. Вступить в братский союз с крестьянами в Швабии, в Альгау, в Альпах. Флориан Гейер сообщил, что благодаря Стефану фон Менцингену ему удалось восстановить связи, которые вынужден был прервать Фуксштейн вследствие преждевременного выступления герцога Ульриха. Наконец, Михаэль Гайсмайр[81] в Бриксене только и ждет его сигнала, чтобы одновременно поднять восстание в Тироле.
— Не следует забывать и наших соседей с севера, тюрингенцев, — вставил Вендель Гиплер. — С недавнего времени Томас Мюнцер[82] вернулся в Мюльгаузен. Вы, должно быть, слышали, что ему пришлось бежать туда из своего Альштедтского прихода, где проповедовал новую веру Пфейфер, так как герцоги Саксонские увидели в Мюнцере новоявленного ветхозаветного Даниила, обличающего их грехи. Вам известно также, что мюльгаузенская аристократия изгнала Пфейфера и Мюнцера из города. Но в декабре минувшего года поселяне и ремесленники водворили Пфейфера обратно, а теперь туда воротился и Томас Мюнцер, который отливает пушки в францисканском монастыре и препоясывается мечом Гедеона, чтобы выступить против князей. Особенно рассчитывает он на вашу соседскую помощь, франконцы. Его письма хлебопашцам и рудокопам Гарца и Мансфельда дышат пламенем.
Томас Мюнцер
С портрета XVI в.
При Гиплере было письмо, направленное Мюнцером в горные районы, и он начал читать его вслух:
«Страх божий прежде всего. Дорогие братья! доколе вы будете спать? Доколе вы будете противиться его святой воле? Вы говорите, он покинул вас? Но разве не учил я вас, что так и должно быть? Бог не может более открываться людям. Вы должны восстать, и если вы этого не сделаете, то все ваши страдания, все ваши тяжкие жертвы будут напрасны. И вы будете обречены на еще худшие страдания. Истинно говорю вам: не захотите пострадать по воле божией — пострадаете по воле диавола. Так берегитесь же. Не будьте малодушны, не поддавайтесь слабости. Не льстите безумным мечтателям и безбожным злодеям. Поднимайтесь и выходите на бой за дело господне. Время приспело. Убеждайте братьев ваших не пренебрегать указующим перстом божьим, не то всем вам грозит гибель. По всей Германии, Франции, Италии уже поднимается народ. Мастер начал игру Злодеям пришел конец».
И далее:
— «Пора! Злодеи дрожат от страха. Убеждайте братьев ваших, чтобы они объединялись и держали оружие наготове. Настала пора бросить громкий клич: вперед, вперед, вперед! Не поддавайтесь чувству сострадания, несмотря на все увещания Исава. Оставайтесь глухи к мольбам нечестивцев. Они будут просить, молить и стараться разжалобить вас, как дети. Не поддавайтесь жалости, как это повелел господь через Моисея (Книга Моисея, 5,7). И нам, нам он повелевает то же самое. Поднимайте народ в городах и селах, особенно же рудокопов и других добрых людей. Проснитесь же наконец! Вперед, вперед, вперед, пока железо горячо! Не давайте вашим мечам остыть от крови. Куйте ваши пики на наковальне Нимрода и повергните эту башню наземь. Пока злодеи живы, не освободиться вам от страха человеческого. Пока они правят вами, не бывать над вами милости господней. За дело, за дело, за дело, пока еще не поздно! Вами предводительствует бог. Следуйте за ним. Как написано в Евангелии от Матфея, 25. Так не робейте же, с вами бог и крестная сила. Ибо сказано в Часослове, 2, 2: «И воззвал господь: Отрешитесь от страха и не трепещите перед сонмищем врагов». Ведь не ваша идет война, а господня. И вы не одиноки в этой борьбе. Так воспряньте же духом. Над вами распростерта оберегающая длань господня. И, услышав эти слова, Иосафат пал ниц. Итак, с божьей помощью укрепитесь в истинной вере и освободитесь от страха перед людьми. Аминь. Совершено в Мюльгаузене, в лето 1525-е. Томас Мюнцер, божий воин против нечестивых».
Возбуждение слушателей, неоднократно прерывавших Венделя Гиплера восклицаниями, теперь прорвалось наружу. У читавшего пересохло в горле, и он приложился к кубку.
— За дело! за дело! за дело! отныне это и наш девиз! — воскликнул, сверкая глазами, Флориан Гейер. — Но, дорогие друзья, для победы, кроме мечей, необходимо еще кое-что. Наши враги сильны не столько оружием, как деньгами. Деньги — азбука войны, а у нас их-то и нет. Я предлагаю, чтобы деревни, обладающие крупными общинными угодьями, заложили эти угодья. Потом мы их легко выкупим, отобрав именья монастырей и капитулов.
— И дворян, — прибавил Симон Нейфер.
— Ближе к делу, друзья! — крикнул Вендель Гиплер. — Стоит ли нам сегодня ломать себе голову над тем, что будет потом?
Бретгеймский Мецлер бросил на него взгляд исподлобья:
— Отберем золотые и серебряные сосуды у церквей.
— И денежки из их кружек, — закончил его брат.
— Этому не бывать! — резко крикнул Флориан Гейер. — Руки прочь от церковных кружек! Это деньги вдов и сирот. Мы должны передать их на сохранение надежным людям в приходах. Что мы малость порастрясем монастыри и церкви, разжиревшие от пота народного, это только справедливо. Но ваши предложения могут привести к повальному грабежу, если мы не установим строжайший порядок. Боже упаси, чтобы мы превратились в грабителей и воров.
— Но произволу господ надо положить конец! — крикнул Симон Нейфер и, как бы подкрепляя свои слова, стукнул кулаком по столу.
— Гейер прав, — заявил бывший канцлер. — Мы должны принять его предложение и в будущем строго соблюдать порядок, чтобы не допустить расхищения народного достояния. — И он продолжал при всеобщем молчании. — Так позаботимся же, дорогие друзья, чтобы евангельская свобода не осталась пустым звуком. Придя в Иерусалим, господь первым делом выгнал из храма торговцев, менял и ростовщиков. Чтобы освободить народ, он ниспроверг церковь, где господствовали священники. И что же, на месте иудейской церкви воздвигли свою церковь римские попы, которые были нисколько не лучше прежних. Теперь, когда Реформация занесла топор над корнями римской церкви, не допустим, чтобы на месте римских воцарились лютеранские попы. Охоты у них, кажется, хоть отбавляй. Но если мы не сумеем закрепить нашу победу и утвердить евангельскую свободу, уничтожив застарелые злоупотребления и установив новый порядок в империи, церкви, ремеслах, промыслах и торговле, то у нас опять отнимут свободу, и напрасны будут все принесенные жертвы, вся пролитая кровь.
— Итак, за дело, за дело, за дело! — крикнул Флориан Гейер и застучал мечом об пол. Остальные звякнули кубками, повторяя боевой клич.
— И вы, как испытанный в боях воин, поведете нас, ротенбуржцев, вперед, — сказал Симон Нейфер. — Не так ли?
— Поживем — увидим, — отвечал, улыбаясь, рыцарь Флориан. — Мне известно, что ваши ротенбуржцы неплохо владеют мечом. Когда шесть лет тому назад я выступал против герцога Ульриха, самыми надежными ребятами в моем отряде были ваши земляки.
— Так, верно, вы знаете Большого Лингарта? — спросил оренбахский староста.
— Шварценбронского великана? Как же! — воскликнул рыцарь, и его суровое лицо озарилось улыбкой. — Ведь он тоже ходил против архиепископа Трирского, и с той поры я его должник. Во время похода нас донимала гнетущая жара, и люди и кони изнемогали от жажды. У меня тоже язык присох к гортани. Как-то раз на привале подходит ко мне Бреннэкен — это его настоящее имя — с полным шлемом воды. Правда, он зачерпнул ее из канавы, и вода была мутная и теплая, но все-таки — спасенье. Приходилось нам терпеть и лютый голод. А у Бреннэкена был ломоть хлеба да луковица, и он поделился со мной. В жизни я не едал ничего вкуснее! Дайте мне рать из таких ребят, как он, и мы самого дьявола загоним в преисподнюю, не говоря уже о дворянах и попах.
— Он и теперь себя покажет, можете не сомневаться, — вставил староста.
— Охотно верю, — согласился рыцарь Флориан. — Однако пора по домам. Кажется, о главном перетолковали, и уже светает.
Сквозь промасленную бумагу в окнах забрезжил рассвет. Георг Мецлер задул лучину и вышел из комнаты разбудить работника, чтобы тот седлал лошадей. Затем он вернулся со жбаном подогретого вина, заправленного пряностями, чтобы гости подкрепились в дорогу. Первым собрался рыцарь Флориан: ему предстоял самый дальний путь.
— Итак, до свидания в Шентале, в судное воскресенье, дорогие соратники и друзья! — крикнул он вышедшим на крыльцо проводить его, крепко пожал каждому руку и вскочил в седло. Под ним был великолепный вороной жеребец, с мощным крупом и искрометными глазами.
— Когда буду проезжать мимо цистерцианского монастыря, не заказать ли там для наших войск квартиры? — пошутил Вендель Гиплер.
— Пусть тамошние монахи хорошенько выстирают к нашему приезду свои сутаны, а больше мне ничего не надо, — отвечал ему в тон Флориан Гейер и пришпорил коня.
Он пересек лес и выехал на Шюпфергрунд — зеленую равнину, убегавшую к подножию холмов, покрытых виноградниками. Тут и там крестьяне подвязывали лозы к шестам, подрезывали засохшие побеги. В воздухе было тепло, как в середине апреля; жаворонки заливались в синеве. Среди равнины широкой лентой извивался Таубер. На противоположном берегу, по склонам горы, увенчанной лесом, громоздился городок Кёнигсгофен, опоясанный кольцом крепких стен. На нашего одинокого всадника, пустившего своего горячего коня мелкой рысцой, приветливо глядела прилепившаяся на склоне белая часовня. Утреннее солнце обливало потоками жидкого золота и темнеющие вдали горы, и стены и башни городка, и сверкающую ленту реки, и отлогую долину. И Флориан Гейер подумал, что недалек тот день, когда над всеми горами и долинами его родины воссияет солнце свободы.
— Н-да, так вы думаете, что он и впрямь забудет про свои золотые шпоры? — обратился к Венделю Гиплеру брейтгеймец, глядя вслед ускакавшему Флориану Гейеру. Тот недовольно наморщил высокий лоб и сказал:
— Одного он никогда не забудет, в этом я убежден, — благородных стремлений своего сердца. Его девиз Nulla crux — nulla corona, что значит: «Нет креста — нет и венца». Единственный венец, ради которого он не остановится ни перед какими жертвами, — это венец свободы для угнетенных, свободы для своего народа.
— Уж вы не прогневайтесь на меня за недоверие, — возразил Леонгард Мецлер, — только вы сами знаете, как дерут с нас шкуру господа, а где силой взять не могут, там улещивают посулами да обещаниями. Потому нам ни одному дворянину верить не приходится.
— Поверь скорей черту! — раздался женский голос.
Ни Мецлер, ни другие не заметили, как из-за угла появилась невысокая, костлявая, бедно одетая старуха и остановилась, опершись на посох. Седые растрепанные волосы выбивались из-под черного платка. Изможденное лицо, изборожденное морщинами, почернело от загара. Но черные глаза, пристально глядевшие на мужчин, казались на удивленье молодыми. В них горел тревожный огонь.
— А, это вы? — изумленно воскликнул Вендель Гиплер. — А куда девался Еклейн Рорбах? Почему он не показывается? Ну, заходите.
И он пошел вперед. При упоминании о Рорбахе Симон Нейфер смекнул, кто эта женщина, и Георг Мецлер, удивленный не меньше Гиплера появлением старухи, подтвердил правильность его догадки. Да, это была Черная Гофманша, бабка Ганса Лаутнера.
— Еклейн не мог выбраться, — объяснила она, протянув хозяину руку, и с явной жадностью осушила предложенный ей кубок вина. Ничего удивительного, что ей хотелось пить. Ведь она шла всю ночь, без отдыха, а от Бекингена конец был немалый. Но усталости в ней не было заметно.
Лёвенштейнцы собрались прошлой ночью, — продолжала она, — и прислали за ним, чтобы он растолковал им грамоту с тезисами. Вот и пришлось ему отправиться за Неккар. Но долго ли еще мне дожидаться, пока канцлер удосужится объяснить, на чем порешили?
— Эх, матушка, знать, за свой долгий век ты так и не научилась терпенью, — улыбнулся Вендель Гиплер.
Она вперила в него свой блестящий взор и проговорила.
— Терпенья у меня больше вашего, хотя уже много лет сердце мое жаждет мести, как олень воды. Но теперь, кажется, моему терпенью скоро придет конец. Ведь гейльбронцы уже взялись за ум и нас тянут за собой.
— Что ж, можешь передать Рорбаху, что в судное воскресенье мы устраиваем большой парад войскам перед Шентальским монастырем на Яксте, — медленно отчеканивая слова, отвечал Вендель Гиплер.
У нее перехватило дыханье и вырвался протяжный стон, В глазах зажглось темное пламя. С минуту она сидела неподвижно. Все хранили молчание. Потом она вытерла рот костлявой рукой, поднялась и сказала:
— Мецлер, ради бога, дай мне, если можешь, кусок хлеба.
— Сделай милость, — поспешно отозвался тот. — Но неужто ты уже собралась уходить? Отдохни немного, дело не к спеху.
— Нет, мне нужно передать весточку одному человеку, — возразила она, глядя куда-то вдаль. — Он должен быть с нами, когда мы обнажим меч Гедеона. У меня нет денег на гонцов, вот и приходится ходить самой.
— Нет, я не могу допустить, чтобы вы выбивались из последних сил, — промолвил Вендель Гиплер. — У меня еще хватит пфеннигов, чтобы рассчитаться с гонцом. Куда вам нужно послать, если это не секрет?
— В Ротенбург, к внуку.
— Господи боже мой! — простонал Симон Нейфер.
— В таком случае за гонцами дело не станет, — воскликнул бывший канцлер. — Оба наших друга из Ротенбурга.
— Я хорошо знал вашего внука Ганса Лаутнера, — с трудом сдерживая волненье, проговорил Симон.
Слабая улыбка на мгновенье озарила морщинистое лицо старухи и тотчас погасла.
— Ты знал его? Разве его больше нет в Ротенбурге?
— Разве я это сказал? — неуверенно отвечал Симон, стараясь избегать ее взгляда. — Конечно, он там… и уж никогда не вернется… сколько бы вы его ни звали… Он не услышит вас. Наш творец призвал его к себе. Призвал слишком рано. Он умер.
Глаза Черной Гофманши, неподвижно устремленные на Симона, широко открылись и, казалось, хотели испепелить его своим огнем. Лишь спустя некоторое время у нее вырвался крик: «Неправда, неправда!» — и она повторяла это слово, цепляясь за него, как утопающий за соломинку. Но и эта соломинка переломилась, когда Симон, не отвечая, устремил на нее полный сострадания взгляд. С протяжным стоном опустилась она на скамью и застыла в неподвижности, глядя перед собой невидящими глазами. Вендель Гиплер хотел из сочувствия пожать ей руку, но она вздрогнула всем телом и, вскинув руки к потолку, простонала:
— Если есть бог на небесах, как он мог это допустить? Умер! Умер! — И, подойдя к старосте, она повелительно сказала: — Я хочу знать, как это случилось.
Симон обстоятельно рассказал ей обо всем, и она выслушала его, впитывая в себя каждое слово и не отрывая горящих глаз от его рта. Лишь один раз она прервала его восклицанием, когда тот назвал имя убийцы — имя юнкера фон Розенберга. Затем он рассказал о том, какое возбуждение вызвала смерть Лаутнера в Ротенбурге, и о зажигательной речи, произнесенной Карлштадтом на его могиле.
— И магистрат допустил это? — изумился Вендель Гиплер.
— О, ему хотелось избавиться от дьявола, напустив на него Вельзевула, — отвечал староста, презрительно пожав плечами. — Но дьявол-то был не кто иной, как доктор Дейчлин, который открыто издевался с кафедры над епископским интердиктом и довел наших бюргеров до белого каления. Тут отцы города спохватились и в ту же ночь — а дело было в среду на первой неделе поста — послали отряд в дом стригальщика Килиана Эрлиха, где скрывался Карлштадт. Стражники чуть свет вломились к нему, перевернули все вверх дном, но птичка уже упорхнула. Еще накануне вечером его увел почетный бургомистр. Магистрату ничего не оставалось, как объявить по городу под бой барабана, что всякому, кто осмелится дать убежище Карлштадту, грозит тюремное заключение.
Черная Гофманша не слышала из сказанного ни слова. Она сидела с потухшим взглядом. Рыданья сотрясали ее тело, но слезы не лились из глаз. Столько горя она вынесла на своем веку, что выплакала все слезы до последней капли. Наконец она подняла поникшую голову, обвела взглядом присутствующих и простонала:
— Умерли, умерли все, даже он, мой мститель!
— Розенбергу не уйти от мести, помяните мое слово, — успокоил ее Симон Нейфер. — Его собственные крестьяне только и ждут, чтоб отплатить за живодерство.
Старуха отвечала горьким смехом:
— Надо было начать с его кровопийцы — отца. Но делать нечего. Всех их надо уничтожить — и дворян и попов. Так угодно богу, и он послал меня свершить его волю. Земля разверзнется под ними, и их пожрет геенна огненная, как пожрала Корея[83].
Ее тощая фигура выпрямилась во весь рост, костлявый кулак угрожающе поднялся над головой, глаза загорелись мрачным огнем. Глядя на нее, мужчины содрогнулись.
Глава вторая
Под влиянием растущего возбуждения среди горожан после выступления Карлштадта на кладбище магистрат не решился привести в исполнение епископский интердикт, и командор Христиан и доктор Дейчлин продолжали беспрепятственно проповедовать в городе. Тем решительней отказались Эразм фон Муслор и Конрад Эбергард внять требованиям прекрасной Габриэлы, и жалоба на Цейзольфа фон Розенберга, составленная городским писцом Томасом Цвейфелем, была отправлена в имперский верховный суд. Встревоженная Габриэла решила повидаться с матерью Лампертой. Может быть, от монахини она узнает, как принял эту весть ее племянник, и через нее сумеет повлиять на Бешеного Цейзольфа.
В воскресенье на третьей неделе поста она отправились в монастырь. В городе был рыночный день. Проходя через рынок, где крестьянки продавали привезенную из деревень снедь, она слышала немало громких и далеко не лестных восклицаний по адресу «гордой франтихи». Но она прошла мимо, не обращая на них никакого внимания, словно это к ней и не относилось. Да и в самом деле, как могли эти женщины, обычно такие смирные и даже подобострастные, посметь так невежливо, нет, просто нагло говорить о ней!
Мать Ламперта приняла бывшую питомицу в своей келье, если так можно было назвать светлую, веселенькую комнату в два окна, выходящих в сад. Элегантная, по тогдашним представлениям, мебель, разные рукоделия, вышивки, сувениры, полученные от ее воспитанниц, всякие безделушки в благочестивом вкусе на изящных полочках и, наконец, увитая венцом из искусственных белых роз голова Христа над скамеечкой для коленопреклонений, — все это очень мало напоминало монастырскую келью. Мать Ламперта вкушала отдохновение от трудов праведных, откинувшись в мягком кресле с высокой спинкой и вытянув ноги на расшитой подушке. При виде гостьи она сделала кисло-сладкую гримасу и небрежно-снисходительно сунула ей пухлую руку для поцелуя. Ее «милое дитя» явно впало в немилость. Правда, племянник был сам виноват в крушении ее планов добыть ему богатство Габриэлы, но красотка явилась кстати: будет на ком отвести душу.
Досада матери Ламперты усугублялась еще и тем, что теперь она была лишена неофициальных посещений племянника. Его грубый цинизм всегда был лакомым блюдом для подвизавшейся в благочестии матери игуменьи. С тех пор как магистрат замуровал калитку, выходившую на долину Таубера, юнкер Цейзольф лишился тайного доступа в монастырь. Преподобная мать игуменья дала почувствовать Габриэле свою досаду холодным тоном и брошенными вскользь намеками. Но еще сильнее, чем досада, говорило в ней любопытство. Ей не терпелось услышать от самой Габриэлы все подробности неудавшегося похищения. Юнкер Цейзольф ничего не написал ей об этом, а проникшие в монастырь сплетни не удовлетворяли мать Ламперту. Она требовала от Габриэлы все новых и новых подробностей и, слушая ее, наслаждалась. Нагнувшись совсем близко к лицу девушки, сидевшей напротив нее на низкой скамеечке, она смаковала рассказ не только слухом, но и глазами и губами. Ее белое, румяное лицо сияло от удовольствия. Похищение! Какое пикантное блюдо!
Благочестивая мать игуменья откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.
— Но эта история еще будет иметь эпилог, — закончила свой рассказ Габриэла.
— Ты говоришь о жалобе? Я слышала, — безмятежным тоном отвечала монахиня.
— Я никому не рассказывала, что встречалась с юнкером здесь, — возбужденно продолжала Габриэла. — Теперь это выплывет наружу и даст повод к разговорам, одинаково неприятным и для монастыря, и для моей репутации. И без того разве не ужасно, что из-за этого процесса мое имя будут трепать на всех перекрестках и все кому не лень будут перемывать мне косточки.
— Не волнуйся попусту, дорогая, — попыталась успокоить ее мать Ламперта. — Против члена имперского рыцарства они ничего не посмеют.
Прекрасная Габриэла так и сорвалась с места.
— Значит, юнкер может безнаказанно оскорблять мою честь? — гневно воскликнула она.
— Вовсе нет, вовсе нет! — поспешила успокоить ее монахиня. — Но из-за такой красавицы, как ты, милое мое дитя, вполне простительно, когда мужчина теряет голову. При всем своем бешеном нраве Цейзольф все же дворянин и никогда бы не оскорбил твоей чести. Конечно, он виноват, но его толкнула на этот поступок безумная страсть. Естественно, что ты на него сердишься. Он должен просить прощения. Предоставь мне все уладить.
В то время как мать Ламперта улещивала свою посетительницу, крестьянки на рынке словно белены объелись. Они завели такой разговор, что, будь на их месте мужчины, им за столь откровенные и дерзкие речи не миновать бы тюремной башни. Они насмехались над магистратским служащим, взимавшим рыночный сбор, а тот тоже не оставался и долгу и отвечал им не меньшими грубостями. Они так расходились, что отпускали колкие словечки по адресу местных патрицианок, пришедших за провизией, и поносили их на чем свет стоит, а две пожилые крестьянки даже заспорили о том, в каком из патрицианских домов на рыночной площади они поселятся, когда придет их час. Должно быть, под влиянием ранней весны в них вселился бес.
Этот бес не оставил в покое и Кэте, когда она принесла на рынок масло и яйца и безмолвно делала свое дело. Со дня смерти Лаутнера девушка сильно переменилась. Вокруг ее рта залегла горькая складка, которую тщетно пытался разгладить Каспар, когда наведывался в Оренбах. Все его шутки не могли вызвать у Кэте не только смеха, но даже улыбки. Когда он заводил разговор о Гансе, она просила его замолчать и сама почти ни с кем не разговаривала, даже со своими. Она вся ушла в работу, словно хотела извести себя вконец. Лишь однажды она как бы очнулась от забытья. Вернувшийся из Балленберга Симон рассказал ей про Черную Гофманшу. Полные щечки девушки залила яркая краска, а высокая грудь стала вздыматься, будто ей не хватало воздуха, когда она слушала его.
Она раньше обычного распродала все, что принесла на рынок. Вызывающее поведение ее товарок отпугивало покупательниц, не желавших за свои же деньги выслушивать грубые насмешки. Прежде чем выйти из города, Кэте пошла на могилу друга. Она еще стояла у свежего холмика, обливаясь слезами, как вдруг шелест и шуршанье шелковых юбок заставили ее повернуть голову. Через кладбище шла прекрасная Габриэла. Она возвращалась из монастыря и уже хотела пройти мимо, не обращая внимания на эту незнакомую бедно одетую девушку, как вдруг Кэте преградила ей путь.
— Ах, это ты? Ты пришла кстати! Смотри, вот могила Ганса Лаутнера, которого ты убила.
Подумав, что перед нею сумасшедшая, Габриэла отступила в сторону, но Кэте вцепилась ей в плечо, и та не могла вырваться.
— Ты дьявол, а не женщина! — кричала Кэте, сверкая глазами и обдавая ее своим горячим дыханием. — Ты его околдовала, и, как он ни старался, он не мог освободиться от твоих чар.
— Опомнись, — сказала Габриэла, поборов испуг. — Выслушай меня. Я тебя не знаю и ничего тебе не сделала. Твой покойный друг пришел мне на помощь. Это все, что я о нем знаю. Если хочешь отомстить за него, ступай в Гальтенбергштеттен. Его убил юнкер Цейзольф.
— Ничего о нем не знаешь, а венец его не ты носила? — яростно воскликнула девушка. — Ты высосала у него из сердца всю кровь, как вампир. Да что для вас, знатных распутниц, какой-то бедный парень? А для меня он был всем, моей радостью, моим счастьем. Ты отняла его у меня, ты разбила, растоптала мое счастье. Становись на колени перед его могилой, проси у него прощенья. На колени! Или тебе отсюда не уйти!
Габриэла отчаянно рванулась из рук Кэте, вцепившейся в ее плечо словно клещами, и стала громко звать на помощь, но девушка не выпускала ее.
— Не хочешь? Так пусть же его могила напьется твоей крови! — прошипела обезумевшая Кэте и левой рукой выхватила нож, висевший у нее в чехле на поясе.
Воспользовавшись этим, Габриэла вырвалась и побежала, продолжая пронзительно кричать. Между тем на ее крики сбежались люди, проходившие через погост и по соседней улице. Им удалось схватить Кэте и обезоружить. Справиться с нею было не так-то легко. Не из пустого хвастовства Кэте говорила, что может помериться силой с любым парнем в деревне. В то время как ее соперница продолжала бежать без оглядки с развевающимися волосами, люди, выросшие как из-под земли вокруг Кэте, схватили ее и повели к дому городского судьи.
Односельчане, воротившиеся с рынка, разнесли весть о случившемся по всему Оренбаху. Преподобный отец Непомук узнал об этом от своей стряпухи, девицы Аполлонии, сидя за обедом после трудов праведных в исповедальне. Трапеза состояла из отменно приготовленной щуки, и его преподобие громко причмокивал от наслаждения толстыми губами, а его жирное лицо с многоэтажным подбородком лоснилось. Его совесть нисколько не отягощало то обстоятельство, что эти замечательная щука была довольно темного происхождения, так как эндзейские крестьяне выловили ее из казенного пруда под покровом ночи. Официально это ему не было известно, и он остерегался спрашивать, откуда она взялась, как не спрашивал, откуда бралась оленья или козья нога, которыми его иногда потчевала девица Аполлония. Ее весна давно отцвела, красотой она никогда не отличалась, но эти недостатки с лихвой искупались пышностью форм да игривым огоньком в глазах. И с чего это ей, столь отменной стряпухе, вздумалось преподносить его преподобию такую новость во время таинства рыбоядения? Долго ли подавиться костью? Да и какое ему дело до этой Кэте? Но щука была так вкусна, так пикантна, что он, отправив в рот очередной кусок, с благодарностью уставился заплывшими жиром глазками на чародейку и произнес:
— Поистине превосходная щука, Польхен.
И так как по своей природе рыба любит плавать, он потянулся к жбану с вином и хватил изрядный глоток.
— Умерьте ваш пыл, — холодно остановила его девица Аполлония. — Десятинную кислятину, что стоит в погребе, вы в рот не берете, а уж этой прелести вам, почитай, больше не видать как своих ушей. Конечно, вам и дела нет, что Кэте Нейфер совсем рехнулась. Да она и всегда была не в себе. Слишком уж высоко задирала курносый нос и на людей смотрела как на пустое место. Но, может, вам интересно будет узнать, что эта наглая особа, кабатчица, наотрез отказалась в долг давать. Брать, мол, берете, а платить — не платите. Пора и честь знать.
Отец Непомук в смущении отставил жбан. Девица Аполлония, упершись обоими кулаками в стол, продолжала:
— Нечего глаза таращить. Как аукнется, так и откликнется. Думаете, можно драть с крестьян сколько влезет? Ан нет! Вот погодите, посадят они вас на хлеб да на воду! Да с вами говорить, что в стену горох. А ведь вы сами крестьянского помету и должны бы их знать. Я ведь который раз вас предупреждала. Давать, что полагается, еще дают, но в обрез и самую что ни на есть дрянь. И, сдается мне, скоро и вовсе перестанут. Сунешься в деревню попросить какую малость, что получаешь в ответ? — одни косые взгляды. Молишь, молишь, просто моченьки нет, чтоб не уйти назад с пустыми руками.
— Но, Польхен, что же я могу поделать? — простонал его преподобие. — Не могу же я допустить, чтобы они отпали от истинной веры и бросились в пасть диавола?
— Скажите на милость! А чем же вы им можете помешать? — нетерпеливо оборвала его Аполлония. — Если уж их так тянет, туда им и дорога. К черту на рога. Ведь каждому жить надо. А святым духом жив не будешь. И стоило вам убегать от отцовских свиней, увязавшись за бродягой-учителем?
— Ох, грехи наши тяжкие, — простонал отец Непомук, воздевая очи к почерневшему потолку. — Да еще нам, малышам, приходилось побираться и воровать для учителя, а на нашу долю доставались одни колотушки да голод.
— Должно быть, от вас и тогда никакого проку не было, — безжалостно отрезала Аполлония. — Все равно как в среду на страстной неделе, когда вы так расходились во время проповеди. Зачем вы рубите сук, на котором сидите? Зачем вы гладите оренбахцев против шерсти? Ведь они вас кормят и поят. Вот брат сельского старосты, тот тоже духовного звания, да проповедует так, как требуют прихожане. Теперь в деревнях так поступают очень даже многие попы, и крестьяне стоят за них горой и лезут из кожи вон, чтобы их ублажить. А вы чем хуже? Епископа боитесь? И не удивительно! С таким брюхом! Вот Дейчлина и командора епископ отлучил от церкви, а магистрат их пальцем не тронул, и ни один волосок не упал с их головы. Какого черта вы не можете ублаготворить этот мужицкий сброд? Чем вы хуже других?
— А Рим? А мой обет? Ты забываешь, Аполлония, мой сан, мое облачение…
— Ваше облачение протерлось до нитки, и на нем живого места нет от жирных пятен. А когда вы протянете ноги, мне придется со своим мальчуганом просить милостыню.
При упоминании об их ребенке, отданном на воспитание беднякам в Рейхардсроде, его преподобие свирепо замахал пухлыми руками и испуганно огляделся по сторонам.
— Проклятье! Как эти бабы не умеют держать язык за зубами! — запыхтел он и, из осторожности понизив голос, продолжал: — Одно я тебе должен сказать, Польхен, до Рима далеко, но с епископом Вюрцбургским проклятым еретикам не совладать. Еще увидим, чем все это кончится! Когда им дадут по белому посошку[84] в руки и выгонят на все четыре стороны, тогда у меня будет тепленькое местечко!
— Тепленькое местечко! — язвительно повторила она, смеясь. — Это у тебя-то? В крапиве ты сидишь, в крапиве и останешься. Да ты скорей обстрекаешь себе всю… ох! прости господи! с тобой долго ли до греха… чем снимешься с места. Или впрямь брюхо, твой бог, мешает тебе видеть, что творится на белом свете? Вся деревня ходуном ходит, особенно с той поры, как Пейфер воротился из поездки. Куда он ездил? Никто не знает. Но что ни день, кого-нибудь приносит нелегкая из других деревень и промеж них идут какие-то тайные дела. К исповеди из этой братии никто уже давным-давно не ходит, зато когда ни заглянешь в трактир, их там полно, как мух на меду.
— А мне-то что до них? — небрежно бросил отец Непомук.
— Пресвятая матерь божия, ему-то что! Ему-то что до того, что крестьянам начхать на него, на своего пастыря! Ведь они вас ни в грош не ставят, и, помяните мои слова, еще не то будет, если вы не возьметесь за ум, пока еще не поздно. Забьют они вам дверь колом в темную ночку, и вот будет весело, когда нам придется взять наше дитя за ручку в пойти побираться ради Христа по дорогам, как Концу Гарту с его детьми.
— Ты совсем спятила, Аполлония! — воскликнул Непомук Бокель, рассвирепев от испуга.
Но девица Аполлония в гневе опрометью выбежала из комнаты и так сильно хлопнула дверью, что стены задрожали. Его преподобие оставался некоторое время в оцепенении, а потом опять взялся за вилку. Но рыба совсем остыла, и, со вздохом оттолкнув тарелку, он снова придвинул к себе утоляющий все печали жбан. Облизывая мокрые от вина губы, он думал о том, что совет Аполлонии был не так уж плох. Она всегда давала ему хорошие советы. Но как подладиться к крестьянам, это было выше его разумения. Ибо что до нового движения, то в его толстую башку проникала лишь брань, которой осыпали Реформацию ее противники. «К черту проклятых еретиков, провались они в преисподнюю!» — облегчил он вслух свою душу, опять ухватился за жбан и осушил его до дна. Но вино оставило на душе тяжелый осадок. Кто знает, когда еще удастся ему потешить сердце добрым винцом? В горестном раздумье его заплывшие глазки забегали по скудно обставленной комнате, ища, что бы отдать в залог кабатчице. Но результаты были неутешительные. И в церкви у него сосуды из простой меди! Испугавшись этой греховной мысли, он перекрестился. Его взор погрузился в опустевший жбан, и его осенило! Может быть, ему удастся тронуть сердце толстой кабатчицы, если он сам испробует на ней силу своего красноречия? Тут он вспомнил и о фунте воску, которого до сих пор не внес церкви Симон Нейфер.
Он уже было взялся за шляпу, да подумал, что, пожалуй, не застанет Симона дома. Тот, конечно, как и все крестьяне, на пахоте. Зайти к нему, чтоб утешить Урсулу в беде, ему и в голову не приходило. Напротив, его поповская логика заставляла его видеть в этом несчастье Нейферов божью кару над еретиками, не желавшими воздавать церкви положенной ей мзды. Такие чувства обуревали душу его преподобия, когда, пересекая площадь, где шумно резвились ребятишки, он увидел Каспара Эчлиха, направлявшегося к усадьбе Симона. Каспара считали в деревне женихом Кэте.
С тяжелым сердцем нес им Каспар печальную весть. Опять он является к ним как ворон, зловещий вестник несчастья! Тут к нему подбежал маленький сынишка Симона, игравший на площади, и, сверкая глазенками, схватил его за руку и затараторил:
— Ты знаешь, Кэте заперли в башню, она кого-то убила.
И вихрем умчался прочь. Как-никак для Каспара было утешением, что в Оренбахе уже знают обо всем. Под старой липой, усеянной молодыми коричневыми почками, сидел, греясь на солнышке, дедушка Мартин. А бедняжка Кэте, подумал Каспар, томится в сырой и холодной Женской башне. Той самой, что возвышается над городской стеной, прямо насупротив короткой и широкой Гофштрассе. Туда отвели бедняжку по приказу городского судьи после первого допроса. Шум, поднятый сопровождавшей ее толпой зевак: женщин, уличных мальчишек, нищих, — достиг мастерской Эчлиха. Каспар и его отец выскочили на крыльцо. Как раз в эту минуту двое стражников вели Кэте мимо ворот. Перепуганный насмерть Каспар окликнул ее, но она, видимо, не слышала. Он бросился к ней, но стражники грубо оттолкнули его. Тут Кэте обернулась, — вся кровь прихлынула к ее лицу, — и кивнула ему. Когда тюремная калитка растворилась, чтобы пропустить свою жертву, Каспар пытался проскользнуть вслед за Кэте, но его отшвырнули назад. Ему было больно не столько от удара алебардой, нанесенного ему дюжим стражником, как от сознания, что сердце Кэте все еще принадлежит умершему и что все его усилия добиться ее руки напрасны.
— Горемычная! — сокрушенно произнес старик, когда Каспар рассказал ему обо всем, что видел. — И как раз теперь, в такое время!
Они застали Урсулу во дворе. Она мыла кухонную посуду, а ее маленькая дочурка гонялась за воробьями.
— Мы уже все знаем, — сказала Урсула подошедшему Каспару. — Ах, горемычная! Только этого недоставало. — Слезы выступили у нее на глазах. — Заходи же в дом, — продолжала она, утирая глаза краем передника. — Я сейчас приду. Там хозяин с Икельзамером.
Когда Каспар вошел в горницу, старый Мартин рассказывал сидевшим за столом то, что узнал от Каспара. Мужчины поздоровались молча, чтобы не прерывать старика. Симон был мрачен, как никогда. За последнее время он всей душой привязался к сестренке, которая была на много лет моложе его. Она укрепляла в нем волю к борьбе, и он делился с нею всеми своими заботами. Жене он тоже доверял, но, озабоченная будущим детей, она невольно сдерживала его, ослабляла его решимость. И чтобы не увеличивать груз тяжких дум, одолевавших ее на каждом шагу, он многое от нее скрывал или поверял ей, смягчая.
— А ты знаешь, как они встретились на погосте и что там произошло? — спросил он Каспара, когда старик закончил свой рассказ.
— Я знаю только одно, — решительно произнес Каспар, отрицательно покачав головой, — нельзя допустить, чтобы Кэте погибла, и разрази меня гром, если я не выручу ее.
Симон переглянулся с Икельзамером и спросил:
— Как же ты это устроишь?
Каспар еще и сам не знал как. У него немало друзей среди подмастерьев-суконщиков, и они помогут ему справиться со стражником.
— Да и здесь, в деревне, надо думать, за смелыми парнями дело не станет, — сказал он, обращаясь к Икельзамеру, — чтобы помочь мне освободить Кэте. Нужен только удобный случай.
— Да, уж такие парни найдутся, — с многозначительной улыбкой отвечал сельский писец.
— Насилие, вечно насилие! — со вздохом произнесла вошедшая в комнату хозяйка.
Старик Нейфер, сидевший на лежанке сгорбившись и опершись руками на колени, выпрямился и сказал:
— Ты бы лучше помалкивала, Урсель. Что поделаешь, если для нас, бедняков, нет другого лекарства. Ведь такой ранней весны, как нынче, я за весь свой век не упомню. Знать, это перст божий указует нам, пахарям, что близок день, когда прорастет семя свободы.
— Держи карман шире, получишь, как наша Кэте от Нейрейтерши, — протянула жалобно крестьянка и вернулась к прерванной работе.
— Мы найдем для Кэте хорошего защитника, — крикнул ей вслед Симон.
— Я знаю одного, — сказал Каспар, — только лучшего, чем меч, не найти.
Пауль Икельзамер, смеясь, хлопнул его по плечу, а Симон, который сидел со скрещенными на груди руками, произнес:
— Мы как раз толковали об этом с Икельзамером. Только не забегай вперед. Потерпи немного. В будущую среду сойдемся в «Медведе» и там решим сообща.
Разговор перешел на ротенбургские дела. Каспар, у которого немного отлегло от сердца, отправился домой. Симон, рано поужинав, вышел на площадь. Там было оживленней, чем обычно. Дело было накануне воскресенья, и к тому же судьба Кэте взволновала всех. Пауль Икельзамер остановился, разговаривая с молодежью. Симон отвел в сторону второго старосту, Венделя Гайма.
— Ну как? — спросил он. — Ты решился примкнуть к нашему делу или нет? Ты все боялся, что нас предадут. Теперь уже все приняло такой оборот, что, даже если на нас донесут магистрату, все равно ничто не изменится и ничто нас не удержит. Давай-ка сядем да потолкуем.
Симон повел его к скамье под липой; на бледном весеннем небе уже одна за другой загорались звезды. Усадив его, он начал рассказывать о соглашении, заключенном в Балленберге. Об этом соглашении он вместе с Большим Лингартом уже оповестил многие деревни в ротенбургской округе. До всеобщего восстания, назначенного на судное воскресенье, оставалось еще почти две недели, а из Айшгрунда Бухвальдер уже дал знать, что несколько деревень в маркграфстве Ансбахском поднялись под предлогом традиционной крестьянской «колбасной пирушки».
Вендель Гайм, слушавший с закрытыми глазами, поднял веки, сунул Нейферу свою жесткую, как терка, руку и тихо сказал:
— Согласен.
— Так и знал, что ты нас не подведешь, — подхватил Симон, крепко пожимая его руку. — При нынешних делах не будет большой беды, если мы, оренбахцы, выступим на несколько деньков раньше, чем другие села. Из-за моей сестры, понимаешь. Не можем же мы уйти в Шенталь, оставив ее здесь на произвол судьбы.
— Только… — начал было Гайм, но Симон тяжело оперся рукой на его колено и, понизив голос, продолжал:
— Тут нет никакого риска. Как только мы войдем в Ротенбург, к нам присоединятся цехи. Они хотят сбросить нынешний магистрат и поставить новый, чтобы этой знати там и духу не было. А без нашей помощи им не справиться. Это мне известно не только через моего дядюшку и Каспара, но и от Большого Лингарта, который поддерживает связь со своим шурином, Гансом Кретцером. Они хотят положить конец вековому произволу властей, да и мы не сможем опереться на город, если в магистрате засядут юнкеры вместе с толстосумами.
— Это и слепому ясно, — согласился второй староста.
— Так как же насчет сестры?
— Завтра после обедни дам ответ.
Глава третья
Лишь окончательно порвав с отцом, Макс Эбергард понял, как много для него значит любовь Эльзы. Лишь теперь ему открылось все богатство ее души. Сладостное опьянение первых дней мало-помалу уступило место более глубокому чувству, поглотившему все горести, все печали и закалявшему его волю к борьбе с враждебными силами. Настал час, символически изображенный на его перстне. Дело, конечно, не в том, чтобы с улыбкой на устах протянуть любимому меч, снаряжая его в бой, как когда-то она себе представляла; важно поддерживать его в повседневной борьбе с превратностями судьбы, что ни день наносящей новые раны. И эта борьба требует от каждого не меньшей энергии и выдержки, чем подвиг в бою.
Разрыв с отцом не остался тайной для других после того, как Макс покинул родительский кров и поселился в скромном жилище на Вюрцбургской улице. Причин разрыва, конечно, не знали, но как бы то ни было, самый факт вызвал к нему недоверие патрициата, и на патрицианскую клиентуру теперь ему рассчитывать не приходилось. Но Макс охотно примирился с необходимостью ограничить круг своей деятельности крестьянской средой. Стать защитником слабых и угнетенных казалось ему благороднейшей задачей, и Эльза вполне разделяла с ним его убеждения. Своими примером он как бы хотел опровергнуть горькую истину, высказанную о его профессии Томасом Мурнером[85] в стихах о «Плутовском цехе»:
Взгляните на судейский клан — Нет в мире худших христиан: Умеют право гнуть, что дышло, — Куда свернул, туда и вышло, И правду в кривду превращать, И бедный люд закрепощать.К сожалению, Максу редко представлялась возможность претворять в жизнь свои замыслы. Дувшие в ту зиму и весну ветры свободы выдули из крестьянских голов весь сутяжнический дух. Стремление к более высокой цели овладело их чувствами и умами. При таких обстоятельствах надежда Макса соединиться с любимой отодвигалась все дальше и дальше. А тут еще на горизонте появилось повое облачко, угрожающее его счастью. Поражение герцога Ульриха заставило отца Эльзы устремиться со всей поспешностью по вновь избранному им пути, поскольку закрылся источник, из которого он привык получать денежные средства. Но гордость не позволяла ему принять условия, на которых магистрат был готов забыть старые счеты и восстановить его в правах гражданства. Сам Макс сообщил об этих условиях рыцарю Стефану, не будучи связан обязательством молчания. Ответом был язвительный смех. Ему, отпрыску древнего рода, другу князей, склониться перед этой дутой городской знатью?! Да еще теперь, когда своей боязнью принять решительные меры против Дейчлина и командора отцы города лили воду на мельницу его партии?! Никогда! Его самомнение, его дворянская спесь обнаружили себя так открыто, что у Макса кровь похолодела в жилах. Его неотвязно преследовала мысль: ну коли таковы истинные убеждения рыцаря, то каково же тогда его отношение к мелкому бюргерству и крестьянству?!
Однажды, когда разговор зашел о требованиях магистрата, фон Менцинген обозвал Макса оторванным от жизни мечтателем. Макса это расстроило и огорчило, но Эльза своим женским чутьем почувствовала приближение конфликта, угрожающего ее счастью. Запрятав поглубже свои опасения, она с удвоенным рвением принялась исцелять своей нежной рукой раны, нанесенные Максу ее отцом, и старалась примирить с ним своего возлюбленного. Когда она бывала с ним, Макс забывал о предчувствии надвигающейся беды и, любуясь ее нежным сияющим лицом, ее глубокими синими глазами, видел в них не скрытую тревогу, а лишь счастье всепоглощающей самоотверженной любви.
Когда Кэте бросилась с ножом на Габриэлу, фон Менцинген признал, что в этом следует видеть прежде всего проявление бьющей через край ненависти к угнетателям, клокочущей в груди угнетенных крестьян. Но отсюда он вывел заключение о необходимости еще строже держать народ в узде во избежание неисчислимых бедствий.
— Так вы за то, чтобы хлыст оставался прежний, — с горечью отозвался Макс, — а только ездок был бы другой.
— Полноте, доктор, вы неисправимый пессимист! — смеясь, возразил ему фон Менцинген.
У Макса чуть было не вырвался резкий ответ, но, почувствовав на себе взгляд Эльзы, он сдержался. Ничего удивительного, что, будучи знаком с действующими лицами, он не мог равнодушно следить за ходом действия. Какой злой рок сопутствует этой гордой красавице, некогда пробудившей его невинное сердце? Ведь из-за Габриэлы он порвал с отцом, из-за нее нашел себе преждевременную смерть этот талантливый ювелир, из-за нее, наконец, стала преступницей эта девушка, которую он видел у него на могиле. И он вспомнил, с каким презрением, с какой ненавистью говорила, возражая ему, о народе прекрасная Габриэла в день трех волхвов. И не народ ли, чьим тяжким трудом было создано ее богатство, вдохнул эту ненависть к ней в сердце Кэте? Нет, это не было простой случайностью! Судьба Кэте вызвала в нем еще большее участие после того, как он увидел, с каким достоинством держал себя ее брат на сходке в доме стригальщика на другой день после похорон Лаутнера.
Через несколько дней к Симону явился Каспар Эчлих, Он не хотел упустить ни малейшей возможности помочь Кэте. По его представлению даже сам внучек чертовой бабушки остался бы в накладе, если б вздумал тягаться с адвокатом. Он предложил Максу, о котором слышал еще от своего друга Лаутнера, все свои сбережения и высказал уверенность в том, что и Симон Нейфер, конечно, не поскупится, лишь бы освободить Кэте из тюрьмы.
Томас Мурнер за работой
С гравюры XVI в.
— Оставьте ваши сбережения при себе, — возразил Макс, — еще до вашего прихода я решил заняться этим делом. Но прежде расскажите мне все, что вам известно об этом покушении.
Каспар широко раскрыл глаза. Адвокат, и даром помогает бедняку в нужде, — да это просто какое-то чудо! Он посвятил доктора Эбергарда в историю любви Кэте и его покойного друга. Но о случае на кладбище он сам знал не больше других. Окрыленный надеждой и успокоенный, вышел он от Макса. Теперь пусть хоть сам черт ввяжется в дело, Кэте будет свободна.
На следующее утро, когда Макс сидел над письмом городскому судье, в котором уведомлял его, что берет на себя защиту Кэте, и просил разрешить ему доступ к заключенной, от ворот Висельников донеслись веселые звуки волынок и барабанов. Затем показались и музыканты. Впереди них, приплясывая, с флагом в руках, шел Ганс-Вурст[86]. Флаг на коротком древке то развевался над его головой, то, промелькнув под ногами, проносился за его спиной и, как большая птица, кружил в воздухе. Шут изгибался всем телом и, подпрыгивая, ловко подхватывал флаг. Игра с флагом и прыжки шута вызвали шумное одобрение толпы, сбежавшейся на веселые звуки музыки. За музыкантами шествовали в праздничных одеждах, с мечом на боку, десятка три крестьян во главе с Симоном Нейфером и Венделем Гаймом, которого Макс не знал. Позади них выступал Пауль Икельзамер с бело-красным знаменем Ротенбурга в руках, неизменным атрибутом каждого крестьянского празднества.
Под музыку и барабанный бой, с развевающимися знаменами и восторженными кликами шествие, сопровождаемое растущей толпой, подвигалось вперед. Войдя через арку ворот Белой башни во внутреннюю часть города, процессия пересекла Рыночную площадь и направилась к трактиру Габриеля Лангенбергера. При появлении нежданных гостей, быстро заполнивших оба просторных зала, дряблое лицо хозяина «Медведя» еще больше побледнело. Посетители бурно требовали вина; оренбахцы пришли с оружием, хотя масленица уже миновала и шел великий пост. К оренбахцам присоединились и крестьяне других деревень, в том число несколько бретгеймцев. Бюргеров было совсем немного: среди них выделялся Ганс Кретцер и некто Лоренц Кноблох, служивший в подворье иоаннитов. Он хотел было постричься в монахи, но потом бежал из монастырской школы и несколько лет бродил по свету в ландскнехтах. Хотя он и был женат, но жил по-холостяцки. В толпе он старался держаться поближе к Симону Нейферу, который оставался совершенно невозмутим среди этих людей, горланящих, поющих, хохочущих и звенящих кубками. Каспара Эчлиха одолевало лихорадочное нетерпение, и он то и дело кричал: «Вперед! Вперед!»
«Танец носов» в Гюмпельсбруне
С гравюры Мельтмана
Вдруг раздались возгласы: «Судья!» — и в дверях показалась коренастая фигура Георга Хорнера. Симон Нейфер смело пошел ему навстречу.
— Что случилось? Что тут происходит? Что вам надо? — загремел судья, стараясь перекричать толпу.
Водворилась тишина.
— Мы справляем по старинному обычаю общинную пирушку, господин судья, на штрафные суммы, собранные исправительным судом, — спокойно отвечал староста.
— И поэтому нацепили мечи, будто собрались на освящение церкви или на праздник! — воскликнул судья. — Это непорядок! Такого бесчинства я не потерплю!
— С разрешения вашей милости, господин судья, — униженно вставил Вендель Гайм, устремив на него преданный взор, — мы всегда покорны господской воле. Но неужто вы хотите уничтожить наши стародавние обычаи?
— Как бы не так! — послышались голоса из толпы.
— Так проявите послушание и незамедлительно удалитесь из города, — повелительно сказал Георг Хорнер.
— Что же это такое? Разве мы не вольны собираться на пирушку там, где нам угодно? Он хочет выгнать нас из города, который мы кормим своим тяжким трудом? Он хочет лишить нас наших прав?
— Молчать! — заорал судья. — А вы, староста, исполняйте ваш долг и выведите их из города.
— Помилуйте, господин судья! Обычай — то же право, и много постарше вашего приказа, — нахмурившись, отвечал Симон. — Мы не бесчинствуем. Мы не какие-нибудь бродяги, а оседлые крестьяне, платим подати до последней полушки, хотя подчас сами подыхаем с голоду.
— Так вы отказываетесь повиноваться? Хотите, чтобы я прибегнул к силе? — грозно спросил Хорнер.
Ответом был крик возмущения: «Так ты угрожать? Довольно с ним нянчиться! Всади ему нож в брюхо, Симон! Вперед, ребята! Вперед!»
Толпа загудела, забушевала, руки потянулись к мечам. Судья тоже схватился за рукоять меча, и дело дошло бы до драки, если бы Симон не поднял руку, приказывая всем успокоиться. Зорким взглядом он окинул толпу. Хотя Кретцер и Кноблох неоднократно заверяли его, что стоит им войти в Ротенбург, как горожане к ним присоединятся, однако бюргеры остались в стороне. Поэтому о выступлении против магистрата нечего было и помышлять.
— Моя жизнь мне не дорога, — заявил судья, — но моя кровь падет на ваши головы. Подумайте о своих женах и детях.
Его решимость подействовала на толпу.
— Нам наша жизнь ни к чему, хотя вы и ни во что не ставите нашу, — отвечал ему Симон Нейфер. — Мы только не хотим ради вашего удовольствия поступиться нашими стародавними правами.
— Расходитесь, расходитесь по домам! — прервал его судья.
— Ладно, мы уйдем, — сказал Симон, — да только прежде выпустите из тюрьмы мою сестру.
— Да, да, без Кэте не уйдем! — закричали в один голос оренбахцы.
— Будьте же благоразумны! Ведь это от меня не зависит. Это дело магистрата, — возразил Георг Хорнер. — Пусть мне прикажут, и я хоть сейчас освобожу девку.
— Так добудьте приказ магистрата, — крикнул Пауль Икельзамер, а остальные заорали:
— Без Кэте не уйдем!
— Да, да, не давайте себя морочить! — подзуживал толпу Лоренц Кноблох из задних рядов. А Вендель Гайм жалобно прогнусавил:
— Не гоже, ваша милость, так жестоко поступать с бедными людьми. Мы хоть к хорошему обращению и не привычны, а все же неладно получается.
— Ну, поговорили, и хватит! — крикнул Каспар Эчлих. — Добром мы Кэте не вызволим. Валяй к Женской башне.
— К Женской башне! К Женской башне! — закричали все.
Оренбахцы двинулись, тесня, расталкивая и подгоняя стоявших впереди. Отбросив Георга Хорнера в сторону, они неудержимым потоком хлынули на улицу.
— Остановите их, староста! — заорал на Симона судья, весь побагровев. — Если прольется кровь, вы будете в ответе.
Симон, не слушая, ринулся следом за толпой.
Но оренбахцам скоро пришлось остановиться. Узкий переулок, ведущий к замку, был прегражден отрядом городской стражи с алебардами наперевес. Прокладывать дорогу силой через эту железную изгородь было бы кровавой и безнадежной задачей. Знавшие толк в военном деле оренбахцы это учли, и кудрявый Икельзамер скомандовал: «Через площадь!» Все устремились туда во главе с Нейфером и Гаймом. Тем временем городской судья, который на всякий случай принял все меры еще перед тем, как отправиться к «Медведю», приказал стражникам следовать не спеша за крестьянами. Гончарная и Кузнечная улицы были перекрыты крупными отрядами городской стражи, и крестьяне, устремившись вперед, неминуемо подверглись бы нападению с тыла. Оставался лишь один путь — через площадь, куда они и обратились, одни с ругательствами и криками, другие — с затаенным бешенством. Но тут, заходя им в тыл с правого фланга, на площадь двинулся новый отряд стражи, тогда как еще один отряд преследовал их по пятам и скоро оттеснил через улицу св. Георга до самой Белой башни. Игра была проиграна, и оренбахцы с бранью, проклятиями и угрозами вышли из города через ворота Висельников. Каспар, расставшийся с ними за городскими стенами, вернулся домой через Родерские ворота. В отчаянии он готов был рвать на себе волосы.
Но оренбахцы нисколько не пали духом. Напротив, неудача еще больше ожесточила их, и, как только они добрались до деревни, они потребовали у старосты бить набат и созвать мирской сход. Симон Нейфер стал на скамью под липой и во всеуслышанье объявил:
— Настало время, друзья, сбросить ярмо рабства. Кто за то, чтобы мы сами добыли себе свободу, пускай поднимет руку!
Не нашлось ни одного крестьянина, который бы не поднял руки.
— Мы все, мы все согласны! — кричали они. — Башмак! Башмак!
Тотчас отрядили нарочных в окрестные деревни, предлагая сельским старостам немедля всей общиной, в полном вооружении, явиться в Оренбах. Уже к вечеру пришли крестьяне из соседних деревень, а на другое утро собрались все способные носить оружие из восемнадцати общин. Крестьяне были отлично вооружены: в панцирях и шлемах, с мечами, копьями, а многие и с аркебузами. Немало было и конных. От каждой общины выбрали по два командира, а во главе всей рати были поставлены Симон Нейфер и Пауль Икельзамер. Затем все ополчение, как было договорено между Симоном и бретгеймцами накануне в «Медведе», выступило в Бретгейм.
При виде приближавшегося в облаке пыли войска дозорный на башне городской ратуши забил тревогу. Соединительный ход между башнями вдоль восточной стены наполнился любопытными, густо усеявшими стену. Начальник городской стражи Альбрехт фон Адельсгейм послал питейного глашатая с приказом запереть ворота и поднять мосты. Сам он вскочил на коня и помчался навстречу крестьянам.
— Куда вы направляетесь в полном вооружении? — спросил он.
— В Бретгейм, на богатую свадьбу, — был ответ.
И в самом деле, похоже было на то: крестьяне шли веселой шумной ватагой, с песнями и шутками. Деревенские свадьбы, на которых пировали и бражничали целыми днями, были тогда не в диковинку, и рыцарю фон Адельсгейму ничего не оставалось, как удовольствоваться таким ответом, подкрепленным еще пальбой в воздух из крестьянских ружей.
Привлеченная шумом Кэте подошла к узенькому оконцу своей темницы, забранному густой решеткой. Окно выходило на восток, и поутру солнечный луч заползал ненадолго на ее ложе из соломы и будил ее, возвещая о наступлении долгого, томительного дня. Привыкшая к неустанному труду, она мучительно тяготилась вынужденным бездельем и целыми днями думала о погибшем друге и своей неудавшейся мести. Ее собственная судьба не тревожила ее. Ни устланные зеленым ковром поля, ни весеннее небо, синеющее между прутьями решетки, не пробуждали в ней ни отчаяния, ни стремления к свободе. Ее не страшила грозившая ей смерть. Она просто не думала о ней. Мир опустел для нее: она больше ничего не ждала от жизни. Но блеск оружия в облаке пыли, барабанный бой и звуки свирелей зажгли в ее глазах радостный огонек. К тому же среди всадников, подъехавших к начальнику городской стражи, ее острый глаз распознал Каспара и Икельзамера. Какой у них был внушительный вид в блестящих доспехах! Ей без слов была ясна цель этого похода. Началась борьба за свободу. Сердце у нее забилось, губы зашептали молитву, молитву о победе над врагом. Всей душой, всеми помыслами она устремилась к ним.
Прибывшие в Бретгейм крестьяне застали всю общину в сборе и были встречены радостными криками. Оба отряда расположились лагерем на лугу перед деревней. Появились хлеб, вино, и люди в боевом радостном настроении стали угощать друг друга. Большого Лингарта и Леонгарда Мецлера избрали начальниками Бретгеймского ополчения. Когда все подкрепились, Симон Нейфер приказал собраться в круг, вышел на середину и объявил, что сейчас Пауль Икельзамер из Оренбаха прочитает «Двенадцать статей». Это были «истинные и справедливые статьи всего крестьянского сословия и всех подневольных людей, обиженных своими духовными и светскими господами».
Когда молодой писец выступил вперед с книжечкой в руках, вся бурлящая, шумная толпа замерла в напряжением ожидании. Многие слышали о «Двенадцати статьях», некоторые их даже читали сами, но все затаили дыхание. Крестьянский манифест, начинавшийся жалобами на извечные несправедливости, содержал требование права охоты, рыбной ловли, рубки леса и запрещения потравы крестьянских полей. Далее шли требования отмены барщины, непосильных налогов, неправедного суда. В третьей части было изложено учение о евангельской свободе, об уничтожении крепостничества, посмертного побора и малой десятины. В заключение предлагалось всему крестьянству не признавать никаких повинностей, противоречащих священному писанию.
Когда читавший умолк, опять заговорил Симон:
— Никто, дорогие братья, не имеет права обвинять нас в том, что мы бесстыдно предъявляем чрезмерные требования. Мы требуем только справедливости, только отмены гнета, который мы вынуждены были терпеть до сих пор, ибо нам даже некому было жаловаться, кроме солнца, которое и сейчас безмолвно сияет над нами. Ведь сам доктор Мартин Лютер, которому послали эти статьи верхнешвабские крестьяне, увещевал господ поступать с нами по справедливости и согласился быть судьей между нами в третейском разбирательстве. Но к чему это привело? Единственно к тому, что господа пошли на переговоры со своими подданными, чтобы выиграть время и, собравшись с силами, напасть на них. Если кто знает другое средство избавить нас от позорного рабства, пусть скажет. Я знаю только одно средство: сломить силу силой!
— Другого нет, нет! — загудели сотни голосов.
— Итак, дорогие братья, — продолжал Симон Нейфер, — мы объявляем во всеуслышанье наши жалобы на тяжкие притесненья и наши требования. Мы все, как один, весь простой люд — от Рейна до Богемского Леса и по всей Тирольской земле. Это цепь, которая связывает нас всех воедино. И наше знамя, наш Башмак — «Двенадцать статей». Так поклянемся же сплотиться под этим знаменем и не сложить оружия до тех пор, пока не уничтожим все несправедливости и притеснения и не установим евангельской свободы!
И, подняв к небу указательный палец правой руки, как для присяги, он произнес:
— Клянусь всемогущим богом!
— И все, как один, подняв руки, повторили его клятву, звеня оружием, и далеко прокатился клич: «Башмак! Башмак!»
Между тем в Ротенбурге происходило бурное совещание внутреннего совета. Под влиянием вчерашнего мятежа господа отнюдь не склонны были верить сообщению, с которым вернулся от крестьян Альбрехт фон Адельсгейм, а появившийся к полудню гонец подтвердил их худшие опасения, Он прибыл с письмом от преподобного отца Непомука. Девица Аполлония вывела его преподобие из спячки и растормошила до такой степени, что тот настрочил подробный донос о происшедшей в Оренбахе смуте. Поп со своей приспешницей не пожалели красок и желчи для изобличения этих богоотступников и христопродавцев, в особенности же постарались очернить обоих старост и общинного писца.
Смирять народы розгами, как малых детей, пренебрегая их нуждами, исстари почиталось вершиной мудрости у чадолюбивых правительств. Посему внутренний совет обратился к восставшим общинам со строгими письменными увещаниями, заклиная крестьян их присягой, имперским земским миром и святым евангелием отступиться от всякой поддержки безбожного мятежа. Эренфрид Кумпф пытался уговорить господ — себе во вред и без всякой пользы для крестьян — присовокупить к строгому воззванию предложение, чтобы крестьяне повергали свои жалобы на суд магистрата. Но господа даже не пожелали его выслушать.
— Долготерпению магистрата пришел конец! — закричал Конрад Эбергард, и в тот же день его слова были подкреплены делами.
Когда вечером ратсгеры восседали в дворянском питейном зале, отдыхая за бокалом вина от дневных трудов и забот, к ним был введен нарочный. Он разыскивал первого бургомистра, но не застал его дома. Этот уже немолодой человек, отрекомендовавшийся ратсгерам с отменной учтивостью, оказался тайным секретарем маркграфа Казимира. Он привез собственноручное письмо его высочества. Маркграф предлагал магистрату свою помощь, чтобы раздавить восстание крестьян в зародыше, пока еще не поздно. По его словам, в заговенье собралось целое скопище гассельбахских крестьян под предлогом колбасной пирушки, как когда-то в Ремской долине под знаменами «Бедного Конрада». Тогда он выслал им навстречу шестьдесят рейтаров, которые многих из них порубили, так что уцелевшие взмолились о пощаде и на всю жизнь закаялись устраивать колбасные пирушки. Таким же образом должен действовать и ротенбургский магистрат.
Деревенский праздник
С гравюры Г. 3. Бегама
Эразм фон Муслор пригласил господина тайного секретаря проследовать в соседние покои, пока магистрат примет решение. Чтобы гость не скучал, его угощали лучшими винами из магистратских подвалов. Антону Граберу — так звали посланца маркграфа — не пришлось долго ждать. Магистрат с благодарностью отклонил предложенную маркграфом помощь. Они попытаются сначала поладить с крестьянами миром. Посланец удалился, заверив господ ратсгеров, что они могут всегда рассчитывать на вооруженную помощь его высочества маркграфа, но медлить нельзя: в окрестностях Ульма, в Верхней Швабии, в Шварцвальде крестьяне уже открыто поднялись. Однако посол маркграфа не сразу покинул город. Отправив своего конюха, ожидавшего его с конем у питейной, к Родерским воротам, он зашел в дом к Стефану фон Менцингену.
Появление Антона Грабера было полной неожиданностью для хозяина. Кратко уведомив его о предложении маркграфа ротенбургскому магистрату, Грабер прямо перешел к цели своего посещения.
— Прежде всего, уважаемый господин рыцарь, я должен заверить вас в неизменной к вам милости его княжеского высочества господина маркграфа. По его приказанию мною отправлены в имперский верховный суд все документы, письма и свидетельские показания, могущие сослужить вам службу в этом столь прискорбном креглингенском процессе.
Стефан фон Менцинген в знак признательности пожал ему руку, но тот заявил:
— Не меня следует благодарить, а его высочество. Он никогда не забывает верных слуг. В наши тяжелые времена добрый совет дороже золота.
Рыцарь фон Менцинген прижал руку к груди и заверил посла, что он всегда рад услужить его княжескому высочеству.
— Хотя, конечно, мое мнение едва ли может иметь какой-либо вес, коль скоро его высочество располагает таким замечательным советником в вашем лице, господин Грабер.
Посланец попытался изобразить улыбку на своем холодном лице и отвечал:
— Лишь скудость моих средств, почтеннейший рыцарь, препятствует мне воздать вам той же монетой в меру ваших высоких заслуг. Однако мне пора в обратный путь! Нисколько не сомневаюсь в том, что магистрат не будет в состоянии собственными силами подавить восстание. Почему же он отказывается от помощи моего государя?
— Timeo Danaos et dona ferentes[87]. Магистрат опасается, чтобы помощь его высочества не оказалась дарами данайцев, — отвечал рыцарь, улыбаясь из-под закрученных вверх усов. — Призвать господина маркграфа недолго, а вот как с ним расстаться потом — это совсем иной разговор. Поэтому из двух зол магистрат выбирает, как ему кажется, меньшее.
— Так я и полагал! — воскликнул посланец. — Но ведь общие интересы господ советников диктуют необходимость скорейшего подавления мятежа. Эти так называемые вольные города с их карликовыми правительствами — заноза в теле империи.
— Трудно, конечно, совместить благо горожан с правлением патрициата, — задумчиво проговорил Стефан фон Менцинген. — Единственное спасение для них — твердая рука, не связанная никакими родственными интересами. Высшим законом должно быть общее благо.
— Бесспорно. Но каков же ваш совет, господин фон Менцинген?
Рыцарь закрыл глаза и медленно погладил усы. Молчание длилось долго. Антон Грабер терпеливо ждал, пока фон Менцинген, все еще не поднимая век, не заговорил:
— Стремиться к лучшему свойственно всем, но достичь цели — удел немногих. Сейчас неподходящий момент выжигать каленым железом застарелую болячку, которую никакие лекарства не берут. Терпение, господин советник, терпение! Пусть маркграф неустанно предлагает свою помощь магистрату. Недалеко то время, когда досточтимые господа, прижатые к стенке, будут рады ухватиться за протянутую им руку.
— Совершенно справедливо, — немного подумав, отвечал Грабер. — Примите мою искреннюю благодарность. А засим прощайте. Мое дальнейшее пребывание в городе может вызвать подозрения.
— Не откажите повергнуть к стопам его княжеского высочества заверения в моей нижайшей преданности, господин Грабер, — с низким поклоном произнес рыцарь Стефан.
Оставшись один, он раздул щеки и несколько раз подряд медленно кивнул головой. Он был удовлетворен.
Зато ни тени удовлетворения нельзя было прочитать на лицах тринадцати членов внутреннего совета, собравшихся на следующий день, чтобы обсудить вопрос о том, как прийти к полюбовному соглашению с крестьянами. Их толкала на это осторожность, так как ротенбургские крестьяне не только могли выставить семьсот — восемьсот человек, хорошо вооруженных и умеющих владеть оружием, но и чувствовали себя в своих деревнях, за крепкими палисадами, колючими изгородями и стенами погостов, как у Христа за пазухой. Правда, и горожане не уступали им в воинственности, и их цейхгаузы были полны оружия, но после отлучения Дейчлина и выступления Карлштадта на кладбище доверие магистрата к зажиточным слоям сильно пошатнулось. К тому же, как это всегда бывает в тревожное время, отовсюду ползли зловещие слухи. Рассказывали о заговорах, целью которых было ни больше ни меньше, как умерщвление всех членов магистрата. Нечистая совесть легко поддается страху.
Эренфрид Кумпф открыто высмеивал эти слухи. «Введите Реформацию, — крикнул он ратсгерам, — и всем разногласиям и раздорам будет положен конец».
Но большинство членов внутреннего совета воспротивилось этому еще яростней, чем обычно. Тут поднялся ратсгер Иероним Гассель, — лицо его было пасмурно, брови надменно изломлены, — и предложил завербовать в качестве ратников ремесленных подмастерьев с оплатой по гульдену в неделю. Но Эразм фон Муслор посоветовал прежде всего опросить горожан, готовы ли они оказать поддержку магистрату. Для этого надо их созвать в ратушу, но не всех сразу, а отдельно каждый из шести кварталов, на которые делился город.
На следующее утро в большом зале городской ратуши собрались оба совета, и для начала были вызваны жители первого, самого аристократического квартала, включавшего Дворянскую улицу и Дворянскую площадь. Вместе с ними явился и Стефан фон Менцинген, хотя он еще и не был восстановлен в правах гражданства. Каждого из бюргеров вызывали поименно, и первый бургомистр предлагал ответить по чести и совести, готов ли тот оказать поддержку магистрату в подавлении восставших крестьян. Уже двадцать пять горожан стали на сторону магистрата, как вдруг раздался зычный голос фон Менцингена:
Горожане приносят присягу магистрату
Гравюра начала XVI в.
— Что вы делаете? Вы рабы или граждане? Зачем очертя голову катиться в пропасть? Вы хотите стать убийцами своих братьев? Остановитесь, одумайтесь!
Бюргеры смутились. И в самом деле, совет был не плох. Фон Менцинген не переставал кричать: «Уйдем отсюда!» — и скоро в зале не осталось никого, кроме этих двадцати пяти, и даже из их числа выступил седовласый Лингард Шток и взмолился:
— Господа, я глухой и хилый старик. Вряд ли я гожусь на такие дела. Прошу вас, увольте меня!
И с этими словами он присоединился к остальным, кто последовал за Менцингеном в соседний зал, где обычно заседал уголовный суд.
Это был просторный, очень высокий зал с великолепным резным потолком и квадратными окнами, выходящими на запад. Место для суда было отделено каменным барьером тонкой работы. Из камня же было и высокое кресло судьи и две скамьи по обе стороны для присяжных заседателей. Противоположную стену украшал колоссальный имперский орел, а рядом с ним, над дверью, висела плита со следующим изречением, начертанным готической вязью:
Речь одного человека — полуречь. Нужно выслушать обе стороны.На той же стене была красочная мозаика с двустворчатыми ставнями, изображавшая сцены Страшного суда.
По предложению фон Менцингена горожане потребовали от магистрата, чтобы он изложил свои пожелания письменно, для тщательного их обсуждения. Зал между тем наполнялся все больше и больше; сторонники Менцингена за шесть недель постарались, чтобы члены обоих советов остались в одиночестве. Перед зданием ратуши собралась огромная толпа горожан, запрудившая Дворянскую улицу и площадь. На площади слепой монах призывал к братскому союзу с крестьянами. Ни одна мастерская в городе не работала, и в толпе было много подмастерьев. Больше всего их собралось возле цеха суконщиков, объединявшего не только ткачей, но и чесальщиков, прядильщиков, стригальщиков и красильщиков. У каждого из них на боку висел меч, и все они, видимо, были в отличном расположении духа. Каспар Эчлих не переставал веселить толпу своими шутками.
В зале суда Стефан фон Менцинген обратился к мастерам и бюргерам:
— Неужели вы хотите поступить во вред себе, лишь бы сделать угодное магистрату, который притеснял нас до сих пор и будет притеснять еще нестерпимей? Следуйте за мной, я укажу вам путь к освобождению! Отвечаю в том перед императором и государством!
Гордая осанка этого стройного, несколько склонного к полноте человека, огонь его больших черных глаз и смелая речь захватили собравшихся. Его предложение избрать для защиты народных интересов комитет выборных, обладающий такими же правами, как и магистрат, было принято единодушно.
— Комитет должен не только разбирать жалобы, — продолжал Менцинген, — хотя и это важно, разве магистрат когда-либо прислушивался к жалобам граждан? Комитет должен возглавить управление, разделив власть с магистратом, разрешать споры между ним и гражданами, наблюдать за его действиями, контролировать финансы и ведать охра ной города.
Вслед за ним многие взяли слово, чтобы поддержать его предложение, и в один голос говорили о необходимости создания комитета и важности его задач, причем каждый старался в подтверждение своей правоты приводить примеры из собственной практики. Для многих это было долгожданной возможностью высказать открыто все обиды и несправедливости, которые до сих пор приходилось таить в душе. Это еще больше подлило масла в огонь. Когда приступили к избранию комитета из сорока двух человек, соответственно их числу во внешнем совете, в зал проникла весть о том, что в город прибыл гонец от маркграфа Казимира с письмом, адресованным магистрату.
— Вот как! — громовым голосом вскричал рыцарь фон Менцинген. — Он везет письмо с обещанием маркграфа прийти и овладеть городом. Магистрат письменно обращался к нему с просьбой о помощи. Берегитесь, рейтары уже приближаются.
— К воротам! К воротам! — закричал дубильщик Иос Шад и Лоренц Кноблох.
— Ключи — комитету! — крикнул фон Менцинген вдогонку тем, кто бросился к дверям.
Минутное замешательство в зале суда сменилось яростным возбуждением. «Измена!» — кричали одни. «Теперь ясно, чего может ждать город от магистрата!» — вторили им другие. «Все они предатели!» — гремел сапожник Мельхиор Мадер. Ганс Кретцер потребовал выгнать ратсгеров вон из ратуши, а пекарь Ганс Леопольд среди все возраставшего шума закричал: «Выбросить их из окон!» Стараясь перекричать всех, мясник Фриц Дальк вопил: «Бей их, коли!»
Еще миг, и они ринулись бы в зал заседаний магистрата, но в это время по просьбе ратсгеров, встревоженных криками и шумом, к разбушевавшимся бюргерам смело вышел почетный бургомистр Эренфрид Кумпф, стал на скамью шеффенов[88], и при виде его толпа, уважавшая Кумпфа за честность и приверженность к протестантскому учению, несколько притихла и дала ему возможность говорить. Он кратко рассказал, что маркграф Казимир сегодня уже вторично предлагал свою помощь против крестьян, но что его предложение было отклонено магистратом.
— Рассказывайте басни! За дураков нас принимаете! — крикнул ему фон Менцинген. — Покажите нам письмо маркграфа и ответ магистрата! — Эренфрид Кумпф протянул ему оба документа. Все было действительно так, как он говорил.
— Хорошо, — сказал фон Менцинген, — если магистрат желает по-честному договориться с крестьянами, то мы, комитет выборных, готовы пойти ему навстречу.
Присутствующие громко выразили свое одобрение, и Кумпф удалился, чтобы передать это предложение магистрату.
Пока в ратуше продолжались выборы комитета, толпа, руководимая Кретцером и Кноблохом, устремилась ко всем четырем городским воротам и заперла их. Каспар со своими товарищами по цеху поспешил к Родерским воротам; оттуда они двинулись налево, вдоль городской стены, и, остановившись перед Женской башней, забарабанили в дверь кулаками и рукоятями мечей. За решеткой в оконце средней части башни показалась седая борода тюремщика. Каспар крикнул, чтобы он отворил дверь.
— Что такое? Кого это принесло? — спросил тот, глядя вниз.
— Отвори! — повторил Каспар. — Да пошевеливайся, чертова перечница!
Старик недоверчиво смерил взглядом Каспара и его товарищей и исчез. Но дверь не отворилась.
— Погодите немного! — крикнул Каспар и побежал к себе домой, благо до дома было всего несколько шагов. Через минуту он вернулся с топором и так яростно набросился на калитку, что только щепки полетели. В окне опять показалась седая борода.
— Что ты делаешь? Чего тебе надо? — завопил старик.
— Выпусти Кэте Нейфер! — закричали хором молодые подмастерья. Каспар же между тем не переставая работал топором. От Родерских ворот на шум подошла новая толпа, и многие кричали:
— Подавайте нам Кэте!
Тюремщик словно онемел. Прильнув лицом к решетке, он все смотрел вниз, направо и налево, и никак не мог понять, как могло такое твориться среди бела дня и почему ни один из стражников сюда и носу не кажет. Но стражников не выпускали из казармы в городском замке: так приказал господин Эразм, чтобы избежать столкновений с горожанами и возможного кровопролития.
— Не хочет старый барсук выползти из норы. Видно, придется выкурить его оттуда, — раздался чей-то голос внизу. Вслед за тем тюремный страж услышал одобрительные возгласы, треск и грохот. Подмастерья сломали лестницы, которые вели на куртину с обеих сторон башни, и старик увидел, что они складывают обломки перед дверью. Ясно дело, эти молодцы собираются его зажарить. Душа ушла у него в пятки.
— В последний раз говорю. Отопри, если тебе жизнь дорога! — крикнул, запрокинув голову, Каспар. Лицо старика исчезло за решеткой. Наступила полная тишина. Потом заскрежетал замок. «Ура! Ура!» — заликовали подмастерья. В мгновенье ока обломки лестницы были отброшены в сторону, и Каспар первым ринулся на башню, схватил старика за шиворот и, чуть не вытряхнув из него душу, Закричал:
— Где она? Где Кэте? Отвечай!
— Да вы что, все сбесились? — заикаясь, пробормотал старик. — Ладно, ладно, только пустите.
И он стал подниматься по каменным ступенькам витой лестницы, однако недостаточно быстро для Каспара, который с товарищами следовал за стариком по пятам, нещадно толкая его в спину. На третьем этаже тот остановился перед низкой и узкой дверью и отодвинул тяжелый засов. Свет ударил Каспару в глаза, и он различил в крошечной каморке лишь какую-то темную фигуру. Она бросилась к нему. Он услышал голос Кэте, назвавшей его по имени, и ее руки обвились вокруг его шеи.
У Каспара закружилась голова, и он не мог вымолвить ни слова. Его сильные руки подхватили Кэте, и он понес ее по лестнице вниз, заливаясь радостным смехом. Когда он вынес ее на улицу, их встретила ликующими возгласами толпа.
— Ну вот, ты и свободна! — произнес он, поставив ее на ноги, потом взял девушку за руку и повел домой. Окружавшая их толпа постепенно начала расходиться.
Кэте все еще молчала. Войдя через сени в комнату, она провела ладонями по лицу, глубоко вздохнула и, взяв своего двоюродного брата за руки, сказала:
— От всего сердца благодарю тебя, Каспар. Только давай поскорей выберемся из города.
— Дело не к спеху, отдохни сначала да малость поешь, — успокаивал он ее и уже направился было на кухню к старой Гундель, служанке, которая вела у них в доме хозяйство, чтобы распорядиться насчет еды, но Кэте удержала его:
— Тюремщик поднимет шум, и они схватят меня опять, — с волнением в голосе сказала она. — Они ведь знают, где меня искать. Каспар, теперь мне хочется жить. Я видела, как брат вместе с оренбахцами выступил вооруженный с головы до пят. Значит, началось не на шутку… Но тебя ждет расплата за мое освобождение.
— Как я рад, Кэте, что ты хочешь жить! — воскликнул Каспар, глядя на нее влюбленными глазами. — Конечно, это чучело из башни не станет молчать, но сейчас начальство потеряло голову и ему не до тебя. Утопающий думает только о себе.
И Каспар рассказал ей обо всем, что произошло в городе после ее ареста, о том, как оренбахцы, после неудавшейся попытки Симона освободить ее, подняли восстание.
— Смешно и подумать, как твое личное горе вымещается на всех этих господах. Убили бы меня тогда, некому было бы и пожалеть, — закричал он, поддавшись ревности, внезапно зашевелившейся у него в груди.
Кэте с укоризной посмотрела на него.
— Как ты можешь так говорить! Да я никогда в жизни но забуду о том, что ты для меня сделал, на что решился.
Она протянула ему руку, и он, краснея, крепко сжал ее в своих руках.
— Неужто нам нельзя выйти из города, пока не стемнеет, Каспар? Мне так хочется поскорей попасть домой.
— Придется немного потерпеть; пожалуй, до утра, — отвечал он, не выпуская ее руки. — Менцинген велел запереть ворота и никого не пропускать. А вблизи города рыщет маркграф Ансбахский, норовит ворваться к нам. Подождем, пока вернется из ратуши отец. Он расскажет, что там творится, а до тех пор посидим здесь, как мыши в ловушке. А вот за салом дело не станет. Садись-ка в это дедушкино кресло, я принесу тебе чего-нибудь пожевать.
Тихонько вздохнув, она покорилась. Чтобы избавить Кэте от расспросов любопытной Гундель, он решил накормить ее сам. На смуглых щеках девушки появлялись лукавые ямочки, когда он тащил из кухни то окорок, то хлеб, то нож, то тарелку, то глиняный кувшин с вином — всё в отдельности. Он был не ахти каким умелым кравчим и сам подсмеивался над своей нерасторопностью.
— Ну, знаешь, в тюрьме меня не очень-то баловали, — утешала она Каспара. — Еда была так отвратительно и грязно приготовлена, что я предпочитала жить впроголодь.
Зато теперь ей все казалось таким вкусным, и Каспар, глядя на нее счастливыми глазами, чувствовал, что к нему возвращается способность шутить. Он уже не раз заставил улыбаться ее побледневшие губы, разучившиеся смеяться со времени смерти Лаутнера. Оба забыли об опасности, угрожавшей им, и Кэте, после всего пережитого, ощутила, что ледяная корка, сковавшая ее сердце, растопилась. И от ее мягкой счастливой улыбки на Каспара повеяло дыханьем весны.
Стук в дверь, предусмотрительно запертую Каспаром, вернул их к действительности. Он подошел к окну, за которым уже сгущались сумерки.
— Это мой старикан, — успокоил он Кэте, подбежавшую к окну с ножом в руке. Она положила нож обратно на стол.
— Вот не думал, что наша птичка уже здесь! — воскликнул Килиан Эчлих при виде племянницы таким веселым голосом, какого сын его сроду не слыхал.
— Закрой ставни, Каспар, да принеси нам свету в заднюю комнату. Возле дома шатается какой-то незнакомец, очень подозрительный с виду. Пережди у нас до утра, девочка. Я тебя не выпущу на ночь глядя. Не ровен час. Напорешься, чего доброго, на маркграфовых лазутчиков.
Он взял со стола кружку и основательно к ней приложился.
— А впрочем, сдается мне, магистрат будет сам не рад, если тебя схватят стражники, — продолжал он, переходя в комнату, выходящую во двор, где Каспар зажег светильник. — Магистрату теперь хочется быть в ладу с нашим братом, крестьянином.
С хитрой улыбкой он опустился на лавку возле стола. Каспар, онемев от изумления, не сводил с него глаз. Куда девался ею угрюмый, мрачный вид?
— Да, да, гляди, гляди на меня получше, — продолжал бодро старик. — Ты знаешь, кто перед тобой? Член городского комитета. Кретцер, Леопольд, Шад, Кноблох, Керн-печатник, учитель латыни, да старый ректор Бессенмайер тоже там. А Менцинген — наш председатель. Ну, что скажешь? Завтра по требованию нашего комитета магистрат отряжает послов к бретгеймским крестьянам. «Только никакого насилия!» — сказал здесь, у меня в доме, наш уважаемый Эренфрид Кумпф. Само собой, никакого, отвечал я ему, но право остается правом. И уж теперь я своего права добьюсь.
— Но это дерево придется хорошенько потрясти, прежде чем с него посыплются плоды, — ехидно заметил Каспар.
Старик, погрозив ему кулаком, заметил:
— А ты что думаешь, у нас, ротенбургских цеховых мастеров, не хватит силенок, чтобы как следует потрясти дерево?
Глава четвертая
Ранним утром Кэте вместе с Каспаром и его отцом покинула гостеприимный кров Эчлихов. Чтобы ее не узнали, она закуталась с головой в большую шаль служанки Гундель. Прежде чем выйти из дома, Каспара послали на разведку. По совету старика Эчлиха они не пошли прямо к Воротам висельников, где скорей всего могли подстерегать Кэте сыщики, но избрали окружной путь через Кузнечную улицу, мимо Башни Зибера, к Госпитальным воротам, через которые должно было выехать посольство к крестьянам. Старый Эчлих рассчитывал на то, что у Госпитальных ворот будет толпа любопытных и что Кэте с Каспаром будет легче этим путем выбраться незамеченными из города. И он не ошибся. Когда послышался топот копыт и все внимание толпы и стражников устремилось к Башне Зибера, Кэте со своим спутником проскользнула на мост, опущенный незадолго перед тем. Перейдя на противоположную сторону рва, они свернули налево и зашагали по узкой тропинке через поля.
Тут Кэте повернулась лицом к своему двоюродному брату, и в глазах ее сияла радость освобождения. Девичье сердце ликовало при виде этой безбрежной шири лугов и полей, зелеными волнами уходивших на северо-восток. Ночью прошел дождь, мартовский дождь. Для крестьянина он все равно что золотая пыль, и ярче зазеленели всходы, напилась влагой каждая былинка, засверкали алмазной россыпью поля. На деревьях набухли почки; терновник покрылся ярко-зелеными листочками.
Сердце в груди Кэте ликовало, состязаясь с жаворонками в поднебесье, а из Ротенбурга, через подъемный мост, выезжали люди, стремившиеся задобрить крестьян, чтобы тем самым выбить у них из рук оружие. Под аркой Госпитальных ворот конь Георга Берметера, избранного вместе с Иеронимом Гасселем в посольство от внутреннего совета, поскользнулся на мокрой мостовой и упал. Дурное предзнаменованье. Лоренц Кноблох, бледное лицо которого еще хранило следы ночного кутежа, громко воскликнул: «Кто высоко возносится, тот низко падает».
Валентин Икельзамер, вошедший вместе с гончаром Мартином Гуфнагелем и сапожником Иосом Шадом в посольство от комитета выборных, бросил на Кноблоха неодобрительный взгляд. Кноблох лишь язвительно засмеялся, и ратсгер Гассель ощутил острое желание влепить ему здоровую затрещину. Трактирщик Кретцер, включенный в депутацию из-за своего родства с Большим Лингартом, чтобы провести посланцев города к крестьянам, гнусаво затянул:
Покорись, брат Гензель, покорись, Зла не одолеешь, не трудись. Терпи, бедняга, все пройдет, Ненастье злое свое возьмет. Покорись, друг милый, покорись, Зла не одолеешь, не борись, Терпи, бедняга, все пройдет, Беда лихая свое возьмет. Покорись, брат Симон, покорись, Зла не одолеешь, не борись, Терпи, бедняга, все пройдет, Жена ведь злая свое возьмет.Депутации не пришлось доехать до Бретгейма. Около деревни Гебзатель она наткнулась на крестьянский лагерь. В отряде было немногим более ста человек. Вел их Леонгард Мецлер. Вероятно, под впечатлением их немногочисленности ратсгер Иероним Гассель дал волю своему грубому высокомерию и, подъехав к крестьянам, обратился к ним с речью, хуже которой трудно было придумать. Он не находил достаточно крепких слов, чтобы заклеймить бунтовщиков. Если они сейчас же разойдутся по домам, заявил он, не обращая внимания на ропот, поднявшийся среди окружавших депутацию крестьян, то магистрат всемилостивейше дарует им прощение. В противном случае им не сносить голов. Если же у них есть жалобы, пусть обращаются в имперский верховный суд.
Но уже многие поколения крестьян познали на своем горьком опыте, как трудно добиться справедливости от этого суда. Ответом Гасселю были гневные возгласы и злобный смех. Леонгард Мецлер, угрожающе сверкнув мрачным взглядом, спросил:
— Это что же, мнение всего ротенбургского магистрата?
— Да, — отвечал Иероним Гассель.
— Так говорит лиса! — крикнул Мецлер, и все крестьяне, звеня оружием, закричали, чтобы ратсгер убирался подобру-поздорову.
Валентин Икельзамер и другие члены комитета смешались с толпой и, переговорив с крестьянами, сумели их успокоить.
— Нет, нет, — заявил Икельзамер, — ратсгер высказал лишь свое собственное мнение. Магистрат желает обсудить с вами ваши требования в мире и братском согласии.
— Вот это другое дело, — отвечал Леонгард Мецлер. — Никакого зла против общины мы не замышляем. А что у нас есть кой-какие жалобы на магистрат, это и вам самим ведомо. Пусть он предоставит нам свободный въезд в город на один день, не то мы прибегнем к более решительным мерам.
Георг Берметер заверил их, что пропуск им будет предоставлен, и обе стороны мирно разошлись. Но не успела депутация достичь Экардсдорфа, как члены комитета выборных поскакали обратно к крестьянам, и ратсгеры прождали их в трактире целых пять часов.
Крестьянский лагерь в Гебзателе был лишь арьергардом большого отряда крестьян, присягнувших в Бретгейме «Двенадцати статьям». Симон Нейфер с односельчанами той же ночью отправился обратно в Оренбах. Большой Лингарт с главными силами последовал за ним в ближайшую ночь. В другие деревни, жители которых еще медлили с выступлением, спешно были отправлены гонцы, чтобы побудить их к действию. Сборным пунктом была назначена деревня Рейхардсроде.
Один за другим прибывали на сборный пункт все новые вооруженные отряды. Пришли и айшгрундские крестьяне под водительством седовласого мельника Иорга Бухвальдера.
Во главе многих общин шли их священники; из Лейценброна явился приходский священник Лингарт Деннер вместе с пономарем. Священники не только читали проповеди в лагере, но и служили крестьянскому делу своим советом и пером.
Среди собравшихся в Рейхардсроде были влиятельные и сведущие в военном деле люди, например Георг Тейфель из Шонаха и Фриц Нагель, шекенбахский амтман[89], обучавший крестьян военному строю и фехтованию. К восставшим присоединились с распущенными знаменами крепостные многих окрестных феодальных владетелей; из лесов и тайных убежищ пришло немало беглых крепостных и людей, объявленных вне закона. Всех их принимали в евангелическое братство.
Вместе с последними пришел и злосчастный Конц Гарт, одичавший в жестокой нужде. Его пасынка не было с ним: он отдал мальчика в поводыри слепому музыканту. Бродя по деревням, слепец играл на волынке и пел, и его песня, рассказывавшая о трагической участи Конца Гарта и гибели его жены и детей, трогала до слез женщин и зажигала гневом сердца мужчин.
Какой-то странствующий школяр, услышав однажды на постоялом дворе в Гейдингсфельде от заглянувшего туда по пути в Вюрцбург коробейника Криспина Вёльфля печальную историю крепостного, изложил ее в стихах, а слепец сочинил мелодию. Совсем иная мелодия неслась из кузниц Рейхардсроде и окрестных сел, где ковали копья, точили косы и изготовляли железные колотушки и острые шипы для цепов по заказу крестьян.
И в Оренбахе, где старостой остался Вендель Гайм, звенели удары молотов о наковальни. Каспар с Кэте услышали эту музыку еще на околице.
— Это нас колокольным звоном встречают, — пошутил Каспар. Но истинную причину они узнали, лишь придя в усадьбу Симона. Прижав к сердцу отца, невестку и приласкав детей, Кэте предоставила Каспару рассказать историю ее освобождения, а сама побежала в свою комнату, чтобы хорошенько вымыться и переодеться — впервые после ареста. Когда она потом вернулась в своем лучшем наряде, с тщательно причесанными светло-русыми волосами, она показалась Каспару прекрасной и свежей, как майское утро. Усевшись рядом с отцом, она взяла его узловатую руку в свои ладони и молча слушала рассказы старика и невестки обо всем, что произошло в деревне за время ее отсутствия. Каспар не сводил с нее глаз, и она, вся зардевшись, улыбалась ему. Может быть, она и ничего не слышала из того, что говорилось; ее глаза скользили с предмета на предмет в просторной комнате, и в них сияла радость возвращения. Когда к обеду пришел работник Фридель, он потряс ее руку и сказал:
— Ну, слава богу, что ты вернулась. С тех пор как хозяин в Рейхардсроде, ты нам нужна как воздух. Теперь мы и без него справимся.
Стража у пороховых бочек
С гравюры Г. 3. Бегама
Каспар был в ударе, и за обедом царило веселье, какого уже давно не видели в этом доме. О бурных событиях вспомнили только тогда, когда он собрался уходить. Он решил вернуться в Ротенбург, несмотря на угрожающую ему опасность. Его не смогли удержать даже уговоры Кэте, от которых у него стало тепло на душе.
— А ты бы пожалела, если бы меня сцапали? — спросил он, лукаво покосившись на нее. — Да нет, им теперь не до меня, у них есть дела поважнее. А мне нужно домой до зарезу. Работа стоит. Старику моему теперь недосуг. Он ворочает государственными делами в комитете.
Рассмеявшись, он вдруг обнял Кэте за талию. Она поцеловала его прямо в губы и оттолкнула.
— Это — моя благодарность, — сказала она, вырвавшись из его рук.
— Как божья благодать! — воскликнул он, и в его возгласе прозвучали и радость и досада.
Вскоре после его ухода из деревни вышла и девица Аполлония. Но она не пошла по большой дороге, а направилась влево, по тропинке, которая вела в Эндзее через лес.
Каспар благополучно добрался до города и узнал, что там неблагополучно. Накануне ночью во дворе часовни пречистой девы Марии, которую когда-то освятил доктор Дейчлин на территории бывшего еврейского кладбища, кто-то отбил голову и руки у распятого Христа. Утром в долине Таубера мельники разграбили прекрасную старинную часовню Кобольцельской божьей матери, выбили витражи художественной работы, разбили вдребезги алтарь, образа и церковную утварь и побросали все это в реку. Днем были беспорядки и в самом городе. Горожане врывались в дома католического духовенства, оскорбляли священников и требовали вина.
Потом было получено известие, что жители города Мергентгейма восстали под предводительством Фрица Бютнера и осаждают замок гроссмейстера Тевтонского ордена и что, несмотря на укрепления, замок не удержится, если Ротенбург не пришлет помощи.
С горькой усмешкой протянул это письмо Эразм фон Муслор второму бургомистру. Помощь! Легко сказать! А откуда ее взять? И пока они совещались, уже в сумерки, прибыл гонец от эндзейского шультгейса. Он прислал подробное донесение о крестьянском лагере в Рейхардсроде. У фон Верницера, как видно, были свои шпионы в крестьянском стане. К восставшим крестьянам, по его словам, только что пришли с развевающимися знаменами крепостные юнкеров фон Розенберга и фон Финстерлора, так что теперь их собралось по меньшей мере тысячи четыре. Крестьян, которые отказывались присоединиться к восставшим, принудили силой. Бунтовщики разграбили дома уклонявшихся, а у священников отняли подводы с вином. Замок рыцаря Каспара фон Штейна разграбили дочиста. Всю добычу крестьяне передают в ведение своего казначея-провиантмейстера, который продает ее, и выручка поступает в общий котел. Из этого котла оплачиваются поставщики съестных припасов, трактирщики, гонцы и все прочие. Пока что крестьяне никого не тронули, никого не лишили свободы и жизни. Особой запиской фон Верницер сообщил о том, что бежавшая из ротенбургской башни Кэте Нейфер находится в Оренбахе, в доме своего брата.
— Если это ему известно, почему он ее не арестует? — воскликнул Конрад Эбергард. — Уже не говоря о том, что эта девка преступница, следовало бы держать ее как заложницу, чтобы усмирить ее братца. Нужно заполучить ее назад.
— Чтобы тем самым еще пуще раздразнить крестьян? Боюсь, что Верницер угодит в осиное гнездо. Поспешишь — людей насмешишь. Но чтобы дожить до завтра, нужно уберечь свою голову сегодня, — отвечал фон Муслор.
На следующий день опять разразилась буря. Подхваченный ею Эренфрид Кумпф явился утром со своими единомышленниками в собор св. Иакова, согнал с кафедры священника, сбросил требник с алтаря и выгнал вон причетников. Даже он, всегда предостерегавший всех от насилия, прибегнул во имя истинной веры, может быть даже не отдавая себе в том отчета, к насильственным действиям. После этого он благоговейно прислушивался к торжественным звукам органа, наполнившим своды церкви воинственной мелодией протестантского гимна «Господь — наш оплот несокрушимый».
С того дня католическое богослужение в соборе св. Иакова прекратилось, вскоре и часовню пречистой девы на бывшем еврейском кладбище сровняли с землей.
Горожане и друзья проводили Эренфрида Кумпфа из церкви до городской ратуши. Многие из членов внутреннего совета встретили его злобными взглядами. Но лицо почетного бургомистра сияло таким торжеством и такой юношеской радостью, что никто не решился обрушиться на него. Даже Конрад Эбергард не осмелился на это, памятуя о предстоящем прибытии крестьянской депутации из Гебзателя. Ее предводитель, Леонгард Мецлер, полагаясь на охранную грамоту, сам принес жалобы крестьян. Стефан фон Менцинген, председатель комитета выборных, выложил эти жалобы перед магистратом.
На печати, скреплявшей крестьянскую грамоту, был изображен плуг, цеп и вилы крест-накрест, а внизу — башмак и дата «1525 год». Вращая своими черными глазами, Стефан фон Менцинген прощупал ими каждого из членов магистрата и стал читать жалобы крестьянских общин. Они писали, что притеснения, противные богу, евангельскому слову и любви к ближнему объединили их, крестьян, в братский союз; они отягощены податями, налогами, посмертным отобранием[90] и другими поборами, а также недавно введенными копытным и питейным сборами и всякими иными повинностями. Не позорно ли, что в ротенбургских владениях никто не в состоянии иметь собственную корову? Ведь все они веруют в единого, истинного и вечного бога, все крещены одинаковым крещением и все уповают на грядущую вечную загробную жизнь. А лукавый с помощью тысячи уловок ввел среди христиан гнусный обычай, в силу которого один человек может быть собственностью другого. Составим же единое тело, единую духовную общину, главой которой да будет наш спаситель Христос.
В не меньшей степени они отягощены большой и малой десятинами, между тем как многие священники даже не живут в своих приходах и ровным счетом ничего не делают, а только через своих капелланов опутывают народ ложью и обманом и дерут с него семь шкур. Тех, кто действительно трудится для блага своих прихожан, крестьяне готовы вознаграждать, но те, кто ничего не делает, не должны ничего и получать. Дальнейшие жалобы на обременительные пошлины и на другие несправедливости они изложат позже.
— Досточтимые и милостивые господа, — сказал фон Менцинген, положив грамоту на стол перед ратсгерами, — вы слышали, в чем состоят жалобы крестьянства, справедливости коих, к сожалению, невозможно отрицать. Комитет льстит себя надеждой, что вы удостоите их своим благосклонным вниманием. Учитывая всю серьезность создавшегося положения, он поручил мне предложить вам свое посредничество, дабы прийти к полюбовному соглашению. Крестьяне, наши братья по евангелической вере, приняли наше посредничество.
Воцарилась мертвая тишина. Ратсгер Леонгард Деннер взял было грамоту со стола, но, скользнув по ней взглядом, отбросил прочь, словно схватился за крапиву. Слишком хорошо знакомой ему рукой она была написана, рукой его сына Лингарта, священника Лейценбронского прихода. Тогда с большим достоинством поднялся с места бургомистр Эразм фон Муслор. Первым долгом он выразил комитету благодарность за предложенное посредничество. Однако магистрат полагает, что таковое вряд ли ему понадобится; он и сам договорится со своими подданными. На высоком челе рыцаря фон Менцингена от гнева вздулась жила. Но фон Муслор мягко продолжал, обращаясь к Леонгарду Мецлеру. Магистрат готов предать забвению мятеж и нарушение присяги, если крестьяне спокойно разойдутся по домам. Он рассмотрит их жалобы и поддержит перед имперским правительством и верховным судом.
Это был, хотя и в смягченной форме, тот же самый ответ, который уже дал крестьянам в Гебзателе Иероним Гассель.
Устремив на бургомистра мрачный взгляд из-под нависших бровей, Мецлер повысил голос.
— Мы не нарушили присяги, — но, почувствовав на себе взгляд фон Менцингена, он быстро овладел собой и уже совершенно спокойно, но без малейшего смирения, столь обычного в обращении крестьян к господам, продолжал: — Мы хотим, милостивые государи, лишь того, что не противно ни богу, ни любви к ближнему.
С этими словами он удалился.
— Господа, комитет обсудит ответ внутреннего совета, — угрожающим тоном произнес рыцарь фон Менцинген и, гордо выпрямившись, вышел вслед за Мецлером.
— Ну и попали мы в переделку! — засопел тучный ратсгер фон Винтербах. — И все это проклятая богом Реформация. Вонючее болото! Хуже чумы!
Эренфрид Кумпф вспыхнул и рванулся было вперед, но Георг Берметер успокаивающе взял его за руку, и Кумпф удовлетворился возгласом:
— Нет, Реформация — это могучий дуб, о который свиньи обломают себе зубы!
— Хотел бы я знать, — заревел Гассель, стукнув кулаком по столу, покрытому зеленым сукном, — какого дьявола мы не приняли предложение маркграфа?
Эразм фон Муслор выждал, пока атмосфера разбушевавшихся страстей несколько разрядится, и обратился к присутствующим со следующими словами:
— Когда варвары осадили древний Рим и пошли на приступ, сенаторы, сидя в своих курульных креслах, молча ждали конца. Они предпочли смерть унижению. Да, уважаемые господа и почтенные коллеги, мы не должны склоняться перед насилием; и даже если придется пойти на уступки крестьянам, то любые наши обещания нас ни к чему не обязывают, как вынужденные силой.
Господам из внутреннего совета эти слова пришлись по душе. Только Георг Берметер с сомнением покачал головой, а Эренфрид Кумпф, вне себя от негодования, встал, чтобы покинуть зал. Но глухой дребезжащий звук остановил его. Все насторожились. Да, сомнений не было, это гудел большой колокол над ратушей. Ратсгеры в тревоге переглянулись. Этот колокол обычно созывал горожан на сход во двор бывшей синагоги. Эренфрид Кумпф сказал:
— Ведь я предостерегал внутренний совет, когда еще было не поздно. Но боже меня упаси покинуть его в час опасности!
И заняв свое место за столом, он откинулся на высокую спинку кресла.
— Надо отдать должное Менцингену: он времени не теряет, — криво усмехнулся первый бургомистр.
То были последние громко произнесенные слова. Водворилась тишина. В ожидании депутации ратсгеры лишь время от времени перешептывались. Ждать им пришлось долго. Наконец слуга распахнул двери и объявил;
— Делегаты комитета выборных просят благосклонного внимания.
Эразм фон Муслор кивнул в ответ. Те из членов совета, которые расхаживали по залу или стояли, разговаривая, у окон, заняли свои места. В зал вошли Стефан фон Менцинген, Валентин Икельзамер, ректор латинской школы, и несколько членов комитета из бюргеров. Лица у них еще были красные от бурных дебатов во дворе бывшей синагоги. Как председатель комитета, слово взял фон Менцинген и своим зычным, раскатистым голосом произнес:
— Досточтимые, любезные и милостивые государи! Созванная комитетом городская община вынесла свое решение и объявляет его через своих делегатов. Принимая во внимание, что внешний совет представляет интересы всей общины, отныне он сольется с комитетом и вместе с ним будет заседать, совещаться и вершить дела управления. Для осуществления сего решения община дает обоим советам двадцать четыре часа сроку.
Ратсгеры с гневными восклицаниями повскакивали со своих мест, но первый бургомистр повелительным жестом призвал их к спокойствию. Его лицо оставалось холодным и невозмутимым.
— Советы обсудят ваше предложение. Продолжайте! — сухо заметил он.
— Община требует, чтобы внутренний совет немедля приступил к рассмотрению жалоб крестьян и удовлетворил их требования, чтобы не доводить их до крайности. Внутренний совет должен безотлагательно уполномочить нас, комитет выборных, порешить дело с крестьянами миром. Таково желание общины.
— Не бывать тому! Никогда! — отрезал Конрад Эбергард, и большинство ратсгеров его поддержало.
— Господам жарко? Эй, вы там, откройте окна! — угрожающим тоном крикнул стоявший позади фон Менцингена дубильщик Иос Шад.
— На такое требование, господин рыцарь, совет никогда не даст своего согласия. Это невозможно, — решительно произнес Эразм фон Муслор.
— Если есть желание, то есть и возможность, — возразил старый рыцарь Бессермейер.
— Дело не в нашем желании. Ведь это касается не одного Ротенбурга, — продолжал первый бургомистр. — Нашими уступками мы подали бы дурной пример крестьянам соседних владений. Для нас будет сущим бедствием, если в других местах крестьяне станут ссылаться на пример Ротенбурга, и их владетели будут враждебно относиться к нашему городу.
— Ан нет! Как раз наоборот![91] — дерзко выпалил Лоренц Кноблох. — Жрать хлеб господа горазды, а вот испечь его — черта с два!
— Гром и молния! — крикнул ратсгер Гассель, весь побагровев от злости. — Надо проучить это немытое рыло!
— Поосторожней выражайтесь, досточтимый, не то комитет привлечет вас к ответственности за оскорбление его представителя! — загремел Стефан фон Менцинген. — Тем более что он прав. Кругом разгорается страшное пламя, и если город не найдет общего языка с крестьянами, это так ожесточит их, что всем нам несдобровать.
Тут торжественно прозвучал голос Эразма фон Муслора:
— Упаси нас боже без решения и приговора имперского суда поступиться хоть на йоту правами города, принадлежащими ему испокон веков.
— Quos Deus perdere vult, dementat prius![92] — пробормотал Икельзамер, а Килиан Эчлих воскликнул:
— Не выйдет! Уж который год, как я добился решения имперского суда в свою пользу, а магистрат до сей поры отказывает мне в моем праве.
— Истинная правда, — подтвердил фон Менцинген и, гордо выпрямившись во весь рост, продолжал:
— Магистрат своими несправедливыми и неразумными действиями навлек на город немало бед. Посему комитет выборных не может и не должен оставить его у кормила правления.
Эта неприкрытая угроза вызвала целую бурю. Все заговорили сразу, стараясь перекричать друг друга. Тогда поднялся с места Эренфрид Кумпф, который счел своим долгом прийти на помощь магистрату. Он знает человека, заявил он, который больше, чем кто-либо иной, способен установить мир между городом и крестьянством. Человек этот находится в его доме; его и нужно послать в качестве посредника к крестьянам.
— А кто же этот волшебник? — спросил Эразм фон Муслор.
— Доктор Карлштадт, — смело отвечал Эренфрид Кумпф.
При одном упоминании этого имени члены совета замерли от изумления. Только Конрад Эбергард разразился злобным смехом, а Эразм фон Муслор впервые потерял самообладание. Подскочив как ужаленный в кресле, он завопил, весь побагровев:
— Как, бесовский доктор не покидал города и находится в вашем доме! Да ведь он изгнан, под страхом тяжкого наказания! Как вы могли допустить, вы, член магистрата, столь грубое нарушение закона и вашей присяги? Как можно требовать от других уважения к решениям магистрата, когда вы сами, вы, облеченный самым высоким званием в городе, попираете их ногами! Ей-богу, это уж слишком!
Эренфрид Кумпф невозмутимо отвечал:
— Я взял на себя смелость, служа богу и божьему делу, взять его под свою защиту и дать ему убежище. Карлштадт благочестивый и несчастный человек, высокоодаренный и посланный нам самим богом, чтобы уладить разногласия между магистратом, городской общиной и крестьянством. Я сознаю свой долг перед магистратом, но не считаю себя обязанным поступать противно слову божьему и святому евангелию. Я — христианин и буду служить своему спасителю, доколе станет сил.
— Черт побери! Мы такие же христиане, как и вы! — вскричал, задыхаясь, тучный фон Винтербах, а Конрад Эбергард язвительно продолжил:
— Но мы не изгоняем из храмов священнослужителей и не оскверняем церквей иконоборством.
Тут все члены магистрата поднялись с мест и устремились к дверям, но почетный бургомистр преградил им дорогу.
— Я не могу вас отпустить, пока вы не отмените постановления о его изгнании.
— Не дождаться вам этого до скончания века, — отрезал Эразм фон Муслор. — Чего вы хотите? Навлечь на наш прекрасный город гнев и месть императора, князей и имперских сословий? Хотите, чтобы Карлштадт окончательно возмутил народ, как возмущал его повсюду, где жил и проповедовал? Обратитесь к комитету. Теперь власть в его руках.
— Это ваше последнее слово, господни бургомистр? — воскликнул Стефан фон Менцинген, разводя руками, скрещенными до того на груди. — Вот и прекрасно! Ручаюсь вам, господин Эренфрид, что комитет рассмотрит дело доктора Карлштадта и разрешит ему пребывание в городе, поскольку тот не нарушает закона.
— Но мы, магистрат, умываем руки, — заявил господин Эразм и вместе со своими коллегами вышел из зала заседаний.
Глава пятая
Фрау фон Муслор ждала мужа к обеду уже более часа. Откинувшись на спинку кресла и сложив пухлые руки на животе, она вертела палец о палец и тихонько вздыхала. Ее дочь сидела у окна, высматривая отца. Перед ратушей было скопище любопытных, ожидавших исхода совместного заседания обоих советов. Народ не расходился с самого утра. Взгляд бледно-голубых глаз Сабины, лениво пробежав по толпе ремесленников в рабочем платье, запрудившей обычно тихую Дворянскую улицу, скользнул по небу, где плыли легкие белые облачка, и остановился на аистовом гнезде на кровле ратуши. То было старое гнездо. В эту весну его обитатели, чей прилет так радует городскую детвору, вернулись ранее обычного. Один из них стоял на краю гнезда и деловито постукивал длинным клювом: он хлопотал над восстановлением старого дома, видно, немало пострадавшего от зимних бурь. На широко распростертых крыльях к нему подлетел другой и, покружив немного, опустился рядом. Быть может, он принес пищу или прутья для починки гнезда, а затем, оживленно шевеля своим красным клювом, стал рассказывать о том, что творится на белом свете.
Сабина смотрела на птиц, и ее взгляд, обычно равнодушный и скучающий, подернулся дымкой мечтательности, а может быть, и тоски. Ее подруга сидела в кресле, положив ногу на ногу, и читала летучий листок. Из-под ее темно-синего шерстяного платья, перехваченного в талии серебристым пояском, выглядывал кончик башмачка. Распущенные волосы темным ореолом обрамляли ее прекрасное лицо.
Отпечатанный в Нюрнберге листок повествовал о том, как юная супруга римского императора изменяла своему старику мужу и как неверной жене с помощью хитрости удалось обелить себя. Она заставила своего возлюбленного обнимать себя на глазах у обманутого мужа, а потом, когда ей пришлось положить руку в рот богине истины, вышла из этого испытания, не потеряв и пальца, после чего у старого императора отвалился его рог. Грубоватый поэт, видно, был великий женоугодник: он начинает свою поэму прославлением женщин и заканчивает советом императора не порицать женщин за то, что они превращают умных людей в дураков. Таков уж удел мужчин. Из-за любви к женщине впал в грех Адам, подверглась разрушению Троя, был умерщвлен Олоферн, ослеплен могучий Самсон. Любовь погубила Аристотеля, Александра Македонского, и Абессалома, и царя Давида, и даже мудрого Соломона.
Прекрасную Габриэлу нисколько не покоробила безнравственность безымянного сочинения, но все же она резким движением отшвырнула листок. Он напомнил ей о Максе Эбергарде, не поддавшемся ее чарам. Эта рана еще не зажила. Габриэла запрокинула голову и закрыла глаза, но вовсе не для того, чтоб отдаться любовным мечтам, К чему ей красота в этом жалком Ротенбурге, где ее преследуют вечные неудачи и огорчения? Красота, которая сулила ее честолюбию более широкую арену! Как рвалась она прочь из тесных стен родного города, где она задыхалась, не находя простора сжигавшим ее страстям. Здесь ей грозила такая же сонная неподвижность, в какую уже погрузилась ее подруга, покорно согласившаяся обручиться с фон Адельсгеймом, не питая к нему ни малейшей склонности. Здесь она превратится в такую же безвольную глыбу жира, погрязшую в житейских мелочах, как госпожа фон Муслор! Она готова была возненавидеть этих женщин за их любовь и заботы о ней. Ненужные путы!
— А вот идет отец и с ним господин Эбергард! — возвестила наконец Сабина и вышла распорядиться, чтобы для гостя поставили прибор. Эразм фон Муслор нередко возвращался с заседаний к обеду не один. Обремененный многочисленными обязанностями, он отдыхал только во время еды. Но его гости должны были довольствоваться скромным угощением. Он не был ни гурманом, ни кутилой, как какой-нибудь фон Менцинген.
Оба бургомистра пришли в довольно мрачном расположении духа. Господин Эразм хмурил свой узкий высокий лоб и с горькой усмешкой кривил тонкие губы. Острый взгляд стальных глаз господина Конрада казался еще жестче и не смягчился, даже когда он здоровался со своей прекрасной питомицей. Габриэла тоже держалась с ним холодно с тех пор, как он, несмотря на ее настояния, подал жалобу на Цейзольфа фон Розенберга.
— У тебя опять неприятности? — осмелилась обратиться к мужу робкая фрау фон Муслор.
— Могу сказать тебе, это уже не тайна, — ответил он, хмуря брови. — Внешний совет распущен, и на его место вступил комитет выборных.
— Избави нас боже! — в испуге воскликнула бургомистерша.
— Бог, может, и избавил бы нас, да сатана в образе фон Менцингена подбил на это внешний совет, — произнес Конрад Эбергард. — Если бы во внешнем совете заседали настоящие мужи! А то они сами взмолились, чтобы внутренний совет разрешил им сложить с себя обязанности.
— И внутренний совет согласился? — воскликнула Габриэла, и ее чувственные губы сложились в презрительную гримасу.
Опекун бросил на нее недовольный взгляд и, отчеканивая каждое слово, сказал:
— Внутренний совет, лишенный помощи извне, обезоруженный, припертый к стенке, уступил городской общине и комитету и, к величайшему прискорбию, удовлетворил требования общины, не рассуждая, что хорошо и что плохо, к спасению это ведет или к гибели.
— И нас ждет величайшее удовольствие, — прибавил хозяин, усаживаясь за стол, — приветствовать в качестве наших любезных коллег в магистрате пекарей, суконщиков, мясников, дубильщиков. Меня радует лишь одно, как, надеюсь, и вас, уважаемый друг: ровно через месяц наши полномочия истекают.
— И мы будем иметь счастье лицезреть неподкупного рыцаря фон Менцингена в роли бургомистра нашего славного города.
— Нет, этого нельзя допустить! — вся вспыхнув от гнева, вскричала прекрасная Габриэла.
— Увы, чем бы это ни кончилось, милое дитя, а дело оборачивается худо. Положение наше прискорбное, — отвечал господин Эразм, улыбаясь ее возмущению. — Мы не в состоянии ничему помешать. Швабский союз едва справляется со своими мятежными подданными, и рассчитывать на его помощь не приходится. Все мы пострадаем от этого мятежа, не исключая и тебя, Габриэла, а моей бедной Сабине придется ждать своего счастья до лучших времен, теперь не до свадеб.
— Бедняжка! — проговорила со вздохом фрау фон Муслор и нежно погладила руку дочери.
— О, я могу подождать, — с несокрушимым спокойствием возразила Сабина, на что последовала язвительная реплика Габриэлы:
— Такого счастья чем дольше ждать, тем лучше.
— Ты напрасно смеешься, моя красавица, — с упреком в голосе заметил ей опекун. — Мятеж не пощадит и тебя.
— А разве я уже это не почувствовала? — резко подхватила Габриэла. — Разве не благодаря мятежу девка, пытавшаяся меня заколоть, теперь издевается над правосудием, а освободившие ее подмастерья остаются безнаказанными?
— Ах, Габриэла, как ты неблагодарна? Ведь он спас твою честь! — с укоризной воскликнула ее подруга. — Ведь ты обязана этим молодому стригальщику.
— Его отец — член комитета. Может быть, ты потребуешь у него выдать нам, патрициям, этого молодого плебея, пренебрегшего твоей благодарностью, чтобы он понес заслуженное наказание? — насмешливо произнес господин Эразм и уже серьезно добавил: — Но если счет не оплачен, то он еще не уничтожен. И с этой девкой мы тоже рассчитаемся.
— Она просто сумасшедшая, — заметил, пожав плечами, господин Конрад, после чего фрау фон Муслор заявила, что в таком случае необходимо запрятать ее как можно скорее в Детвангский дом для умалишенных.
Габриэла промолчала. Гордость не позволяла ей признать, что Кэте потеряла голову от ревности. Мысль о том, что какой-то Ганс Лаутнер, человек, стоящий неизмеримо ниже ее, осмелился поднять на нее глаза, была ей нестерпима. Его любовь казалась ей оскорблением. При одном воспоминании о нем краска негодования выступала на ее щеках. Она мечтала взлететь высоко, как орел, а между тем все тянуло ее вниз. Страстное восклицание вырвалось из ее уст:
— Ах, как все это ничтожно! Все выжидают, высматривают, и никто не решается на подлинное большое дело!
Фрау фон Муслор и ее дочь в изумлении посмотрели на нее, а господин Эразм, улыбаясь, поглаживал усы. Только второй бургомистр резко и сухо заметил:
— В долине Таубера и в соборе св. Иакова уже дошло до большого дела. Готов поверить, что ты была бы довольна, если бы рыцари Башмака уничтожили религию, науку, цивилизацию — короче говоря, все блага культуры, которыми мы пользуемся, и не оставили бы ничего, кроме мерзости запустения. Это, по-твоему, называется делом?
— Но ведь это запустение неизбежно, если не появится человек дела, — воскликнула Габриэла, сверкнув глазами, — герой, подобный святому Георгию или Зигфриду из народных легенд, который победит дракона и отрубит ему голову.
— Чудес нынче не бывает, — небрежно промолвил опекун. А хозяин дома, хитро улыбаясь, заметил:
— Такой герой к нашим услугам хоть сейчас, остается только решить, как нам лучше быть изжаренными: на сковороде или на вертеле. Я имею в виду маркграфа Казимира.
И он слегка склонился перед гостем, который разжал свои тонкие губы в беззвучном смехе и, положив салфетку на стол, поднялся с места.
Дозорный на башне ратуши, казалось, только и ждал, когда кончится обед. Едва господа поднялись из-за стола, он протрубил несколько раз в рог. Зловеще и глухо, словно рев урийского быка, прокатились звуки над городом. Оба бургомистра мгновенно распахнули окна и посмотрели на башню. Рог не возвещал пожара, как они опасались: в таких случаях на башне обычно вывешивали флаг. Из домов начали выбегать люди. На вопросы господина Эразма, кричавшего им сверху, они лишь разводили руками. Никто не ведал, какая опасность грозит городу.
— Может быть, это ложная тревога, как в басне про волка и пастуха, — сказал хозяин, закрывая окно. — Что бы то ни было, скоро узнаем.
— Все же маркграфа Менцинген не впустил, — сказал Конрад Эбергард. — Гонцу, прибывшему третьего дня, пришлось ночевать за городскими стенами; его задержали у ворот и отобрали письмо маркграфа…
— …которое Менцинген сначала прочитал сам, а уже потом передал магистрату, — закончил первый бургомистр. — Такому строгому цензору мы можем быть только благодарны, поскольку он снимает с нас всякую ответственность. И Казимир поймет, почему мы отвергли его любезное предложение быть посредником между магистратом, комитетом и крестьянами.
В этот момент слуга доложил о приходе второго дозорного с башни. (Там теперь дежурили попеременно, и день и ночь, двое часовых.)
— Что случилось? — поспешно обратился к вошедшему господин Эразм.
— Ваша милость, крестьяне приближаются, — хриплым голосом проговорил тот. — Они идут целой тучей от Лендахских озер.
Женщин охватил страх. Хозяин наполнил кубок и, протянув его стражнику, сказал:
— Хорошо. Можешь идти.
Господин Конрад между тем старался успокоить фрау фон Муслор и девушек. Уже не раз крестьяне разбивали себе головы о стены Ротенбурга. Эразм фон Муслор начал собираться. Второй бургомистр тоже опоясался мечом, набросил на плечи мантию и взял свой берет. В это время начальник городской стражи Альбрехт фон Адельсгейм прислал сказать, что в случае необходимости его можно найти на тюремной башне. Спустившись в просторную прихожую, господа столкнулись там с городским судьей Георгом Хорнером. У подъезда стояли четверо стражников в полном вооружении. Первый бургомистр в изумлении спросил, что это значит.
— Для вашей личной охраны, — отвечал судья. Чиновно-аристократическое лицо господина Эразма побагровело.
— Сейчас же отошлите людей, — приказал он. Направившись кратчайшим путем к тюремной башне, он сказал Эбергарду:
— Значит, до того уже дошло, что высшие городские сановники нуждаются в охране на улицах своего города!
— Судья переусердствовал, — мрачно насупившись, отвечал второй бургомистр.
— Излишнее рвение подчиненных наносит больше ущерба представителям власти, чем враждебность подданных, — сказал Эразм фон Муслор.
Тюремная башня — самая высокая и крепкая из всех двадцати девяти башен, возвышавшихся на городских стенах, — находилась между Родерскими воротами и бастионом, выступавшим вперед острым углом. Немало страшных рассказов ходило о ней в народе. Говорили, что в ее глубокое подземелье сбрасывали преступников через западную дверь на острия торчавших из земли копий. Другие утверждали, что в этом подземелье хранилось страшное орудие казни — железная дева, перегрызавшая горло своим жертвам. В казематах под зданием городской ратуши содержались государственные преступники, в их числе в свое время был и знаменитейший из ротенбургских бургомистров Генрих Топплер, поплатившийся головой по приговору завистливых и подозрительных патрициев за свою популярность.
Альбрехт фон Адельсгейм ожидал своего будущего тестя и его спутников у амбразуры тюремной башни, откуда открывался широкий вид на плоскогорье с его полями и лесами. Крестьяне подошли к самому городу, не опасаясь нападения. Фон Адельсгейм в бессильной ярости дергал себя за ус; крестьяне, словно издеваясь над ним, шли правильными колоннами, а их авангард и арьергард составляли всадники в полном вооружении. В каждой колонне лишь у части крестьян было огнестрельное оружие, у некоторых были арбалеты, у всех остальных — копья с длинными гибкими остриями, пробивавшими почти любую броню, острые косы и цепы, усеянные, как ежи, иглами. За отрядами крестьян следовали на телегах аркебузы и фальконеты, захваченные крестьянами в замках. За ними тянулись подводы, Запряженные в четыре, шесть и даже восемь лошадей, оставляя глубокие борозды в рыхлой земле; в них сидели женщины с котелками, кастрюлями и съестными припасами. У каждого отряда был свой значок, свои флейтисты и барабанщики. Над копьями и косами, сверкавшими на солнце, высоко развевалось большое знамя ополчения. Оно было коричнево-желто-зеленое, наподобие крестьянской нивы. На нем в виде андреевского креста были скрещены трехзубые вилы и цеп, на щите был изображен плуг, а под ним — крестьянский башмак. Знамена приобретались на деньги, вырученные от продажи добычи. Провиантмейстером был Фриц Мелькнер из Нортенбурга. Он ехал во главе рати вместе с предводителями, среди которых выделялся дюжий бородач на пегом коне. Господам на тюремной башне он был незнаком, но среди горожан, густо усеявших городские стены, послышались голоса: «Гляди, гляди, Большой Лингарт!»
По мнению Альбрехта фон Адельсгейма, крестьян было тысячи две. Впечатление от этой вооруженной массы людей было тем сильнее, что они приближались в торжественной тишине, без шума, без песен, без звуков флейт и барабанов.
— Странно, — покачал головой господин Эразм, — Верницер писал о четырех тысячах, собравшихся в Рейхардсроде. Меня удивляет, почему он, столь хорошо осведомленный, не сообщил нам ни об их выступлении, ни о его цели.
— Стало быть, нам предстоит еще второй спектакль, ибо остальные не замедлят появиться, — усмехаясь, произнес Конрад Эбергард. — А что, если пальнуть в них из пушки? То-то пустились бы наутек!
Тем временем крестьяне вышли на луг перед городскими стенами и приблизились к Родерским воротам. Забили барабаны, ряды колыхнулись и стали, копья и ружья соскользнули с плеч на землю. Шумное возбуждение среди ротенбуржцев, стоявших на стенах, утихло. На лугу собирались командиры ополчения, они посовещались, и через несколько минут к воротам подошли трое: один из них был барабанщик, другой — знаменосец, а впереди шел странного вида человек в черной сутане, поверх которой были надеты латы. На боку у него висел меч, на голове была черная шляпа с отвислыми полями и красным пером.
— Они шлют нам парламентера! — воскликнул Эразм фон Муслор. — Поспешите к Родерским воротам, любезный Адельсгейм. Ваши ноги помоложе моих. А мы последуем за вами в меру наших сил.
Титул листовки 1525 г. с воззванием восставших крестьян
С этими словами он начал спускаться по ступенькам, сопровождаемый остальными. Не успели они выйти из башни, как услышали барабанную дробь и громогласный крик по ту сторону рва. Вызывали первого бургомистра.
— На наше счастье, эти стены крепче иерихонских[93], — сказал господин Эразм, — не то им бы не уцелеть от крика Этого молодца.
Но его задело за живое, когда он услышал голос рыцаря фон Менцингена, спрашивавшего с бастиона над воротами, зачем нужен парламентеру первый бургомистр. Обычно столь молчаливый фон Адельсгейм резко осадил Менцингена, потребовав не вмешиваться в дела, которые того не касаются, и крикнул стоявшему внизу посланцу крестьян, что его милость сейчас спустятся с башни.
Стефан фон Менцинген, вскипев, схватился за меч, но Альбрехт фон Адельсгейм хладнокровно бросил ему:
— Я к вашим услугам, когда и где угодно.
Появление бургомистра положило конец ссоре. Начальник городской стражи объявил о его приходе парламентеру, повернувшемуся к бастиону; у него было совсем юное лицо с крупным носом, таким же костлявым, как и вся его фигура. Он закричал:
— Евангелический братский союз ротенбургского крестьянства поручил мне испросить для его посланцев свободный пропуск в город на завтра поутру.
— С какой целью? — спросил бургомистр.
— Чтобы мирно обсудить жалобы крестьян и в согласии с долгом христианской любви уничтожить притеснения.
— Даете ли вы клятвенное обещание, — продолжал господин Эразм, — что ваши посланцы ничем не нарушат мира, если город предоставит им, конным и оружным, право беспрепятственного въезда и выезда назавтра?
— Обещаю от имени ротенбургского ополчения.
Эразм фон Муслор вопросительно посмотрел на второго бургомистра и, когда тот кивнул головой, крикнул стоявшему внизу:
— Так пусть ваши посланцы прибудут завтра в семь поутру к городским воротам.
Затем бургомистр и его спутники покинули Родерский бастион, а крестьянская рать вновь двинулась в путь, теперь уже под звуки флейт и барабанов. Стоя на стенах, ротенбуржцы провожали уходивших громкими криками. Ополчение направилось в деревню Нейзиц, расположенную в трех четвертях часа пути от города. Это была естественная крепость. Деревня раскинулась на высоком холме, вершину которого занимал обнесенный толстой стеной погост. Позиция эта давала крестьянам двойное преимущество: отсюда они могли не только наблюдать за Ротенбургом, но и господствовать над ансбахской дорогой. Леонгард Мецлер еще раньше прибыл туда со своим отрядом прямо из Гебзателя.
В ожидании остальных двух тысяч крестьян ротенбуржцы держали мост поднятым и ворота на запоре. Но вместо крестьян явился гонец из Эндзее. Шультгейс, граф фон Верницер, сообщал, что расположившиеся лагерем в Рейхардсроде крестьяне разделились, и половина ополчения двинулась на запад. О том, что остальные выступили на Ротенбург, он узнал слишком поздно и потому не мог своевременно предупредить магистрат. Выступление их ему стало известно в связи с бесчинством, учиненным ими в Оренбахе. Крестьяне из отряда подошли к дому оренбахского священника, забили кольями дверь, вырыли яму перед входом, замазали глиной кухонную печь и унесли ведро от колодца. После такого interdictum aquae et ignis[94] его преподобие, как только эти разбойники убрались, захватил кое-какую домашнюю утварь и свою стряпуху, которая не раз доставляла графу ценные сведения о замыслах крестьян, и бежал к нему в Эндзейский замок, где пребывает и поныне.
И это письмо попало к бургомистру, пройдя через руки фон Менцингена. Стража у Ворот висельников сначала привела гонца к рыцарю. Ему нетрудно было догадаться, почему крестьяне из Рейхардсроде двинулись в западном направлении. Вендель Гиплер не скрыл от него результатов балленбергских переговоров, а судное воскресенье — день встречи всех крестьянских ополчений в Шентальском монастыре, было уже не за горами. Фон Менцинген уже видел себя у цели. Теперь, в преддверии успеха, только безумец, следуя испанской моде, мог отдать все на волю слепого случая, управляющего острием шпаги, и принять вызов. И он подавил в себе бешенство, поднявшееся в нем при мысли об оскорблении, нанесенном ему начальником городской стражи. Скоро в его руках будет такая власть, что все средства будут к его услугам, и он отомстит будущему зятю бургомистра за обиду. Подобно пьянице, который чем больше пьет, тем больше жаждет, он, чем больше преуспевал, тем больше горел честолюбием. Ослепленный этой страстью, он не замечал ни мучительной тревоги жены перед его рискованным предприятием, ни поблекших роз на щеках дочери, страдавшей вдвойне: и за себя и за мать. Она знала, что отец не примирится с ее любовью к Максу.
Крестьяне прислали для переговоров тридцать своих военачальников, в том числе вчерашнего парламентера — священника Деннера из Лейценброна и Фрица Мелькнера из Нортенбурга. Тысячная толпа стояла на их пути от Госпитальных ворот до городской ратуши, где в большом зале проходило совместное заседание внутреннего совета и комитета. Этот комитет, включивший в свой состав и некоторых бывших членов внешнего совета, занимал скамьи последнего. За небольшим исключением, крестьянскую делегацию составляли молодые люди, которым едва перевалило за тридцать, кряжистые, узловатые, как дубы, с умными энергичными лицами, огрубевшими и загоревшими от солнца и ветра. Держались они, если не считать лейценбронского священнослужителя и Мелькнера, не то чтобы героями, но и не обнаруживали ни тени приниженности и страха, представ перед своими господами, которые на протяжении стольких поколений жестоко попирали крестьян. Чувствовалось, что эти люди прониклись всей серьезностью своей задачи, и многие из них, сознавая, что она им по плечу, гордились своей миссией. Толпа приветствовала их громкими радостными криками, и народ валил валом вслед за ними. С 1513 года, когда город удостоился чести посещения императора Максимилиана, ротенбургские улицы, пожалуй, ни разу не видели такого скопления народа. Нарастающий гул толпы еще издали возвестил заседавших в ратуше о приближении крестьянских послов. В 1513 году на главной площади был дан блестящий турнир; сегодня ристалищем, где предстояло скрестить копья, был зал магистрата, и толпа в нетерпеливом ожидании бурлила вокруг ратуши. Никто не работал в этот день.
И Каспар Эчлих, из осторожности просидевший несколько дней за работой дома, тоже устроил себе праздник. Но он не смешался с толпой, запрудившей улицы, а направился в Нейзиц. Прежде чем выйти из города, он убедился в том, что среди парламентеров, оставивших своих лошадей на постоялом дворе «Олень», на Кузнечной улице, не было ни одного оренбахца. Ему не терпелось разыскать Большого Лингарта, с которым он не виделся со дня похорон Лаутнера, и услышать от него, что делается в Оренбахе.
Со стороны большой дороги, охраняемой усиленными караулами, деревню прикрывал вагенбург[95] из крестьянских телег. Евангелическое воинство расположилось частью в пустых сараях, частью под навесами, наспех сколоченными из досок. Каспара задержали постовые, и паренек лет шестнадцати, вооруженный ржавой алебардой, отвел его в дом священника, где остановились Большой Лингарт и Мецлер. Шварценбронский великан стоял на крыльце.
— Тьфу ты, пропасть! Никак Каспар! — загремел он басом и с такой силой потряс ему руку, что едва не вывихнул ее. Его черные круглые глаза так и сияли радостью.
— Ну и молодец ты, Каспар, что пришел! Садись скорей да рассказывай. — И он потянул Каспара к скамье возле дома. Для Лингарта скамья была слишком низка, и ему пришлось сидеть, далеко вытянув вперед длинные ноги.
Внизу перед ними, спускаясь к самой дороге, раскинулась деревня. Ее соломенные и деревянные крыши выглядывали из-за свежей зелени кустов бузины и плодовых деревьев. В прозрачном воздухе гудели пчелы, вылетавшие из ульев священника. Вдали, чуть левей, на фоне светлого неба высился стройный силуэт башни ротенбургской ратуши и вздымались стрельчатые каменные пирамиды двух башен собора св. Иакова. Еще левей, сверкая на солнце, чешуйчатой лентой вился Таубер. Вооруженные крестьяне тащили к реке из Госпитального подворья коров, свиней, овец; другие несли кур, гусей, уток, нанизанных на копья. Богатые запасы подворья пришлись как нельзя кстати крестьянскому воинству. Справа от деревни на отлогом холме уже дымились костры, вокруг которых хлопотали женщины и толпились в предвкушении обеда мужчины. Копья, алебарды, косы были сложены в пирамиды, а ратники отдыхали, лежа на траве, или играли в кости и карты. Привязанные к изгороди кони сосредоточенно жевали заданный им корм. Небольшой отряд упражнялся в фехтовании под руководством Георга Тейфеля из Шонаха.
— Уж будь покоен, эти ребята заставят поплясать юнкеров и, в первую голову, Цейзольфа фон Розенберга, — сказал Лингарт с улыбкой. — Юнкер сделал крестьянам еще одну зарубку на память, да такую глубокую, что она прошла до самой кости. Разве ты не слышал? Когда они выступили в Рейхардсроде, он напал на их деревню, сжег дотла дома и дворы и перебил весь скот.
Каспар с ужасом взглянул на Лингарта. Ясно было, что он ничего не знал об этом новом подвиге Бешеного Цейзольфа.
— Да, — продолжал Большой Лингарт, глядя на фехтующих, — эти парни сумеют отомстить за нашего бедного Ганса лучше меня, и если ты через несколько дней попадешь в Оренбах, можешь передать Кэте, что дело сделано. Да, Каспар, вымолвить трудно, до чего я привязался к этому парню… — И он задумчиво покачал головой.
Каспар молча кивнул и, помолчав немного, сказал:
— И мне он был все равно как брат… Но что там с Кэте? Собственно, из-за нее-то я и пришел. Не доверяю я тамошнему шультгейсу, а с тех пор как вы ушли в Рейхардсроде…
— Не беспокойся за нее, братец, — заверил его великан, сразу оживившись. — Андреас из Тауберцеля и твой свояк смотрят за ней в оба, а оренбахский поп Бокель, должно быть, уже рассказал шультгейсу, что с нами шутки плохи.
— О чем ты говоришь? — недоумевая спросил Каспар. Большой Лингарт усмехнулся в бороду.
— А ты не слышал? Забавная история. Знаешь Конца Гарта? Крепостного, выселенного из Оренбаха?
— Конечно, знаю, — отвечал Каспар и рассказал, как Гарт вместе с другими беглыми крестьянами помогли ему с Гансом Лаутнером во время драки с Розенбергом.
Большой Лингарт издал тихий свист.
— Когда человеку приходится скрываться в лесах, — продолжал он, — переходя что ни день с места на место (ведь лесничие нюхом чуют его по тому, как убывают олени, зайцы, косули), а по ночам искать приюта у крестьян, то он слышит куда больше нашего. Поговаривают даже, за достоверность не ручаюсь, что Гарт сошелся с Концем Виртом из Гальдена, атаманом разбойничьей вольницы, и орудует теперь у него за гонца — разносит его грамоты среди восставших. Ну вот заявился он однажды и в Рейхардсроде. Пронюхал, что живет там семья бедняков — оброчных: муж, жена и ребенок. Только, оказывается, мальчишка-то чужой — поповский приблудок. Об этом разведал Конц Гарт, да и раскопал, что его мать не кто иная, как стряпуха оренбахского попа, девица Аполлония.
При этом известии Каспар громко рассмеялся. Большой Лингарт тоже расхохотался, погладил свою бороду и продолжал:
— Нет, ты только послушай, какие штучки откалывает, дьявол. Когда мы стояли в Рейхардсроде, придет, бывало, туда поповская прислужница, а к вечеру приемная мать отправляется в Оренбах, а попозже и Аполлония — в Эндзее. Конц Гарт чует, тут дело нечисто, разнюхал и шепнул об этом Симону. Тот взял рабов божьих супругов в оборот: признавайтесь, мол, какие сведения передавали Аполлонии, а не то военный суд — и вас вздернут как миленьких. Тут они оба, стуча зубами, признались, что шпионили за нами, передавали все Аполлонии, а та — эндзейскому шультгейсу. Ну, как водится, стали клясться Христом-богом, что больше не будут. Симон уж готов был сменить гнев на милость, только мы порешили, что береженого бог бережет. Прогулялись мы в Оренбах, наложили на попишку отлучение да заколотили его берлогу. А ему посоветовали убираться подобру-поздорову. Теперь оренбахским приходом ведает Симонов брат Андреас; уж он позаботится, чтобы с семьей Симона ничего худого не случилось.
Каспар с облегчением вздохнул, высоко подбросил шапку и, поймав ее на лету, закричал: «Ура!» Большой Лингарт скорчил насмешливую гримасу, и его лицо, напоминавшее хищную птицу, приняло свирепое выражение.
— Эге, брат суконщик, вот такие-то дела! А теперь выпьем за здоровье Кэте. Кстати, я тебя еще не угощал.
И, опершись на рукоять своего широкого меча, который он все время держал между колен, Лингарт встал.
— А вот и нейзицкий пастор, — сказал он, кивнув головой на священника, переходившего через дорогу. — Должно быть, навещал болящих. Такими, как он, вероятно были апостолы. Уста его извергают пламя. Только его евангелие — свобода. А путь к ней — через деятельную любовь. А я, грешным делом, полагаю, что, не возьмись мы за мечи, ввек бы нам не видать свободы.
Священник шел не торопясь, и Каспар успел его разглядеть, прежде чем он приблизился к ним. То был стройный молодой человек лет тридцати, его загорелое тонкое лицо дышало смелостью. Голубые глаза смотрели на мир кротко и серьезно. Пепельные волосы выбивались из-под широкополой шляпы. Еще издалека он приветливо помахал им рукой, а подойдя ближе, сказал:
— Все в этом мире шиворот-навыворот: гости встречают хозяина у его же порога. Заходите в дом.
Голос у него был высокий и зычный. Когда Большой Лингарт назвал ему стригальщика, он возразил:
— Что мне в его имени? Разве он не такой же человек, как все? Прошу пожаловать.
Выстрел, раздавшийся где-то справа, заставил их задержаться у порога. Забил тревогу барабан, и Лингарт побежал туда во всю прыть гигантскими шагами. Отовсюду выбегали крестьяне, мигом разбирали оружие и спешили к сборным пунктам. На дороге показался отряд всадников в панцирях с трубачом впереди. Кирасиры остановились, трубач проехал еще несколько шагов вперед. Но не прошло и минуты, как он вздыбил коня, и все они, круто повернув назад и вонзив шпоры в конские бока, исчезли в облаке пыли.
— Гроза пронеслась, — промолвил Ганс Штёклейн, пропуская Каспара вперед. Они очутились в просторной горнице с выбеленными стенами и низким бревенчатым потолком. Кроме стола и нескольких стульев орехового дерева, там стояли две кровати: для Большого Лингарта и Мецлера. Леонгард Мецлер еще с утра ускакал в Бретгейм, чтобы хоть одним глазком взглянуть на свое хозяйство. Единственным украшением комнаты было простое распятие, висевшее на стене между кроватями. Дверь в противоположной стене вела в комнату священника. Опрятно одетая крестьянка, с уже тронутыми сединой волосами, внесла и поставила на стол глиняные кувшины с вином и молоком, деревянные кубки, хлеб и мед. «Кушайте на здоровье», — приветливо сказала она, и Каспар принялся за дело, не дожидаясь повторного приглашения. Священник налил себе молока. Вина он не пил. Он вовсе не был аскетом, но урезывал себя во всем, чтобы иметь возможность больше отдавать нуждающимся.
— За победу народа! — воскликнул он, чокаясь с Каспаром. — Бунтовщиком называют они крестьянина, когда он в отчаянии хватается за оружие, поняв, что его жалобы — глас вопиющего в пустыне.
— Мой отец испытал это на себе, — сказал Каспар.
— Это испытали все, кто родился в хижине. — И Штёклейн, вздохнув, провел рукой по выпуклому лбу. Он был без шляпы, и Каспар заметил, что его тонзура заросла. — Мне пришлось надеть рясу во искупление чужих грехов. Поистине — легкий способ очиститься от скверны! Тогда я призадумался и понял, что церковь не есть христианство. Вообще церковь. Потому-то я и воспитываю свою общину в духе евангельской свободы.
Каспару хотелось расспросить священника о его прошлом, но он не решился. Штёклейн с горячей похвалой отозвался о дисциплинированности крестьян, которых возвышает и облагораживает одно сознание того, что они борются за свободу.
В это время появился Большой Лингарт. Он пригнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку. Бросив шлем на ближайшую кровать и не снимая панциря, он присел за стол и схватил кувшин с вином.
— Это были ансбахские кирасиры, человек пятьдесят, — сказал он, залпом осушив кубок. — Увидев, что роза, которую они порывались сорвать, с шипами, храбрецы передумали и удалились восвояси. Мы попросили передать наш нижайший поклон их толстобрюхому маркграфу да сказать, что не разойдемся по домам, покамест магистрат не удовлетворит наши требования. Хотел бы я знать, с каким ответом воротится Деннер. Он искусный и храбрый воин.
Но и Муслор тоже спуску не даст, если верить моему старику, — вставил Каспар.
У Большого Лингарта уже было другое на уме, и, повернувшись к хозяину, он воскликнул:
— Отче, а почему бы и тебе не препоясать свои чресла мечом… мечом этого… как его бишь зовут в священном писании?
— Мечом Гедеона?[96] — помог ему Штёклейн.
— Да, да, Гедеона! Как почувствуешь рукоять меча в кулаке, сразу станешь другим человеком.
Молодой священник, улыбаясь, покачал головой.
— Я сражаюсь оружием, которым владею, и здесь принесу пользы больше, чем на ратном поле.
— Эх, теперь бы самая пора пахать родные поля! Да, видно, придется сперва попотеть на другом, — ввернул Лингарт. — А знаешь, я только теперь почувствовал, что не зря живу на свете. Знать, не суждено мне было век гнуть спину за плугом, пока не скрючило бы вдвое.
Отхлебнув еще вина, он подкрутил торчащие кверху усы и запел густым басом:
С чего бы мне, друзья, начать, Чтоб вам талант свой показать? Ну, так и быть, спою Я песенку свою.Он так нестерпимо фальшивил, что Штёклейн не выдержал, заткнул уши, вскочил и выбежал за дверь. Но Лингарт, нисколько не смутившись, пропел все тринадцать куплетов ландскнехтской песни. Потом расхохотался во все горло и, оттолкнув кубок, приложился прямо к кувшину.
— Послушай, Лингарт, — сказал Каспар, понизив голос и поглядывая в открытую дверь, — ты, верно, давно знаком с Штёклейном. Не знаешь ли, почему ему пришлось стать священником?
— Пришлось или не пришлось, этого я не знаю, — так же тихо отвечал Лингарт, повернувшись лицом к раскрытой двери. — Когда-то он мне сам рассказывал кое-что. Возможно, что его постригли против воли. Таким манером можно заглушить то, что не должно выйти на свет божий. Поговаривали, что он — пригулок одной знатной вюрцбургской дамы. Епископ и заслал его подальше.
— Окна еще целы? — шутливо спросил вернувшийся в дом Штёклейн. Каспар с участием посмотрел на него. Немного погодя Каспар поблагодарил хозяина за гостеприимство и вместе с Лингартом зашагал через деревню.
— Так ты думаешь, опасность не угрожает Кэте в Оренбахе? — обратился он к Лингарту. — Ее брата Симона сейчас нет в Рейхардсроде. Это я знаю от отца, который заседает в комитете выборных.
— Ах, да, Кэтхен! — лукаво подмигнул ему Большой Лингарт. — Пожалуй, эндзейский шультгейс поостережется теперь подливать масла в огонь. Ему и без того скоро зададут перцу в его замке, как и всем, кто засел в своих замках и крепостях. А что до Нейрейтерши, то, верь моему слову, все ее богатство и пышность растают, как снег на солнце, когда крестьяне перестанут платить оброк, арендную плату и нести другие повинности. Хватит драть с нас по семь шкур! Словом, можешь не беспокоиться.
На этом они расстались.
У самого города Каспар встретил Лоренца Кноблоха. У малого была багровая рожа, и от него разило вином.
— Куда бог несет, приятель? — крикнул ему Каспар.
— К крестьянам, — отвечал тот, громко рыгнув. — У горожан дело ни с места. Сам дьявол подох бы с тоски, а мне так подавно осточертело. Крестьяне — вот это молодцы! Они не позволят водить себя за нос. Удовлетвори их требования сейчас же — и все тут! Магистрат говорит: никак не возможно. А этот черт Деннер с красным пером им в ответ: все оброки, барщина, десятины и другие повинности, противные священному писанию, с сей минуты отменяются. И при этом схватился за меч. Его друзья — тоже. Еще немного, и они сцепились бы с Гасселем и Винтербахом врукопашную. Эренфрид Кумпф насилу их развел. И даже Менцингену досталось на орехи от Мелькнера. Когда комитет порешил дело с крестьянами, они заявили: нянек нам не надо. Пусть ремесленники и виноделы предъявят свои жалобы к городу, и комитет вместе с крестьянами их разберет. Даже денежную отчетность у магистрата потребовали. Знай наших! Теперь они всей братией выпивают за счет города в «Красном петухе». Нет, хватит, с горожанами я больше не вожусь. Ну их ко всем чертям.
Он двинулся дальше, но, пройдя несколько шагов, обернулся и крикнул:
— В следующий раз увидишь меня капитаном.
— Ну конечно! Такие, как ты, нам и нужны! — насмешливо бросил Каспар вслед ветреному парню.
Глава шестая
Стефан фон Менцинген предоставил учителю латыни, как обычно называли в городе Валентина Икельзамера, угощать посланцев-крестьян в «Красном петухе». Его высокомерие было немало уязвлено тем, что крестьяне держали себя с другими членами комитета на равной ноге и были намерены обсуждать в нем не только свои, крестьянские, но и городские дела. От внимания рыцаря не ускользнуло также, что старшие цехи, охватывавшие зажиточное бюргерство, несмотря на свою приверженность партии церковной реформы, предводительствуемой Дейчлином и командором Христианом, из-за решительных действий крестьян и их союза с ремесленниками переметнулись в стан его противников. И все же он старался с невозмутимым видом переносить удары судьбы, чтобы не подорвать основы своего влияния. Но самая глубокая рана его самолюбию, хоть он и не хотел в этом сознаться, была нанесена тем, что крестьянские вожаки, Деннер и Мелькнер, во время переговоров в ратуше обнаружили понимание своих задач по меньшей мере равное его собственному, а их горячая преданность своему делу и глубокая вера в его правоту придавала их словам силу, перед которой меркло его красноречие.
То, что он увидел, придя домой в таком расположении духа, окончательно вывело рыцаря из равновесия. Когда он вошел в комнату, Эльза и Макс сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу. Его дочь, положив руку на правое плечо молодого человека и прильнув своей кудрявой головкой к его левому плечу, смотрела на лежавшее перед ним письмо, которое он читал вслух. Ее мать, вся превратившаяся в слух, сидела у окна, уронив вязанье на колени, чтобы слушать не отвлекаясь. То было письмо, полученное утром от Флориана Гейера. Макс ждал его уже много недель. Гейер писал ему, как он выразился, уже занеся ногу в стремя. Да, настало время обнажить меч! «Я не зову вас в поход, — писал он, — так как, насколько мне известно, вы не военный человек. Но ваше знание права то же оружие, в котором мы испытываем большую нужду, тем более что, как я заключаю из ваших писем, у вас правильный взгляд на вещи. Вы должны принять участие в создании новой имперской конституции, которая вступит в силу после того, как под ударами нашего меча падет феодальное господство знати и церкви. Вендель Гиплер призовет вас, когда пробьет час».
При появлении Стефана фон Менцингена Макс перестал читать, а Эльза, слегка вскрикнув, вскочила с места, и ее лицо залилось ярким румянцем. Ее мать в первую минуту оцепенела в своем кресле, Макс поднялся, смущенный.
— Я, кажется, помешал, — с едкой иронией заметил хозяин дома.
— Я читал письмо Флориана Гейера, — сказал Макс, овладев собой, и протянул письмо рыцарю, но тот резким жестом отклонил его руку и загоревшимися от гнева глазами уставился на дочь, стоявшую с поникшей головой. Тем временем фрау фон Менцинген пришла в себя, поднялась с кресла и, робко коснувшись руки мужа, сказала:
— Прошу тебя, Стефан, дети тут ни при чем. Я одна во всем виновата. Пойдем, я тебе все объясню!
Но он остановил ее злобным взглядом, оттолкнув ее руку.
— Нечего объяснять. Я не слепой.
— Нет, это моя вина, господин Стефан, — воскликнул Макс, — что я до сих пор не пришел к вам, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, просить руки вашей дочери. Простите меня!
— В самом деле?.. — начал тот, но оборвал, не закончив мысли, и провел рукой по лбу, на котором от гнева вздулась жила.
— Отец! — умоляюще воскликнула Эльза, но тот, не обращая на нее внимания, продолжал:
— Правда, господин доктор, я ваш должник. Но я никак не ожидал, что вы попытаетесь сами вознаградить себя за моей спиной.
— Господин фон Менцинген! — вне себя от негодования воскликнул Макс. Но Эльза сжала его руку, и под ее умоляющим взглядом он сдержался.
— Еще раз прошу вас простить меня, но когда я решил, что могу быть вам полезен, клянусь честью, я не помышлял ни о какой награде. Да разве можно представить себе такую заслугу, которая была бы достойна такого сокровища, как сердце вашей дочери? Но она подарила мне его по свободному выбору, и я прошу вас, не откажите нам в вашем отцовском благословении, как не отказала в своем ваша супруга.
Взглянув на Эльзу, которая, простирая к отцу сплетенные руки, с мольбой смотрела на него, фрау фон Менцинген подошла к мужу и взволнованно проговорила:
— Не отвергай преданного и надежного друга, Стефан. Тебе лучше чем кому-либо известно, как дорог такой человек в наше ужасное время. Ты не можешь его оттолкнуть, ты не можешь сказать нет.
— О отец, отец! — воскликнула Эльза, подняв на него глаза, полные слез.
— И все-таки — нет, — отвечал рыцарь. — Теперь не время идиллий и буколических стишков. Чем тревожней время, тем прочней должна быть основа, на которой я желаю построить счастье моей дочери. Вы, господин доктор, как и я, лишены средств. Я совершил бы безответственный поступок, если б допустил, чтобы моя дочь предавалась тщетным надеждам. Нет, господин доктор, не таков ее удел.
— Но я готова ждать, милый батюшка! — взмолилась Эльза, вложив в эти слова всю нежность своей души. А Макс, захлебываясь от волненья, произнес:
— Вы слышали, господин фон Менцинген, Эльза любит меня. Вы не должны быть помехой нашему счастью. Вы отдаете все силы, даже, может быть, свою жизнь делу освобождения угнетенных, так как же вы можете стать угнетателем собственной дочери, отказывая в ее руке избраннику ее сердца?
У рыцаря белки налились кровью.
— Я не мечтатель, как вы! — воскликнул он, задетый за живое словами молодого Эбергарда и с трудом сдерживая бешенство. — Кто не умеет повиноваться, тот не заслуживает свободы. То, что вы называете свободой, лишь потворство разнузданным страстям, слабость изнеженного сердца. Мое решение неизменно, и Эльза исполнит свой долг перед отцом. Пришлите мне ваш счет, господин доктор, я его оплачу.
Макс вздрогнул, словно его ударили. Фрау фон Менцинген, чтобы не упасть, опустилась в кресло. Эльза же бросилась на шею возлюбленному и, обнимая его обеими руками, воскликнула:
— Нет, не отпущу тебя, не отпущу тебя, любимый!
— Успокойся, жизнь моя! — отвечал он, содрогаясь от душевной боли. — Мое сердце принадлежит тебе навеки. Жестокость твоего отца может разлучить нас, но не может вырвать тебя из моего сердца. Но сейчас мне остается только уйти.
Стефан фон Менцинген подошел к окну и, скрестив руки на груди, мрачно смотрел на Рыночную площадь. Макс покрывал лицо любимой бесчисленными поцелуями, потом взял обеими руками ее кудрявую головку и поцеловал влажные от слез глаза и прекрасный чистый лоб. Огромным усилием воли он оторвался от нее, подбежал к плачущей матери, поднес к губам ее руку и бросился к двери.
— Прощай, любовь моя! — крикнул он с порога.
— Макс! — вырвался у Эльзы крик отчаянья. — Матушка! — И девушка, упав перед нею на колени, зарылась лицом в складки ее платья.
Еще с минуту рыцарь стоял у окна, подкручивая кончики усов. Он хотел было что-то сказать, но, встретившись взглядом с глазами жены, полными печального укора, не решился, резко повернулся и вышел из комнаты.
Доктор Макс Эбергард не прислал счета. Между тем комитет получил из Нейзица письмо, в котором крестьяне всецело повергали свое дело на его благоусмотрение. «Но пусть почтенные члены комитета не удивляются, что крестьянская рать продолжает продвигаться вперед: наши братья крестьяне соседних владений нуждаются в совете и помощи. Мы не можем им в этом отказать, но надеемся в короткий срок справиться с этим делом».
Отряд уже выступил из Нейзица и переправился на левый берег Таубера. Если бы Каспар присутствовал при этом, он бы узнал Лоренца Кноблоха, гордо шествовавшего во главе крепостных, бежавших от юнкеров Розенберга и Финстерлора. Еще ничем не проявив своей доблести, он поражал крестьян своей редкой способностью хлестать вино. Оборванные, измученные, изнемогшие под тяжким гнетом крепостные поддались на его громкие речи. Подобно мельничному колесу, которое вспенивает воду, далеко разбрасывая брызги, Кноблох уговорами, самохвальством, лестью, подстрекательством сумел возбудить в этих несчастных жажду мести и направить ее против юнкеров. Эти люди, из которых знатные господа вытравили почти все человеческое, ринулись гурьбой к Форбаху, туда, где при его впадении в Таубер, чуть пониже городка Вейкерсгейма, славящегося своим вином, был расположен Шефтерсгеймский женский монастырь. Там, на склоне горы, у подножья которой лентой вьется Таубер, — прилепились громады Гальтенбергштеттенского и Лауденбахского замков.
Неподалеку от замка Бешеного Цейзольфа, вверх по течению Форбаха, раскинулось большое село Оберштеттен. Там были размещены ротенбургским магистратом крупные запасы зерна. Крестьяне не задумываясь наложили на них свою руку, и провиантмейстер Фриц Мелькнер начал отпускать пшеницу нахлынувшим из соседнего шроцбергского округа покупателям — крестьянам графов Гогенлоэ. Между тем для ведения переговоров прибыли самолично делегаты комитета, в том числе Валентин Икельзамер, Ганс Леопольд Бек, Килиан Эчлих, а также Иероним Оффнер и Христиан Гайнц; последние двое — бывшие члены внешнего совета. Принадлежа к патрициату, оба они с тайной злобой наблюдали за продажей городских запасов крестьянам, но помешать этому были не в силах. Как объявил крестьянским вожакам Икельзамер, делегатам было поручено взять с крестьян клятвенное обещание в том, что они будут подчиняться решениям комитета и неукоснительно следовать его указаниям.
— Это дело еще надо обмозговать, — заявил Леонгард Мецлер. — Пусть господа делегаты не посетуют, если им придется прогуляться вместе с нами. Мы выступаем. Нам мешкать не приходится.
— Правильно, — подтвердил Большой Лингарт, — а переговоры пусть ведет отец Деннер. Одно только я хочу спросить. Вот мы поладили с ротенбургским комитетом и с общиной. Но, помяните мое слово, магистрат нам ввек не забудет, что мы добились справедливости восстанием. Да и наши соседи, благородные господа, крепостные которых пристали к нам, тоже затаили против нас злобу. Выходит, значит, что мы должны быть постоянно начеку и ждать удара в спину. Как помочь делу? Пораскинь-ка мозгами, отец Деннер!
С этими словами он вскочил на своего сивого жеребца и понесся к отряду розенбергских и лауденбахских крестьян, стоявших в авангарде и с нетерпением ожидавших сигнала к выступлению.
— Вперед, братцы! — крикнул им Лингарт. — Вперед! Только смотрите, взять его живым, мерзавца, живым, гнусного поджигателя. На кой он нам, этот пес дохлый!
— Зажарить его живьем, собаку! — раздались яростные крики и из рядов, которые зашевелились и двинулись вперед во главе с Большим Лингартом, гарцевавшим на коне.
К нему подъехал Кноблох. Кивнув головой в сторону шагавшего за ним отряда, он спросил:
— Ты что, собираешься брать замок этими вилами, косами, дубинками да ржавыми копьями?
— А почему бы и нет? — с невозмутимым спокойствием отвечал Лингарт и, искоса посмотрев на Кноблоха, продолжал: — Само собой, куда легче хлестать вино да тискать девок. Впрочем, нам бы только обложить лису в ее норе, а там скоро подойдут другие.
Слева, на высокой, поросшей кустарником скале показались серые стены Гальтенбергштеттенского замка. Но когда отряд вышел из-за поворота и у подножья замка, за мостом, ведущим на левый берег Форбаха, открылась деревня, из груди у каждого вырвался крик, слившийся в неистовый и протяжный вопль. Такое зрелище могло бы потрясти и сильные сердца, но каково же было несчастным, когда они увидели, что осталось от их родного гнезда. Почти вся деревня была обращена в пепелище. Там торчали к небу черные обуглившиеся стропила; тут стояли дома без крыш; там лежали вывалившиеся на улицу обгорелые бревна, а тут зияли лишь отверстия окон. Лишь кое-где еще остались полуразрушенные, обвалившиеся стены, да среди груды мусора торчали обгорелые печные трубы. Ужас, боль, отчаянье сжали сердца несчастных, обездоленных крестьян, и они, не обращая внимания на окрики командиров, бросились стремглав туда, где еще накануне была их деревня, словно огонь еще вырывался из хижин и хлевов и еще можно было что-то спасти. Их приближение было замечено, должно быть их ждали: из-за развалин выступили какие-то тени и, сбившись в кучу, устремились к мосту, навстречу подошедшим. То были оставшиеся в деревне женщины, старики, дети. Какая встреча! Какие судорожные объятья, поцелуи, рукопожатья! Сколько рыданий, слез, жалоб, гневных возгласов, проклятий, призывов к мести!
Оставшиеся в рядах лауденбахцы с состраданием глядели на своих несчастных товарищей, а Большой Лингарт, не переставая, покручивал свой длинный ус.
Между тем виновник этого страшного преступления сидел высоко в замке со своим дружком фон Финстерлором, и оба они щедро заливали вином обед, остатки которого еще стояли на разделявшем их дубовом столе. Внизу за окном расстилалась прекрасная в своей дикости форбахская долина. Сожженной деревни не было видно. Юнкер Филипп находился в замке Розенберга еще со вчерашнего дня. Утром они охотились на дикого кабана, а теперь отдыхали от трудов праведных. Владелец Лауденбаха приехал посоветоваться со своим другом, как бороться с надвигающейся грозой крестьянского восстания. Хотя он и не отплатил своим беглым крестьянам с таким коварством и жестокостью, как его друг, однако и его совесть была нечиста: и он тоже нещадно притеснял своих крепостных, чтобы выжимать из них средства на кутежи. И вот по соседству с ним восстали, следуя примеру мергентгеймских горожан, вейкерсгеймцы. Он предложил Розенбергу вместе бежать в Вюрцбург, где они будут в безопасности, ибо им одним с горсткой слуг едва ли устоять в своих замках перед натиском крестьян. Но Бешеный Цейзольф поднял его на смех. Крестьяне — это трусливый сброд. Они разбегутся при первом ударе. Да они никогда не посмеют напасть на их замки. У них нет пушек. А если эти мужланы вздумают пробивать стены башкой, что ж, пусть попробуют!
Легкомысленный юнкер Финстерлор легко поддался на уговоры рыжебородого, и они больше не возвращались к этой теме. Но, как видно, в сознании Бешеного Цейзольфа глухая тревога продолжала свою тайную работу, и через некоторое время, оторвавшись от кубка, он вдруг стукнул кулаком об стол и рявкнул:
— Ну и собачья жизнь! А кто виной тому, что это вшивое мужичье подняло головы? Никто, как император Макс с его вечным земским миром! Прежде, бывало, начнется смута, пустим по деревне красного петуха, угоним у крестьянина скот, а его самого потащим работать на наши поля или бросим околевать в башню. А теперь? Станет ли крестьянин уважать дворянина, когда он его больше не боится? Мой покойный отец не раз объявлял беспощадную войну Ротенбургу и нападал на его деревни. Да, тогда крестьянин еще дрожал перед нами. А теперь от этого вечного мира мы все обабились. Даже сам Гец с железной рукой, уж на что он вечно воевал с кем-либо из-за добычи, и тот заполз в свою дыру, после того как три года тому назад ему пришлось выкупиться за две тысячи рейнских гульденов из гейдельбергской тюрьмы. Дорогонько обошлось ему выступление против Швабского союза на стороне герцога Ульриха! И Томас фон Абсберг, и Вольф фон Гих, и мой кузен Кунц, и Ганс фон Эмс — все они не выходят на благородный промысел уже почти два года: с тех пор как Швабский союз взял у них и сжег Вальдштейнский замок.
Юнкер Филипп громко загоготал. Не смущаясь тем, что его дружок, во хмелю столь же мрачный, сколь он сам веселый, юнкер насупил брови и воскликнул:
— Да у тебя хандра, друг мой, а все оттого, что ты сидишь в своей дыре, надувшись как сыч. Черт возьми! А почему бы тебе не жениться? Я знаю одну особу, она пришлась бы тебе по вкусу.
— Отвяжись, — проворчал фон Розенберг и потянулся к кубку.
— Нет, ты погоди отмахиваться. Когда я был в Вюрцбурге, на карнавале, — я тебе рассказывал? — там всех затмила прекрасная Адельгунда фон Тюнген. Я познакомился с нею в доме у ее матери и подружился с ее братом Адамом. Ты знаешь, он — двоюродный брат епископа, герцога Франконского, как он себя именует, — смеясь, добавил он. — Прехорошенькая штучка эта Адельгунда. Сам епископ от нее без ума, ты понимаешь? И этот юнец, Вильгельм фон Грумбах[97], тоже вокруг нее увивается. У него губа не дура, да руки коротки. Адам ни за что не отдаст ее вассалу своего кузена, а тем более младшему сыну Грумбаха. Даю голову на отсечение, ты получил бы ее, если б захотел.
— Да не хочу я, черт ее побери совсем! — рявкнул Цейзольф.
— Здорово же у тебя засела в голове Нейрейтерша! Что? Разве не так?
Розенберг сгреб в кулак кубок и с такой силой стукнул им об стол, что вино обрызгало его растопыренные пальцы. Его водянистые глаза угрожающе вспыхнули. Уставившись на пожимавшего плечами Финстерлора, он спросил:
— Что я, по-твоему, спятил?
— А разве ты был в своем уме, когда затевал это дело? Ведь я предупреждал тебя, что оно сорвется. Мое счастье, что не я сам попался в руки этому взбешенному подмастерью, а только мой плащ. А все-таки она чертовски хороша, надо ей отдать справедливость.
Цейзольф молчал и только в раздумье поглаживал свою лопатообразную рыжую бороду. Молчал и его друг. Вдруг рука Финстерлора с кубком застыла в воздухе, и он повернулся к окну. Ему показалось, будто на дворе завыл сильный ветер. Но тут заговорил Розенберг, и он, прихлебывая вино, стал его слушать.
— А кто их разберет этих баб? Ты знаешь, как она тогда визжала и отбивалась. Магистрат даже пожаловался на меня в имперский суд. Правда, пока еще я от них ничего не получал… и, представь себе, пожелай я теперь…
— Что? Ну что? — с нетерпением повторил юнкер Филипп и, опершись локтями на стол, наклонился к нему всем туловищем.
— Нет, вот потеха! — воскликнул Цейзольф. — Я получил письмо от тетки из монастыря. У нее была Габриэла. Она еще сердится, но уже готова меня простить, если я лично, собственной персоной, повинюсь перед ней. Я должен известить тетку, когда смогу, и она мне устроит свидание с Габриэлой. Только нужно действовать осторожно: садовая калитка замурована и придется ехать через город.
— Черт возьми! — воскликнул юнкер Финстерлор. — А все-таки ради такого дела стоит рискнуть!
— Вот как! Теперь стоит, а тогда я был не в своем уме! — насмешливо возразил его друг. — Впрочем, я еще не решил, что делать. А вдруг эта обольстительная чертовка из мести хочет расставить мне капкан?
— В монастыре тебя не посмеют тронуть.
— А на улице?
— Знаешь, как бы то ни было, здесь тонкая игра. Клянусь брюхом! — воскликнул Финстерлор, наполняя кубок до краев. — Красивые женщины обычно не блещут умом, но у этой принцессы из купчих, надо ей отдать справедливость, есть голова на плечах. Выпьем, Цейзольф! За прекрасную Габриэлу!
Они чокнулись смеясь. Но не успели они осушить кубки, как в комнату стремглав вбежал перепуганный слуга и закричал:
— Крестьяне идут, милостивый господин!
— Какие крестьяне, болван? — закричал на него хозяин замка и поставил кубок на стол. Финстерлор вскочил со скамьи.
— Наши, я узнал многих, да и чужих целая тьма. И все — вооруженные. Ползут на гору точно муравьи.
Широкое, разгоряченное от вина лицо юнкера побагровело от ярости, и он загремел:
— Проклятье! Значит, этот сброд совсем обезумел! Поднять мост! Запереть ворота! Всем взять копья и арбалеты! Живо!
Слуга выбежал из комнаты.
Друзья схватили мечи и береты и бросились в угловую башню, окна которой выходили на долину. Ворота замка находились на противоположной стороне. Каменистая дорога, поднимавшаяся спиралью вокруг замка, почернела от толпы. Не только вооруженные мужчины, но и женщины выходили из-за деревьев. Впереди шел Большой Лингарт. Своего коня он оставил в деревне. Юнкеры узнали в нем того великана, который задал им жару в день трех волхвов в Ротенбурге. Неясный гул, походивший на шум ветра или рокот прибоя, нарастал. Теперь Розенберг убедился в том, что его слуга не ошибся. Это были его беглые крепостные, и Финстерлор узнал своих крестьян.
— Тем лучше, расправимся со всеми сразу, — сказал он.
Они поспешили вернуться в замок, чтобы запастись аркебузами, порохом, пулями. Трое слуг и егерь — вот и весь их гарнизон. Людей они расставили у бойниц, по обе стороны от ворот. Только они заняли свои места, как из лесу с криками выскочили крестьяне. Мост через расщелину между скалами был поднят. Это озадачило наступавших. Большой Лингарт выступил из толпы и крикнул юнкерам, чтобы они сдавались. Сопротивление бесполезно, это лишь авангард, а за ним идет все ротенбургское ополчение.
Нападение ландскнехтов на деревню
С гравюры XVI в.
Вместо ответа егерь послал стрелу, которая с такой силой ударила Лингарта в грудь, что он зашатался. Но стрела не пробила панциря из закаленного железа и, отскочив, упала к его ногам. С громкими криками крестьяне подбежали к самому рву. Брошенный одним из крестьян дротик поразил в голову слугу, стоявшего возле Розенберга. Тот упал навзничь. Задрожали натянутые тетивы арбалетов, но стрелки торопились, и стрелы пролетали слишком высоко. Юнкеры берегли заряды для Большого Лингарта, который скрывался от них за толстым стволом букового дерева. Зычными окриками он удерживал безрассудно устремлявшихся вперед. Между тем крестьяне подходили все ближе, подбирая камни на дороге и забрасывая ими осажденных. Тогда юнкеры потеряли терпение и разрядили свои аркебузы в толпу. С минуту длилось замешательство, потом Большой Лингарт выбежал из-за прикрытия и с проклятиями, ударяя мечом плашмя, загнал под деревья вырвавшихся вперед. Среди крестьян оказалось несколько раненых. Вдруг юнкеры с двумя оставшимися в живых слугами исчезли со стены. Затем из замка донеслись крики, выстрелы, лязг железа. Подъемный мост со скрипом опустился, и Лингарт со своим отрядом ворвался в замок.
Будь юнкеры и их слуги повнимательней, они бы заметили, что незадолго перед тем часть крестьян, отделившись от отряда, под прикрытием леса обошла замок с левого фланга. То были гальтенбергштеттенцы, отважные ребята, с детских лет знакомые с местностью. Они несли с собой лестницы и в удобном месте перелезли через стену. Нападение с тыла ускорило исход борьбы; юнкеры отчаянно сопротивлялись, но на стороне крестьян был слишком большой перевес. Когда Лингарт со своими людьми вошел во двор замка, оба юнкера уже были обезоружены и связаны. Они стояли мрачные, озлобленные, вызывающие. Ему стоило большого труда спасти их от законной ярости крестьян. Да и он сам не мог удержаться и то и дело бросал на них злорадные взгляды, подкручивая при этом свои густые усы. Слуг он приказал освободить.
— Ну, а теперь на суд, господа дворяне! — крикнул он и приказал бить в барабан, единственный в отряде, чтобы собрать людей, которые разбежались по замку в поисках добычи. Выйдя на дорогу, он увидел, как внизу, по долине, к замку приближается Светлая рать.
Большой Лингарт все время держался возле пленных, но не для того, чтобы насладиться их униженьем, а чтобы спасти им жизнь. Но ни прорвавшаяся наконец долго сдерживаемая ненависть их бывших крепостных, ни проклятия, ни угрозы, ни тычки и удары, полученные даже от женщин, не смирили гордыни юнкеров. Среди крестьян, собравшихся во дворе замка, был седой как лунь старик. При виде связанных кровопийц он воздел руки к небу и воскликнул:
— Благодарю тебя, боже, что ты дал мне дожить до этого дня!
Перейдя через мост, Большой Лингарт встретился с предводителями медленно приближавшейся Светлой рати и посланцами ротенбургского комитета. Увидев сожженную деревню, они пришли в сильное возбуждение, и бретгеймец Мецлер крикнул Лингарту:
— Что ты тащишь за собой этого убийцу и поджигателя вместе с его сообщником? Почему ты не повесишь их на месте?
— Ради бога! Что вы говорите! — испуганно воскликнул Валентин Икельзамер. — Не обагряйте руки кровью!
— Нет, их будут судить, судить по праву и справедливости, и предадут смерти, — отвечал Лингарт и построил своих людей в круг, внутри которого должен был происходить суд. Отекшее лицо юнкера Филиппа было бледно, хотя и не выдавало страха. Его друг хранил вызывающий, мрачный вид.
— Это будет месть, а не правосудие! — вскричал учитель латыни.
— Нет, правосудие! — резко возразил Лингарт и предложил военачальникам войти в круг.
Валентин Икельзамер подошел к своим спутникам, бывшим членам магистрата из патрициата, Иерониму Оффнеру и Христиану Гайнцу и начал советоваться с ними. Они подозвали к себе и священника Деннера.
Когда собравшиеся в круг вожаки крестьян хотели приступить к суду над юнкерами, попросил слова Икельзамер.
— Дорогие друзья, — начал он, — судье не пристало внимать голосу страстей. Недаром говорится в священном писании: «Среди змей и ехидн я направлю твои стопы». Таков и ваш путь. А кто же этот юнкер фон Розенберг, как не ядовитая змея?..
— Тысяча чертей! — закричал рыжебородый, силясь высвободить руки, скрученные веревками за спиной.
— Ядовитая змея, — продолжал Икельзамер, — которая коварно жалит в пятки бедняков, вверенных его отеческой заботе. Но я прошу, я заклинаю вас, дорогие друзья, не пятнайте наше святое и чистое дело, дело всех угнетенных, его кровью и кровью юнкера фон Финстерлора, хотя они, как лютые звери, терзали своих крепостных.
Гальтенбергштеттенцы и лауденбахцы громкими криками выразили свое одобрение, но Большой Лингарт, Мецлер и другие военачальники в один голос воскликнули:
— Вот потому они и умрут!
— Нет, нет! — продолжал настаивать учитель. — Если вы собираетесь уничтожить огнем и мечом всех ядовитых змей и ехидн, то этому не будет конца! Смертью ничего не исправишь. Пусть живут, чтобы искупить свои преступления и возместить причиненный ими ущерб.
— Нет, нужно покарать их, хотя бы для того, чтобы другим неповадно было! — крикнул Мецлер. — Пусть все дворяне знают, для чего мы ударили в набат.
— Судить их, судить! Смерть им! — кричали со всех сторон крестьяне.
Тогда из толпы выступила высокая изможденная фигура в рясе:
— Во всех крепостях и замках, во всех дворцах и монастырях и без того узнают, что произошло. Для этого вовсе не нужно пролития крови этих разбойников, преступления которых вопиют к небу. Во второй книге Моисея сказано: «Я поражу все народы унынием и страхом и предам в твои руки всех врагов твоих, обратив их в бегство». Так не поддавайтесь же искушению, дорогие братья. А вы, лауденбахцы и гальтенбергштеттенцы, пусть удовлетворите вы свою жажду мести кровью этих людей, а что же дальше? Разве дома ваши от этого сами собой отстроятся и наполнятся новой утварью вместо сожженной? Разве оживет уничтоженный скот и сами собой наполнятся закрома? Конечно, им не уйти от расплаты за свои преступления, но пусть они возместят причиненные вам убытки. Если они откажутся, пусть заплатят кровью. Согласны ли вы?
Он замолчал. Все переглядывались, и никто не решался высказаться первым. Тогда заговорил Большой Лингарт:
— Не сердись, божий человек, но твои слова брошены на ветер. Что могут тебе ответить люди, когда неизвестно, захотят ли юнкеры искупить свою вину? А даже если и захотят, от Розенберга я ничего не приму. У меня с ним свои счеты. Он убил моего лучшего друга, когда пытался похитить Габриэлу Нейрейтер. Это преступление он искупит только кровью.
К Лингарту подошел Валентин Икельзамер и пытался отвести его в сторону. Он хотел знать мнение Деннера, но тот вопросительно смотрел на юнкеров. Филипп фон Финстерлор, с напряженным вниманием следивший за спорами, заявил, что он согласен. Его друг, все время хранивший презрительное молчание, бросив взгляд на Лингарта, проворчал:
— Связанный по рукам я не вступаю в переговоры.
Лингарт приказал развязать обоих пленных. Нечего было бояться, что они убегут: их окружили тесным кольцом ротенбуржцы. Подошли и жители сожженной деревни. Крестьянские военачальники и представители городского комитета начали совещаться. Разгорелся горячий спор. Большой Лингарт не хотел идти ни на какое соглашение с юнкерами, пока Мецлер, бросив на него многозначительный взгляд, не сказал:
— Одно вы забыли, братья! Пусть даже юнкеры и примут сейчас под угрозой смерти ваши условия, но без клятвенного обещания не мстить они потом вдвойне и втройне выместят все на крестьянах. Мы, ротенбургские крестьяне, находимся в таком же положении по отношению к магистрату. Мы охотно представим решение этого дела на усмотрение комитета, как он того пожелает, и дадим в том присягу. Но в отношении юнкеров мы не пойдем ни на какие уступки, если господа, присланные комитетом, не поклянутся именем комитета и общины отстаивать интересы крестьян, не жалея жизни и имущества, если против них будет что-либо предпринято.
Посланцы комитета смущенно переглянулись. Большой Лингарт, поглаживая усы, сказал, обращаясь к военачальникам:
— Я соглашусь, если вы примете условия.
— Да, принимаем! — закричали они в один голос.
— Только я ставлю еще одно условие. Пусть юнкер Розенберг на прощание выкатит для всего отряда несколько бочек вина из своих погребов.
Дерущиеся крестьяне
С гравюры Г. 3. Бегама
Крестьянские главари, смеясь, поддержали его. Затем Валентин Икельзамер, успевший тем временем переговорить со своими спутниками, объявил, что они готовы дать требуемую клятву. Лица крестьян сияли торжеством, и только Большой Лингарт никак не мог примириться с тем, что добыча выскользнула из его рук, и казался раздосадованным. Отец Деннер сообщил пленным о принятом решении и добавил:
— Можете соглашаться или нет, торговаться с вами мы не намерены.
Цейзольф фон Розенберг обязался восстановить за свой счет сожженные строения и возместить крестьянам стоимость истребленного им скота. Вместе с фон Финстерлором они обязались внести по тысяче гульденов или пятьсот геллеров в военную казну крестьян и дать торжественную клятву, что никогда, ни при каких обстоятельствах не будут мстить своим крепостным и все будет прощено и забыто. Деннер напомнил юнкеру фон Розенбергу и о вине для крестьян. Это вино как будто до некоторой степени примирило лауденбахцев и гальтенбергштеттенцев с остальными крестьянами. И все же они громким ропотом выражали свое недовольство и с трудом поддались на увещания Деннера, Икельзамера и Мецлера. Бешеный Цейзольф выслушал условия, мрачно теребя свою пламенную бороду.
— Так что ж, союзники до гробовой доски? — сказал он, глядя на своего дружка, и, повернувшись к крестьянским военачальникам, заявил: — Мы согласны.
Затем оба они произнесли торжественную клятву, повторяя ее слова за Деннером.
Юнкеров освободили. Лингарт дал им охрану под начальством Мелькнера, чтобы получить с них деньги и заодно распорядиться вином, и его зычный голос гулко разнесся над толпой:
— А теперь, братья, кто желает, чтобы защиту нашего дела перед внутренним советом мы препоручили комитету, если он поклянется стоять за нас твердо и нерушимо, не щадя своей жизни и достояния, тот пусть поднимет руку!
Все подняли руки, и Большой Лингарт, обращаясь к посланцам комитета, сказал:
— Так поклянитесь же!
Обнажив головы, они произнесли слова клятвы, как было условлено заранее.
— Аминь! — воскликнул Лингарт. — Итак, Светлая рать ротенбургских крестьян заявляет, что отныне вверяет комитету выборных защиту своего дела и будет подчиняться его решениям.
Воздух огласился восторженными криками и залпами из аркебузов. Если у делегатов еще оставались сомнения насчет важности произнесенной ими клятвы, то две сотни выстрелов, которыми отметили ликующие крестьяне это событие, не могли не открыть им глаза.
Тем временем из подвалов начали выкатывать бочки с вином, и ликование еще усилилось. Не меньше шести фудеров[98] вина перешло в крестьянские желудки, прежде чем отряд выступил в Вейкерсгейм. Среди всеобщего веселья только Большой Лингарт оставался мрачен, хотя друзья усердно подливали ему вина. Ведь он дал клятву отомстить за Лаутнера и не сдержал ее. Вдруг со стороны лесистого холма донесся гул голосов и крики. Лингарт с друзьями бросились туда, где за кустами, на косогоре, сбился в кучу народ. Красивую крестьянку вырвали из рук Лоренца Кноблоха, пытавшегося ее изнасиловать. Крестьяне с проклятиями наступали на него, угрожающе размахивая кулаками. Лингарт протиснулся через толпу.
— Ах ты презренный негодяй! — обрушился он на Кноблоха. — Так ты затем к нам пристал, чтоб и здесь, как в городе, распутничать и гадить? Крестьянским капитаном хотел быть, а сам, женатый человек, девушек наших бесчестишь? Ах ты пес шелудивый!
— Бей его! Смерть ему! — в бешенстве закричали крестьяне. Сверкнули мечи. Лингарт молча отвернулся. Один миг — и от несчастного осталось на земле изрубленное на куски крошево.
Глава седьмая
Далеко по цветущей долине Якста разливали свой торжественный и плавный перезвон, призывая к заутрене, колокола Цистерцианского монастыря в Шентале. Этот средневековый монастырь основали владетельные рыцари фон Берлихингены, родовой замок которых, Якстгаузен, стоял на высоком берегу реки на расстоянии одной мили от монастыря. В этом замке, защищенном неприступными стенами и башнями, сорок пять лет тому назад появился на свет Гец — младший сын ныне покойного Килиана фон Берлихингена. Теперь в родовом гнезде сидел его старший брат — Ганс, а сам он жил в Горнбургском замке на Неккаре.
Когда последние удары благовеста замерли в воздухе, из долины донесся глухой гул приближавшейся толпы. Гул все нарастал и наконец перехлестнул через стены монастыря. Это подходили крестьяне имперского города Галля и отряды графов лимбургских, явившиеся первыми на сборный пункт. Они шли беспорядочно и поспешно, как будто за ними гнались по пятам. Так же как и простые люди в других частях империи, и они взялись за оружие в судное воскресенье; в некоторых местах крестьяне поднялись даже раньше. Галльские крестьяне, не искушенные в военном деле, шли гурьбой, как на прогулку, а мушкеты и прочее оружие тащили за собой на возах, точно дрова. Проходя через деревни, где священники были привержены старой вере, они перерывали поповские сундуки и опорожняли церковные кружки. Эта широкая масленица продолжалась до того дня, пока бюргеры швабского города Галля со своими ландскнехтами не напали на лагерь крестьян, беспечно расположившихся на отдых. При первом же выстреле крестьяне обратились в бегство, бросив на произвол судьбы шесть телег с мукой, вином, хлебом, курами, мясом, оружием и боевыми припасами. Их главари бежали без оглядки до самого Эрингена, городка во владениях графов Гогенлоэ, где между тем уже дали всходы семена, брошенные Венделем Гиплером.
Измученные и изнемогающие от голода и жажды беглецы, миновав родовой замок Берлихингенов, подошли к стенам Шентальского монастыря. Ворота были на запоре, крестьяне же слишком обессилели и пали духом, чтобы ворваться туда силой. Вдруг затрещал барабан, и появился большой отряд во главе с Иоргом Мецлером из Балленберга. Он собрал своих оденвальдцев на сочных лугах Шюпфергрунда, куда к нему стекались со всех сторон крепостные различных феодалов. В его сводный отряд влились и мергентгеймцы, а когда он проходил через долину Якста, к нему присоединилось немало и монастырских крепостных. Знаменем отряда был поднятый на шесте крестьянский башмак. Едва галльцы увидели эту дорогую каждому крестьянскому сердцу эмблему, долина огласилась радостными криками, и вдруг, точно по мановению волшебного жезла, монастырские ворота распахнулись. В воротах показалась вереница монахов во главе с настоятелем, убеленным сединами. Игумен, видимо, собирался обратиться с наставлением к этим странным на вид паломникам, но не успел привести в исполнение своего намерения. Правда, в первую минуту, при виде белых ряс и черных клобуков, крестьяне пришли в замешательство, но затем ринулись к воротам, бесцеремонно растолкали честную братию и разбежались по монастырю, предавая разграблению все, что попадалось им на пути. Монастырские крепостные усердно разыскивали оброчные книги, но аббат успел незадолго перед тем увезти их во Франкфурт-на-Майне и укрыть в безопасном месте вкупе со всеми важными документами и ценными вещами, которые удалось собрать в спешке. Все же крестьянам досталось немало серебряной и золотой церковной утвари. Но самым ценным и вожделенным сокровищем для крестьян оказался в данную минуту винный погреб. Выпущенные из бочек на свободу духи благородных лоз, дотоле неизвестных крестьянам даже по имени, учинили немало бесчинств. Церковная утварь была разгромлена, алтарь поврежден, иконы продырявлены копьями, цветные витражи разбиты вдребезги. Разгоряченные вином и озлобленные исчезновением оброчных книг, крепостные и оброчные крестьяне в ярости грозили монахам смертью. Но Иорг Мецлер решительно вступился за них, и крестьяне удовольствовались лишь тем, что выгнали их из монастыря. Остаться разрешили только одному из монахов, да и то в качестве слуги при крестьянских военачальниках. Приближение отряда заставило выбежать их из монастырской трапезной, где брат Евсевий — так звали оставленного монаха — потчевал их отборнейшими яствами монастырской кухни. Это подходили крестьяне из Вейнбергской долины во главе с Вагенгансом из Лерена, бывшим солдатом. На знамени у них были крест-накрест цеп и двухзубчатые вилы, а внизу — башмак.
Крестьянский вооруженный отряд перед выступлением
С гравюры XVI в.
Все новые и новые отряды подходили к монастырю и располагались лагерем тут же, в цветущей долине, вдоль берегов Якста, благо в монастырских подвалах и кладовых были неисчерпаемые запасы вина, муки и зерна. Барабанный бой и звуки свирелей возвестили о прибытии нового отряда, привлекшего всеобщее внимание. Боевым строем, в образцовом порядке шли по меньшей мере две тысячи человек. Их командир ехал на черном коне, в черных доспехах, но без золотых шпор. Черным было и развевающееся знамя с вышитым на нем восходящим солнцем. У каждого военачальника была черная перевязь через плечо, у каждого ратника — черная повязка на левом рукаве. Отлично, хоть и по-разному вооруженные, все они подразделялись по роду оружия. Одни шли с обнаженным плоским мечом на плече, другие с кинжалом за поясом. У многих, кроме меча или кинжала, были копья или алебарды. Большинство имело аркебузы, железные шлемы и панцири.
— Да ведь это Флориан Гейер! — воскликнул Иорг Мецлер среди поднявшегося восторженного гула и стал протискиваться, через толпу, чтобы приветствовать предводителя Черной рати. Фриц Бютнер из Мергентгейма громко окликнул по имени начальника стрелков: то был его старый приятель Симон Нейфер.
Черную рать составляли оренбахцы и рейхардсродерцы, подкрепленные отборной ротой ландскнехтов, завербованных Флорианом Гейером. С этой ротой он присоединился к крестьянам, когда они на пути в Шенталь расположились на привал неподалеку от его замка. Еще в Рейхардсроде Симон напомнил Гейеру про обещание, данное им в Балленберге. Рыцарь не забыл о нем; об этом свидетельствовало черное знамя, на котором фрау Барбара вышила своей рукой золотое солнце. Флориан отослал ее вместе с младенцем в Римпар — замок ее брата, Ганса фон Грумбаха, — провести там пасхальные дни, как он заявил, ухватившись за этот предлог. С болью в сердце оторвалась она от любимого мужа, отца своего ребенка, но удерживать его не пыталась. Пусть ее любовь, сияя в образе этого солнца, указывает ему путь к победе. Знаменосцем рати был кудрявый Пауль Икельзамер.
Такое же солнце, но в зените, над золотым башмаком с надписью: «Кто свободным хочет быть, под это солнце становись!» — было изображено на белом шелковом знамени; под которым пришли крестьяне четырех деревень имперского вольного города Гейльброна и множества других сел и деревень, расположенных по течению Неккара. Впереди отряда, под знаменем, шла Черная Гофманша, а рядом с ней выступал ее питомец и наследник всепожирающей ненависти, главный предводитель отряда Еклейн Рорбах[99] из Бекингена. Якоб или Еклейн, как его называли друзья на нижнешвабский лад, происходил из древнего имперского рыцарского рода, но стал кабатчиком. Казалось, все пороки и дурные страсти дворянской крови соединились в этом последнем отпрыске знатной фамилии, чтобы прорваться еще раз, прежде чем угаснуть вместе с нею. Он вел разгульную жизнь и был по уши в долгах. Поговаривали, что его руки обагрены кровью. Кредиторы побаивались его, а судебные исполнители, являвшиеся его арестовать, получали такой отпор, что были рады поскорей унести ноги. Настойчивость, необузданная отвага и острый ум привлекали к нему молодежь. Должно быть, неудовлетворенность своей долей, столь унизительной для человека знатного происхождения, побудила его воспринять у Черной Гофманши ненависть к рыцарям и попам. Он тоже видел в этой несчастной пророчицу, и так велика была ее слава, что люди толпами сбегались на ее пути и смотрели на нее с суеверным страхом, когда она шла в Шенталь.
Разграбление монастыря восставшими крестьянами в 1525 г.
С рисунка пером современника Крестьянской войны И. Мурера
Якоб Рорбах избрал для своего отряда путь, ведущий через Эринген. Графы фон Гогенлоэ, со свойственным им высокомерием, тешили себя надеждой унять бурю, пустив в дело немного строгости и побольше обещаний. Но в Эрингене Рорбах поднял восстание, и крестьяне графов Гогенлоэ во главе с Вольфом Гербером присоединились к нему. С ними выступил и Вендель Гиплер.
В тот же вечер военачальники крестьянских отрядов собрались в большом монастырском зале. Главным начальником сводного отряда, названного Светлой ратью Оденвальда и Неккарталя[100], избрали Иорга Мецлера. Вендель Гиплер, избранный канцлером рати, расположился в покоях настоятеля, где брат Евсевий старался по мере сил уничтожить следы разгула и грабежа. Но отправиться на покой Гиплеру удалось лишь поздней ночью. Встретившись в Шентале с друзьями, он должен был со многими повидаться, о многом переговорить. Там царило радостное возбуждение в предвкушении счастливого исхода начатого дела. На радостях выпили немало кружек доброго монастырского пива. И в лагере, и в окрестных деревнях по всей долине шумное веселье не стихало до поздней ночи.
На следующее утро Вендель Гиплер встал несколько позже обычного. Он еще сидел за столом, уминая краюху хлеба и запивая ее вином, когда вошел Иорг Мецлер. С ним был рыцарь, закованный в латы с головы до пят. Коренастый и широкоплечий, он благодаря выпуклому панцирю и наплечникам казался еще плотнее и шире. Из-под открытого забрала смотрело круглое, как яблоко, лицо, обрамленное короткой мягкой бородкой. У него были маленькие, широко расставленные глазки, короткий приплюснутый и мясистый нос и прямые обвислые усы. Едва Вендель Гиплер бросил взгляд на эти розовые щеки и на этот отнюдь не грозный облик, как тут же вскочил с покойного игуменского кресла, обложенного подушками, и воскликнул:
— Гец фон Берлихинген!
— Он самый, — отозвался рыцарь. — Так вы еще помните меня? Давненько мы с вами не видались!
— Совершенно справедливо. В последний раз я видел вас в Гейльброне, — отвечал Вендель Гиплер. — Надеюсь, однако, что вы являетесь в полном вооружении не для того, чтобы сражаться со мной. Садитесь, господин рыцарь.
Гец фон Берлихинген
С портрета XVI века
Гец фон Берлихинген последовал приглашению канцлера и, сняв свой боевой шлем, обнажил выпуклый лоб и облысевшую спереди голову. Еще густые и длинные волосы на затылке спускались прямыми космами на брыжи.
— Я был в Гейльброне в самый день суда, — продолжал Гиплер, — когда магистрат, невзирая на то что вы сдались при Мекмюле на почетную капитуляцию, хотел засадить вас в тюрьму. Его подбивал на это, как я узнал впоследствии, коварный Трухзес фон Вальдбург. Но счастью, брату вашего зятя, Францу фон Зиккингену и Флориану Гейеру, которым случилось проезжать поблизости в Штуттгарт, удалось наставить наш премудрый магистрат на путь истинный. Мне рассказывали потом, как досточтимые ратсгеры вскочили, бледные с перепугу, когда вы стукнули по столу железной рукой, отстаивая свое право, и как почтенные бюргеры, стоявшие с копьями и дубинками наготове, чтобы схватить вас, бросились врассыпную.
Иорг Мецлер, стоявший облокотившись на узкий пюпитр, громко рассмеялся. Гец вторил ему несколько принужденно: мекмюльская история не принадлежала к числу приятных воспоминаний, а легкая ирония в тоне рассказчика не делала ее приятней. Видимо желая придать другое направление разговору, Гец воскликнул:
— Добрый Франц! Если б он подождал, его поход против архиепископа Трирского не потерпел бы неудачу, а крестьяне имели бы вождя, равного которому не найти во всей империи. Эх и задал бы он перцу попам да князьям!
Вендель Гиплер вперил в него свой умный, пронизывающий взгляд.
— Так вы еще не оставили своих старых планов? — спросил он.
— Что поделаешь? — отвечал рыцарь. — Такие вещи не забываются. Я никогда не был другом попов и князей, а теперь — тем паче. В нынешнее время имперскому рыцарству не дают свободно дышать.
— Но старыми картами игры не выиграешь; видите, что творится вокруг, — заметил Гиплер.
— Вы правы, — отвечал рыцарь. — Говорю, не хвалясь: я испокон веку был другом бедняков. Всем известно, что я многим помог отстоять их право против произвола епископских и городских властей.
— Да, это нам известно, — вмешался Иорг Мецлер. — Когда вы слезали с коня перед монастырем, кто-то крикнул: «Это Гец!» — и все бросились на улицу, чтобы посмотреть на вас.
С плохо скрываемым самодовольством рыцарь погладил свои прямые усы и продолжал:
— Франц ни во что не ставил крестьян, а между тем, будь он у них военачальником, дворянство перешло бы на их сторону. Верьте моему слову. С таким командиром, да еще имеющим вес у дворян, игру можно было бы считать выигранной.
Гиплер, внимательно слушавший его, молча раздумывал.
— Но что это я разболтался о прошлых временах, ведь не для того я приехал сюда, — воскликнул Гец. — А здесь у вас, как я погляжу, остались голые стены. Монастырь обобран дочиста. Впрочем, война есть война.
— Называйте вещи своими именами, — резко прервал его Гиплер. — Крестьяне не грабители и не разбойники. И ценности, и хлеб, и вино, накопленные в замках и монастырях, — все это было добыто крестьянами в поте лица и отнято у них тунеядцами.
— Значит, я могу возвратиться в Якстгаузен без всяких опасений? — воскликнул Гец, побагровев, и вскочил с места. — Ведь я приехал с намерением получить охранную грамоту для брата Ганса и его семьи.
— В таком случае вам надлежит обратиться к нему. Он у нас главный, — отвечал Гиплер, не поднимаясь и кивнув головой на Мецлера. — Я отправляю обязанности секретаря, все равно как в тысяча пятьсот тринадцатом году в комиссии, учрежденной герцогом Ульрихом и графом Георгом фон Гогенлоэ, чтобы рассудить вас, господин фон Берлихинген, с Антоном Вельзером, у которого вы отбили близ Эрингена воз с товарами, направлявшийся в Страсбург.
— Воз шел из Нюрнберга, а я находился в открытой вражде с городом.
В прищуренных глазах канцлера промелькнуло нечто вроде усмешки, но он сдержал себя и заговорил серьезно и убедительно:
— Сейчас у нас только одна вражда — великая вражда, которая заставила крестьян взяться за оружие. Так разве это не сообразно со справедливостью, господин фон Берлихинген, чтобы те, кто заставил крестьян взяться за оружие, чтобы бороться за свободу, оплатили издержки войны? И я полагаю, что если дворянство и духовенство умели прикрывать свой грабительский произвол над бедняками ширмой, называя ее правом и законом, то и для военной контрибуции, которую ныне вынуждены взимать крестьяне, можно найти подходящее основание. Что же касается охранной грамоты, то каково будет твое мнение на этот счет, брат Иорг?
Тот дал свое согласие, и Вендель Гиплер, вынув из кармана бумагу, перо и чернила, принялся набрасывать текст охранной грамоты. В ней именем начальника Светлой рати Оденвальда и Неккарталя повелевалось всякому и каждому, независимо от его звания и состояния, под страхом лишения жизни и имущества не чинить никакого насилия Гансу фон Берлихингену, его вассалам, челядинцам и домочадцам и не умышлять против них никакого зла или ущерба, но оказывать им всяческую помощь и защиту.
Тем временем Гец, стоя у стрельчатого окна и покусывая кончики усов, смотрел на поросший травой, окруженный галереями двор, где погребали монахов. На их могилах не было ни холмов, ни крестов, ни камней. Только зеленая подстриженная трава, среди которой пробивались первые весенние цветы. Он с грустью задумался над мимолетностью и бренностью всякой тщеты земной. Иорг Мецлер, развалившись в глубоком кресле настоятеля, зевал от нетерпения.
— Торопись, канцлер, у меня дел по горло!
Как только Гиплер перечитал и дал ему подписать грамоту, он тут же, без всяких церемоний, ушел. Гиплер скрепил грамоту своей подписью и канцлерской печатью.
— Теперь в Якстгаузене можно чувствовать себя так же спокойно, как в лоне авраамовом[101], — сказал он, вручая рыцарю документ. — Да, господин Гец, мы живем в великое время. И меня удивляет, что вы отсиживаетесь в четырех стенах. Ведь прежде вы не страшились ни бурь, ни гроз.
— Я сроду не был лицемером! — воскликнул рыцарь, глубоко вздохнув. — И должен сознаться, как только наступает осень, моя рыцарская кровь начинает бродить, как вино в бочке. Попов я ненавижу, а князья рады высосать из нас последние соки. Да, от своих слов я не отступлюсь. Дворянство думает так же, как и я, и, это мне доподлинно известно, охотно пошло бы за мной. Только вот что…
Он вдруг умолк, повернулся и тяжело зашагал взад и вперед по комнате. Немного погодя он остановился перед канцлером, убиравшим свои письменные принадлежности, с ожесточением потер лоб и глухо произнес:
— Не будем лучше говорить об этом. Не вызывайте меня на откровенность. Вы останетесь в обиде и на меня и на дворянство, а это к добру не приведет.
После минутного колебанья Гец распрощался с канцлером и взялся за свой шлем:
— Благодарю за труды. Если вам случится держать путь через Гундельсгейм, господин Гиплер, надеюсь, что вы не проедете мимо моего дома, не заехав ко мне.
— Поскольку я уверен в радушном приеме, господин фон Берлихинген, может статься, что и заеду, — многозначительно ответил Гиплер. Вскоре после ухода рыцаря он надел берет и пошел повидаться с Флорианом Гейером.
Посреди монастырского двора стоял старый клен, широко распростерший во все стороны свои ветви, на которых из толстых желтоватых почек уже пробивались молодые листочки. Под этим кленом завязался оживленный торг. По желтым шапкам, капюшонам с длинными кисточками и по кружку из желтого сукна, нашитому на левом плече, можно было узнать среди толпы сынов Израиля. Об этом не менее красноречиво говорили и их восточные лица. Для крестьян это были желанные покупатели, которым можно было сбыть любую добычу. Они покупали серебряные сосуды, распятия, чаши для святых даров, драгоценные камни, выломанные из церковной утвари, венец пречистой девы Марии и ее пышные одеяния из плотного шелка, а также всевозможные предметы священнического облачения из тонкого полотна, кружев и парчи: ризы, епитрахили, орари и даже епископский палий — все было объектом яростного торга, сопровождаемого отчаянной божбой и ругательствами.
Брат Евсевий смотрел на торг, стоя на почтительном расстоянии. Клобук и широкую белую сутану он заменил коротким кафтаном с рукавами в обтяжку. Его лицо слишком откровенно выражало клокотавшее в нем бешенство при виде того, как эти проклятые богом иудеи ощупывают и вертят своими грязными лапами священные предметы.
Вендель Гиплер подошел к нему, улыбаясь, и сказал:
— Брат, ведь еврей такой же человек, как и ты. И его создал бог, которого ты почитаешь. Но вы, называющие себя христианами, втоптали еврея в грязь еще глубже, чем крестьянина. Когда крестьяне освободятся, они освободят и евреев, ибо евангелие свободы распространяется на всех, кто наделен образом человеческим. И на тебя тоже, брат Евсевий. Но ты глух к голосу истины. Почему? Да потому, что ты лишь наполовину человек. Ты отгородился от своих ближних толстыми стенами монастыря, ты не живешь их жизнью, их заботами, не работаешь вместе с ними на общее благо. Стыдись же, брат! Стыдись рабства, на которое ты обрек свою душу! Ты еще молод и полон сил. Так сбрось же рясу, в которой ты перестал быть мужчиной. Надень панцирь, возьмись за меч и, освободившись сам, борись за освобождение твоих угнетенных братьев!
Он похлопал брата Евсевия по плечу и пошел прочь. Молодой монах стоял, покраснев до корней волос, и в глубоком волненье смотрел ему вслед. Он был сам не свой. Лязг оружия и крики вывели его из задумчивости. Снова раздалась барабанная дробь и звуки свирелей. Вендель Гиплер вышел наружу. Со всех сторон стекались крестьяне, чтобы с почетом встретить приближавшихся братьев. Это шли полки ротенбуржцев, лауденбахцев и гальтенбергштеттенцев с присоединившимися к ним вейкерегеймцами. Их вели Большой Лингарт и Леонгард Мецлер из Бретгейма. Как шум прибоя, пронесся над долиной ликующий гул.
Приветствуемые и сопровождаемые старыми друзьями и знакомыми, вновь прибывшие располагались лагерем по указанию Мецлера там, где им назначил место Флориан Гейер, рядом с Черной ратью. В то время как каждый устраивался как может, перед Большим Лингартом вдруг выросла Черная Гофманша. Симон, которого она разыскала еще накануне, чтобы узнать, постигла ли заслуженная кара юнкера фон Розенберга, сказал Лингарту, кто перед ним стоит. Лингарт смотрел на нее с жалостью и не без смущения. Он пожал ее костлявую руку и, не дожидаясь, пока она заговорит первая, — о цели ее прихода ему нетрудно было догадаться, — произнес:
— Негодяй был в наших руках, можно сказать, уже с петлей на шее, но ему удалось ускользнуть.
Ее тонкие губы искривила горькая усмешка.
— Знать, среди вас не было ни одного мужчины, который умеет ненавидеть! — воскликнула она. — Он был в твоей власти, а ты ждал веревки, вместе того чтобы задушить его собственными руками? А Нейфер еще рассказывал мне, что ты любил моего бедного мальчика.
— Да, всей душой, — заверил ее шварценбронский великан. — Но ротенбургский комитет вызволил юнкера, клятвенно обещав нам союз и помощь города Ротенбурга в обмен на его жизнь.
— Как, Ротенбург в союзе с нами, а ты молчишь! — взволнованно крикнул Симон.
Старуха язвительно рассмеялась:
— Вы хотите освободиться, а оставляете жизнь врагу, которого господь предал в ваши руки! — пронзительно вскрикнула она. — И этот тоже! — прибавила она, показав пальцем через головы мужчин на Гейера, приближавшегося к ним.
— Здорово, дружище Бреннэкен!
Большой Лингарт обернулся, и его бородатое лицо расплылось в радостную улыбку. К нему подошел его бывший командир.
— Как, господин рыцарь, вы узнали меня? Вы помните, как меня зовут? — воскликнул бородач, просияв.
— Я уже слышал, боевой товарищ, что ты опять снял со стены свой старый меч, — приветливо глядя на него, отвечал Флориан Гейер. — Но прошу без рыцаря и без господина. Из старых одежек я уже вырос.
— Кто стремится возвыситься над ближним, тот проклят богом! — воскликнула Черная Гофманша.
— Видно, вы очень сведущи в священном писании, добрая женщина. Это вы обо мне? Мне кажется, вы показали пальцем на меня? — спросил Гейер.
— А на кого же? Ты почему не рубишь самые высокие дубы? Какая польза от твоей преданности бедным людям, если ты не истребляешь волка, который точит на них свои хищные зубы?
Флориан Гейер только покачал головой. Он не понял ее. Она продолжала медленно, словно желая придать больше веса своим словам:
— Я видела, как он ускользнул от сверкающего меча, так же как Розенберг — от меча Большого Лингарта. Он уже был в твоих руках, и ты подарил ему жизнь.
— Ты говоришь о Геце фон Берлихингене? — спросил Флориан Гейер. — Я слышал, что он приходил за охранной грамотой для Якстгаузена.
— Все равно, за чем бы он ни приходил, волк никогда не станет ручным, — возразила она. — Ты еще раскаешься в этом, говорю тебе, Флориан Гейер фон Гейерсберг, он еще растерзает тебя и нас всех. Волков, тигров, львов, медведей, ястребов и других хищников надо уничтожать. Такова воля господня!
И она медленными шагами пошла прочь.
Флориана Гейера не смутили ее вещие слова. Он посмеялся бы над ними, если б не знал, что клокотавшая в ней ненависть была порождена неисчислимыми бедствиями народными. «Потерпи немного, несчастная, скоро мы уничтожим это зло», — пробормотал он ей вслед. В это время появился Пауль Икельзамер и еще издали крикнул Большому Лингарту:
— Правда, что вы задали жару шефтергеймским монашенкам? Мецлер рассказал мне.
— Бедные невинные овечки, — усмехнулся Лингарт в бороду. — Они так весело выпорхнули на волю, как птички через открытую дверцу клетки.
— И клетка загорелась? — насмешливо закончил знаменосец Черной рати.
— По чистой случайности, — возразил, пожав плечами, Лингарт. — Мы нашли оброчные книги и сожгли их, а отсюда и пошло. При этом растопились все их чудодейственные свечи и божьи агнцы, которых они сами лепят из воска и посылают освящать в Рим. Они нажили на этом немало денег и все сохранили для нас.
— Значит, вы их ограбили? — спросил Флориан Гейер, нахмурив брови. Но лицо его просветлело, и он удовлетворенно кивнул головой, когда Симон Нейфер заверил его, что у ротенбуржцев есть надежный брандмейстер[102], которого они избрали, еще стоя в рейхардсродском лагере.
Из монастыря донеслись редкие удары колокола, прежде обычно возвещавшие о том, что кто-то умер в долине. Теперь этот колокол созывал военачальников на совет. Многое еще нужно было обсудить и сделать, чтобы осуществить «Двенадцать статей», составлявших программу действий объединенного немецкого крестьянства. Относительно целей движения согласились без труда все собравшиеся в этом зале, где прежде благочестивые братья совещались о том, как достигнуть царствия небесного и приумножить монастырское добро. Согласны были также и в том, что благочестивых братьев следует выкурить, как барсуков из нор, из их монастырей, куда они стаскивали крестьянское добро, и что следует до основания разрушить замки, эти оплоты феодального насилия и произвола. Но предвидеть пути и средства к достижению свободы были в состоянии лишь два светлых ума: Вендель Гиплер в политической области и Флориан Гейер — в военной.
После того как крушение авантюры герцога Ульриха развязало ему руки, Флориан Гейер набросал еще в Гибельштадте план кампании, который и был теперь, при поддержке Гиплера, в основном принят. По этому плану следовало прежде всего принудить к союзу с крестьянами графов Гогенлоэ, чьи владения соприкасались с ротенбургскими, а также их соседей, графов Лёвенштейнов, и города Вейнсберг и Гейльброн и, таким образом, освободить Вюртемберг от австрийского владычества. Затем следовало направить главный удар на Франконию и, изгнав епископов из Вюрцбурга и Бамберга, вовлечь в крестьянский союз могущественный Нюрнберг. Укрепив, таким образом, свое правое крыло в Вюртемберге, оставалось только нанести сокрушительный удар Швабскому союзу в Ульме, главнокомандующий войсками которого Трухзес фон Вальдбург, еще находившийся на австрийской службе, усмирял восставших крестьян на верхнем Дунае.
После встречи в Шентале, скрепившей братский союз крестьянских войск, Мецлер с большей частью ротенбургского ополчения повернул назад, чтобы соединиться с тауберским отрядом и, держа таким образом под ударом Ротенбург, не дать ему соединиться с маркграфом Казимиром. В шентальском лагере оставалось тысяч восемь крестьян. Однако, за исключением Черной рати и ротенбуржцев под предводительством Большого Лингарта, это были наспех сколоченные отряды, не умевшие обращаться с оружием, а главное, почти лишенные артиллерии. Флориан Гейер задался целью создать из них настоящую армию, и Симон Нейфер, Большой Лингарт, Фриц Мелькнер и другие помогали ему, не щадя сил. Он ввел военную дисциплину, настоял, чтобы Светлая рать избрала своим провиантмейстером Альбрехта Айзенгута, а шультгейсом — Ганса Рейтера из Биллингера, что и было сделано при поддержке Венделя Гиплера, и приказал, чтобы крестьяне обучались военному делу. Пушки нужно было отобрать у рыцарей и городов. Гейер был неутомим. С солдатской лаконичностью и точностью отдавал он приказы, и люди охотно повиновались ему, чувствуя, что он знает свое дело. С тех пор как он обнажил меч и забросил подальше ножны (так он выразился в письме к Максу Эбергарду), он был во власти какого-то радостного подъема, который сообщался всем, кто ни сталкивался с ним. Он всецело отдался деятельности, требовавшей полного раскрытия его еще не развернувшихся дарований полководца, и посвятил себя осуществлению идей, которые зародились и созрели в нем в период сближения с Ульрихом фон Гуттеном. Наконец-то пробил час освобождения угнетенных во всей Германии! Одна мысль об этом наполняла его несокрушимой решимостью. О себе он не думал. Он сжег за собой все корабли и знал, что ему остается одно: победить или погибнуть. Но он боролся, не сомневаясь в победе, победе свободы и справедливости.
Тем временем Вендель Гиплер, канцлер Светлой рати, послал ультиматум графам фон Гогенлоэ, предлагая им мир при условии принятия ими «Двенадцати статей». Они пытались было лавировать, но крестьянские войска двинулись на Нейенштейн — резиденцию графов. Поняв, что дело принимает серьезный оборот, братья Гогенлоэ прибыли в крестьянский лагерь.
— Эй, вы! — крикнул, завидя их сиятельства, приземистый крепыш Кресс, который разворотом плеч мог бы сойти за статую Атласа, — валяйте-ка сюда оба брата, и Альбрехт и Георг, да поклянитесь быть с крестьянами в братском союзе и никогда не выступать против них. Отныне вы больше не господа, а крестьяне, а графы Гогенлоэ — мы. Наша рать порешила, чтобы вы присягнули «Двенадцати статьям» и заключили с нами союз на сто один год.
Когда-то жестоко обиженный графами Вендель Гиплер мог быть удовлетворен, видя, как братья присягали «Двенадцати статьям», давали клятву хранить мир до следующей Реформации, обязались освободить заключенных и снабдить крестьян оружием и порохом. Их заставили присягать, обнажив головы, без шлемов и без перчаток. Не удивительно, что от такого унижения у них глаза полезли на лоб. Крестьяне отпраздновали это великое событие бесчисленными залпами в воздух.
Между тем Еклейн Рорбах, разграбив Лихтенштернский женский монастырь, откуда разбежались все монахини, подступил к стенам замка графов Лёвенштейн. Перед его знаменем шагала, подобная фурии мести, Черная Гофманша. Графы Людвиг и Фридрих фон Лёвенштейны спешно укрепляли свое убежище. Рорбах послал им сказать, чтобы они немедля явились к нему в лагерь и присягнули «Двенадцати статьям», не то он разорит все их владения.
В отряде Рорбаха было немало подданных Тевтонского ордена родом из Неккарсульма. Ожесточенные произволом своих господ, которые угнетали их вдвойне — и как рыцари, и как духовные лица, они настояли, чтобы отряд двинулся к Неккарсульму. Дорога вела мимо Вейнсберга, лежавшего на расстоянии двух часов пути от орденского городка, вниз по течению Неккара. Светлая рать отправила в Вейнсберг письмо, требуя, чтобы город примкнул к крестьянскому евангелическому союзу.
Глава восьмая
Крутыми уступами поднимается Вейнсберг по северному склону холма, возвышающегося над долиной Неккара. На самой вершине стоит церковь, к которой ведет широкая каменная лестница от террасы с Рыночной площадью и городской ратушей посредине. Двое ворот, проложенных в городской стене, выходят к подножью холма: верхние ворота у мельницы и нижние, или Госпитальные, в начале главной улицы, ведущей мимо госпиталя к Рыночной площади. Пройдя через узкую калитку к западу от церкви, путник увидит в нескольких шагах перед собой нижнюю наружную стену, окружающую замок; старинная легенда украсила его именем Вейбертрей[103]. Крутой громадой вознесся над долиной замок. Развалины исполинской башни и двойного пояса толстых стен свидетельствовали о былой его неприступности.
Графу Людвигу Гельфериху фон Гельфенштейну, защищавшему Штуттгарт от нападения герцога Ульриха, было всего двадцать семь лет. Он был любимцем эрцгерцога Фердинанда и сидел в старинном замке гвельфов[104] как оберфогт австрийского правительства. Пять лет тому назад он женился на внебрачной дочери императора Максимилиана Маргарете, незадолго перед тем овдовевшей. Стоя у окна с двухлетним сыном на руках, графиня смотрела вниз, на долину, откуда доносился зловещий гул. Вскоре показалось крестьянское войско, приближавшееся с распущенными знаменами и устрашающим шумом.
Была страстная пятница. Супруг, стоявший рядом, с таким уничижением говорил о подступающих крестьянах, что у графини отлегло от сердца. Вдруг она воскликнула:
Смотри, там среди них рыцарь! В черных доспехах, под черным знаменем. Что это значит?
— Это значит, что Флориан Гейер фон Гейерсберг запятнал свою честь и покрыл позором свое знатное имя, связавшись с этим сбродом, — нахмурившись, произнес граф.
— Не может быть! — взволнованно воскликнула графиня.
Она хорошо знала Гейера, так как часто встречалась с ним, когда он был еще молодым офицером, при дворе своего отца. Она вспомнила, что покойный император всегда с уважением отзывался о его военном даровании, и опять разволновалась.
— С таким предводителем, Людвиг… — начала она, но граф не дал ей договорить.
— И с таким вшивым сбродом! Если они хлебнули через край монастырского вина, то мы заставим их захлебнуться в собственной крови. Бюргерство остается верным мне, и помощь из Штуттгарта должна подойти с минуты на минуту.
Накануне он вторично написал австрийскому правительству, настаивая на немедленной присылке подкреплений. Ведь ему обещали их, когда он лично ездил в Штуттгарт, чтобы добиться помощи. До этой поездки в его распоряжении для защиты замка не было и десяти человек. Но ему сочли возможным дать всего семьдесят рыцарей и рейтаров, с которыми он и вернулся в Вейнсберг. Веселой кавалькадой гарцевали они вместе с ним вдоль берегов Неккара. Проезжая через крестьянские поля и виноградники, благородные господа ради рыцарской потехи подстреливали крестьян, как каких-нибудь воробьев или зайцев. Граф фон Гельфенштейн, смеясь, рассказывал жене, до чего забавно было смотреть, как эти людишки подпрыгивали в воздухе и, перекувырнувшись, шлепались на землю. Дитрих фон Вейлер чуть не свалился с коня от хохоту, когда мужичонка, которого он поднял выстрелом из ржи, чуть не улепетнул от него в виноградники. И гордая графиня тоже смеялась над рассказом об убийстве беззащитных, ни в чем не повинных людей.
На предложение крестьян присоединиться к их союзу граф ответил требованием дать ему время на размышление до полудня субботы. Это требование было удовлетворено. Он рассчитывал, что к этому сроку подойдет подкрепление из Штуттгарта: ведь писал же он, что дело не терпит отлагательства и что в случае промедления он слагает с себя всякую ответственность за могущие произойти несчастья и убытки.
Успокоив жену, он отправился в ратушу, где подобными же заверениями о предстоящем прибытии обещанной помощи пытался поднять дух отцов города, которые, испугавшись при виде несметной рати крестьян, сидели, белые как полотно, на своих скамьях. Прибывшие вместе с ним в Вейнсберг рыцари, стоя рядом с бюргерами на городской стене, состязались в остроумии, высмеивая крестьян, непрерывным потоком проходивших мимо них с песнями, шутками, звоном оружия, барабанным боем под рев угоняемого скота. Пошлые остроты благородных господ сменились угрозами и проклятиями, когда над этим пестрым воинством заколыхалась хоругвь. Должно быть, ее унесли из Шентальского или Лихтенштернского монастыря вместе с ризами и напрестольными пеленами, которые очутились на плечах у многих крестьян. И когда последние отряды крестьян прошли мимо замка, рыцари во главе с графом поспешили вскочить на коней и, несмотря на то что срок перемирия еще не истек, яростно набросились на отставших крестьян. До самой ночи свирепствовал граф и его люди среди крестьянского арьергарда, обагряя землю народной кровью.
Неккарсульмцы гостеприимно открыли крестьянам ворота своего городка, и Тевтонский замок очень скоро был взят. Захваченных там рыцарей крестьяне отпустили на все четыре стороны. Победителям досталась богатая добыча: у ордена были обильные запасы. И в городе и за его стенами на лугу началось шумное веселье. В это время спасшиеся бегством и раненые принесли весть о предательском нападении графа фон Гельфенштейна, и по всему лагерю и по всем улицам городка пронеслись крики: «Измена!»
И вскоре после того по лагерю распространилось известие, что Трухзес огнем и мечом усмирил восстание на Дунае, что он устроил крестьянам кровавую баню, что он предал в руки палача благороднейшего проповедника Якоба Вее[105] и многих других сторонников крестьян, что им всем уже отрубили головы в Лейпгейме и, наконец, что в сражении при Вурцахе перебито семь тысяч крестьян. Число жертв было преувеличено дворянами, чтобы нагнать страху на крестьян. Но на этот раз господа просчитались. Эти слухи только подлили масла в огонь и зажгли в крестьянах жажду мести.
В стороне от лагеря, на берегу Зульма, сидела в глубоком раздумье Черная Гофманша. В такие минуты люди ее обходили: всякому было известно, что она совещается с тайными силами, с которыми вступила в союз на благо крестьян. Чей-то окрик вывел ее из раздумья. Перед нею стоял человек с непокрытой головой, в изодранной одежде. Он назвал себя Земмельгансом — солеваром из Нейенштейна — и рассказал, что, сидя в трактире Ганса Шохера в Вейнсберге, обругал австрийское правительство, за что был брошен в тюрьму. Сидел он там с середины поста, но этой ночью ему удалось бежать. Он мчался сюда что было мочи и теперь, задыхаясь от изнеможения, просил указать ему, где он может найти Вольфа Гербера, предводителя гогенлоэвских крестьян. Он принес ему очень важное сообщение.
— Я знаю место, откуда Вейбертрей легко взять штурмом, — доверился он Черной Гофманше, — а наверху в замке всего семь рейтаров.
— Идем! — сказала она и, зловеще рассмеявшись, зашагала впереди него к городку.
Взошла луна и осветила своим серебристым сиянием окрестные холмы, луга и словно высеченный из мрамора городок. Но покой, разлитый кругом в природе, не умиротворил людей. В лагере почти никто не ложился спать. Сердца еще горели гневом и жаждой мести. В лунном свете грозно блестело оружие.
Флориан Гейер, Вендель Гиплер, Иорг Мецлер, Большой Лингарт и другие военачальники, сидя в ратуше, еще совещались. Когда введенный Черной Гофманшей Земмельганс повторил свое сообщение, все радостно застучали мечами, и многие стали требовать сигнала к выступлению, но Флориан Гейер одернул их:
— Предательское нападение графа не освобождает нас от данного слова. Мы обещали ему перемирие до завтрашнего дня и должны сдержать слово.
— Тысяча смертей! Это когда он нападает на нас, как на разбойников! — задохнулся от ярости Большой Лингарт.
— Докажем ему, что он заблуждается, — поддержал Гиплер начальника Черной рати. — Честно соблюдая свои обязательства, заставим его уважать нас как врага. Самое позднее завтра к часу дня или, верней сказать, уже сегодня все будет решено.
Все нехотя покорились, но Гофманша, уже направляясь к выходу, со вздохом сказала:
— Вечно мы поддаемся на обещания господ и вечно расплачиваемся за это кровавыми слезами. Когда же наконец вы выкуете себе железный кулак?
Едва сдерживая нетерпение, ожидали крестьянские отряды ответа графа. С высокомерным презрением он отказался от всякого соглашения. Своим крепостным он пригрозил вышвырнуть им вслед их жен и детей и сжечь дотла их деревни, если они сейчас же не отстанут от мятежников и не разойдутся по домам.
Эти угрозы испугали крестьян вейнсбергского отряда, и они закричали, чтобы их отпустили домой или позволили им заключить мир с графом.
— Отправляйтесь хоть сейчас же по домам! — с бешенством набросился на них командир Вагенганс из Лерена. — Вы ведь знаете, что у графа вас ждет такая милость, что прежнее ярмо покажется вам легче легкого. Идите же, пресмыкайтесь, лижите пыль с графских сапог, и прощение вам обеспечено — такое же, как в Лейпгейме и Вурцахе!
Тогда вышла вперед Черная Гофманша, и ее пронзительный голос разнесся далеко по рядам:
— Хотите мира — добудьте его силой! Слушайте, что я вам скажу. Ночью я сидела под ивами и думала про наше горе и нужду; каждому из нас, бедняков, пришлось с малолетства натерпеться вдосталь. Думала про горючие слезы, что мы льем от отчаяния. Была страстная пятница, — день, когда Христос умер на кресте, чтобы снасти всех обездоленных и угнетенных. И когда сон успокоил мое сердце, которое разрывалось от муки, мне привиделось, будто из крови наших братьев, обильно напитавшей вурцахские поля, выросли розовые кусты и, поднимаясь все выше и выше, закрыли собой графский замок. И все кругом покраснело от алых роз. Вы знаете, что это значит. Так что же, или ваши копья притупились? Или самопалы пришли в негодность? Идите, и все цветущие розы достанутся вам. Так хочет бог!
Вейнсбергцы уже больше не помышляли о возвращении домой.
— Так хочет бог! — закричали они и с ожесточением стали готовить оружие к бою.
Между тем граф Людвиг фон Гельфенштейн собрал вейнсбергских горожан на Рыночной площади. По возвращении из своего предательского набега на крестьянский арьергард он встретил в городе далеко не восторженный прием. Горожане с трепетом ждали последствий его вероломства и подняли крик, что он погубит город. Пусть он уходит со своими рыцарями и рейтарами к себе в замок, а они попытаются миром поладить с крестьянами. Но граф выстроил на площади перед церковью рыцарей и дружинников, и это зрелище потушило пламя недовольства, уже загоревшееся среди насмерть перепуганных горожан. Он обратился к собравшимся с увещаниями, предсказывая, что, изменив Австрии, они дождутся от крестьян не освобождения, а убийств и грабежей и не преминул еще раз напомнить об ожидающейся подмоге из Штуттгарта. Пусть только каждый исполнит свой долг, и они общими усилиями отразят крестьян. Он сам не терял надежды на эту помощь и поутру отрядил еще одного спешного гонца в Штуттгарт. Поэтому он оставил тройные нижние ворота возле госпиталя незабаррикадированными, тогда как все остальные были завалены навозом и камнями.
Но откуда было взять вюртембергскому правительству в Штуттгарте это срочное подкрепление? Оно само было вынуждено отдать Трухзесу фон Вальдбургу все свои вооруженные силы, оставив себе ровно столько войска, сколько было необходимо для защиты столицы на случай нападения со стороны шварцвальдцев.
Граф оставался в городе и подготовил все для его защиты. В замок он послал еще пять рейтаров. Ему казалось немыслимым, чтобы крестьяне решились штурмовать эту неприступную крепость, тем более что у них не было артиллерии. Рыцари разделяли его оптимизм. Не задумываясь о завтрашнем дне, они развлекались, любезничали с прекрасными вейнсбергскими дамами и с истинно рыцарским аппетитом отдали должное ужину, устроенному для них магистратом. Из замка были вызваны графские музыканты и шут, которые увеселяли благородное общество музыкой, остротами и всякими непристойными шутками.
Когда наступило пасхальное утро, ворота, стены и бойницы были укреплены, рыцари и рейтары в полном вооружении расставлены по местам, лошади — оседланы. Но враг не показывался. Зазвонили к обедне. Во время богослужения графу доложили, что крестьяне приближаются. Он тотчас отправился на стену у нижних ворот, чтобы поднять дух осажденных. Между тем его друг, Дитрих фон Вейлер, распорядился, чтобы жены и дочери бюргеров и их служанки ломали мостовые и таскали булыжник на стену.
И действительно, крестьяне приближались. К северо-западу от замка, на широком хребте горы, прозванной из-за ее формы Скамеечной, уже сверкало их оружие в утренних лучах. Впереди шла Черная рать Флориана Гейера. За ней следовал Еклейн Рорбах с гейльбронцами, лёвенштейнцами и вейнсбергцами, тогда как Светлая рать во главе с Иоргом Мецлером еще двигалась вдали через Эрленбах. С нею шла Черная Гофманша.
Осенив крестом войска, она погрозила кулаком в сторону Вейнсберга и крикнула:
— Смелей, вперед! Филистимляне в ваших руках! Их пули не причинят вам вреда. Я наловлю их полные пригоршни.
Глаза ее горели зловещим огнем. Седые волосы развевались на ветру.
Прежде чем двинуться на приступ, крестьяне, по военному обычаю того времени, послали в город двух парламентеров, которые с шапкой на шесте подошли к нижним воротам, и один из них громко крикнул:
— Отворите город и замок Светлой христианской рати. Или удалите всех женщин и детей, ибо город и замок будут взяты штурмом нашим вольным воинством, и никому не будет пощады!
Дитрих фон Вейлер взбежал на стену и крикнул:
— Что? Благородному рыцарству вести переговоры со всяким вшивым сбродом? Позор! С такой сволочью мы разговариваем только пулями!
По его приказу стоявший рядом с ним рейтар выстрелил. Один из парламентеров упал, но тотчас вскочил и помчался вслед за убегающим товарищем. Дитрих расхохотался.
— Друзья! — крикнул он. — Они не посмеют. Они только хотели нас застращать. Думали, что мы струсим, как зайцы.
Услышав крики на Скамеечной горе, он решил, что запугал крестьян. Но те кричали от возмущения, что господа осмелились стрелять в их парламентеров. Флориан Гейер со своим отрядом тут же свернул налево, чтобы выйти к замку с северного, наиболее отлогого склона горы. Земмельганс указывал ему дорогу. Молодцы Еклейна Рорбаха и вейнсбергские крепостные бурным потоком устремились вниз по склону горы, чтобы обрушиться на нижние ворота. К верхним воротам подходили отряды Георга Мецлера и Большого Лингарта. Тут наконец граф Людвиг и Дитрих фон Вейлер поняли, что со вшивым сбродом, затеявшим это пасхальное игрище, шутки плохи. На башне городской ратуши пробило девять часов.
Рорбахские молодцы все шли вперед, не обращая внимания ни на выстрелы, ни на град камней, сыпавшийся на них со стен. От пуль ущерб был невелик, зато булыжником ранило многих. Но на место каждого, выбывшего из рядов, становились другие, и скоро нижние ворота затрещали под ударами топоров, молотов и таранов. Рыцари, рейтары и именитые граждане, не щадя сил, защищали город; ремесленники и виноградари помогали им без особого рвения. Рисковать жизнью, отстаивая власть австрийского правительства, у них не было никакой охоты. Горожане, охранявшие калитку возле церкви, не только не оказали сопротивления наступающим, но сами взломали ее изнутри, помогая тем, кто напирал снаружи.
Уже внешние Госпитальные ворота были разбиты, и вторые ворота также разлетелись в щепки под ударами топоров и таранов, как вдруг в гуще нападающих поднялся ликующий гул: над башней замка взвился черный флаг Флориана Гейера. Замок взят! И в то время как осаждающие при виде реющего в вышине черного знамени с удвоенной энергией заработали топорами и кузнечными молотами, даже самые рьяные защитники города пали духом.
Дитрих фон Вейлер, разъезжая на коне по улицам, пытался воодушевить горожан, но женщины схватили его лошадь под уздцы и молили прекратить сопротивление, угрожавшее им всем гибелью. Мужчины также настаивали на сдаче города, при условии, если сохранят жизнь его населению. Рыцарей, которые не хотели и слышать об этом, горожане силой стаскивали со стен. Ганса Дитриха из Винтерштеттена, только что убившего одного из крестьян, они угрожали прикончить на месте, если он не слезет со стены.
Граф фон Гельфенштейн, руководивший обороной против войск Иорга Мецлера, наконец понял, что дальнейшее сопротивление невозможно. Он приказал одному из бюргеров, надев шляпу на шест, отправиться к нижним воротам.
«Мир! Мир!» — кричал парламентер, стоя на стене между зубцами. Но крестьяне выстрелами сбили шляпу с шеста, и подбежавший Еклейн Рорбах крикнул, что горожанам нечего бояться за свою жизнь, но что ни одному из рыцарей не будет пощады.
— Мы просим даровать жизнь хотя бы графу фон Гельфенштейну, — сказал парламентер.
— Нет, нет, пусть он нас озолотит, пощады ему не будет! — яростно крикнул Рорбах.
Стоявший рядом с парламентером граф, услышав эти слова, в ужасе отпрянул. Теперь он не думал ни о чем, кроме спасения своей жизни. Но когда, сев на коня, он хотел бежать вместе с кучкой дворян и рейтаров, толпа окружила и задержала их. Тщетно он восклицал: «Ко мне, мои верные бюргеры!» Его слова потонули в криках протеста. Женщины плакали и причитали, его сторонники осыпали его упреками в том, что он заварил кашу, а теперь им всем придется ее расхлебывать. Многие проклинали его, крича, что раз он навлек на город такое несчастье, то теперь не время помышлять о бегстве. И действительно, было уже поздно бежать. Ликующий гул у нижних ворот возвестил о том, что крестьяне ворвались в город. Рыцари спешились и, бросив лошадей, устремились вместе с рейтарами в церковь, где и забаррикадировались. Священник указал дворянам на узкую потайную лестницу, ведущую на колокольню. Многие из рыцарей и рейтаров спрятались в склепе. Некоторым удалось забежать в дома бюргеров, где их укрыли сердобольные хозяйки, которые помогли им потом переодетыми выбраться из города. Двое рыцарей в тяжелых доспехах были схвачены крестьянами на церковном дворе и тут же убиты.
Еклейн Рорбах мчался со своим отрядом по Госпитальной улице. «По домам! По домам! И не показывайте и носа на улицу, кому жизнь дорога!» — кричали его товарищи перепуганным насмерть горожанам, которые падали перед ними на колени. Как псовая охота, промчались мимо них крестьянские отряды; впереди несся Еклейн Рорбах, размахивая обнаженным мечом, с налившимися кровью глазами и взъерошенной рыжеватой бородой. Увидев на площади брошенных лошадей, крестьяне ринулись в церковь. В это время через верхние ворота, ключи от которых принесли женщины, в город хлынули главные силы крестьян во главе с Иоргом Мецлером.
Бушующая толпа окружила церковь. Неистовые, яростные крики не могли заглушить гулких ударов топоров, под которыми церковные двери разлетелись в щепы. Крестьяне с копьями наперевес ворвались в церковь и перебили всех, укрывавшихся в ней. Некоторые спустились в склеп, закололи спрятавшихся там, взломали гробницы и разграбили их. Тем временем Земмельганс, который вместе с товарищами уже успел перебраться из замка в город, показал винтовую лестницу на колокольню. Церковные своды огласились радостными криками крестьян, и все они устремились к лестнице, но она была так узка, что взбираться по ней можно было только поодиночке. Земмельганс отважно первый бросился наверх, но был сражен мечом Якоба фон Бернгаузена, сына геппингенского фогта. Он скатился по ступенькам вниз, увлекая за собой других, и на минуту загородил своим телом дорогу.
Воспользовавшись замешательством, Дитрих фон Вейлер взошел на колокольню и среди наступившей вдруг тишины закричал собравшимся внизу, что они с графом сдаются и предлагают за свою жизнь тридцать тысяч гульденов.
— Смерть им, смерть! Пусть нас озолотят, все равно граф и все рыцари должны погибнуть! Месть за кровь наших братьев! Месть за семь тысяч, порубленных под Вурцахом! Месть! Месть! — раздались гневные крики. Стрелой из арбалета фон Вейлер был смертельно ранен в шею. Он упал навзничь, прямо на руки взбежавших на колокольню крестьян. Они сбросили умирающего графа на церковный двор, где его подхватили на копья. Такая же участь постигла лесничего Леонгарда Шмельца и еще двух рыцарей. Сын Дитриха фон Вейлера выкупил было свою жизнь у одного франкенгеймского крестьянина за десять золотых, но не успел он отвернуться, как тот выстрелом в спину уложил его на месте. Примчавшиеся на церковный двор Иорг Мецлер и Большой Лингарт положили конец кровавой расправе. Рыцарей связали и повели в ближайшую башню. Как пленники Еклейна Рорбаха, они остались под его охраной. Когда их вели через церковный двор, кто-то ударил графа фон Гельфенштейна копьем в бок; другой пленник получил ранение в голову.
Штурм замка и города длился немногим более часа. Когда Черная рать ворвалась в замок, графиня фон Гельфенштейн, уже разодетая по-праздничному в честь светлого Христова воскресения, укрылась с ребенком и придворными дамами в часовне замка. Женские вопли привлекли внимание Флориана Гейера, искавшего графиню, чтобы взять ее под свою охрану. Оказалось, люди из его отряда, разбежавшиеся по замку в поисках добычи, проникли и в часовню и, сбросив со ступенек пытавшегося остановить их капеллана, принялись растаскивать: кто — церковную утварь, кто — парчовые покровы с алтаря.
— Я — ваша пленница, — обратилась к Флориану Гейеру бледная, но полная достоинства графиня.
— Вы ошибаетесь, сударыня, — возразил Флориан Гейер, поклонившись. — Мы воюем только с мужчинами. Вы свободны. Но я прошу вас удалиться в ваши покои. Вы получите охрану для обеспечения вашей безопасности. По праву войны замок и все, что в нем находится, принадлежит моим людям.
— И эти грабежи, насилия, убийства вы называете войной? — с гневом и презрением спросила графиня.
— А разграбление монастырей и замков? А насилие над служителями божьими? — завопил капеллан, воздымая руки к небу.
— Можете называть это так, если вам угодно, сударыня, — произнес Флориан Гейер, устремив на нее суровый взгляд. — Но нет войны, более священной, чем война угнетенных, отчаявшихся найти справедливость здесь, на земле, против своих угнетателей. Вероломство графа фон Гельфенштейна вынудило нас к насилию.
Графиня вздрогнула, а Флориан Гейер, обращаясь к священнику, продолжал:
— Вы именуете себя служителем божьим? Так скажите, кто из епископов и монахов свято хранит свои обеты? Вы принизили своих ближних, ввергнув их в рабство. Вы прибрали к рукам все блага земные и не оставили бедняку ничего, кроме царствия небесного. Ваши монастыри — разбойничьи гнезда, притоны пьянства и разврата. Стереть их надо с лица земли, чтобы восстановить во всей чистоте евангельское учение. Как Христос воскрес из мертвых в этот день, так и наш народ воскрес для истинной веры и свободы.
— Он богохульствует! — воскликнул капеллан, побагровев, — а кто богохульствует, тот…
— Заслуживает смерти! — закончил один из ландскнехтов Гейера и уже готов был претворить слово в дело, если бы не Флориан Гейер, который отвел в сторону занесенную над головой священника алебарду. Капеллан в страхе повалился на землю. Дружинники расхохотались. Гейер обратился к графине и снова предложил ей удалиться в свои покои. Прибежавший на шум Пауль Икельзамер получил приказание взять надежных людей и охранять от всяких посягательств ту часть замка, где помещалась вместе со своими дамами графиня.
Все комнаты, лестницы, коридоры кишели крестьянами, ищущими добычи.
— Будь жив мой отец, он никогда бы не допустил такого позора, — сказала со вздохом графиня Маргарета, перешагнув через порог своей комнаты, и, повернувшись к Флориану Гейеру, дрожащими губами добавила:
— Он высоко ценил вас, господин Гейер фон Гейерсберг. Чем же вы оправдаетесь — не передо мной, а перед всевышним судией, — в двойной измене: своему рыцарскому долгу и своей вере?
— Вы правы, сударыня, покойный император был неизменно милостив ко мне, — спокойно и серьезно отвечал Флориан Гейер. — Но поверьте мне, графиня, он так же не смог бы помешать случившемуся, как не смог император Карл, как не смог бы любой монарх, опирающийся не на народ, а на знать и духовенство. Вы видите, как непрочны эти столь мощные с виду столпы власти. Что же касается меня, сударыня, то перед лицом моего высшего судии — совести — я прав. Я лишь исполняю свой долг.
Графиня взяла ребенка из рук няни и в мучительном страхе прижала его к своей груди. Флориан Гейер уже направился к выходу, как вдруг дверь распахнулась и на пороге показался Симон Нейфер.
— Победа! Победа! — закричал он. — Город в наших руках. Рыцари схвачены. Оберфогт — тоже.
Из груди графини вырвался крик. Силы изменили ей: она потеряла свою гордую осанку, лицо ее исказилось. Побелевшими губами она попросила, чтобы ей разрешили разделить заключение с мужем. Флориан Гейер, тронутый ее горем, согласился и сам повел ее в башню. Ребенка она больше не выпускала из рук.
Тем временем в городе тоже полным ходом шел грабеж, которому подверглись, по распоряжению Иорга Мецлера, пославшего надежных людей, чтобы следить за его проведением, только дома духовенства, питейного старшины, шультгейса и городского писца. Жилища простых горожан были пощажены; им только вменили в обязанность ухаживать за ранеными и снабжать съестными припасами и вином победителей. Крестьяне вскрыли церковные кружки, но денег бедняков, вдов и сирот не тронули. Богатая добыча досталась им в замке: одни выносили оттуда серебряные кубки и кувшины, блюда и ложки; другие тащили шелковые одежды и материи, полотно, оловянную посуду. Один крестьянин из вейнсбергской долины награбил на триста гульденов добра и впоследствии продал еще на двести гульденов колец и других драгоценностей нюрнбергскому ювелиру. Другой завладел таким богатством, что, как он рассказывал, смеясь, даже в евангелии от Луки о том не прочитаешь. Победители с такой жадностью и поспешностью набрасывались на добычу, что часто не замечали самого ценного и топтали ногами сокровища до тех пор, пока они не попадались на глаза какому-нибудь счастливцу. После разграбления старинный замок гвельфов был предан огню.
Еклейн Рорбах со своим штабом расположился на мельнице у верхних ворот. Вместе со своими друзьями и ближайшими помощниками он сидел за столом, попивая вино, и держал совет, как быть с военнопленными. Среди собравшихся была и Черная Гофманша. На всех были следы недавнего сражения: воспаленные лица, почерневшие от пороха руки, всклокоченные волосы, пятна запекшейся крови, разодранные и продырявленные пулями куртки.
— Кровь наших предательски убитых братьев вопиет об отмщении, — сказал Еклейн Рорбах, стукнув что было силы оловянным кубком по столу.
— Правильно, дорогие друзья, — подхватил Ганс Винтер из Оденвальда. — Мы должны нагнать на дворян такого страху, чтобы они ввек не опомнились.
— Покажем им, что мы умеем платить той же монетой! — крикнул свирепый Матиас Риттер, сбросивший с колокольни лесничего Шмельца. — Коль они стреляют в наших глашатаев, пусть знают, что благородное происхождение их не спасет.
А Бекарганс из Бракенгейма, убивший молодого Вейлера, хватив кулаком об стол, гаркнул:
— Сколько ни есть этих князей, графов, дворян и прочей нечисти с золочеными шпорами, ни одного из них нельзя оставить в живых! Да и попов, монахов и прочих бездельников тоже!
Обведя всех сидевших за столом взглядом, Еклейн Рорбах крикнул:
— Смерть пленным!
И у всех разом, точно из одной глотки, вырвался страшный крик «Смерть пленным!». Но Черная Гофманша прошипела:
— Пустые слова! Судить их будет начальство, а Гиплер, который вертит Мецлером как хочет, улестит его и заставит выпустить пленных за выкуп. — Бурные протесты, пересыпанные проклятиями, прервали ее. Но она упорно продолжала наставить на своем: — Разве Большой Лингарт не держал в руках убийцу моего внука? Но «черные» из Лейценброна и городские советники выпустили его. Так будет и теперь. Граф и вся его шайка в ваших руках, но если вы также жаждете его крови, как я, не дожидайтесь суда, произнесите над ними сами свой приговор. А я выпью его кровь, вот как пью это вино!
И, злобно сверкая глазами, она схватила кубок и залпом осушила его.
— Она права! — воскликнул Еклейн Рорбах, вставая. — Они предательски напали на нас и по военным законам подлежат позорной казни.
— Сквозь строй их, сквозь строй! — закричали все сразу, вскочив из-за стола. Собрали всех гейльбронцев и вейнсбергцев, какие только оказались среди них, и Рорбах повел их в башню за пленными. Он вывел их на лужайку у нижних ворот: четырнадцать рыцарей, несколько слуг и рейтаров. Рядом с графом шла, опустив голову, его жена. Почти никто не обратил внимания на это шествие. Крестьяне подкреплялись в трактирах, харчевнях и домах бюргеров; военачальники сидели в ратуше. Вооруженные крестьяне расположились на лужайке в круг. Еклейн Рорбах выступил на середину и объявил пленным приговор: прогнать сквозь строй. Так казнили в войсках за измену и предательство. Надменные лица дворян побелели; графиня покачнулась и упала бы, не подхвати ее на руки муж.
Граф предложил за свою жизнь крестьянам тридцать тысяч гульденов.
— Хоть тридцать бочек золота, нет тебе пощады! — раздался крик ему в ответ.
Тогда графиня бросилась на колени перед Рорбахом и стала умолять его, заклиная всем святым, пощадить ее мужа. Но ни унижение этой красивой гордой женщины, дочери императора, ни ее горячие мольбы и слезы не тронули крестьян. В отчаянье она подбежала к Черной Гофманше, не сводившей с нее горящего взгляда, и, обнимая ее колени, воскликнула:
— Ты — женщина! Я взываю к твоему сердцу матери. Пощади жизнь отца моего ребенка. Молю тебя! Будь милосердна!
Черная Гофманша отбросила с лица седые космы и, тяжело переведя дыханье, сказала:
— Знаешь, что ожесточило сердца этих людей? Почему их не могут смягчить ни твои слезы, ни мольбы? Я скажу тебе почему. Они вспоминают, как господа травили их собаками, словно диких зверей. Вспоминают, как над их иссохшими от голода и непосильного труда спинами взвивалась безжалостная плеть; вспоминают, как томились от голода и жажды их отцы, сыны, братья в глубоких подземельях замков, куда господа бросали их за малейшую провинность; вспоминают их стоны, жалобы, мольбы о пощаде, но их никто не услышал, никто не сжалился над ними. Да, я — женщина! Но мое тело осквернили господа, отца моего ребенка сожгли заживо господа, мужа моей дочери затравили псами господа, моего внука убили господа, — продолжала она, выпрямившись во весь рост. — Так валяйся же в пыли, испей, как я, до дна свое отчаянье!
Она отвернулась, и граф фон Гельфенштейн резким движеньем поднял с земли свою жену, которую слова Гофманши сразили, как удар обухом по голове.
Граф понял, что он погиб и что все унижения напрасны.
Между тем по приказу Рорбаха люди построились в два ряда. Командовал ими один крестьянин из Оденвальда; в переднем ряду стояли бекингенцы. По обычаю, как полагалось во время казни в войсках, глухо забил барабан. Первым втолкнули в строй слугу Конрада Шенка фон Винтерштеттена; за ним — его господина. Затем наступил черед графа фон Гельфенштейна.
Но в горькой чаше, которую граф сам уготовил себе своей изменой, еще не хватало последней капли. В толпе он увидел старого знакомого — большого мастера игры на флейте, Мельхиора Нонненмахера, родом из Ильсфельда. В былые времена он часто услаждал графа за столом своей искусной игрой на флейте и пользовался его благосклонностью. Но милость знатных господ преходяща, в чем пришлось убедиться на собственном опыте и Нонненмахеру. И вот теперь он подошел к графу, уже вступившему на свой последний путь, снял с графской головы шляпу с перьями и, надев ее на себя, закричал:
— Ну, пографствовал и будет! Теперь хочу походить в графах и я! Довольно я потешал тебя за столом! Довольно ты натанцевался под мою музыку! Только теперь ты у меня запляшешь по-настоящему!
И, весело наигрывая на своей флейте, он пошел за графом до самого строя.
Не сделав и трех шагов, граф, пронзенный копьями, замертво упал на землю. Мельхиор Нонненмахер обагрил острие своего копья графской кровью.
Следующими жертвами были графский оруженосец и шут. И так одного за другим всех пленных прогнали сквозь строй, заглушая предсмертные крики поднятых на копья грохотом барабанов, свистом флейт и рожков.
Сквозь строй! Казнь предателя
С гравюры И. Аммоса
Тела казненных были ограблены крестьянами. Один из них щеголял в доспехах графа. Еклейн Рорбах надел на плечи графскую пелерину и спросил несчастную вдову: «Как я вам нравлюсь, сударыня, в атласном наряде?» И графиню, обезумевшую от горя и ужаса, ограбили. Грубые руки сорвали с нее драгоценности и роскошное праздничное платье, ее ребенка ранили копьем в грудь. Этот шрам остался у него на всю жизнь. Черная Гофманша взяла графиню под свою защиту и спасла ее от худшей участи. Ее жажда мести была утолена, и в ней вновь проснулась женщина. В изодранной нижней одежде графиню с ребенком посадили на навозную телегу и отправили в Гейльброн. Вейнсбергские горожане вместе с женами бежали за телегой и осыпали графиню градом насмешек.
— Ты приехала к нам в золоченой карете, а уезжаешь в навозной телеге! — кричали они ей вслед.
Двенадцать долгих лет еще прожила она, раздумывая над внезапной переменой в своей судьбе. Рассказ Черной Гофманши навсегда подточил в ней гордость своим высоким происхождением и положением в свете. Она поняла, что могла жить в роскоши лишь потому, что пожинала плоды вековой несправедливости, и за это ее постигло такое страшное возмездие. Ее сын, когда вырос, принял духовный сан.
Собравшийся в ратуше совет крестьянских вождей узнал о кровавой трагедии лишь тогда, когда все уже было кончено. Отец Евсевий, привлеченный криками и звоном оружия на лужайку, помертвел от ужаса при виде открывшегося перед ним зрелища и, даже примчавшись с известием о нем в ратушу, долго не мог прийти в себя. Голос его поминутно прерывался, и крестьяне думали, что у него помутился ум, прежде чем вытянули из него рассказ о происшедшем.
— Это ужасно! — воскликнул потрясенный Вендель Гиплер.
— Графская кровь за крестьянскую кровь! — вырвался зловещий крик, точно скрип жерновов, из глотки Вагенганса из Лерена.
Между тем отец Евсевий опрометью бросился вон из ратуши. Несколько дней тому назад, когда крестьянские отряды выступили из Шенталя, он почувствовал, что не в силах оставаться в покинутом всеми монастыре. Забрав ржавое копье и латы из монастырского арсенала, он с воодушевлением двинулся вместе с крестьянами, и ему показалось, что он вновь народился на свет. Но теперь весь его воинственный пыл сразу улетучился, как дым. Он бежал из Вейнсберга, возвратился в свой монастырь и опять взялся за мотыгу.
В ратуше, покрывая гул толпы, прозвучал мощный голос Флориана Гейера:
— Графа фон Гельфенштейна и его дворян постигла заслуженная кара, — твердо произнес он. — Но Рорбах виновен в том, что действовал самовольно, не дождавшись решения крестьянского совета. По законам военного времени мы были бы вынуждены вынести такой же приговор. Мы не имеем права быть милосердными. Это было бы преступно по отношению к нашему делу. Теперь господа поймут, что перед ними не дикая орда, а противник, с которым нужно считаться, как с равным.
Крестьянский военный совет
С гравюры XVI в.
— Но так как Рорбах предвосхитил решение военного совета, то учиненная им расправа будет приписана нам как гнусное злодеяние, — возразил Вендель Гиплер. — Нашему делу нанесен тяжелый удар. Никто не пожелает быть нашим союзником, а число наших врагов непомерно возрастет.
— Ничего, мы нагоним на них такого страху, что у них руки и ноги отнимутся, — крикнул Большой Лингарт.
— Напротив, все дворянство поголовно возгорится против нас смертельной ненавистью, — отвечал ему Гиплер.
— Дворянство? — воскликнул Флориан Гейер. — Разве мы для забавы обнажили меч? Оба ствола, заглушающие молодую поросль свободы, нужно не только срубить, но и вырвать с корнем, чтобы они не могли пустить новые побеги. Недостаточно искоренить папских прихвостней и уничтожить до конца монастырскую плесень. Все мы хотим, чтобы на немецкой земле осталось только одно сословие — сословие свободных людей. Тогда и дворяне должны иметь такие же права, как и крестьяне, тогда не должно быть больше укрепленных замков, и у дворянина, как и у крестьянина, должна быть в доме только одна дверь[106].
— Да я не меньше твоего стремлюсь к установлению свободы для всех, — возразил Вендель Гиплер, — но ты, кажется, собираешься выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка. Низшее дворянство так же горячо стремится к свободе, как и мы. И не будь этого кровопролития, мы легко привлекли бы его на свою сторону. Теперь оно перекинется в лагерь наших врагов, если мы не примем мер, пока еще не поздно. Я с полной достоверностью знаю, что дворянство настроено и поныне точно так же, как во времена Франца фон Зиккингена.
— Откуда ты это знаешь? — спросил, высоко вскинув брови, Флориан Гейер.
— Мне говорил об этом Гец фон Берлихинген, когда приезжал в Шенталь за охранной грамотой, — подтвердил Гиплер. — Он сказал мне, что мог бы привести к нам дворян, если мы пожелаем. И теперь, когда по оплошности Рорбаха мы очутились в таком затруднительном положении, Гец мог бы оказаться для нас полезным человеком. Надеюсь, брат Иорг не посетует на меня, если я предложу в главнокомандующие, разумеется наравне с братом Иоргом, Геца, конечно, если только нам удастся его заполучить.
Все замолкли, пораженные его предложением, а у Флориана Гейера вырвался смех полный горечи. Но Иорг Мецлер, которого Гиплер начал обрабатывать, еще будучи в Шентале, заявил:
— Я согласен. Если кто и может вытащить нашу телегу из болота, в котором она увязла по милости Еклейна, так это Гец. А что он всем сердцем за народ, это он доказывал неоднократно. Всем нам известно, что он всегда помогал добиться справедливости беднякам, обиженным большими господами.
— И всегда пользовался этим как предлогом для собственных разбойных похождений! — воскликнул Флориан Гейер, и его благородное лицо омрачилось. — Вот чем объясняется ошибочное представление о нем в народе. Его прославляют, как второго Конца Вирта Гальденского и других героев разбойничьей вольницы. Гец фон Берлихинген всю свою жизнь был не чем иным, как рыцарем с большой дороги, жадным до грабежа и наживы. И такой человек должен представлять наше праведное дело перед всем миром?
— На драку он горазд, и только! — проворчал Большой Лингарт. — А в ратном деле и вождении войск он ничего не смыслит. Ну его, не нужен он нам совсем! — И для пущей убедительности он стукнул ножнами об пол.
— И еще одно, — продолжал Флориан Гейер. — Если дворянство теперь исполнено таких же стремлений, как при Зиккингене, тем хуже для нас. Значит, оно норовит загребать жар нашими руками. Да, дворяне хотят свободы, но только для самих себя; да, они хотят республики, но такой, где все, кроме них, будут бесправны. Так они думали тогда, так думают и сегодня. Я прошу, я заклинаю вас, дорогие братья, откажитесь от этого пагубного выбора, не устремляйтесь к собственной гибели.
Его слова подействовали на многих и вызвали замешательство, но Вендель Гиплер поспешил всех успокоить.
— Сегодня дело оборачивается иначе, — сказал он. — Без нас дворянству хода нет. Оно вынуждено принять наши условия и идти с нами в ногу. И само собой разумеется, — об этом нечего и толковать, — мы лишь при том условии признаем Геца нашим главнокомандующим, если он присягнет «Двенадцати статьям».
— Он-то не присягнет! — с презрением крикнул Флориан Гейер. — Да он, как и все дворянство, присягнет хоть самому черту, лишь бы остаться наверху. Но что толку пытаться обрезать когти ястребу или приручать волка? У стервятника когти отрастут опять, волка от волчьих повадок не отучишь. А Гец всегда был настоящим хищником.
— Ты и впрямь слишком мрачно смотришь на вещи, брат Флориан, — заметил канцлер.
— А ты не слишком ли мудришь? — отвечал Гейер и поднялся с места. Вскинув на Гиплера омраченный взор, он добавил: — Смотри, не пришлось бы тебе в этом раскаиваться. Итак, друзья, до скорой встречи под стенами Вюрцбурга. С Гецом мне не по пути.
Вместе с командирами своего отряда он вышел из зала. Воцарилась тишина. Но Большой Лингарт, мрачно сверкнув своими большими круглыми глазами на присутствующих, крикнул:
— Господи прости, мыслимое ли это дело оттолкнуть от себя единственного в наших рядах опытного воина? Никто с ним не сравнится, только он не шумит о себе и не хвастается, хотя никого на свете не боится, даже самого черта. Он не ищет ни почестей, ни славы и всей душой предан нашему делу. Разве он заикнулся хоть единым словом, что это он заставил Геца сдаться под Мекмюлем, а теперь вы хотите поставить Геца над ним!
— Не горячись зря, Флориан от нас не уйдет, — успокоил его Гиплер и объявил заседание совета закрытым.
Флориан Гейер в понедельник на пасхальной неделе с рассветом покинул Вейнсберг вместе со своей Черной ратью. Большой Лингарт тоже двинулся в путь вместе со своими ротенбуржцами, чтобы присоединиться к походу на Вюрцбург. Страх, посеянный известием о казни графа фон Гельфенштейна и его рыцарей, сделал свое дело: в тот же день крестьяне получили от графов фон Гогенлоэ вместе с письмом две кулеврины, несколько бочек пороху и каменные ядра. Графы Лёвенштейны лично явились в крестьянский лагерь в Вейнсберге и заявили о своем желании вступить и евангелический союз. Когда кто-то из бюргеров, по старой привычке, снял перед ними шляпу, старик крестьянин ударил его древком копья по спине и крикнул:
— Болван, они теперь такие же графы, как я!
Важно подбоченившись и широко расставив ноги, крестьянин заставил братьев фон Лёвенштейнов несколько раз снимать перед ним шляпу. Графы повиновались, а он покатывался со смеху. Крестьянский совет отвечал им, что теперь ему недосуг заниматься с ними, но пусть они с белым посошком и в крестьянской одежде следуют за войсками, которые в тот же день двинулись на Гейльброн. В авангарде шел отряд Еклейна Рорбаха, а в первых рядах шагала Черная Гофманша. Ее морщинистое лицо сияло, как будто помолодевшее. Изнемогавший под гнетом народ, окрыленный победой, с надеждой глядел в будущее.
Глава девятая
Жена рыцаря с железной рукой лежала в постели после родов. Но это радостное событие не отражалось на лице Геца, который, мягко ступая войлочными подошвами комнатных туфель, расхаживал взад и вперед по комнате, время от времени останавливаясь то у одного, то у другого окна. На тяжелом дубовом столе стоял кувшин с неккарским вином, но хозяин не прикасался к нему. На дворе бушевала непогода. Холодный западный ветер хлестал непрерывными потоками дождя в узкие окна замка Горнбург, сотрясая свинцовые оконницы. Туман покрывал серой пеленой долину и протекавший мимо замка Неккар. На душе у хозяина замка было так же пасмурно, как и за окном. Настоящее и будущее были окутаны зловещим туманом, и, поеживаясь от холода дородным телом, он запахивался плотнее в подбитый мехом шлафрок. Своей единственной левой рукой он то и дело потирал выпуклый лоб и лысое темя, но в его мозгу не пробуждалось ни одной отрадной, утешительной мысли. По возвращении из Шенталя он немедля созвал на совещание франконское дворянство, но лишь немногие откликнулись на его призыв. Вейнсбергская расправа бросила большинство дворян в объятия князей; другие поспешили принять «Двенадцать статей» и заключить союз с крестьянами. Даже родные братья Геца примкнули к евангелическому крестьянскому союзу.
Под влиянием страха он первым делом, забрав с собой драгоценности и важные бумаги, помчался во Франкфурт, но вернулся оттуда несолоно хлебавши. Город соглашался принять на хранение ценности лишь при условии отказа их владельца от требования какого-либо возмещения, если они погибнут от руки бунтовщиков, угрожавших также и Франкфурту.
И дернул же его черт поехать в этот Шенталь.! Что делать, если Вендель Гиплер воспользуется его предложением? Отдаться очертя голову, как это сделали многие рыцари, под покровительство какого-нибудь князя? Но это значило навлечь на себя грозу крестьянской мести. Податься к крестьянам, когда Гиплер потребует, чтобы он сдержал свое уже по существу данное ему слово? Но как оправдаться перед Швабским союзом? Правда, у него и так в нем много врагов, и он уже заранее предвкушал наслаждение при мысли о том, как он им насолит, если ударит по рукам с крестьянами. А в том, что крестьяне протянут ему руку, он нисколько не сомневался.
Выступив из Вейнсберга, Флориан Гейер сначала повернул назад, в Неккарсульм, чтобы забрать оттуда пушки, а затем вышел на дорогу, ведущую вдоль течения Неккара в Вюрцбург, и дошел до Гундельсгейма — городка, расположенного неподалеку от Торнбурга. Черная рать продвигалась вперед, нисколько не заботясь о Геце фон Берлихингене, но ей часто попадались на пути летучие отряды Светлой рати, стоявшей под Гейльброном. Дороги кишели отрядами, которые опустошали монастыри, сжигали оброчные грамоты и принуждали владельцев замков вступать в евангелический союз. Каждую ночь Гец фон Берлихинген видел в небе зарево пожаров.
Один из этих летучих отрядов, направляясь на сборный пункт в Гундельсгейм, следовал по пятам за Флорианом Гейером. Выпотрошив гундельсгеймский замок, крестьянское воинство нагрянуло в Шейернберг, замок Тевтонского ордена, слывший неприступным, и тотчас уселось обедать за накрытый стол, из-за которого в панике разбежались при приближении крестьян тевтонские псы-рыцари. Не меньшую доблесть выказал и командор в замке Горнек, лежавшем на полпути между Гундельсгеймом и замком Геца. Несмотря на свои хвастливые заверения, что он будет защищать замок и город до последнего издыхания, командор тоже пустился наутек вместе со всем капитулом[107], бросив на произвол судьбы свой гардероб, всю переписку и даже драгоценности. Крестьянам не хватало телег, чтобы вывезти всю муку, зерно, вино и домашнюю утварь.
Затем подошла и Светлая рать. Весть о ее приближении принес незадолго до полудня рейтар, высланный Гецом вперед, в Гундельсгейм. Без единого выстрела удалось склонить имперский вольный город Гейльброн ко вступлению в евангелический союз. Появление вооруженных крестьянских отрядов, предшествуемых телегой с злополучной графиней, довершило то, что уже было давно подготовлено расколом в магистрате, вызывающим поведением патрициата, голодом среди бедняков и стараниями революционной партии, насчитывавшей в своих рядах немало зажиточных и даже богатых горожан.
К числу этих богачей принадлежал и Ганс Мюллер, по прозвищу Флукс, владелец булочной и винного погреба на улице Тевтонского ордена. Его посредничеству город обязан был тем, что ни один бюргер и член магистрата не потер пел ущерба: крестьяне удовольствовались контрибуцией в восемь тысяч пятьсот гульденов, наложенной ими на монастыри. Только дом Тевтонского ордена был разграблен дочиста, и здесь, как и всюду, командор ордена трусливо бежал, опозорив тем свой орден. И здесь тоже при разгроме и расхищении имущества ордена наибольшее рвение проявили его собственные подданные. Ганс Флукс был в родстве с Иоргом Мецлером, его брат заседал в крестьянском совете, а шультгейс совета, Ганс Рейтер из Бирлингена, доводился ему свояком. Он вечно носился с этим родством и любил намекать, что посвящен в самые что ни на есть секретнейшие планы крестьян. При всем своем радикализме, приведшем его вместе со Светлой ратью в Неккарсульм и Вейнсберг, он был добродушный малый и искренне любил свой родной город.
Он похвалялся, что может добыть городу мир с крестьянами, и гейльбронский магистрат поймал его на слове. Только в одном пункте градоправители, несмотря на все усилия Флукса, остались непреклонны. Крестьяне требовали, чтобы город выставил для пополнения их сил хорошо вооруженный отряд и непременно под гейльбронским флагом. Магистрат же из страха перед Швабским союзом не решался. Желая оставить себе на всякий случай лазейку, он не дал Флуксу никаких формальных полномочий на переговоры с крестьянами, чтобы, если ветер переменится, иметь возможность отпереться. А уж что касается формирования отряда, раз уж нельзя было отвильнуть, отцы города тоже всеми силами старались найти выход, чтобы, на худой конец, свалить всю ответственность на Флукса.
И выход нашелся. Магистрат отказался сформировать отряд, но разрешил Гансу Флуксу вербовать добровольцев, причем дал им белое знамя без черного орла на серебряном поле, красовавшегося на гербе города Гейльброна. Добродушный Ганс Флукс чуял ловушку, но из тщеславия и любви к родному городу полез в нее. И вот он шествовал вместе со Светлой ратью вдоль берега вниз по течению Неккара. Под белым шелковым знаменем гейльбронского отряда выступали и две горожанки: одна в блестящих латах и с копьем на плече, другая — с башмаком, символом крестьянского союза, — на шесте. Энтузиазм и энергия женщин склонили в Гейльброне чашу весов на сторону крестьян.
Звуки рога, донесшиеся от ворот замка, прервали тяжкие размышления Геца. За окном уже сгущались сумерки, но хозяин разглядел во дворе своего амтмана, слезавшего с лошади. Через минуту тот переступил через порог, весь мокрый от дождя.
— Что, любезнейший, видно важное дело привело тебя сюда в такую собачью погоду и в такой поздний час?
— Дело-то, конечно, важное, ваша милость, и, надо надеяться, не плохое. Меня прислал к вам крестьянский совет. Он свидетельствует вашей милости свое нижайшее почтение и просит вас прибыть завтра поутру в гундельсгеймский трактир. Им нужно безотлагательно побеседовать с вашей милостью.
Румяное лицо рыцаря побагровело. Опершись правой железной рукой в перчатке на край стола, он обдумывал ответ. Амтман не сводил с него глаз.
— Говорят, почти все дворянство между Якстом и Кохером вступило в крестьянский союз, — произнес он вполголоса. — А ты знаешь, что им от меня надо?
— Так точно, ваша милость. Несмотря на ливень, Иорг Мецлер собрал всю Светлую рать на круг, и канцлер Гиплер говорил им о том, каким блестящим успехом увенчается их дело, если их поведет такой опытный в ратном деле вождь, как вы, благородный рыцарь, и, напротив того, какой ущерб они понесут, если вы присоединитесь к их врагам.
— И все крестьянское воинство ответило на это криками одобрения? — с насмешливой гримасой вставил Гец.
— О нет, ваша милость, — отвечал смутившийся амтман. — Не обошлось и без возражений. У них, мол, крестьянская война, заявили некоторые, и им дворян не нужно. А один даже крикнул, с позволения вашей милости: «Если он может причинить нам ущерб, почему бы нам его не повесить?» И только после того, как выступили Иорг Мецлер и шультгейс совета Рейтер, предложение господина канцлера было принято.
— Бьюсь об заклад, что повесить меня хотел Рорбах! — сказал, усмехнувшись, Гец.
— С дозволенья вашей милости, он уже ушел с неккаргартахскими ребятами в Маульброн, чтобы, соединившись с тамошними крестьянами и с баденцами, ударить на Штуттгарт. Вокруг Тюбингена уже заварилась каша. А рорбахский отряд пока что подался домой в Бекинген: с них пока добычи хватит.
— А ты, как я вижу, отлично осведомлен, — довольно сухо заметил Гец. Амтман ответил, что все это он узнал от Мецлера.
— А вейнсбержцы остались у себя в долине, чтобы не выпускать из виду свой город и Гейльброн, — добавил он.
Продолжая внимательно слушать, Гец наполнил кубок и протянул его посланцу со словами:
— В сырую погоду первое дело — держать нутро в тепле. Выпей, любезный, и передай совету, что я прибуду. Как по-твоему, придется ехать? Или есть другой выход?
Но амтман другого выхода не знал и был рад, что может вернуться к крестьянам с добрыми вестями.
На следующее утро Гец фон Берлихинген отправился в Гундельсгейм. Погода прояснилась, но холодный ветер разгуливал по долине. Однако рыцаря все время бросало в жар.
Поднимаясь по лестнице, он столкнулся со своим старым соратником Максом Штумпфом фон Швейнсбергом, выходившим из трактира с только что полученной им охранной грамотой в кармане, выданной ему собравшимся там крестьянским советом.
— В добрый час, новый господин главнокомандующий! — приветствовал он Геца.
— Избави меня боже! — ответил тот со вздохом. — К черту это дело! А почему бы тебе не взяться за это? Будь другом.
— Да ведь они хотят тебя, а не меня! — воскликнул Макс Штумпф. — И, ей-богу, ты должен это сделать, Гец, в интересах всего дворянства, которое будет вечно тебе благодарно. Не отказывайся, прошу тебя, Гец.
— Если б ты знал, чего это мне будет стоить! Нет, никто этого не знает! Я иду туда, как на голгофу! — И с меланхолическим видом он протянул другу руку.
— Дорогой мой, нам всем приходится приносить жертвы в эти тяжелые времена. Но ведь ты спасаешь дворянство! — воскликнул фон Швейнсберг ему вслед.
— Гец застал крестьянский военный совет[108] в полном сборе. В совет входили семь человек, не считая главного военачальника Иорга Мецлера, канцлера Гиплера, шультгейса Ганса Рейтера и Ганса Флукса. Члены совета радушно встретили Геца.
После того как Вендель Гиплер изложил предложение совета, Гец с горячностью стал убеждать канцлера уволить его от такой чести. Его обязательства перед Швабским союзом, князьями и дворянами не дают ему права согласиться. Что же касается «Двенадцати статей», то они идут вразрез с его совестью и он их никогда не примет. Все с жаром уговаривали его, один Гиплер молчал. В его умных глазах светился насмешливый огонек, и Гец избегал встречаться с ним взглядом.
— Я не лицемерю, — заверял Гец, бия себя железным кулаком в закованную в панцирь грудь. — Принять ваше предложение я не могу.
— В таком случае благоволите уделить мне минуту для приватного разговора, — заговорил наконец Вендель Гиплер. — Надеюсь, что смогу предъявить вам такие доводы, перед которыми отпадут все ваши возражения, уважаемый господин рыцарь.
Они прошли в небольшой сад позади трактира, и канцлер тотчас приступил к делу.
— Вы согласитесь со мной, господин фон Берлихинген, что идеи Зиккингена неосуществимы. Крестьянина не подденешь на дворянскую республику. Но и крестьянская республика — чистейшая утопия. Она стала бы добычей первого попавшегося авантюриста, который сумел бы использовать неопытность крестьянства в делах высокой политики. Нет, почтеннейший рыцарь, ни одно сословие не должно господствовать над другим. В государстве, которое мы стремимся построить, крестьяне, дворяне, горожане будут обладать равными правами и иметь над собой лишь одного владыку — императора. Вот почему мы и желаем, чтобы вы привлекли на нашу сторону дворянство.
— Но после того, что произошло в Вейнсберге, это совершенно невозможно! — воскликнул Гец.
— Полноте, так ли это? — возразил Гиплер и привлек его на скамью под грушевым деревом. — Дворянство никогда не забывает о своих интересах. Пожалуй, ничего, кроме этих интересов, оно никогда не признавало, чем и довело государство до гибели. Конечно, любезнейший господин Гец, дворянство должно быть заинтересовано в возрождении империи, и оно поможет нам воссоздать подлинно свободную Германию. Но его потери от уничтожения крепостной зависимости, барщины, феодальных поборов будут с лихвой возмещены за счет земельных угодий церквей, капитулов, монастырей и Тевтонского ордена.
— Ах ты, черт! — невольно вырвалось у рыцаря восторженное восклицание.
— Церковь должна быть лишена своих владений, и, как я полагаю, у нее их столько, что хватит с избытком вознаградить дворянство за все жертвы, понесенные им во имя общего блага, а также чтобы сделать крестьянина свободным собственником своего участка. А что до князей да баронов, то крестьяне и дворяне заставят их отказаться от привилегий и подчиниться законам свободного государства. В противном случае они подвергнутся изгнанию, а их имения будут объявлены общественным достоянием. Каково ваше мнение на этот счет, почтеннейший господин Гец?
— Клянусь святым Вельтеном, дело подходящее! — с жаром воскликнул тот. — То есть, я хочу сказать, дворянство на это пойдет. Но император? Император? Этот Карл!
— В качестве главы этого свободного государства император только выиграет в силе и могуществе. Правда, этот богомольный испанец едва ли годен для этой роли. Но в Германии императоров избирают, и, слава богу, еще не перевелись немецкие князья, одаренные мудростью, кротостью и справедливостью, чтобы внимать нуждам своего отечества, князья, стоявшие у колыбели Реформации и простирающие над нею и поныне свою оберегающую длань. Однако углубляться сейчас в эти вопросы нет нужды.
Гец и не настаивал на этом. Он понял, что Гиплер говорит о курфюрсте Фридрихе Саксонском.
— Гм… гм, — только и произнес он, сняв шлем и вытирая лоб, на котором выступила испарина. — Вы слывете человеком умным и тонким. Вы открыли передо мной такие ослепительные дали, что у меня в глазах потемнело. Но что, если мы потерпим неудачу? Я обязан предусмотреть и эту возможность. Ведь у меня жена и дети, к которым я привязан всей душой. Но и помимо того, моя ответственность слишком велика, и не только перед дворянством, которое мне доверяет. Я уже упоминал о своих обязательствах перед Швабским союзом, в который я вхожу. Что я смогу привести в свое оправдание в случае неудачи? На кого я смогу опереться? Нет, тогда мне несдобровать.
По умному лицу крестьянского канцлера опять пробежала такая же едва уловимая усмешка, с которой он слушал Геца в комитете.
— Мир так устроен, что право уступает силе, а никто лучше вас не знает, что на войне успех — дело случая. Если же вы пожелаете иметь гарантии вашей безопасности, мы вам их предоставим по мере наших возможностей. Одно вам скажу: мы вас не выпустим, пока вы не согласитесь принять на себя командование. А не пожелаете добром, мы будем вынуждены прибегнуть к силе.
— Да, как я погляжу, с вами шутки плохи, — ответил Гец на эту угрозу. И они вернулись в комитет.
Тем временем комитет семерых заготовил Гецу охранную грамоту, и, принимая ее, рыцарь слегка сощурил глаза и сказал, что если они захватят парочку-другую замков у архиепископа Майнцского, то, покончив с ним, им тем легче будет разделаться и с Вюрцбургским. Но от командования он просил его уволить. Его обязательства, данные им под присягой, связывают его по рукам и ногам, как ни справедливы доводы Венделя Гиплера. Но он не пожалеет издержек на поездку в штаб Швабского союза и приложит все усилия, чтобы добыть крестьянам почетный и справедливый мир. На это Ганс Рейтер, знавший Геца уже много лет, заметил, что выбрала его в главнокомандующие Светлая рать, а не комитет, а потому, если он решил отклонить избрание, к ней он и должен обращаться.
— На ваше счастье, вся Светлая рать сейчас будет в сборе, — сказал Иорг Мецлер. — Отряды должны построиться для выступления у городских ворот.
Геца обрадовала рта возможность обратиться непосредственно к крестьянам. Он и Мецлер сели на коней и поскакали к воротам. У городской стены действительно выстроились в походном порядке отряды, каждый со своим командиром во главе. Весть об отказе Геца мгновенно распространилась по рядам, и когда он, объезжая один отряд за другим, приводил свои объяснения, громкий ропот несся ему в ответ. Гогенлоэнцы, обступив его со всех сторон, подняли яростный крик и, направив на него аркебузы, с копьями наперевес, угрожали прикончить его на месте, если он не согласится принять, на себя командование. Вынужденный наконец согласиться, он покорился судьбе и дал клятвенное обещание прибыть назавтра в Бухен, куда тут же выступила вся Светлая рать.
С тяжелым сердцем возвращался Гец домой; лучше бы ему томиться в глубоком подземелье, пусть даже в Турции у врагов христовых! Он играл с огнем и обжегся. Вдохновиться великими идеями и замыслами, о которых поведал ему Гиплер, он был не в состоянии. Он не любил народ, взявшийся за оружие для своего освобождения. В глубине души он сознавал, что учиненное над ним насилие, отвечавшее его тайным желаниям, жестоко разочарует его врагов, но что, с другой стороны, его поведение может внушить недоверие к нему крестьян. И если так или иначе оно оправдается, ему не избежать страшной расплаты. Его собственные крестьяне примкнули к восставшим во главе со старшиной. Среди беспросветного мрака где-то маячил лишь один светлый огонек. В нем снова проснулся дух старого рыцаря-разбойника. Теперь он снова сможет сесть на коня. Затеять драку и взять за горло своих закоренелых врагов. В первую очередь епископа Бамбергского.
Крестьянский отряд под знаменем Башмака берет в плен рыцаря
С гравюры Г. 3. Бегама
На следующий день в сопровождении двух рейтаров он выехал в Бухен. У крестьян шел сход, на котором обсуждался важный вопрос. Еще в Балленберге Флориан Гейер предложил завербовать возвращавшихся из Италии ландскнехтов, что дало бы повстанческой армии крепкое, закаленное в боях ядро. Хотя его предложение было поддержано Гиплером, Мецлером, Рейтером и другими членами комитета, крестьяне отказались его принять. Они боялись, что ландскнехты урежут их долю добычи, ибо между крестьянами было немало таких, кто, не понимая истинного значения восстания, примкнули к нему в надежде поживиться. Удовлетворив свою алчность, они расходились по домам и впоследствии еще долго рассказывали в деревне о своем походе, как о веселой прогулке.
Стремясь избавиться от этой злокачественной язвы, Вендель Гиплер предложил, чтобы каждый вступающий в ополчение давал обязательство оставаться под знаменами до окончания народной войны. Но ни ему, ни комитету не удалось убедить крестьян, что эта мера необходима для их же блага. Как раз в ту минуту, когда Гец подъехал к собравшимся в круг крестьянам, целый лес рук поднялся против этого предложения. Один из дружинников — деревенский портной, угрожая Гецу копьем, предложил ему слезть с коня и сдаться в плен. И Гецу фон Берлихингену, прославленному, наводившему на всех трепет рубаке, сознававшему всю нелепость этой сцены, было вовсе не до смеха.
— Хорошо тебе храбриться, когда вокруг тебя столько народу, — сказал Гец. — А наскочи ты на меня один на один, был бы совсем иной разговор. Но меня уже давно взяли в плен.
— А я тебе говорю, будь у нас набольшим иль прощайся с жизнью! — заорал на него портной.
— А если я не хочу!
— Соглашайся, прах тебя побери! — рассвирепел тот. — Долой с коня!
Гец слез и покорно последовал за портным. Грозный гул в кругу крестьянских главарей и советников дал ему понять, что на этот раз проволочками не отделаешься.
— Ну, будь по-вашему! — воскликнул он. — Раз вы решили заставить меня силой, так знайте, что, с божьей помощью, я никогда не пойду против своего долга и совести христианина и честного человека и что, если вы замыслите бесчестные и богопротивные дела, я скорей умру, нежели дам вам на них свое согласие. Я бы никогда не допустил такого злодеяния, как вейнсбергская резня!
— Что сделано, то сделано, и нечего об этом толковать, — сказал, пожав плечами, Иорг Мецлер.
— Предателям и поповским прихвостням туда и дорога! — раздался пронзительный женский голос, и крестьяне загремели оружием. Это кричала Черная Гофманша. С тех пор как Еклейн Рорбах выступил в Маульброн, она пристала к Светлой рати. После вейнсбергского дела крестьяне смотрели на нее с почтительным страхом. Они считали ее пророчицей и верили в ее связь с тайными силами.
Для начала Гец согласился принять командование на один месяц и присягнуть «Двенадцати статьям». Но не успел он расположиться на ночлег вместе с военачальниками, как начал подкапываться под крестьянский манифест. Необходимо восстановить повиновение начальству, крестьяне должны по-прежнему исправлять барщину, платить оброки и феодальные поборы, как повелось исстари, и предоставлять своим господам все необходимое, дабы они ни в чем не терпели нужды. Таковы его требования. Крестьяне подняли его на смех, и ему пришлось выслушать немало издевательств.
— Вы думаете, мы для этого поставили вас над нами? — спросил его Вольф Гербер из Эрингена, пронизывая его взглядом. — Тогда нам незачем было затевать восстание, а нужно было сидеть дома и не рыпаться!
Ганс Флукс одернул рыцаря за его коварные наскоки.
Гец решил до поры до времени не настаивать. Все же он добился от военачальников обещания не трогать замков и крепостей дворянства. Но войска шли на Вюрцбург, и это расстраивало все планы Геца. Чтобы упрочить свое положение, ему нужен был успех, а он сильно опасался, что как полководец он не выдержит испытания при осаде такой твердыни, как Фрауенберг — «Гора богоматери». Поэтому он предложил сначала присоединить к крестьянскому союзу имперский город Галль-Швабский, что было бы нетрудным делом. Гец заверял, что стоит лишь написать галльцам, и двести конных воинов тотчас примкнут к Светлой рати. А там подойдут другие отряды, и, собрав мощный кулак, можно будет дать Швабскому союзу бой в открытом поле. После одного-двух сражений, в исходе которых Гец не сомневался, все крепости и замки сами раскроют перед крестьянами свои ворота.
Но и с этим замыслом он потерпел неудачу. Войска продолжали продвигаться через Майнскую область к богатому бенедиктинскому монастырю в Аморбахе. Ген фон Берлихинген и Иорг Мецлер, как предводители, ехали впереди. Монастырь разделил участь Шентальского. Светлая рать ворвалась в него и разграбила все, что имело хоть какую-нибудь ценность: одежды, сосуды, выложенные серебром книги, митры, — не пощадив ни органа, ни алтаря, ни реликвий. А вслед за крестьянским войском пришли аморбахцы с соседями и вынесли из монастыря всю «движимость», вплоть до досок, кровельной черепицы и запасов кирпича. Но, несмотря на уже отданный приказ, монастырь не был сожжен благодаря заступничеству аморбахского магистрата. Сожжены были лишь оброчные книги. Добычу продали, и каждый отряд получил свою долю. Гецу досталось, кроме всего, драгоценностей на сто пятьдесят гульденов, в том числе голубая митра, из которой его супруга выломала жемчуга и драгоценные камни, чтобы сделать себе ожерелье. Из выкупных денег довольные крестьяне выделили ему еще пятьдесят гульденов.
Черная Гофманша, как и прежде, не принимала участия в грабеже. Никогда бы она не осквернила награбленным добром свои руки. Что ей все сокровища мира! Она попирала драгоценности ногами, если они попадались на ее пути. Ее долей в добыче было то наслаждение, с которым она смотрела на гибель и расхищение добра своих ненавистных врагов. Узнав, что Аморбахский монастырь не будет сожжен, она пришла в неистовство. Не для того ли они оставляют эти вороньи гнезда нетронутыми, чтобы черным птицам было куда вернуться, когда уйдут крестьянские войска? Знать, он сам, набросилась она на Иорга Мецлера, и семеро его друзей из совета до того обабились, что дали Гецу ослепить себя блеском золотых шпор? Не доверяя Гецу, она считала его виновником дарованной монастырю пощады. Вместо того чтобы выделять ему пятьдесят гульденов из добычи, не лучше ли было бы купить на эти деньги хорошую веревку, чтобы его повесить? Только на Флориана Гейера не распространялась ее ненависть к дворянству. Он один из этой шайки бескорыстно стоял за бедный люд. Для дворян же и рыцарей, которые из страха за свою шкуру отовсюду устремились толпами в Аморбах, чтобы, присягнув «Двенадцати статьям», спасти свою жизнь и имущество, у нее не было ничего, кроме гнева и презрения. О! какими смиренными стали они теперь, как подобострастно лебезили они перед крестьянскими главарями и советом эти прежде столь высокомерные дворянчики!
— Да, да, гни спину до самой земли! — крикнула она юнкеру фон Голлерсдорфу, который уже у двери трактира, где расположилась семерка крестьянского совета, почтительно снял свой берет. — Бог избрал нас, низкорожденных и презренных, чтобы уничтожить власть имущих и покарать горделивых.
В Аморбах слетались не только мелкие тираны, как осы и шершни сосавшие народную кровь. Сам могущественный и грозный граф фон Вертгейм уведомил крестьян о своем намерении вступить в евангелический союз и снабдить их пушками, порохом и ядрами. Правда, могущество графа разлетелось, как дым, когда его собственные крестьяне, в ответ на его попытку смирить их огнем и мечом, взяли приступом замок, гордо высившийся на вершине покрытого виноградниками холма, там, где Таубер впадает в Майн. Старый друг Геца, Макс Штумпф, прибыл в крестьянский лагерь во главе посольства, отряженного не кем иным, как его преосвященством, самим архиепископом и курфюрстом Майнцским, Альбрехтом Бранденбургским. Его высокопреосвященство давно носился с мыслью, следуя по стопам другого Альбрехта — герцога Казимира Ансбах-Байрейтского, приходившегося ему двоюродным братом, — превратить свое архиепископство в светское государство, подобно тому как этот другой Альбрехт сделал с Пруссией. Архиепископ заигрывал с Реформацией, покровительствовал гуманистам и привлек к своему двору, где процветали науки и искусства, Ульриха фон Гуттена. В конце концов фаворитка его преосвященства, не предвидя для себя лично ничего хорошего от этих честолюбивых затей, отговорила его. Ведь нечего было и думать, что он сделает ее своей женой, если станет светским владыкой! И вот он прислал к крестьянам своего штатгальтера, прогнанного страсбуржцами с епископского престола. Ибо, увы! даже на берегах Майна и Рейна трещало по всем швам и рушилось вековое господство феодалов, и архиепископ Альбрехт рассудил за благо перебраться на более безопасное место. Истощив свои силы разгульной жизнью, он вспомнил о плассенбургском узнике, дяде своем Фридрихе, которого любящие сыновья все еще держали в заточении.
Но крестьяне задали послу слишком трудную задачу. Наместник архиепископа должен был вместе с Майнцским соборным капитулом присягнуть «Двенадцати статьям» и беспрекословно исполнять все, что «признают и предпишут Светлая рать и другие крестьянские дружины в лице своих благочестивых, искусных, ученых и мудрых военачальников как в предусмотренных договором делах, так и во всем, что касается христианского общежития в стране». Архиепископ не должен препятствовать городам и селениям снабжать Светлую рать подкреплениями, пушками и всяким продовольствием. Евангелическое войско должно иметь право свободного пропуска во все города. Все монастыри, мужские и женские, должны быть открыты для выхода из них тех, кто снял монашеское одеяние; начальники отрядов и союзное крестьянство имеют право наказывать неповинующихся по своему усмотрению. Все дворянство архиепископства в течение одного месяца должно лично явиться к военачальникам Светлой рати и вступить в евангелический союз; владения уклонившихся будут отобраны вооруженной силой. Наконец, наместник должен поручиться за капитул и все духовенство архиепископства, что в двухнедельный срок в кассу Светлой рати будет внесено пятнадцать тысяч гульденов. Макс Штумпф сам добровольно предложил крестьянам сопровождать их в Вюрцбург.
Вендель Гиплер вправе был гордиться таким договором. Но он был озабочен возобновившимися домогательствами Геца. Тот снова возобновил свои требования изменить, смягчить, обкорнать «Двенадцать статей». Гиплер считал это невозможным. Правда, приписывая Гецу недавние успехи крестьянского оружия, он лично охотно пошел бы ему навстречу. С другой стороны, он и сам был убежден, что для создания государственного строя, к которому он стремился, необходимо урезать, а то и вовсе выкинуть ряд статей.
В этом затруднительном положении его посетил человек, на которого Ганс Флукс и гейльбронцы взирали далеко не благосклонным оком. Сам Гиплер знал его еще с гейльбронских времен, ибо Ганс Берле неоднократно и с неизменным успехом выступал в качестве представителя этого города на имперских и союзных сеймах. Это был тонкий дипломат, искушенный во всевозможных уловках и хитростях. Он уже ранее приезжал к крестьянам в Неккарсульм и Вейнсберг на разведку, чтобы завязать связи, которые могли бы пойти на пользу родному городу. Гейльбронский магистрат во многом следовал его советам: это по его наущению Гейльброн нашел себе козла отпущения в лице Галса Флукса. Теперь гейльбронский магистрат прислал его к руководящей семерке в Аморбах с жалобой на бекингенцев, бесстыдно нарушавших право собственности Гейльброна, и Берле первым делом обратился к Гиплеру, чтобы обеспечить себе его посредничество и поддержку.
Ганс Берле вывел канцлера из затруднительного положения. Конечно, изменить статьи нельзя но «истолковать» — можно. Они сели за стол и набросали дополнение из восьми параграфов, которое назвали «Декларацией Двенадцати статей». В этой так называемой Декларации большая часть требований, намеченных к немедленному осуществлению «Двенадцатью статьями», откладывалась до всеобщего преобразования государства. Другие требования подвергались ограничению. Наиболее важными были добавления, на основании которых десятина, оброк и проценты остаются в силе до имперской реформы, а также пункт, которым духовные владения каждой общины тщательно ограждались от посягательств светских властей.
Венделю Гиплеру стоило больших усилий добиться в совете семерых хотя бы незначительного большинства в пользу Декларации. Но когда это было сделано, довести ее до сведения Светлой рати он все же не решился. Возвращаясь в Гейльброн, Ганс Берле взял ее с собой, чтобы сначала испробовать, как примут ее союзные общины.
Такова история Аморбахской декларации, которая, выплыв на свет, произвела действие искры, попавшей в бочку с порохом. Войска собрались на сход без начальников. Их ярость была направлена главным образом против Геца фон Берлихингена. «Он друг попов! — раздавались крики. — Его надо прогнать сквозь строй!» Назло Гецу, настоявшему на запрещении разорять гнезда хищников, было решено сжечь ближайшие Вильденбергский и Лимбахский замки, для чего тотчас выступил большой отряд. Оденвальдцы предложили забрать пушки и, повернув обратно, разгромить все духовные владения. Другие требовали предать казни всех, приложивших руку к декларации.
— И прежде всего Берле! Это его работа! — закричал один гейльбронец. Другие настаивали на том, чтобы истребить до последнего всех князей, баронов и дворян, отказавшихся принять «Двенадцать статей». Но Ганс Берле уже давно покинул лагерь, а Гиплер случайно отсутствовал. Тогда дружинники подняли крик: «Геца, Геца подавай!» Разъяренная толпа бросилась к нему на квартиру и разгромила ее.
Гец тем временем выехал навстречу графу фон Вертгейму, с которым договорился сойтись, чтобы выработать условия соглашения с крестьянами. На обратном пути к нему подъехал Ганс Флукс и предупредил его о случившемся. Но Гец, невзирая на предостережение, поскакал дальше. При виде объятого пламенем Вильденбергского замка он пришел в бешенство.
— Кто это распорядился? — заорал он на военачальников и, так как никто не мог дать ответа, обрушился на крестьян, обвиняя их в вероломстве.
— Сам ты предатель! — раздались яростные крики в ответ. — Коли его! Коли! Долой с коня!
Командирам с трудом удалось его спасти от ярости толпы.
С этого часа он потерял доверие крестьян, и они следили за каждым его шагом, словно он был их пленник.
Глава десятая
Крестьяне тесным кольцом окружили старика. Длинные седые волосы свисали космами на его загорелое морщинистое лицо. Он казался необыкновенно крепким для своих лет и дружелюбно улыбался, обнажая крупные белые зубы. Его пестревшая заплатами куртка и штаны выгорели от солнца и непогоды. За спиной у него висела волынка. Это был тот самый бродячий музыкант, которому несколько месяцев тому назад Конц Вирт отдал в поводыри своего пасынка. Но мальчуган убежал от него. Ветер свободы, пронесшийся по всему краю, коснулся и его юной души, и ему стало стыдно обманывать сострадательных людей, собирая подаяния для слепого, который видел не хуже любого зрячего. Он пристал к Черной рати и теперь лихо отбивал барабанную дробь, шествуя впереди отряда Симона Нейфера. Носить копье ему еще было не под силу.
Бродячий музыкант Бенц Франк явился к евангелической рати Оденвальда и Неккарталя с письмом от вюрцбуржцев. Он застал войска в Мильтенберге, куда они прибыли из Аморбаха. Город Вюрцбург возмутился против архиепископа и требовал срочной помощи у крестьян.
Это требование было подписано Гансом Берметером и Георгом Грюневальдом. Первый из них приходился двоюродным братом ротенбургскому ратсгеру Берметеру и пользовался популярностью среди сограждан как большой мастер игры на флейте и лютне и отменный краснобай и весельчак. Георг Грюневальд, в просторечии мейстер Тиль, тоже происходил из старинного рода и славился как искусный живописец и ваятель. Эти люди, по рассказам Бенца Франка, и подняли восстание в городе, и они были далеко не единственными из служителей муз, которые в этом великом движении отдались душой и телом борьбе за дело угнетенных. От зажженной ими искры вспыхнуло такое пламя, что епископ Конрад Тюнгенский больше не отваживался спускаться в город с высоты своего Фрауенбергского замка.
Бродячий музыкант исколесил всю Франконию. По его словам, по всей франконской земле поднимались крестьяне и горожане, разрушали замки и монастыри и, стекаясь воедино, образовали мощный поток — общефранконское ополчение, — который грозит затопить своими бурными волнами епископскую столицу. «Вперед на Вюрцбург!» — призывала Черная Гофманша, грозно потрясая кулаком в сторону востока. Крестьяне, не раз прерывавшие рассказчика возгласами одобрения, подхватили крик несчастной, и грозный гул пронесся над лагерем. Старик взялся за свою волынку; раздались визгливо-скрипучие звуки марша. Потом он перешел на танец, и все крестьяне и крестьянки закружились в плясе, с гиканьем и криками подпрыгивая и притопывая среди поднявшегося облака ныли.
Тем временем Гец фон Берлихинген вместе с Венделем Гиплером вернулись с заседания крестьянского совета, на котором было зачитано послание вюрцбуржцев, после чего Гец еще раз безуспешно пытался выдвинуть свое предложение: дать Трухзесу фон Вальдбургу бой в открытом поле.
— Вы слышите, как они расходились? Как дикие звери! — сказал Гец своему спутнику, прислушиваясь к шумному плясу крестьян. — Обуздать их можно только строгостью. Помните, как я взывал к их совести, как осуждал их вероломство в Аморбахе? А что толку? Разве здесь, в Мильтенберге, они не принялись опять за грабежи?
— Увы. И кого не пощадили? Моего личного друга Фридриха Вейганда! — согласился Вендель со вздохом. — Они не ведают, как много он сделал для дела освобождения народа. Правда, открыто он не выступал: он болезненный человек и не обладает даром красноречия. Но перо в его руке — это меч огненный. У него светлый ум, и никто лучше его не знает нужд нашей страны. Летучие листки, которых он пустил в народ великое множество, всюду разжигали пламя восстания. По моей просьбе он явился в Аморбах, а крестьяне решили, что он приложил руку к составлению Декларации, и отплатили ему на свой лад.
— Да, да, на свой лад! — с горечью подтвердил Гец. — И если так и будет продолжаться, они доведут себя до гибели.
— Я все же возлагаю больше упований на будущее, — возразил канцлер. — Во имя великой цели, которой вы отдали вашу железную руку, не поддавайтесь заблуждению. Вся эта муть осядет, когда котел перестанет кипеть. Кто стремится к высокой цели, не должен взвешивать на лоты и золотники причиненные ему лично обиды. Я знаю человека, чей девиз гласит: «Нет креста — нет и венца». Истерзанный и распятый народ восстал из мертвых.
Народ действительно восстал. Подобно степному пожару, который, вспыхнув в одном месте, непреодолимо разрастается во все стороны, все шире и шире охватывая землю своими огненными объятьями, так и крестьянская революция, вспыхнув у истоков Неккара, Дуная и Майна, распространилась до Гарца на севере, до Юльских Альп на юге, выдвинув свои форпосты от верхнего до нижнего Рейна. Грандиозный взрыв, порожденный вековыми страданиями народа, вылился в мощное движение умов, направленное в единое русло «Двенадцатью статьями». И всюду этот манифест крестьянских прав потрясал монастыри и аббатства, замки и враждебные крестьянам города. Затрещали, заколебались и рухнули вековые стены, и небо обагрилось кровавым заревом пожаров. И даже колыбель гордого императорского рода, замок Гогенштауфен, пал под натиском крестьян и запылал гигантским факелом свободы, озаряя пусть восставшему народу далеко по всей стране.
«Какое страшное воскресение христово! Какая кровавая пасха!» — бормотал Гец фон Берлихинген. Глубоко засевший в нем дворянин не мог примириться с тем, что крестьяне обращаются с ним как с равным. Подняться же до идейного уровня Гиплера он был не способен.
На следующее утро Гец выступил во главе войск на Вюрцбург. Когда он гарцевал на коне перед Светлой ратью, его настроение мало гармонировало с великолепием майского дня. С ним вместе ехали его собратья по оружию, Макс Штумпф фон Швейнсберг и граф Георг фон Вертгейм, который вступил в крестьянский союз, дал крестьянам пушки и снаряжение и обязался примкнуть к Светлой рати, что требовалось отныне от всех дворян. Гец хранил молчание. Ни развевающиеся в благоуханном воздухе майского утра знамена, ни веселый свист свирелей, ни грохот барабанов, ни лихие песни, гиканье, шутки и смех крестьян — ничто не веселило его сердце. То ли дело в былые времена, когда таким же погожим утром он выезжал с кучкой своих слуг в поход против одного из личных своих врагов или подстерегал под зеленым кустом, чтобы захватить заложников и всякое добро!.. Может быть, в глубине души у него и шевелилось сознание того, что он из дворянской корысти взялся за дело, которое ему не по плечу, но он предпочитал не задумываться над этим.
Благодаря давлению Гиплера на Иорга Мецлера, Ганса Рейтера и других военачальников, Светлая рать на своем пути не трогала замков и монастырей, и когда ей не давали необходимых съестных припасов даром, как это случалось в большинстве городов, — она платила за них из общей кассы, находившейся в ведении провиантмейстера Эйзенгута. Правда, от огромной Светлой рати время от времени отделялись небольшие отряды и отправлялись на свой страх и риск грабить и жечь и приводили захваченных в плен дворян, отказывавшихся вступить в евангелический союз. Но обгоревшие развалины замков и крепостей, попадавшиеся на пути Светлой рати, были следами, оставленными победным шествием в глубь Франконии Черной рати, строго соблюдавшей предписания «Двенадцати статей». Эти следы напоминали рыцарю с железной рукой о том, что под Вюрцбургом ему не миновать встречи с Флорианом Гейером, и его настроение от этого не улучшалось. Однако и в рядах светлой рати назревало недовольство Флорианом Гейером. Ведь он заставил присягнуть «Двенадцати статьям» девять майнских городов Оденвальду, в том числе и Бишофсгейм на Таубере. Войска же Георга Мецлера считали, что в силу географической близости они имеют больше права завербовать их. Светлая рать принудила эти города перейти в евангелический союз Оденвальда и Неккарталя и присягнуть вторично. Это породило споры и раздоры, и Венделю Гиплеру не удалось залечить рану, нанесенную болезненному самолюбию оденвальдцев войсками Флориана Гейера. Такие раны плохо заживают.
Когда выступившая из Бишофсгейма на Таубере Светлая рать достигла деревни Гохберг, в авангарде раздались ликующие крики и залпы из аркебузов. В полумили перед ними выросла «Гора богоматери» — Мариенберг, позлащенная лучами заката, с архиепископским замком на вершине. Вытянувшись удлиненным прямоугольником с запада на восток, замок гордо высился своими четырьмя этажами. По краям цитадели стояли четырех- и пятиугольные башни с куполами различной формы, а в самом центре вознеслась ввысь, господствуя над всем замком, круглая дозорная башня — Бергфрид, на верхушке которой, под остроконечной кровлей, жил сторож замка. Над башней развевалось синее знамя епископства, на котором был изображен красно-серебряный флажок на золоченом древке. К западной узкой стороне замка примыкало расположенное внизу и связанное с ним подъемным мостом предместье, где находились жилища епископской челяди и рейтаров, конюшни и житницы. «Гора богоматери» закрывала от взоров крестьян и Майн и город, расположенный на его правом берегу, напротив восточной стены замка. Круто обрывающийся южный склон горы венчала зубчатая стена, казавшаяся продолжением скалы. Широкое ущелье, ущелье Коровьего ручья, отделяло Мариенберг от горы св. Николая, к южному склону которой подступал дремучий Гуттенбергский лес. Через это ущелье вела дорога из деревни Гохберг в предместье Вюрцбурга, растянувшееся в теснине между «Горой богоматери» и левым берегом Майна.
Листовка 1525 года со списком взятых крестьянами разграбленных и разрушенных замков и монастырей в Шварцвальде и Франконии
По дороге одиноко шагала женщина. Это была Черная Гофманша. Без помех дошла она до предместья, населенного пахарями, рыбаками, виноградарями. Занятая игрой в кости и уже подвыпившая стража у ворот не обратила на нее никакого внимания. Караул несли бедные ремесленники, которым поручали охранять город. День был воскресный, и по-воскресному оживленно было на Буркхардштрассе, проходящей под хорами церкви св. Буркхарда. С любопытством и удивлением смотрели прохожие на высокую женщину в черном, шедшую ровным, неторопливым шагом, но никто не остановил ее. Она пересекла широкую короткую улицу, ведущую к мосту через Майн, и свернула налево, в кривой Целлерский переулок, круто поднимавшийся вверх.
Ворота в конце улицы были заперты. У ворот стоял воин в панцире и шлеме, опершись на алебарду. Его товарищи сидели на скамье у караульной. Стоявший окликнул ее и спросил, кто она и куда идет.
— Вот Тесу счастье привалило! — сказал седой страж, сидевший на скамье. — Гляди, какая рыбка попалась ему в сети.
— Да впусти ее! — воскликнул другой. — Видно, ее ждет к себе на ночь там, в замке, дружок.
Все расхохотались, но рыбак Мерц сказал:
— Нет, не пропущу. Весь город кишмя кишит епископскими лазутчиками, и ты, никак, из их числа.
— Будь это так, я бы запаслась надежной грамотой или нашла бы другую дорогу в замок, — спокойно возразила Гофманша, не обращая внимания на насмешки. — Я пришла сюда с берегов Неккара, чтоб еще хоть разок постоять там, на Телле, да поглядеть на то место, которое мне знакомо с давних пор. А в замке мне делать нечего. Впрочем, если б меня впустили, я бы нашла что сделать.
— А что? Что бы ты сделала? — полюбопытствовали караульные, поднявшись со скамьи и окружив старуху.
— Я бы им сказала, что пришел их последний час! — отвечала она, вспыхнув. — Вейнсбергские мстители уже здесь, оденвальдцы и неккарцы.
— Гец? Мецлер? Да неужели? — взволнованно воскликнули часовые.
— Они стоят лагерем в Гохберге. Я пришла вместе с ними. За грехи отцов бог карает до четвертого и пятого колена, и я хочу в последний раз помолиться на Телле, чтобы господь поразил тягчайшим проклятием тех, в замке, и поверг их в прах. Чтобы ни один рыцарь, ни один поп не ускользнул от нашей мести. Такова воля божья!
Седой страж из бочарного цеха подмигнул Маттеусу Мерцу, впустившему Черную Гофманшу через калитку, и воскликнул:
— Клянусь святым Килианом![109] Пусть кто-нибудь сбегает в город и даст знать, что войска Геца приближаются.
— Ну и страшная старуха! — сказал рыбак товарищам. — Сдается мне, она знает такое слово, что тем, в замке, не поздоровится. — И он перекрестился.
Озираясь по сторонам, стояла Черная Гофманша на Телле — так назывался небольшой подъем у северной широкой стороны замка. Знай она толк в военном искусстве, она бы поняла, глядя на эти бастионы, рвы, палисады и башни внутреннего пояса стен, что овладеть замком «нашей всеблагой девы Марии» даже с этой наиболее доступной стороны будет нелегкой задачей. Этот замок был одной из несокрушимых цитаделей и уже в течение многих столетий служил верным оплотом своим епископам против цветущего винодельческого восточнофранконского края и города Вюрцбурга, рано достигших богатства и силы. Между епископом и его подданными едва ли когда-либо царили мир и согласие: алчность и честолюбие князей церкви поддерживали неугасающий факел войны. Но крепнувшее бюргерство неизменно разбивало себе лоб о стены замка, который из каждой бури выходил еще более сильным, чем прежде.
Черная Гофманша бросила беглый взгляд на замок; он уже погрузился в сумерки, лишь верхушки башен были озарены заходящим солнцем. Старуха явно что-то искала. Да, она не ошиблась! Это было там, направо, как раз против Шотландского монастыря. Медленными крупными шагами она направилась туда и оглядела открывшуюся перед нею местность. В ее лице не было ни кровинки. Да, это было здесь. Здесь на костре погиб ее ненаглядный. Но сначала, на его глазах, палач отрубил головы двум его товарищам, захваченным вместе с ним. Изо дня в день взбиралась она на «Гору богоматери» и, лежа, как собака, в пыли, молила, чтобы ей позволили в последний раз взглянуть на любимого. Но ландскнехты епископа с грубыми насмешками прогоняли «дудареву шлюху». И она увидела его, только когда его вели на казнь, да и то издали. У позорного столба, над окружавшими костер рейтарами, за спинами которых она стояла, возвышалась его златокудрая голова. Его синие глаза отыскали ее в толпе и улыбнулись ей, когда кругом уже трещало разгоравшееся пламя. Эта страшная картина навсегда запечатлелась в ее памяти, но сейчас, на этом самом месте, прошлое превратилось вдруг в жуткую действительность. Мучительная боль, как тогда, раздирала ее грудь, и она с пронзительным криком бросилась на землю и покрыла ее поцелуями. Все ее тело содрогалось.
Нахлынувшие слезы облегчили ее. Она подняла голову. Светало. Она потянулась за посохом и, опершись на него, с трудом поднялась на ноги. Она вся закоченела. В глубине долины светлой лентой протянулся Майн. Каменный мост, украшенный статуями святых и перегороженный посредине железными воротами, вел на другой берег реки, в город. Стрельчатые готические башни и византийский купол возвышались над крышами домов на фоне постепенно светлеющего неба.
Ее громкому плачу вторили жалобные трели соловья. Она оперлась локтями на колени и закрыла лицо руками. В ночной тишине, одно за другим, перед ней вставали мучительные воспоминания о ее незабвенном Гансе. Она вновь переживала час за часом трепетное блаженство этой короткой — ах, какой короткой! — единственной счастливой поры своей безрадостной жизни.
Когда старуха повернулась лицом к замку, первый луч зари уже заблестел в верхних окнах, позолотив верхушки башен. Но стене, за палисадом, расхаживали взад и вперед часовые.
Бескровные губы старухи искривила презрительная усмешка. Навалившись, что было силы, на свой посох, она воткнула его в землю на том месте, где был костер. Отсюда начались ее горестные скитанья, здесь им наступит и конец. Конечно, ее рассказы про Ганса Бегейма, про его проповеди и смерть помогли немало раздуть пламя, языки которого уже лизали Мариенберг. Епископу и его своре не уйти от божьего суда! Наконец-то она вырвала у бога то, чего так горячо добивалась. Цель ее жизни была достигнута, и сердце ее стремилось соединиться с любимым в другом мире. Она принесет ему весть о том, что он отомщен. Оставив свой посох на месте казни, она направилась к Шотландскому монастырю.
Вендель Гиплер следовал с войсками только до Бишофсгейма, а оттуда вернулся в Гейльброн. Там предстояло обсуждение вопроса о преобразовании государства, пока крестьяне боролись за это силой оружия. Там же после победы народного дела должен был собраться венчающий победу общегерманский сейм. Благодаря своему центральному положению Гейльброн был для этого самым удобным местом. Вендель Гиплер договорился об этом в Аморбахе с Гансом Берле и со своим другом Вейгандом. Еще из Аморбаха он написал собравшимся вокруг Вюрцбурга отрядам, чтобы они прислали на сейм своих делегатов; такие же приглашения он разослал всем крестьянским войскам Верхней Швабии, Эльзаса и Франконии. Он пригласил в Гейльброн и доктора Макса Эбергарда, сославшись на письмо Флориана Гейера. Он будет ждать господина доктора в «Соколе», на постоялом дворе, где тот обычно останавливался еще в те времена, когда приезжал в Гейльброн из Вимпфена по своим судебным делам.
Для Макса Эбергарда это приглашение было спасеньем от вынужденного безделья. Хотя при его скудных средствах будущее представлялось ему в довольно мрачном свете, но он ни на минуту не раскаивался в том, что отверг руку прекрасной Габриэлы, которая открыла бы перед ним дорогу к жизненным высотам… Любовь к Эльзе вознаградила его сторицей. Это чувство расцветало и крепло, несмотря на все препятствия, и нежданно-негаданно нашло себе союзницу теперь, когда Макс, потеряв возможность бывать в доме рыцаря фон Менцингена, мог видеть Эльзу только в церкви или когда молящиеся выходили на улицу и изредка шепнуть ей слово привета. Этой союзницей была фрейлейн фон Бадель. Увидев Эльзу, она почувствовала к ней сердечную склонность и скоро узнала ее тайну.
Слава гремит фанфарами, а сплетня шипит сотней языков. Эти языки усердно работали и в мужском кругу, собиравшемся в доме фрейлейн фон Бадель.
Разрыв молодого Эбергарда с отцом, внезапное отчуждение между последним и Стефаном фон Менцингеном не могли остаться незамеченными для сторонников Реформации, а сообразительность, свойственная женщинам, помогла фрейлейн фон Бадель найти девушку, скрывавшуюся за этим. Серьезность молодого юриста понравилась ей; она только не одобряла его слишком строгих взглядов на жизнь. Чувствуя, что фрау Маргарета фон Менцинген и ее дочь едва ли нанесут ей визит первые, она недолго думая отправилась к ним сама.
Насмешливая, резкая по натуре фрейлейн фон Бадель, казалось, не должна была понравиться супруге рыцаря фон Менцингена. Но через час после ухода гостьи хозяйка почувствовала, что ей как будто стало легче дышать, словно в гнетущую спертую атмосферу, в которой она жила вместе с Эльзой, ворвалась свежая, живительная струя. Открытая, бойкая речь гостьи и ее привычка называть вещи своими именами впервые за долгое время заставили фрау фон Менцинген улыбаться, а Эльзу — заливаться звонким смехом, на что она уже перестала считать себя способной.
В тот же вечер фрейлейн фон Бадель посетил доктор Карлштадт, который теперь уже свободно мог жить и проповедовать в Ротенбурге.
— Боже мой, доктор, почему вы вечно громите одних и тех же тиранов: князей, баронов и попов? Нет, доктор, есть и другие, еще более гнусные тираны. Это мужья, которые на людях кричат о свободе, а у себя дома притесняют своих жен и детей. Воздайте и им по заслугам, а заодно внушите их женам, что тот, кто терпит насилие, заслужил его.
Рыцарь фон Менцинген никогда не пользовался благосклонностью фрейлейн фон Бадель: он был слишком «скользким», как она выражалась. Теперь же, после того как он отплатил такой черной неблагодарностью Максу Эбергарду, она возненавидела его всей душой и поклялась, что Эльза и Макс будут принадлежать друг другу вопреки отцовской воле. Пусть магистрат дрожит перед Менцингеном сколько угодно; она не боится его, да и вообще никого на свете. Она взяла влюбленных под свое покровительство, и ее дом у Замковых ворот стал для них островом блаженства среди бушующего моря политических страстей.
Внутренний совет еще оставался у власти, но у досточтимых ратсгеров глаза полезли на лоб, когда они почувствовали на себе тяжелую руку комитета. Комитет потребовал счетные книги, и при проверке обнаружился такой чудовищный беспорядок, что не было никакой возможности в них разобраться. В городской же казне вместо восьмидесяти тысяч гульденов оказалось всего восемь. Эразму фон Муслору и трем податным старшинам, как именовались члены совета, ведавшие финансовыми делами, пришлось так туго, когда они под присягой давали показания на заседании комитета, что они света божьего невзвидели.
Менаду тем во вторник на страстной в Ротенбург прибыли советники императорского наместника, эрцгерцога Фердинанда Австрийского, и магистрат снова приободрился. Они приехали, чтобы выступить в качестве посредников между комитетом и внутренним советом и сохранить имперский город Ротенбург и его искусных в военном деле граждан на стороне «правого дела»[110]. На следующий день большой колокол собора св. Иакова созвал всю общину на сход. Комитет настоял на том, чтобы объявить во всеуслышание о вскрытых им злоупотреблениях и о требовании горожан в присутствии внутреннего совета и обоих имперских посланцев — графа Рупрехта фон Мандершейда и Фридриха фон Линдваха. Когда Стефан фон Менцинген взошел на возвышение, по его лицу было видно, что он уверен в победе. Приподняв свои тяжелые веки, он так строго посмотрел на членов совета, как будто они уже сидели на скамье подсудимых. Пожалуй, этим дело и пахло, столь тяжкие обвинения содержались в его речи. Он говорил о том, что уже несколько поколений горожан, в течение по меньшей мере сотни лет, изнемогает под тяжестью налогов и с этим надо покончить на благо всей общины. Основное зло коренится в дурном управлении городским хозяйством. И он приступил к беспощадному разоблачению злоупотреблений, к которым были прикосновенны трое сборщиков налогов, и легкомыслия внутреннего совета, утверждавшего денежные отчеты огулом. Такого никогда бы не случилось, если бы в магистрате были представлены не только именитые граждане, но и простые горожане. После его речи комитет потребовал прежде всего восстановления и расширения конституции 1455 года[111].
Затем комитет предъявил ряд требований, касавшихся главным образом улучшения судопроизводства, снижения налогов и упорядочения отчетности. Оклады должностных лиц надлежит урезать, положение ремесленников — облегчить. Затем следовали требования, касавшиеся преобразования церкви. Все лица духовного звания, получавшие бенефиции[112] от города, обязаны наравне с прочими гражданами принести присягу и разделить общие тяготы. Дряхлым и престарелым священникам надлежит выплачивать пожизненно по пятнадцать гульденов в год из городской казны, но их бенефиции отойдут городу. Все молодые и здоровые священники должны овладеть каким-либо ремеслом и вступить в брак, в каковом случае за ними в течение одного-двух лет сохраняются их прежние доходы. Если же они не примут условий, то будут лишены своих приходов. Все граждане освобождаются от уплаты десятины в пользу церкви.
Когда Стефан фон Менцинген кончил, на кафедру взошел имперский советник Фридрих фон Линдвах. Он тоже счел своим долгом обратиться с внушением к общине, но только испортил все дело. Еще накануне он с барским высокомерием разговаривал с членами комитета, требуя, чтобы магистрату была возвращена вся полнота власти. Сейчас он еще подлил масла в огонь, обозвав горожан бунтовщиками и пригрозив им тяжкими наказаниями, если они не отступятся от мятежников. При этих словах ропот, раздававшийся под сводами церкви с самого начала его выступления, перешел в бурю негодования. Кто-то крикнул: «Кой черт принес этих посредников!» Посыпались требования отмены и других злоупотреблений, а один из горожан крикнул: «Отрубить головы этим важным гусакам, и дело с концом!»
Советник имперского верховного суда граф фон Мандершейд поспешил на кафедру, чтобы усмирить поднявшуюся бурю. «Хватит нам посулов! — раздался крик из толпы горожан. — Верните нам наши права, а не то убирайтесь ко всем чертям!» Многие узнали скрипучий голос Килиана Эчлиха. Стефан фон Менцинген решительно заявил:
— Пока совет не примет наших условий полностью, комитет не приступит к рассмотрению предложений господ эмиссаров о полюбовном соглашении.
Тогда имперские посланцы направились к скамьям ратсгеров и сами посоветовали им принять условия комитета. Только в отношении церковных владений они ничего не могут решить: вопрос останется открытым до ближайшего имперского сейма.
— Я предупреждал вас, господа, что комитет вырвет у совета все уступки силой. Теперь у вас еще одним доказательством больше, — промолвил бледный от гнева Конрад Эбергард.
Эразм фон Муслор своей холеной рукой взял его за локоть, стараясь успокоить. Внутреннему совету пришлось покориться и дать графу полномочия оформить соглашение с комитетом. Исключены были лишь требования, касающиеся церковных владений. С большим трудом удалось добиться согласия комитета. Было решено наконец, что обе стороны должны строго соблюдать новый порядок и что все былые обиды будут погребены и забыты.
Когда граждане стали выходить из собора, из-за бокового придела поднялся слепой монах, который молча присутствовал при переговорах. У выхода его увидел Пауль Икельзамер и, подойдя к нему, спросил, что он думает о соглашении. Слепой монах узнал его по голосу и отвечал:
— Полупобеда — не победа. Выеденного яйца я не дам за этот договор. Комитет должен идти к цели, не останавливаясь на полпути, иначе его раздавят или патриции, или крестьянская партия. Обе стороны остались недовольны результатами. Я слышал, что говорили выходившие из церкви.
Бургомистр пригласил имперских советников отметить окончание их миссии в Дворянской питейной. Он пригласил также и фон Менцингена, но тот, сухо поблагодарив, отказался. В это время к ним подошел Килиан Эчлих.
— С вашего позволения, благородные господа, я хотел бы спросить, как теперь будет, если, к примеру, суд уже давным-давно вынес решение, да только добиться своего права до сих пор не удалось. Значит ли это, что и решение должно быть погребено и забыто?
Стефан фон Менцинген не замедлил вмешаться:
— Мейстер Эчлих лет пятнадцать тому назад, если не больше, выиграл дело в верховном суде по иску к здешним именитым гражданам Трюбам, но магистрат и по сей день не взыскал причитающейся с них по решению суда суммы.
Это заявление неприятно поразило эмиссаров, уже поздравлявших себя с водворенным их стараниями миром.
Члены совета смущенно переглянулись. Но советник имперского верховного суда заметил:
— Разумеется, мейстер, только что заключенное соглашение не может распространяться на такие претензии, как ваша, уже получившие законную силу. Но магистрат, конечно, поможет вам получить причитающуюся сумму.
— Говорят, нужно ковать железо, пока горячо, — насмешливо продолжал фон Менцинген, — но мы не смеем более задерживать уважаемых господ советников, которые, вероятно, уже проголодались.
И, отвесив церемонный поклон, он удалился вместе с Эчлихом.
Даже прекрасное вино, которым потчевали высоких гостей в питейной, не пришлось им по вкусу. Правда, Эразм фон Муслор обещал им взыскать с Трюбов причитающуюся Килиану Эчлиху сумму, но этот инцидент показал, что у достигнутого соглашения есть уязвимое место. Поведение рыцаря фон Менцингена не оставляло никаких сомнений в том, что он не намерен похоронить свою вражду с магистратом. Граф Мандершейд открыто высказал свою точку зрения:
— Выходит, что мы напрасно сюда приехали, господа, если нам не удастся помирить вас с этим человеком.
По его предложению, поддержанному также Фридрихом фон Линдвахом, решено было вынести старый спор с Менцингеном на суд имперских советников, заручившись, конечно, согласием комитета. Георг фон Берметер взялся уговорить членов комитета. Его старания увенчались успехом, и в страстную субботу собрался третейский суд, в который вошли по пяти представителей от комитета и внутреннего совета.
Стефан фон Менцинген, друзья которого в комитете обещали ему, воспользовавшись этим благоприятным обстоятельством, щедро вознаградить его за труды на благо сограждан, сам поддерживал свой иск к городу. Он потребовал ни больше ни меньше, как четыре тысячи шестьсот гульденов в возмещение понесенных им убытков в связи с вынужденным бегством, путевыми издержками, а также другими расходами. Совет отклонил этот иск, сославшись на то, что рыцарь нарушил свой гражданский долг, и выдвинул встречный иск в сумме трехсот тридцати шести гульденов, включавшей неуплаченные налоги, судебные издержки и прочее. По решению третейского суда оба иска были признаны недействительными, претензии истцов взаимно погашенными, а спорящим сторонам было предложено помириться и уплатить судебные издержки поровну. Поскольку обе стороны дали клятвенное обещание подчиниться решению суда, соглашение можно было считать состоявшимся. Оставалось только скрепить его печатью и выразить благодарность третейским судьям.
— Благодарность! Черта с два! — крикнул фон Менцинген с пеной у рта и быстро вышел из зала, отказавшись поставить комитетскую печать. И лишь после того, как ректор Бессенмейер, придя к нему домой, убедил его в том, что большинство членов комитета одобряет решение суда и что упорством он может повредить себе в глазах комитета, рыцарь вынужден был уступить.
На второй день пасхи имперские советники покинули Ротенбург, довольные, что унесли ноги. Ибо, после того как они отклонили требование общины о секуляризации церковных владений, народ взял дело Реформации в свои руки. Распаленная страстными проповедями слепого монаха и Карлштадта, толпа забрасывала камнями священников, врывалась в церкви, разрывала напрестольные пелены, уничтожала иконы. И в соборе св. Иакова тоже дело чуть не дошло до разгрома, но прихожане воспротивились и выгнали вооруженных ножами иконоборцев из храма. Магистрат распорядился закрыть церкви, так что даже на праздники богослужение совершалось только в соборе св. Иакова, где проповедовал доктор Дейчлин. Тогда женщины, вооружившись вилами, копьями, палками, пошли громить дома священников и монастыри.
Когда Макс Эбергард рассказал обо всем ртом фрейлейн фон Бадель, она с улыбкой заметила:
— Хороши же вы, мужчины, если женщинам приходится учить вас, что, взявшись за дело, нельзя останавливаться на полпути.
Между тем духовенство, встревоженное растущим возбуждением среди горожан и угрозой, нависшей над их имуществом за стенами Ротенбурга, опасалось самого худшего. Представители белого и черного духовенства начали сами являться в комитет и просить принять их в гражданскую общину. Менцинген приводил их к присяге и брал с них обязательство нести наравне с другими все городские повинности, как-то: стражу у ворот, рытье траншей, полевую службу и прочее. Явились также сестры доминиканки и серые сестры и предложили передать ротенбургской общине все свое имущество и все долговые обязательства крестьян при условии, что сестрам, желающим остаться в монастыре, будет выдаваться достаточное для прожития содержание, а изъявившим желание выйти замуж будет предоставлено приличное приданое. Монахинь приняли в число ротенбургских граждан, и шесть сестер принесли гражданскую присягу за всех.
Тем временем от маркграфа Казимира прискакал гонец с письмом. Он предлагал Ротенбургу оборонительно-наступательный союз: в его владениях все ярче разгоралось пламя восстания. Внутренний совет дал свое согласие, получив одобрение комитета. «Если маркграф подвергнется нападению, — заявил фон Менцинген, — у совета всегда будет время отказать ему в помощи, сославшись на то, что Ротенбург сам в ней нуждается. Отвергнув же предложение маркграфа сейчас, мы лишимся его поддержки, если первые попадем в беду». Одновременно было принято постановление, запрещающее горожанам присоединяться к крестьянским отрядам.
Велико было негодование приверженцев радикальной партии, когда город, в угоду своим узким интересам, изменил общему делу. Этим воспользовался Стефан фон Менцинген, чтобы нанести решительный удар внутреннему совету. Он настоял на пополнении комитета новыми девятью членами, в число которых по его предложению вошли дубильщик Лоренц Дим, мясник Фриц Дальк и сапожник Мельхиор Мадер. Затем он потребовал немедленно приступить к переизбранию внутреннего совета. Обычно перевыборы, производимые внешним советом, а также распределение должностей происходили первого мая. Но стоило ли дожидаться этого дня, хотя он был и не за горами? Тем более что предстояло восстановить и расширить старую конституцию, а комитет давно слился с внешним советом в одно целое.
Выборы происходили в большом зале ратуши. Страсти разгорелись, и завязался жаркий бой. Но исход его обманул все ожидания. Семеро членов внутреннего совета, в том числе Конрад Эбергард и Георг Хорнер, не были переизбраны и лишились своих постов. Эразм фон Муслор и Иероним Гассель тоже не попали во внутренний совет, но получили магистратские должности. Стефану фон Менцингену пришлось пережить горькое разочарование: он рассчитывал на пост первого бургомистра, а должен был удовольствоваться местом одного из трех податных старшин. Первым бургомистром был избран Георг фон Берметер, и подобно ему новые члены магистрата принадлежали к умеренной партии. Дело в том, что собственность бюргеров заключалась в пахотных участках и виноградниках, а также в оброках, барщине и других феодальных повинностях, тяготевших над крестьянскими дворами. Так как крестьяне стремились к уничтожению всех этих повинностей и многие уже перестали отбывать их с первого апреля, то бюргеры, учитывая, что церковных имений не хватит для возмещения их потерь, чувствовали себя перед угрозой разорения. Поэтому они и перешли в лагерь сторонников старого порядка. Они, конечно, очень желали свободы, но желали ее только при условии сохранения за ними права эксплуатировать крестьян и набивать себе карманы. Таким образом, выборы органов власти не склонили чаши весов ни на сторону приверженцев старого порядка, ни на сторону реформаторов. Эти две партии разделяла экономическая пропасть, перешагнуть через которую комитет не мог, даже прибегнув к насилию.
Выборы затянулись до вечера. Когда Стефан фон Менцинген вернулся домой, его жена и дочь увидели по его расстроенному лицу и налитым кровью глазам, что его честолюбивые надежды рушились. Со времени разрыва с Максом он неизменно пребывал в столь раздраженном состоянии, что самый невинный вопрос со стороны домашних приводил его в бешенство. Потому они и сейчас не решились спросить его о результатах выборов. Одолеваемые тяжелыми предчувствиями, они пытались найти успокоение в евангелии. Эльза сидела, склонившись над книгой; густые каштановые кудри закрывали ее лицо. Фрау Маргарета слушала, сложив руки на коленях. При появлении отца Эльза замолчала.
— Что вы читаете? — спросил он, пройдя несколько раз взад и вперед по комнате.
— Историю страстей господних, — тихо ответила жена.
— Да, да, того, кто им приносит спасение, они предают распятию! — воскликнул он, опускаясь в глубокое кресло.
Эльза посмотрела на него широко раскрытыми глазами, но он этого не заметил.
— Читай дальше, — грубо приказал он.
Девушка повиновалась.
«Взявши, его повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевши его, сидящего у огня, и всмотревшись в него, сказала: И этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав: Женщина, я не знаю его. Немного спустя другой, увидев его, сказал: И ты из них. Но Петр сказал этому человеку: Нет. Спустя час времени еще некто настоятельно говорил: Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: Не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово господа, когда он сказал ему: Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, вышед вон, горько заплакал»[113].
Нежный голос Эльзы захлебнулся в слезах. Мать закрыло лицо руками. Но рыцарь с горечью воскликнул:
— А потом они вывели его и бичевали. Да, да, я это хорошо помню! Такова была чернь во все времена… Дайте вина, меня томит жажда.
Седьмого мая, в то самое воскресенье, когда Черная Гофманша предавалась мучительным воспоминаниям на месте казни Ганса Бегейма, Макс прощался с Эльзой в доме фрейлейн фон Бадель. Эта добрая душа заставила его, угрожая немилостью, принять от нее заимообразно небольшую сумму, перед тем как отправиться в путь.
— К чему мне презренный металл? — сказала она. — Поддерживать с его помощью благое дело — вот и все, на что я способна, ибо, к сожалению, я всего только женщина!
— Не будь ее помощи, Макс не знал бы, даже, как он доберется до Гейльброна. Опечаленные предстоящей разлукой, влюбленные ходили между клумбами в саду, разбитом за домом фрейлейн фон Бадель, вдоль городской стены. Они ходили, взявшись за руки, и разговаривали больше взглядами. Сердца их были полны. Алый свет вечерней зари скользил по верхушкам деревьев. Цвела сирень. Воздух был заполнен сладостным щебетанием зябликов, овсянок, синиц.
— Завтра в это время ты уже будешь далеко! — тихо промолвила Эльза, остановившись. Ей так хотелось облегчить ему тяжесть разлуки, но, несмотря на все усилия, она не могла скрыть боли, сжимавшей ей сердце. Она обвила руками его шею, и горячие слезы хлынули из ее глаз. Он привлек ее к себе, и их губы слились. Потом Эльза положила голову к нему на грудь, и он нежно гладил ее шелковистые волосы.
— Я буду часто писать тебе, родная. Фрейлейн фон Бадель обещала передавать тебе мои письма, — пытался он ее утешить. — И кто знает, может статься, что скоро мы опять будем вместе.
— А потом?.. — спросила она, подняв голову и печальными глазами заглядывая ему в лицо. — Отец никогда не простит тебе своей собственной несправедливости, а я не хочу, не могу его осуждать. И все же я его не понимаю. Ах, в какое ужасное время мы живем! Оно сеет раздор между отцом и сыном, делает врагами родителей и детей! И наше счастье оно тоже растопчет своей железной пятой!
— И это говорит моя мужественная Эльза? — воскликнул он с нежным укором и привлек ее на скамью среди кустов сирени.
— Прости, мой любимый, — молвила она, вынув из мешочка на поясе платок и прикладывая его к глазам. — Выплачешься, и станет легче на сердце. Ведь дома я не могу себе этого позволить из-за мамы. Она сама тяжело страдает и терзается мрачными предчувствиями. Но не думай, что из малодушия. Она страдает не за себя, а за отца, за всех нас.
— Я люблю твою мать так, как если б она была моей матерью. Ведь своей я почти не знал, — сказал Макс, обнимая Эльзу. — Но поверь мне, она слишком мрачно смотрит на будущее. Придет время, и все эти тучи промчатся, как весенние грозы.
— Я и сама так думала, — сказала Эльза, покачав кудрявой головкой, — когда ты впервые появился в нашем доме, но теперь я больше этому не верю. С тех пор как случился этот кровавый ужас в Вейнсберге. Макс, как могло великое дело свободы запятнать себя таким чудовищным преступлением?
— Должен сознаться, что и меня известие об этом привело в ужас и негодование. Но потом я подумал о несказанных страданиях бедняков, подумал о том, что мы, их господа, не приложили ни малейшего усилия, чтобы пробудить и развить в них ростки человечности, подумал о зверских жестокостях, о потоках крови и заревах пожарищ, которыми ознаменовало свое победное шествие христианство! Нет такой идеи, как бы возвышенна она ни была, которую можно было бы претворить в жизнь, не запачкав рук. Борцы за идею — те же люди, а люди не свободны от страстей. Да, милая, дело, которому я призван служить, должно успокоить великое брожение умов, укротить страсти законом, освободить от гнета весь наш народ и утвердить его свободу на вечные времена. И тогда, любимая, рухнут все преграды, возведенные между нами твоим отцом, и ничто больше не помешает нам соединиться, чтобы вместе свободно строить наше счастье в свободной стране.
В его словах было столько огня и силы, что она, проникнутая его светлой надеждой, доверчиво прильнула к его груди. Мысль о близкой разлуке заставляла их еще больше дорожить каждым мгновением, проведенным вместе.
— Эльза! Эльза! — донесся из сада голос матери. Настала минута расставания. Последнее объятье, последний поцелуй, в который любящие вложили всю свою душу, и Эльза вырвалась из его рук и убежала, послав ему прощальный привет рукой.
— До скорого свидания, жизнь моя! — крикнул он прерывающимся голосом.
С зарей он уже был на пути в Гейльброн. Он достиг цели своего путешествия без приключений, хотя и с частыми остановками. Его задерживали в каждой деревне и строго допрашивали, кто он, откуда и куда едет.
Цветущую равнину, богатую вином и хлебом, среди которой стоял Гейльброн, омрачали развалины сожженных, подобно Вейбертрею, замков. Руины «Женской верности» открылись взору Макса, когда он, миновав Вейнсберг, повернул налево и, въехав в Гейльброн, начал спускаться по склону, устланному отливающими на солнце виноградниками.
Вендель Гиплер ожидал его на постоялом дворе «Сокол». Макс застал его буквально потонувшим в бумагах. Испытующе заглянув друг другу в глаза, они одновременно протянули руки и обменялись крепким пожатием.
— Таким я и представлял себе вас, я говорю не о внешнем облике, а о человеке, который скрывается за ним. Да, да, таким именно я и представлял себе вас по вашим письмам к Флориану Гейеру и по вашему ответу на мой призыв, — приветливо заговорил канцлер, усаживая Макса рядом с собой. — А теперь, милейший доктор, расскажите, как обстоят дела в Ротенбурге. Что-то Менцинген мне давно не пишет.
Макс Эбергард попытался по возможности беспристрастно изложить положение дел в Ротенбурге. Внимательно выслушав его, Гиплер со вздохом промолвил:
— Какое несчастье, что кругозор наших имперских городов ограничен их собственными стенами. Пусть хоть весь мир провалится в преисподнюю, лишь бы они сами остались целы и невредимы. Они живут, как устрицы в своих раковинах. Но мы эти раковины взломаем. Им придется подчиниться общим интересам. Только этим путем можно положить конец пагубной раздробленности государства.
— Не посетуйте на меня за откровенность, господин канцлер, — сказал Макс, — но не сами ли вы содействовали этой раздробленности, избрав главнокомандующим Оденвальдского и Неккартальского ополчения Геца фон Берлихингена? Только избрание Флориана Гейера спаяло бы воедино все собравшееся тогда в Вейнсберге крестьянство.
— На первый взгляд вы как будто и правы. Но нужен был человек, который бы импонировал врагу и пользовался бы известной популярностью среди крестьян. Этим требованиям отвечал Гец. Лично я никого на свете не ставлю так высоко, как рыцаря Флориана, не говоря уже о том, что я его считаю большим знатоком военного дела. Но крестьяне не знают Гейера и при их ненависти к дворянству не выбрали бы его главнокомандующим. Посему я и осмелился предпочесть ему Геца, зная, что Гейер всегда готов подчинить свои интересы делу свободы. Во имя этой свободы он заставит себя преодолеть свою неприязнь к рыцарю с железной рукой, свое отвращение к нему, как к человеку. И я вполне согласен с ним: в новом государстве, которое мы стремимся воздвигнуть, сословным различиям не должно быть места. Но их нельзя уничтожить насильственно; они должны отмереть постепенно.
— Каким же образом вы рассчитываете этого достичь?
— Сейчас объясню, — с тихой усмешкой отвечал Гиплер. — Надеюсь, вы тем усердней поддержите меня при обсуждении новой конституции, которое начнется завтра. Находящаяся ныне под Вюрцбургом восточнофранконская рать прислала на сейм двух делегатов, хотя и крестьян, но людей большого опыта и выдающихся дарований. Это лишний раз подтверждает, что эпохи великих потрясений порождают в изобилии талантливых деятелей. Ну, так вот, неккартальцев представляет здешний житель Ганс Берле, человек большого ума, тонкий дипломат. Швабы не прислали своего делегата. Для них теперь каждый человек дорог, как они пишут, ибо Трухзес фон Вальдбург видимо собирается ударить на них. Это не отговорка: они прислали свои соображения касательно преобразования государства. Так же поступило и франконское войско. Взгляните, что они пишут, тут немало дельного. Завтра я оглашу их письма, сопроводив их своими соображениями. Наибольшего внимания, бесспорно, заслуживает основанный на «Двенадцати статьях» проект моего друга Вейганда, старшины питейных сборов из Мильтенберга. Однако за беседой не мешает промочить горло. Простите, я на минутку.
Звонков или иных приспособлений для вызова слуг в комнате не было, как и не было их тогда вообще в гостиницах и на постоялых дворах. И Гиплеру пришлось самому отправиться на розыски слуги. Прошло немало времени, прежде чем он его нашел, и еще ровно столько же, пока слуга, брюзжа по поводу того, что его потревожили, соблаговолил принести вино и кубки. Гиплер в это время рассказывал своему молодому собеседнику о Вейганде, о его одаренности и о том, как он преданно служит общему делу своим пером. Наполнив бокалы добрым неккарским вином, он чокнулся с Максом и продолжал:
— Но вернемся к нашей теме. Из каких источников питается могущество князей, дворян и духовенства? Конечно, из доходов, которые они извлекают из налогов, пошлин, повинностей и судебных сборов. Но в обновленном государстве все эти источники будут закрыты. Всякие пошлины, повинности, поборы будут отменены. За исключением пошлин, необходимых для поддержания в порядке мостов и дорог. Все дороги будут свободными. Все светские законы, дотоле действующие в государстве, будут уничтожены, и будет введен только божеский и естественный закон, по которому бедняки будут пользоваться равными правами с богатыми и знатными. На этой новой правовой основе будут преобразованы все города и общины, а все поземельные тяготы будут отменены. Обдумайте все это пункт за пунктом, и вы согласитесь, что тем самым прелаты превратятся в простых проповедников, князья и бароны — в более или менее крупных землевладельцев, а патриции — в простых горожан, и над ними не будет иного главы, кроме императора, и иного налога, кроме имперского, взимаемого раз в десять лег. В новом государстве будут лишь свободные и равноправные граждане.
— Все это истинно и справедливо! — горячо воскликнул Макс.
— Вы, должно быть, заметили, что всем этим я подписываю смертный приговор знатокам римского права, которых вы тоже не очень-то жалуете, хотя и принадлежите сами к их числу. Но в противном случае реформа права, судов и судопроизводства была бы немыслима. Посему я требую, чтобы ни один доктор римского права не мог быть допущен в суд или княжеский совет. При каждом университете должно быть только по три доктора римского права, чтобы в случае нужды можно было обращаться к ним за советом. Те же требования я выставляю и в отношении духовенства. Никакое духовное лицо, высшего или низшего звания, не может быть допущено в имперский совет или в совет князей или общин, никто из них не может занимать и светских должностей.
— Под этим я готов подписаться обеими руками! — воскликнул Макс, загоревшись.
— И еще одно важнейшее положение. Все духовные лица, независимо от их сана и состояния, должны принять Реформацию и получать достаточное содержание, а их имения должны отойти в казну. Все светские владетели, после переустройства империи, тоже не смогут больше покушаться на свободу простолюдина. Равное и скорое правосудие, я повторяю, будет обеспечено всем — и большим и малым. Получая соответствующее достаточное вознаграждение, князья и дворяне будут обязаны защищать интересы бедняков и обращаться с ними по-братски. Для того чтобы они не могли действовать во вред обществу, всякие союзы князей, владетельных особ и городов упраздняются. В империи будут действовать лишь закон да власть императора. Дворянство освобождается от всех ленных обязательств перед духовенством. И подобно единому имперскому закону устанавливается единая монета постоянного веса и состава, единая мера и единый вес для всего государства.
Он пригубил кубок, чтобы смочить пересохшее горло, и продолжал:
Но есть опасность, еще более пагубная, чем неукротимый произвол сильных, — это ростовщичество. Оно способно отравить своим ядом душу нового государства. Необходимо обуздать ненасытную алчность крупных торговых компаний, вроде Фуггеров, Вельзеров и им подобных, чтобы впредь они не могли поодиночке или сообща, с помощью своих огромных капиталов, захватывать монополии на предметы торгового оборота и перепродавать их по вздутым ростовщическим ценам. Но я, кажется, зашел слишком далеко!.. Я имел намерение представить лишь в общих чертах возможность безболезненного приобщения духовенства, князей и дворян к свободному союзу городских и сельских общин, а сам перечислил почти все мероприятия, предусматриваемые преобразованием государственного строя на благо и процветание немецкого народа.
Порывшись в бумагах, он отобрал несколько листков, исписанных его крупным и четким почерком, и протянул их Максу Эбергарду со словами:
— Я набросал свои предложения в виде проекта. Если вам угодно ознакомиться с ними на досуге, можете располагать ими.
Молодой доктор, горячо поблагодарив, принял рукопись. Слова канцлера привели его в восторг, и он смотрел на него с искренним восхищением.
— При осуществлении проекта, — в случае, если он удостоится принятия, — я рассчитывал на поддержку некоего благородного князя. Но увы, евангельская свобода лишилась своего мудрого отца и высокого покровителя. Пятого числа сего месяца герцог Фридрих, курфюрст Саксонский, отошел в вечность.
— Да, это тяжелая утрата для протестантского дела, — сочувственно произнес Макс. — Но, господин Гиплер, — продолжал он, подняв над головой свернутый в трубку свиток, — сим победиши!
— Всей душой хочу верить в конечное торжество нашего дела, — отвечал тот, благодушно улыбаясь при виде воодушевления своего молодого друга, и протянул ему руку на прощанье.
На следующее утро, подкрепив свои силы вместе за одним столом на постоялом дворе, они отправились в ратушу. Это было величественное здание в позднеготическом стиле с двойной лестницей, выходившей прямо на Рыночную площадь. Встретивший гостей кастелян проводил их через обширный вестибюль с деревянной колоннадой, поддерживающей потолок, направо, в зал заседаний, отведенный магистратом для совещаний комитета. Это был тот самый зал, где пять лет тому назад Гец фон Берлихинген грозил надавать оплеух достомудрым членам магистрата своей железной рукой, «исцеляющей головную, зубную и всякую иную боль на свете». Вслед за ними появились и оба крестьянских делегата — Петер Лохер из Кюльсгейма и Ганс Шикнер из Вейсленбурга. Это были кряжистые, дюжие ребята с грубыми, но выразительными лицами, неторопливые, уверенные в себе. Макс имел возможность убедиться, что их руки крепче железа, когда каждый из них медленно сдавил его руку осторожным, как бы испытующим пожатием. Затем появился Ганс Берле и просил его извинить за опоздание. Вел совещание Вендель Гиплер.
Далеко за полночь сидел Макс Эбергард над проектом конституции[114], который должен был послужить основой для обсуждения. Чем глубже проникал он в суть проекта, тем больше росло его преклонение перед политической прозорливостью его создателя, перед широтой его взглядов, перед величием его идей, а также перед тем хитроумием, с которым он сумел скрыть тайное острие своих замыслов, направленное против дворянства, духовенства и князей.
Конец второй книги
Книга третья
Глава первая
Весело шумели и развевались на буйном майском ветру бесчисленные знамена, флаги и значки крестьянских отрядов, собравшихся на берегах Майна. Но выше всех реяло в небе черное знамя с золотым восходящим солнцем: Флориан Гейер со своей Черной ратью первым пришел в Гейдингсфельд — небольшой городок на левом берегу Майна, напротив Вюрцбурга, — и водрузил свой стяг на церковной колокольне. За ним следом шли ротенбуржцы. На следующий день, в третье воскресенье после пасхи, когда оденвальдцы и неккартальцы разбивали свой лагерь на Гохберге, подошло и большое Франконское ополчение. В Оксенфурте к нему примкнули крестьянские отряды из северных и южных округов епископства под предводительством Якоба Коля из Эйвельштадта. Несколько позже прибыло еще две тысячи крестьян из герцогства Ансбахского, которые стали лагерем подле ротенбуржцев.
Вюрцбуржцы ликовали. Ганс Берметер, расположившийся вместе со своими друзьями в трактире «Зеленое дерево», сидя в его танцевальном павильоне, отведенном для бюргеров, радостно потирая руки, говорил:
— Крысы попали в ловушку, и теперь будь их францисканец не только чернокнижником, как они утверждают, но самим чертом, все равно он их не спасет.
В просторном павильоне днем и ночью не смолкали крики и песни, звон оружия и щелканье игральных костей, стук кружек и кубков, пьяные голоса и брань, громкий смех и мерный храп истомленных воинов, замертво свалившихся на устланные подушками лавки вдоль стен. Это были большей частью ремесленники низших цехов и крестьяне, завербованные магистратом из соседних деревень для того, чтобы не обременять военными тяготами и утомительными караулами зажиточных граждан. Магистрат платил им жалованье. Хлеб и вино поставляли в изобилии монастыри, и в богатом Вюрцбурге многим беднякам привелось впервые в их жизни поесть хлеба вдосталь. Духовенство ничего не хотело давать даром, но магистрат и начальники кварталов не могли обуздать горожан и крестьян, которые шарили в монастырских амбарах и погребах, устраивали всяческие бесчинства и уносили из домов духовенства все, что им приглянулось.
— А все-таки крысиный король улизнул, — ехидно заметил живописец Грюневальд своему молодому другу, музыканту.
Епископ Конрад фон Тюнген[115] не стал дожидаться, пока крестьянские полчища подойдут к стенам Мариенберга. Он взывал о помощи к Бамбергу, Эйхенштадту, Бранденбургу, к штатгальтеру Майнцкому, к пфальцграфу Людвигу, но тщетно. У всех у них было хлопот полон рот, и на призыв епископа к его вассалам — графам, баронам и рыцарям — явиться в Мариенберг конными и оружными откликнулись лишь немногие. Большинство из них уклонилось от исполнения своего вассального долга. Дурной пример подал им могущественнейший из вассалов епископа граф Вильгельм фон Геннеберг, имперский князь, наследственный маршал и бургграф Вюрцбургский, который без долгих слов отправился в Бильдгаузен и примкнул к Франконскому ополчению. Другим феодалам не давали добраться до епископского замка крестьяне. Засев в окрестных виноградниках, вюрцбуржцы останавливали меткими выстрелами тех, кто пытался переправиться через Майн на лодках или верхом вплавь.
Оказавшись в столь стесненном положении, епископ Конрад решился на крайнее средство: он созвал ландтаг, не собиравшийся с незапамятных времен. Города, за исключением немногих, выделили своих представителей, но отказались начать переговоры, пока не будут приглашены также и делегаты четвертого сословия — крестьяне. Они передали его преосвященству, лично явившемуся на открытие ландтага в Вюрцбург, жалобы на вопиющие притеснения со стороны чиновников епископа, назначаемых преимущественно из дворянства и духовенства. Тогда епископ послал своих эмиссаров в крестьянский лагерь в Герольдсгофен, где к ним уже присоединился Флориан Гейер. Но крестьяне велели передать его преосвященству, что пока они не могут ничего решить и что им было бы желательно отложить решение вопроса до их прихода в Вюрцбург, куда они не замедлят пожаловать. Тогда епископ передал командование в замке всеблагой и пречистой девы — Фрауенбургом — соборному приору Фридриху Бранденбургскому, одному из братьев маркграфа Казимира, а сам бежал в Гейдельберг, к пфальцграфу Людвигу.
На следующее утро по прибытии в Гохберг Гец фон Берлихинген послал «Двенадцать статей» в Мариенберг и предложил гарнизону замка присоединиться на их основе к крестьянскому братству. В ответ на его предложение соборный декан Иоганн фон Гуттенберг и несколько рыцарей явились для переговоров с военачальниками и членами крестьянского совета. Ганс Берметер, музыкант, встретил их с небольшим отрядом у Целлерских ворот и сопровождал по городу до Скорняжного двора, что рядом с новым собором, где должны были происходить переговоры.
Ганс Берметер, молодой человек с яркими, сочными, полными губами и лихо закрученными вверх усами, жадно впитывал в себя радости жизни. Отнюдь не чопорный епископский город мог бы порассказать не об одной залихватской проделке пылкого музыканта. Незадолго перед тем, во время карнавала, у него было серьезное столкновение с юнкером Адамом фон Тюнгеном, двоюродным братом епископа. Однажды Ганс Берметер со своими друзьями остановил юнкера среди бела дня, возле церкви св. Марии, и потребовал объяснений, на каком основании тот посмел забрасывать свою удочку в его, Берметера, пруд. Юнкер Адам тоже был не один: он выходил из церкви, сопровождаемый несколькими молодыми петухами с золочеными шпорами, в числе коих был и Вильгельм фон Грумбах, волочившийся за его сестрой. От крепких слов молодые люди перешли к крепким ударам, и то, что Ганс Береметер остался в накладе, отнюдь не уменьшило его ненависти к попам и поповской знати. И вот теперь, в отместку юнкеру, находившемуся на «Горе богоматери», он направил в дом Грумбахов в Ротенбурге, где жила овдовевшая мать юнкера с его младшей сестрой, на постой ротенбургского профоса[116] и двух его подручных и, несмотря на сопротивление мажордома, водворил там непрошеных гостей.
Когда Берметер принимал епископских послов, его серо-голубые глаза глядели из-под заломленного набекрень берета еще более дерзко, чем обычно. Настоятель собора, прекрасно осведомленный о том, какую роль сыграли красноречие и энергия музыканта, когда потребовалось расшевелить тяжелое на подъем бюргерство, при виде его с легкой иронией промолвил:
— А вот и наш великий народный трибун, наш вюрцбургский Кола ди Риенци![117] — И, повернувшись к стоявшим рядом с ним рыцарям, добавил: — Его присутствие, милейший граф фон Шаумбург, тем более великая честь для нас, что он большой мастер играть на лютне.
— Нонненмахер из Вейбертрея тоже был музыкант, — отвечал, вспыхнув, Берметер и подал своим спутникам знак к прекращению переговоров.
Рука Каспара фон Рейнштейна, ехавшего рядом с деканом, потянулась к мечу, но тот остановил его быстрым взглядом и шепнул с неизменной улыбкой на своем полном, украшенном двойным подбородком лице:
— Храните его слова в сердце своем.
Это было далеко не единственное оскорбление, которое пришлось выслушать по своему адресу посольству, проезжавшему через запруженные толпой улицы. Декан фон Гуттенберг с неизменным добродушием взирал на народ, даже когда за мостом через Майн, на площади перед Эккардовой башней близ ратуши, большая толпа, среди которой было много женщин, встретила их криками: «Смерть мариенбергцам!», «Смерть рыцарям и попам!», «Смерть крысам!»
Сильвестр фон Шаумбург смотрел на этих людей с высокомерным презрением, а Каспар фон Рейнштейн — с бессильной злобой. У него было особое основание ненавидеть вюрцбуржцев: когда он, верный своему вассальному долгу, переплывал через Рейн возле монастыря Небесных врат, к югу от города, вюрцбургские виноградари подстрелили под ним его лучшего коня, и он сам чуть не пошел ко дну.
Почетный караул в блестящих панцирях, с мечами и алебардами, стоял в новом соборе на ступеньках лестницы, ведущей в залу капитула. Стража была поставлена магистратом, но не для встречи епископских послов, а в честь крестьянских военачальников и членов крестьянского военного совета, заседавших в зале капитула. Несмотря на стражу, любопытные устремились вверх по лестнице вслед за деканом и его спутниками. Но зал капитула не мог вместить всех желающих. Для послов были поставлены кресла у стола, за которым сидели крестьяне, и декан, не привыкший к верховой езде и страдавший от ее последствий, поспешил усесться поудобней. Любовь к жизненным удобствам, его слабость, нередко брала перевес над его мужеством.
Выражение добродушия сразу же исчезло с его лица, когда он очутился лицом к лицу с людьми, при одном упоминании о которых вся его кровь католика и дворянина закипала в нем ненавистью. Перед ним были двойные отступники: рыцари Ген фон Берлихинген и Флориан Гейер, — перешедшие в протестантство священники: тощий Деннер из Лейценброна, горячий Бернгард Бубенлебен из Мергентгейма, а также оба Мецлера, Ганс Флукс, Большой Лингарт, столяр Ганс Шнабель, предводитель бильдгаузенского отряда, оттенфингенский староста и казначей Кунц Байер, предводитель мергентгеймского отряда Ганс Кольбеншлаг, помощник Якоба Келя из Эйвельштадта, который вел собрание, и много других менее известных лиц. Спокойствие Флориана Гейера, изможденные от лишений и усталости лица деревенских священников, их горящие ненавистью глаза, решимость, написанная на лицах крестьян — грубых и угловатых, их проницательные взгляды и широкоплечие фигуры, — все это наполнило тревогой сердце соборного декана.
Резкий голос крестьянского предводителя среди внезапно водворившейся в зале тишины не дал декану как следует разобраться в своих впечатлениях. Якоб Кель, приземистый и коренастый человек, славился во всем франконском войске своею грубостью. У него был низкий сдавленный лоб — верный признак упорства. Эго упорство, побочный отпрыск силы воли, грубость и мощный голос снискали ему уважение среди крестьян. Он не стал церемониться с послами и, даже не удостоив рыцарей взглядом, отрывисто сказал:
— Ну, господин декан, выкладывайте, что там у вас. Только покороче. Возиться с вами нам недосуг.
— Я буду краток. Мне это нетрудно, — сказал, поднявшись, декан. — Мое одеяние говорит о моей миссии. Я несу мир. Когда в воскресение милосердия господня[118] его преосвященство вознамерился выехать в город на открытие конгресса, мы в Мариенберге сочли нашим священным долгом предостеречь его об опасности, которой он, возможно, подвергался, но он возразил, что совесть его чиста и что он никогда не давал своим подданным даже малейшего повода к неудовольствию. Напротив, движимый милосердием, он по мере своих сил старался смягчить их тяготы.
— О-го-го! — раздался негодующий ропот, а Ганс Лемингер, цирюльник, закричал:
— Милосердие! Его милосердие мы испытываем всю жизнь на своей шкуре! Не выпусти мы его тогда из города, он давно бы принял все наши условия, и дело с концом!
— Попридержи-ка язык, сделай милость! — прикрикнул на него Якоб Кель, и декан фон Гуттенберг продолжал:
Это милосердие, христианское сострадание к вам, заблудшим овцам стада христова, и привело нас сюда. Мы стремимся к миру и согласию. Гарнизон замка нашей присноблагодатной девы Марии готов принять на свой страх «Двенадцать статей» в убеждении, что наш милостивый господин, епископ Конрад, даст на то свое соизволение. Но нам нужен некоторый срок, чтобы узнать, какова его воля. Если же в будущем воспоследует преобразование государственного строя, то и мы не останемся в стороне.
Ропот изумления прокатился по залу.
— Вижу лисий хвост! — шепнул Мецлер из Бретгейма своему соседу. Между тем декан, сияя добродушием, сел на свое место.
— Гляди на Флориана Гейера, как он теребит свои усы. Знаю я эту его повадку. Увидишь, как он наступит лисе на хвост.
— Полагаю, что условия следует принять, поскольку они нам выгодны, — заговорил Гец фон Берлихинген, только что усиленно убеждавший в чем-то Якоба Келя. — Если гарнизон Мариенберга присягнет «Двенадцати статьям», мы без кровопролития достигнем цели и замок станет надежным оплотом нашего дела.
— Таково и мое мнение, — поддержал его Кель и во всю мощь своих богатырских легких загремел: — Так примем условия, братья?
— К чему такая поспешность? — спросил Флориан Гейер. Он догадывался, почему Гец с такой готовностью шел на предложение декана: «Железной руке» не терпелось ударить по своему заклятому врагу, епископу Бамбергскому, с которым он давно враждовал и тягался в имперском суде. Теперь, воспользовавшись огромными силами крестьян, он мог бы наконец утолить свое горевшее жаждой мести сердце. Вождь Черной рати понимал также, что, добиваясь отсрочки для получения согласия епископа, декан стремился лишь выиграть время. Как опытный военачальник, Гейер прекрасно понимал, сколь опасным и даже гибельным для крестьянских войск может оказаться длительное бездействие под стенами Фрауенберга. И он решил дать незадачливым защитникам Геца решительный отпор.
— Внизу, на монастырском дворе, я видел древнюю гробницу с четырьмя чашами по углам. Должно быть, и вы обратили на нее свое внимание. В ней покоится прах нашего славного миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде[119]. Перед смертью он оставил собору дар, завещав ему каждое утро наполнять эти чаши кормом для птиц. Но святые отцы вспомнили, что хотя птицы не сеют и не жнут, но, как сказано в священном писании, сам господь заботится об их хлебе насущном, и решили употребить сей дар на поддержание своей бренной плоти.
Оглушительный хохот прервал его речь. Смеялся и Гец фон Берлихинген, и даже декан улыбался. Но Флориан Гейер серьезным тоном продолжал:
— Таким же образом пожрали епископы права и вольности Франконии. Так неужели теперь, когда мы взялись за меч, чтобы вернуть свои права, мы продадим их за чечевичную похлебку? За похлебку обещаний? Ну кто еще может верить епископу? Кто не знает, как лживы медоточивые уста, помогающие господам опутывать простой народ? Секира занесена, чтобы рубить их под самый корень. Пляс только начинается, и скоро мы заставим плясать князи и господ всех до единого. Так неужели мы не дадим опуститься топору? Неужели мы сложим оружие?
— Нет! Нет! Нет! — загудела толпа, почти единодушно поддержанная военачальниками и членами совета.
— Срыть до основания эту крысиную пору! — донесся звонкий, как труба, голос Ганса Берметера, стоявшего у двери. — Нас двадцать тысяч, а у них и двухсот пятидесяти человек нет, да и то, почитай, одни монахи.
Побагровевший от ярости Сильвестр фон Шаумбург с ожесточением стукнул ножнами об пол и, не обращая внимания на предостерегающие взгляды декана, крикнул:
— Только суньтесь, мы вас встретим как следует!
— У нас хватит пороху, чтобы взорвать на воздух вас всех, — добавил Каспар фон Рейнштейн.
С неожиданной при его дородности живостью декан вскочил с кресел и воскликнул:
— Не поддавайтесь чувству гнева, господа. Горячими словами не потушить пожара. Помните, что мы — вестники мира!
— Но ведь вы возлагаете все ваши надежды на князей, — возразил ему Флориан Гейер. — Вы строите здание на песке. Князья не могут объединиться, они сами под ударом. Их время миновало. Им не одолеть крестьян.
Тогда выступил вперед священник Бернгард Бубенлебен и, держа перед собой бумагу, на которой он быстро нацарапал несколько строк, промолвил:
— Слушайте, что предлагает Тауберское ополчение[120]. Фрауенберг и остальные замки епископства со всеми находящимися в них запасами и вооружением должны быть сданы евангелическому воинству. Духовенство должно получить соответствующую компенсацию. Гарнизону будет обеспечена личная безопасность и сохранение имущества и свободный пропуск из замка. Город Вюрцбург, его округ и епископство совместно решат, стоять ли Фрауенбергу или быть разрушенным.
Бурный гул одобрения заглушил отдельные возгласы возражавших и тех, кто требовал разрушения замка. Военачальники креглингенцев, вейкерсгеймцев, лаудахцев, кёнигсгофенцев застучали мечами. Гец фон Берлихинген вытер свое взмокшее плешивое темя, а Балтазар Вюрцбергер, дюжий начальник квартала и кабатчик из Шлейне, рявкнул из толпы:
— Дельно сказано! Вюрцбург должен опять стать имперским вольным городом!
— Да, он попал в самую точку! — заявил Якоб Кель. — Кто согласен со мной, я хочу сказать, кто за предложение Бубенлебена, пускай подымает руку.
Не только военачальники и члены военного совета, но и почти все горожане подняли руки.
— Большинство! — объявил Кель.
— Нет, так не годится! — крикнул Георг Берметер, протискиваясь к столу. — Замок должен быть разрушен.
— Правильно! — поддержали его вюрцбуржцы.
— Нет! Нет! — вопили тауберцы.
Поднялась ожесточенная перепалка. Гец набросился на главнокомандующего с упреками, что тот водит собравшихся за нос. Священник Деннер призывал всех к спокойствию, но его голос потонул среди несмолкавшего гула. Епископским посланцам стало не по себе. Гец, Мецлер и советники-оденвальдцы, возмущенные, покинули собрание. Тогда Якоб Кель, треснув кулаком об стол, голосом Стентора[121] потребовал тишины и крикнул Гансу Берметеру:
— Не суйтесь, коли вас не спрашивают. Кто еще разинет свою мерзкую пасть, того я выкину вон через окно. Пусть говорят послы.
— Roma locuta, causa finite[122], — язвительно произнес декан, — что в переводе на немецкий означает: вы поговорили, мы выслушали, и дело кончено. Но сдать Мариенберг на ваших условиях мы не вольны. Мы доложим о вашем предложении.
Он поклонился и среди гробового молчания вышел вместе со своими товарищами. Очутившись на свежем воздухе, они с облегчением вздохнули.
— Вы заметили, господа, — шепнул декан двум мариенбергским дворянам, когда они возвращались обратно верхом в сопровождении Берметера, — какие отношения у Гена с Флорианом Гейером. Они тянут веревку в разные стороны. Посмотрим, не удастся ли нам перервать ее посредине.
Между тем зал капитула постепенно пустел. Балтазар Вюрцбергер, Ганс Лемингер и другие горожане окружили Бубенлебена и Якоба Келя и горячо спорили с ними; к ним подошел и Флориан Гейер. Большой Лингарт встал, потянулся и спросил у Мецлера:
— Послушай, брат, ты не знаешь, где тут можно промочить глотку? Она у меня так пересохла, как будто этот чертов декан загнал меня в самое пекло.
— У булочника возле Мюльтора неплохое винцо, — отвечал Леонгард Мецлер, направляясь к выходу. — Или податься, что ли, в «Зеленое дерево»? Можешь залить там свою адскую жажду поповским вином и задаром. Молодцы вюржбурцы: хорошо подчистили подвалы у черного воронья.
— А ты слышал, какую штуку выкинули они с соборным викарием? — продолжал Мецлер. — Нет? И настоятелю тоже досталось. Ты только послушай. Недавно его преподобие, возвращаясь из Ротендорфа, где у него приход, видит у Ренвегерских ворот, как наши парни валяют дурака. И почудилось ему, что они прохаживаются на его счет. Он давай их честить; «Ах вы такие-сякие, бродяги вшивые! Погодите, отрубят вам скоро головы на городской площади». Караул! Тут и пошло! Нагрянули они всем скопом к настоятелю Гуттенбергу и подняли такой шум, хоть святых выноси. Тот с перепугу разрешил им в виде возмещенья за угрозы и бесчестье взять у викария с его Ротендорфского подворья полбочки вина. Наши молодцы двинулись с ружьями, флейтами, барабанами, прямо как в поход, и вдобавок к положенному выкатили из подвала еще девять бочек! Что тут было! Сбежалась вся деревня, и стар и млад, и женщины, и дети, и всякий пил сколько хотел и уносил сколько мог: кто жбан или кружку, а кто кастрюлю или ведро. Под конец все перепились до положения риз, и многие валялись в грязи середь улицы, как свиньи.
Друзья направились к булочнику у Майнского моста, чтобы пропустить там по стаканчику. Пройдя до Соборной улицы, они увидели Флориана Гейера, за которым следовала целая толпа любопытных. Попадавшиеся ему навстречу снимали перед ним шапки, останавливались и молча с уважением провожали его глазами. Он всем одинаково серьезно отвечал на приветствия, без тени снисходительности или высокомерия. На нем был простой гладкий берет, надвинутый на лоб, кожаный колет вместо панциря и длинный, подчеркивавший его высокий рост, плащ, из-под которого виднелся кончик меча. Его мужественное лицо загорело от солнца и ветра. Он перешел через мост и зашагал по переулку Буркхарда, когда до его слуха донеслись звуки скрипок и волынок, гиканье и женский визг. Этот шум исходил из цехового дома рыбаков. Рыцарь нахмурился. Дойдя до городских порот, он повернул к Николаусбергу или, как говорили вюрцбуржцы, Класбергу.
Тяжелые орудия
С гравюры Ганса Буркмайра
На горе Клауса кишмя кишел народ. Воины Черной рати с помощью вюрцбуржцев и анесбахцев перетаскивали увезенные из замков местных дворян и тевтонских рыцарей бомбарды[123] на самую вершину горы, где рыли траншеи. Это была нелегкая работенка: гора была крутая, без тропинок, а солнце припекало вовсю. Но солдаты были в отличном настроении и, чтобы перевести дух, перебрасывались шутками и пели. У Флориана Гейера нашлось для каждого из них доброе слово. Он подбадривал их, отвечал на их грубоватые шутки, показывал, как сподручней тащить тяжелые пушки. Наверху, на горе, он застал Симона Нейфера, руководившего окопными работами. Симона выбрали в Герольдсгофене его помощником. Гейер пожал ему руку, вместе с ним осмотрел траншеи и, устремив взгляд на Мариенберг, сказал:
— Будь у нас вертгеймские пушки, от замка скоро осталась бы лишь груда развалин. Но об этом нечего и думать. Вертгейм бережет их как зеницу ока и сам перевез их на Гохберг. Боюсь, как бы эта пропасть, отделяющая нас от Мариенберга, не оказалась непреодолимой для наших пушек и фальконетов. Они хороши только для боя в открытом поле, а не для осады крепостей. Да и пороха и ядер у нас тоже не хватает.
— Стало быть, переговоры с епископскими послами ни к чему не привели, и дело принимает серьезный оборот? — спросил Симон, пристально глядя на него. — Ведь послы должны сегодня вернуться с ответом.
— О неудаче говорить пока рано, — отвечал Гейер, и легкая усмешка искривила его мужественно очерченный рот. — Они убрались восвояси, поняв, что мы не поддадимся на приманку. Надеюсь, по возвращении они будут сговорчивей. Какая нам корысть подставлять свои плечи, чтобы остановить падающий вниз камень? Мы должны идти вперед, не останавливаясь.
— Я и сам так думаю, — согласился Симон. — Для нашего брата крестьянина дело может плохо обернуться, если мы долго простоим здесь без дела. И так уже многие больше думают о хозяйстве, чем о свободе, и норовят вернуться домой на время полевых работ. А вернутся ли они когда придет время возвращаться из отпуска, — это бабушка надвое сказала.
— Может быть, нам и не придется подвергать их такому испытанию, — отвечал Флориан Гейер. Он сел на насыпь и, положив ногу на ногу, продолжал: — Даже дисциплинированные ландскнехты развращаются от безделья во время долгой осады. А Фрауенберг может долго продержаться. Замок в изобилии снабжен провиантом и амуницией. Гофмейстер епископа, доктор фон Ротенган, как я слышал, уже давно готовится к осаде. Для наших крестьян стоянка в богатом и шумном Вюрцбурге была бы сущим ядом, особенно при той распутной жизни, которая царит в городе. Берметер не может обуздать их, да и не хочет. Ходят слухи, что он метит в бургомистры.
— Ну что же, — заметил Нейфер, — ведь был же первым ротенбургским бургомистром его двоюродный брат?
— А почему бы и нет? — сказал, пожав плечами, Гейер, — он человек способный и дельный. Но разгул и распущенность крестьян возрастают не по дням, а по часам. Надо вовремя положить этому конец. Завоевать и утвердить свободу, из-за которой мы стали под знамя Башмака, мы сможем только тогда, когда освободимся сами от пороков тех, кто еще недавно были нашими господами. Тлетворный дух не должен восторжествовать над нами. Мы его одолеем.
Симон Нейфер пристально посмотрел на него и задумчиво произнес:
— Одним принуждением цели не достигнешь. Силой можно заставить повиноваться и покарать за ослушание, но нельзя исцелить и уберечь от заразы.
— Это верно, но я ведь стою не за одно принуждение. Постой, кого это сюда несет?
К ним подошел опрятно одетый крестьянин. Лицо его нельзя было разглядеть из-за низко опущенных полей шляпы.
— Венделанд? — с изумлением воскликнул Флориан Гейер и вскочил на ноги. Этот человек уже много лет находился у него на службе и был оставлен им управителем Гибельштадтского замка.
— Да, сударь, перед вами Венделанд, — отвечал тот, с трудом переводя дух, и, сняв шляпу, обнажил крупную, уже тронутую сединой голову.
— Ты спешил так, как не спешат с добрыми вестями, — сказал владетель Гибельштадта, пытливо вглядываясь в открытое лицо верного слуги. — Что привело тебя сюда? Известие из Римпара? Говори!
— О Римпаре мне ничего не известно, сударь, — покачал головой Венделанд, усилием воли заставляя себя говорить спокойно, — ведь я все время находился в вашем замке, в Гейдингсфельдском приходе, — продолжал он, как будто стараясь оттянуть время. — Тамошний священник передал мне, что ваша милость скоро прибудут, но меня взяло такое нетерпенье, что…
— Так, стало быть, с семьей ничего не случилось? — прервал его Флориан Гейер. — А все-таки ты привез дурные вести, твое лицо тебя выдает. Неужто надо заставить тебя говорить силой, старый вещун?
Управитель жалобно посмотрел на него. Между тем крестьяне, рывшие поблизости землю и перевозившие ее на тачках, подошли и стали с любопытством прислушиваться.
— Это случилось вчера, поутру, — заговорил снова Венделанд. — Ах, сударь, вы всегда были истинным другом крестьян, ради них вы покинули нашу уважаемую госпожу и малолетнего сына, ради них вы сражаетесь с господами и князьями, и в благодарность за это крестьяне разграбили, разрушили и сожгли Гибельштадт! И мне пришлось пережить такое!
Две крупные слезы скатились по его щекам.
Глаза Флориана Гейера широко раскрылись и застыли. Крестьяне разразились гневными восклицаниями, но Симон Нейфер указал им кивком головы на их предводителя, и они замолчали. Флориан провел рукой по глазам и спокойным тоном, лишь сухость которого выдавала подавленное волненье, произнес:
— Рассказывай.
Старик тяжело перевел дыханье и продолжал:
— Только опустили мост, сударь, и выгнали скот на луг, как вдруг на стадо напала толпа вооруженных крестьян. Пастух вздумал сопротивляться, но его уложили на месте. Я мигом ворота на запор и марш на стену. Кричу им: «Это замок благородного господина Гейера фон Гейерсберга, известного друга крестьян!» — «Для нас все господа — один черт! — это они мне кричат в ответ. — Не надо нам больше ни дворян, ни замков!» — И знай свое: — «Отворяй ворота». — Я, грешным делом, надеялся, что гибельштадцы мне пособят, а они, дьяволы, начали в меня стрелять и бить топорами в ворота. Оба работника да мальчишка-слуга, что оставались со мною в замке, дали тягу. А служанок след простыл.
— Говори короче, — произнес Гейер, стиснув зубы.
— Вскорости, сударь, разбили они ворота и с воем, как голодные волки, бросились в замок, угнали мелкий скот и лошадей, опустошили житницы и ворвались в винный погреб. В господском доме они перебили все как есть, а один негодяй так хватил меня копьем по голове, что я повалился замертво. Когда я пришел в себя, мне показалось, что все это я видел во сне. Кругом было тихо, только пламя гудело и трещало. Горели конюшни и то, что осталось от господского дома, а внутри уже все было расхищено и разбито. Огонь перебросился на две боковые башни, и над ними уже взлетали искры и полыхало пламя. Тушить я не мог, а спасать, сударь, было нечего.
Он замолчал, виновато поглядывая на хозяина. Все молча смотрели на него. Тот стоял, плотно сжав губы и прижав к сердцу левую руку. Потом он обвел всех глазами и, выпрямившись, сказал:
— Ничего, Венделанд. Все — к лучшему. В свободной стране не будет укрепленных замков. Никто не будет возвышаться над своим ближним. Они избавили меня от труда разрушать свой замок.
Но крестьяне всполошились:
— Как они посмели? На кого подняли руку? — гневно воскликнул Симон, и многие его поддержали.
— Дайте мне несколько человек, ваша милость, — попросил управитель, — чтобы я мог хотя бы расчистить…
— Зачем? — спросил Гейер своим обычным спокойным тоном. — И без того нам придется слишком много расчищать, чтобы строить новое.
Он приказал Венделанду следовать за ним, махнул остальным на прощанье рукой и удалился. Симон провозгласил в его честь троекратное «ура», по он даже не обернулся.
— Послушай, Венделанд, тебе придется ехать в Римпар, — сказал он. — Мне теперь никак нельзя отсюда отлучиться. Дорогу ты знаешь. Держись все время вдоль берегов Плейхаха. За три четверти часа будешь там, Но это не к спеху. Прежде отдохни с дороги. Дурные вести всегда приходят слишком рано. Ты ведь добрался сюда из Гибельштадта пешком, не так ли?
— Ах, сударь, злодеи даже ржавой подковы не оставили!
— Я дам тебе коня. Но прежде отдохни. Я напишу письмо.
Доктор Эвкарий Штейнмец, гейдингсфельдский приходский священник, услужливо открыл перед рыцарем Флорианом дверь. Крестьяне не пощадили винного погреба в его приходе. Тридцать пять бочек вина вывезли они с церковного двора и, вняв его мольбам, оставили ему лишь четыре. Зато он стал членом евангелического братства, и главари крестьянских войск оказали ему высокую честь, поручив ведение всей переписки. Они питали к нему полное доверие, так же как и Флориан Гейер, прямой и честной натуре которого была чужда подозрительность. В то время как отец Эвкарий потчевал управителя и добродушно выспрашивал у него новости, Гейер писал своей ясене. Стараясь насколько возможно щадить ее, он рассказал ей о случившемся, и если вообще что-нибудь могло ее утешить, то, пожалуй, это была возвышенная простота его заключительных слов:
«Пусть наша потеря тяжела, — писал он, — но помни, что нет такой жертвы, которая была бы слишком велика для дела свободы, и поцелуй за меня нашего мальчугана. Твой Флориан».
Глава вторая
По улицам Вюрцбурга проходил батальон Черной рати во главе с барабанщиком. На каждой площади отряд останавливался, и под бой барабана командир зычным голосом читал собравшейся толпе приказ военачальников и крестьянских военных советов. Всякие беспорядки в городе запрещаются под страхом тяжких наказаний. Всякий, кто осмелится нарушить мир и призывать к мятежу против братьев во Христе, будет тотчас же повешен. Для этой цели на Рыбном рынке, на Еврейской площади и позади собора были установлены три виселицы. Зажиточные горожане и даже духовные лица, засучив рукава, помогали сколачивать помосты, вокруг которых с громким ропотом толпился народ, а уличные мальчишки и цеховые ученики, вложив пальцы в рог, пронзительно свистели.
Меры эти были приняты по предложению Флориана Гейера. Он настоял также на том, чтобы в городе и в покинутых монахами доминиканских подворьях было расквартировано несколько рот гейдингефельдцев. К войскам приставили бывшего августинца, брата Амвросия, который ежедневно, в четыре часа утра, читал в соборе проповедь на тексты псалмов царя Давида. Другой монах служил ратникам обедню на немецком языке. Соборному пономарю вменено было в обязанность чуть свет обегать дома духовенства и поднимать священнослужителей с постели.
Брат Амвросий, в мире Фридрих Зюс, был пострижен в монахи в Шмалькальдене, но, проведя три года в Вюрцбургском августинском монастыре, почувствовал отвращение к житию в обители, перешел в белое духовенство, стал приходским священником в Вальдмансгофене и женился. Несмотря на духовный сан и ученость — он прекрасно знал сочинения античных классиков и гуманистов, — он был простым и скромным человеком и умел своими проповедями трогать сердца.
Между тем от гарнизона замка прибыл ответ, который был прочитан в зале капитула. Соборный приор маркграф Фридрих писал, что он сам и весь гарнизон по-прежнему готовы присягнуть «Двенадцати статьям» и вступить в евангелическое братство, но сдать замок они не хотят и не могут, даже при условии сохранения им жизни и имущества.
— Полюбуйтесь на этих жестоковыйных! До чего же их настропалил епископ! — крикнул своим густым басом Большой Лингарт.
— Он говорит, как честный человек, — вступился за приора Гец фон Берлихинген и начал настаивать на том, чтобы предложение приора было принято. — Ведь присягнуть «Двенадцати статьям» это все равно, что сдать замок крестьянам.
— Эге, господин Гец, видать, вы из врага попов сделались их другом, раз доверяете поповской присяге! — насмешливо воскликнул бретгеймец Мецлер.
— Коли дворянство плюет на свой вассальный долг перед большими господами, так чего же ждать от них нам, маленьким людям? — сказал столяр Ганс Шнабель из Бильдгаузена. — Вести мирные переговоры, а тем временем ударить из-за угла — на это они горазды! Если бы Гельфенштейн вел себя с нами как честный человек, у него осталась бы голова на плечах.
— А вот плоды этой гнусной резни! — воскликнул Гец фон Берлихинген, вытаскивая из-под нагрудника печатный листок.
— Повтори еще раз, — рявкнул, сверкнув глазами, Большой Лингарт, — и, клянусь сатаной! я забью тебе эти слова назад, в самую глотку!
— Тише! Дайте сказать Гецу! — завопили священники.
И Гец, как бы недоумевая взглянув на Лингарта, продолжал:
Титул антикрестьянской листовки Мартина Лютера
— Результат таков, что Лютер, прежде державший сторону крестьян, теперь отшатнулся от них. В этом листке он призывает господ обрушиться на крестьян, разбойников и душегубцев, как он их называет. Крестьяне ссылаются на евангелие только для виду и, пойдя на бунт, поставили себя вне закона. «Так пусть же всякий, кто может (пишет он), бьет, крушит и разит их тайно и явно, памятуя, что нет ничего более вредоносного, ядовитого и богопротивного, чем бунтовщики. Их надо убивать, как бешеных собак. Власти имеют право смирять их силой. Кто из них колеблется и попустительствует, тот сам продался диаволу. Посему, милостивые господа, — продолжал читать Гец, — спешите, спасайте бедных людей, спешите им на помощь повсюду, и пусть всякий, кто только может, рубит, колет, душит и уничтожает бунтовщиков. Если кто погибнет на этой стезе, честь и хвала ему: ибо нигде не найти ему более блаженной смерти». Так не будем же подливать масла в огонь и примем предложение приора.
— Как бы не так! Смотрите, не попасть бы впросак, братья! — возразил оксенфуртский староста Ганс Пецольд, в то время как Флориан Гейер потянулся за листовкой.
— Долго же он разжигал в себе ярость из-за вейнсбергского дела! — воскликнул он, а священник Деннер, взглянув через его плечо на документ, добавил:
— Подписано шестого мая. Если не ошибаюсь, как раз накануне кончины саксонского курфюрста, мудрого Фридриха, который был могучим щитом нашей веры.
— Значит, кровь наших братьев, вероломно пролитая во время перемирия Гельфенштейном и, вопреки законам и обычаям войны, Трухзесом Иоргом на Дунае, эта кровь для Лютера просто вода? — прошипел Леонгард Мецлер.
— Мариенберг должен быть нашим, и никаких! — крикнул Якоб Кель.
Глядя на их хмурые, угрожающие лица, Гец понял наконец, что, желая запугать крестьян, он промахнулся.
— Напишите приору, пусть сдаст замок на волю победителя! — крикнул Бубенлебен. — Ни на какую сделку с ним не пойдем.
— Срыть замок до основания! Не будь я Гансом Кольбеншлагом! — крикнул предводитель тауберцев и с такой силой ударил себя кулаком в широкую грудь, что панцирь на нем зазвенел.
— Что? Как? Да ведь вы совсем недавно предлагали иное! — напустился на него Гец, весь побагровев.
— Сегодня он пляшет под дудку вюрцбуржцев, — поддержал рыцаря Георг Мецлер. — Посмейте-ка вы, тауберцы, отрицать, что Берметер, Грюневальд, Лемингер, Вюрцбергер и как их там еще дневали и ночевали у вас в лагере и шушукались с Келем и Пецольдом? Знаем мы, кому вы подпеваете!
— Погоди, мы тебе еще такое споем, что у тебя барабанные перепонки лопнут! — крикнул Якоб Кель. — Вюрцбуржцы — наши братья, и они правы, коль хотят разрушить замок.
— Да образумьтесь же наконец, — взывал к спорящим Гец. — Виданное ли дело, чтобы такому знатному и могущественному князю не оставить даже одного замка!
Дружный смех был ему ответом, и даже нахмуренное чело Флориана Гейера прояснилось. Он решительно вмешался в спор:
— Чтобы жить, достаточно одного дома с одной дверью. Ведь живет же так крестьянин? Понимаю, что для вюрцбуржцев Мариенберг — бельмо на глазу. Но они вступили в наш союз наравне с бесчисленными другими общинами. Хороши же мы будем, если в угоду одному из членов нашего союза поступимся интересами всех остальных? Мы обнажили меч за свободу для всех, и только она должна быть нашей путеводной звездой. Чтобы стать подлинно свободными, нам остается сделать еще так много, что мы не имеем никакого права терять драгоценное время под стенами Мариенберга. Мы должны действовать быстро и решительно, иначе враг нас опередит. Обращаясь к послам епископа, я хотел сделать их уступчивей, потому я и поддерживал предложение мергентгеймского священника. Но то, что все наши попытки пойти им навстречу напрасны, подтверждает нынешнее письмо приора. Из этого письма ясно одно: они надеются выиграть время. Потому-то они и стараются пригвоздить нас к месту, обречь на бездействие наше воинство, отвлечь его от борьбы за свободу, чтобы тем легче справиться с нашими братьями. Так неужто мы слепо ринемся в расставленную нам западню? Кто на войне теряет хотя бы миг, тот уже наполовину разбит. Вперед — вот наш лозунг! За дело! За дело!
Большой Лингарт повторил басом боевой клич ландскнехтов, а вслед за ним и остальные предводители подхватили его, застучав кулаками по мечам или по столу.
— Итак, вперед на штурм Мариенберга! — крикнул священник Бубенлебен.
— Итак, вперед на Бамберг! — поправил его Флориан Гейер. — Заставим епископа принять «Двенадцать статей» и привлечем в наше братство нюрнбержцев, как мы уже решили в Вейнсберге.
— А тем временем приор Фридрих в отместку обрушится на наш город! — прервал его мергентгеймский священник.
Флориан Гейер пропустил мимо ушей этот возглас.
— Такой маневр, — продолжал Гейер, — заставит Трухзеса Иорга приостановить свой кровавый поход через Верхнюю Швабию, а мы, соединившись с бамбержцами и нюрнбержцами, разобьем его несомненно. Между тем наши братья в Оберланде, Вюртемберге и на Рейне, в Шварцвальде и Тюрингии смогут перевести дух и собраться с силами. Не успеет Швабский союз и опомниться, как его мощь будет сломлена. Князья будут скованы по рукам и ногам и вынуждены будут бездействовать, опасаясь, что за епископами наступит и их черед. К тому времени Мариенберг, как спелый плод, сам упадет в наши руки, и пусть вюрцбуржцы тогда разрушают его, если захотят. Мариенберг силен не своим гарнизоном, а стенами. Чтоб оградить вюрцбуржцев от мести приора на тот случай, если он нарушит свою клятву, достаточно оставить здесь лишь часть наших войск. Поэтому я предлагаю принять предложение приора и двинуться дальше. Другого выбора у нас нет.
— Но ведь мы дали слово нашим вюрцбургским братьям взять и разрушить Фрауенберг! — продолжал упорствовать Якоб Кель. — А пока не возьмем, мы не тронемся отсюда.
— Будто так уж важно, выступим ли мы на Бамберг немного раньше или позже? — сказал Бубенлебен. — Возьмем сначала замок с налету. Этим мы нагоним страх и на бамбержцев.
— Да, да, возьмем сначала замок! — подхватили тауберцы и предводители Франконского ополчения. — За дело! За дело!
Гец в гневе загремел железным кулаком по столу. Большой Лингарт только горько усмехнулся. Кровь ударила в лицо Флориану Гейеру, и вне себя он крикнул:
— Вы совсем как бабы! Уперлись на своем, хоть кол на голове теши! Знай вы хоть немного толк в военном деле, вы не настаивали бы на осаде. Но, кажется, вам больше по сердцу кутежи в этом Вавилоне, чем евангельская свобода. По-настоящему, ни один священник не должен заседать в этом совете.
— А я тебе скажу, брат Гейер, — крикнул, весь багровый, Бубенлебен, — что в этом деле нельзя доверять ни одному дворянину. Мы не уйдем отсюда, пока не возьмем замка.
— Еще бы, возьмем, твоими молитвами да песнопениями, — отпарировал Гейер, сверкнув глазами. — А я тебе говорю, Бубенлебен, знай я раньше твоих тауберцев и франконцев, клянусь богом, я скорей дал бы себя заколоть, чем пристал бы к вам. Бесовский у вас союз, а не евангельский!
Страсти разгорелись. Обе партии дошли до крайнего ожесточения. Кое-кто даже обнажил меч. Большой Лингарт гудел, что бараньи головы можно образумить только дубиной. Гец спорил с Колем, который до самого последнего времени шел у него на поводу. Тощий Деннер, в панцире поверх рясы, метался от одной группы споривших к другой, умоляя успокоиться и помириться. Но никто его не слушал. Ожесточение противников охладило Флориана Гейера. Скрестив руки на широкой груди, он некоторое время был немым свидетелем перепалки и наконец решил испробовать последний довод. Когда оденвальдцы, ротенбуржцы и ансбахцы заметили по его выпрямившейся фигуре, что он собирается говорить, они прекратили спор и закричали:
— Тише! Слушайте Флориана!
— Братья, — начал он, — если мы и были чем-нибудь сильны, так это нашим единством перед лицом угнетателей. Разлад в наших рядах отдаст нас в руки врагов. Вы во что бы то ни стало хотите взять замок, хоть в этом и нет нужды. Так, что ли? Но где та брешь, через которую вы собираетесь туда проникнуть? Иль вы надеетесь пробить стены своими головами? Наши пушки на Класберге слишком слабы для этого, и нам недостает пороха и ядер. В замке все это имеется в изобилии. Если вы все же упорно стоите на своем, отказываясь от преимуществ быстрого продвижения вперед, и решитесь на штурм замка, помните, что Вюрцбург обратится в груду развалин, прежде чем мы получим все необходимое для взятия замка.
— Послушайте его, клянусь честью, он прав! — горячо убеждал Гец, а Большой Лингарт прибавил:
— Конечно, прав. Ведь он среди нас единственный, кто знает толк в военном деле. Брат Гец может это засвидетельствовать лучше, чем кто бы то ни было.
Тут хотел вмешаться Георг Мецлер из Балленберга, но Якоб Коль не дал ему заговорить.
— Прежде всего мы должны решить, принимаем мы или отклоняем предложение приора Фридриха.
— Отклоняем! Отклоняем! — закричали друзья вюрцбуржцев, и их мнение восторжествовало.
— Брат Кель, — насмешливо протянул Большой Лингарт, — видно, ты принимаешь свой меч за ведьмино помело, на котором думаешь прилететь в замок.
Флориан Гейер стоял, в досаде покусывая кончики усов. К нему подошел Гец фон Берлихинген. До сих пор он избегал встречи с рыцарем Флорианом, которому некогда сдался под Мекмюлем. К тому же он знал, что Флориан из-за него ушел от оденвальдцев из-под Вейнсберга. Теперь Гец протянул ему свою единственную руку и сказал:
— Они, как лягушки, так и норовят нырнуть назад в болото рабства, из которого едва высунули головы. Иная жизнь не по ним. Что до меня, то я умываю руки.
Гейер едва ответил на его пожатие. Для него Гец как был, так и остался рыцарем-разбойником. Правда, волею судьбы они стали союзниками, но их разделяла пропасть. Флориан Гейер был противником замыслов Гиплера в убеждении, что нельзя вливать новое вино в старые мехи. Если крестьяне достаточно сильны, чтобы перестроить государство и создать общежитие свободных и равных людей, то почему бы теперь же не уничтожить сословия и не отменить привилегии знати? Он был уверен, что принятым сейчас решением крестьянскому делу будет нанесен тяжелый удар. Но он не поддался чувству обиды: общее дело было для него неизмеримо выше собственного «я».
— Нет, господин фон Берлихинген, — сказал он, — именно теперь вы не должны отстраняться, предоставив событиям идти своим путем. Напротив, теперь мы должны удвоить наши усилия, чтобы победа не досталась дьяволу.
Гец покачал головой и отвернулся. Он не понимал, как может человек, у которого крестьяне сожгли замок и которому они только что доказали свою близорукость, оставаться верным их делу. Он уже направился к выходу, как вдруг услышал голос Флориана Гейера. Он остановился и стал прислушиваться. Флориан продолжал уговаривать военачальников и членов совета. Если они решили брать Мариенберг, то пусть поищут средств покрепче тех, что имеются в их распоряжении. В противном случае принятое решение обернется против их самих. Комитет выборных города Ротенбурга обязался перед крестьянами в Гальтенбергштеттене всемерно помогать им. Теперь приспело время, когда город должен сдержать свое обещание и снабдить их тяжелыми пушками, порохом и ядрами.
Его слова были встречены всеобщим одобрением.
— Только не переводите зря бумагу, — заметил Леонгард Мецлер. — Одна бумажка потянет за собой другую. Я ведь знаю ротенбуржцев. Если вы хотите что-нибудь от них получить, приставьте им нож к горлу.
— Ладно, мы пошлем людей, — сказал Кель. — Но прежде всего покончим с ответом приору. Мы ему напишем коротко и ясно: сдавай замок.
Гец вызвался составить письмо, и его предложение было с готовностью принято.
Перед вечером граф Георг фон Вертгейм с Гецом и двумя гохбергскими дворянами выехали как парламентеры. Не доезжая замка, граф сошел с коня, подошел к палисаду и громко крикнул, что хочет говорить с господами из Мариенберга. На его призыв вышли сам приор Фридрих Бранденбургский, Себастиан фон Ротенган, граф Вольф фон Кастель, брат епископа Евстафий фон Тюнген и Сильвестр фон Шаумбург. Рыцари и каноники высыпали на стены замка. Пока маркграф Фридрих, которому куда больше был бы под стать панцирь, чем поповская ряса, читал врученное ему письмо, его спутники допытывались у графа Вертгейма, как он дошел до того, что стал посланцем крестьян.
— Ничего не поделаешь, господа, я присягал на верность крестьянам и теперь я ваш враг.
Раздался смех.
— Но мы не получали объявления войны.
— Постой, постой! — закричал шурин графа, Вольф фон Кастель, держась за живот от хохота. — Как же так, я женат на твоей сестре, а ты хочешь воевать со мной? Ведь это ни с чем не сообразно.
Господа были в отличном расположении духа. Они получили от епископа Конрада весьма утешительные вести. Швабский союз сообщал о том, что крестьянское восстание в Верхней Швабии частью подавлено, частью ликвидировано мирным путем, и что Трухзес, как только расправится с вюртембержцами, не замедлит прийти на помощь Пфальцу, Майнцу и Вюрцбургу. Пусть они лишь постараются выиграть время, затягивая переговоры с крестьянами. Таковы были новости, полученные ими от епископа из Гейдельберга. Георгу фон Вертгейму стоило большого труда убедить господ, чтобы они поумерили свою веселость.
— Нет, господа, — заверил он их, — подобно Геннебергу и многим другим, я со своими ленниками вступил в евангелический союз, отдавая себе полный отчет в важности этого шага. Мой отряд, отлично вооруженный, входит в состав крестьянских сил с отборными пушками и добрым запасом пороха и ядер. Советую вам сдать замок, а я постараюсь выговорить для вас сохранение жизни и имущества. Крестьяне злы, как черти, и это их последнее слово.
На эти слова приор Фридрих ответил:
— Мы связали себя торжественной клятвой защищать замок до последнего издыхания. И мы ее сдержим. — И, вспомнив о замечании, брошенном деканом Гуттенбергом в зале капитула, он, как бы размышляя вслух, продолжал: — Тем не менее мы не постояли бы за любой суммой, лишь бы успокоить крестьян и убедить их снять осаду.
— Деньги? При чем тут деньги? — в недоумении воскликнул граф фон Вертгейм.
Фридрих Бранденбургский только кивнул головой и продолжал вполголоса, в то время как его спутники окружили графа:
— Свет и золото проникают в любую щель. Вы вступили в Оденвальдское ополчение? Что ж, и его преосвященство епископ Конрад тоже не прочь вступить в евангелический союз и принять декларацию «Двенадцати статей» впредь до всеобщего преобразования государства. Я же, со своей стороны, обязуюсь уплатить предводителям вашего союза три тысячи гульденов, а каждому из солдат полумесячное жалованье, если вы согласитесь взять епископа, меня и весь наш гарнизон под свою защиту от всех врагов как в Гейдингсфельде, так и повсюду. Конечно, в том случае, если наше первоначальное предложение будет вами отвергнуто. Если вам угодно, граф, мы можем изложить свои условия в письменной форме.
— Гм, — промычал граф после короткой паузы. — Это другое дело. На таких основаниях, я полагаю, можно будет договориться. — И, обменявшись многозначительной улыбкой с приором, он закончил: — Было бы не плохо иметь это черным по белому.
Фридрих Бранденбургский пригласил его для составления документа в замок, но граф отказался, заметив, что это может возбудить подозрения. Уж лучше он подождет во дворе. Пока в канцелярии епископа его личный секретарь изготовлял соглашение, оставшиеся во дворе вели себя с графом как добрые друзья: они показывали ему укрепления, и Себастиан фон Ротенган сам продемонстрировал произведенные им фортификационные работы: засеку с восточной стороны замка, устроенную на месте лужайки для игры в мяч, и новую батарею, очень выгодно расположенную на Шютте. Теперь их пушки с большим успехом могут обстреливать город. Сильвестр фон Шаумбург, самодовольно ухмыляясь, заявил, что, когда он недавно был в Вюрцбурге, он сам приглашал крестьян пожаловать к ним в замок.
— Хоть зубы у них и крепкие, но об такую корочку они их обломают, — прибавил он, захихикав.
— Говорят, они поставили у себя в городе три виселицы, — прогнусавил зять графа фон Вертгейма, — но вешать никого не вешают. Зато как только кончится этот крестьянский балаган, — а это уже не за горами, — мы их всех перевешаем, так что деревьев не хватит.
— Твои бы речи да богу в уши, — сказал фон Вертгейм, с сомнением покачав головой. — Вот и нюрнбержцы никого не повесили, а жаль, могли бы. Зря миндальничают. Только, клянусь святым Георгием, моим покровителем, виселица — слишком легкая для них смерть!
— Они сожгли дотла мой Штальбергский замок, а также Кастель, куда бежала моя жена с детьми! — воскликнул мрачный, как туча, граф Вольф.
— Знаю и сочувствую, — прервал его зять, но граф продолжал:
— Дай срок, узнают они на собственной шкуре, как приятно, когда тебя поджаривают заживо.
Шутливого настроения как не бывало. Все помрачнели и умолкли. Тут появился приор с грамотой, и граф фон Вертгейм со своими спутниками поскакал назад в Гохберг.
В трапезном зале, стены которого мейстер Грюневальд украсил эпизодами из свадьбы в Кане Галлилейской и другими библейскими сценами, шел пир горой. Маркграф Фридрих приказал епископскому гофмейстеру фон Ротенгану, чтобы вино лилось рекой. Нужно было надлежащим образом полить семена раздора, посеянные среди крестьянских войск, и вспрыснуть радостные известия из Гейдельберга. За длинными столами восседала пестрая компания рыцарей и каноников вперемежку, стараясь перещеголять друг друга в возлияниях Бахусу.
Стражи вертограда господня не отставали в этом деле от доблестного рыцарства. Но даже самые усердные служители Бахуса, вроде каноников Ганса фон Лихтенштейна, Мартина фон Визентау и Вейпрехта фон Грумбаха, не в состоянии были оспаривать пальму первенства у Бешеного Цейзольфа фон Розенберга. Рыжий Цейзольф и юнкер фон Финстерлор, не будучи вассалами епископа, присоединились к мариенбергскому гарнизону, горя нетерпением рассчитаться с крестьянами, которым они в Гальтенбергштеттене дали присягу соблюдать мир. В то время как первый изумлял всю честную компанию своим уменьем поглощать напитки, сальные шутки Филиппа фон Финстерлора вызывали взрывы хохота, похожего на лошадиное ржанье.
Лишь один из гостей сидел неподвижно, не разжимая губ и почти не прикасаясь к кубку. Этот человек с изможденным лицом и большими задумчивыми глазами, в белой сутане францисканского монаха, был знаменитый пушкарный мастер, слывший чернокнижником во всей Франконии. Впрочем, и двоюродные братья каноника Грумбаха из замка Римпар принимали лишь умеренное участие в возлияниях. В Мариенберге они находились в силу своего вассального долга. А между тем, будь они посильней и не теплись в груди Вильгельма фон Грумбаха надежда добиться руки Адельгунды фон Тюнген, они охотно последовали бы примеру графа фон Геннеберга. Правда, фрейлейн Адельгунда отнюдь не блистала красотой, но она была кузиной епископа. А Вильгельм фон Грумбах, щедро награжденный природой, мог пленять женщин. Стройный, широкий в плечах и узкий в бедрах, он походил и лицом, и белокурыми, с рыжеватым отливом, волосами на свою сестру Барбару фон Гейерсберг. В его синих глазах был стальной блеск, и когда он устремлял их на сидевшего рядом с Розенбергом Адама фон Тюнгена, взгляд его сверкал из-под густых ресниц, как острие кинжала. При этом лицо его с верхней губой, слегка затененной первым пушком, оставалось повернутым в почтительном внимании к соседу, а приоткрытые губы позволяли видеть ослепительно белые зубы, крепкие и острые, как у волка.
В семейной обстановке Фрауенбергского замка он с каждым днем все больше и больше убеждался, что надежда породниться с Адамом фон Тюнгеном уплывает от него. Вихрь развлечений во время карнавала на несколько дней усыпил высокомерие — основную черту в характере брата Адельгунды. Но теперь оно проснулось и заговорило в нем с удвоенной силой, и он дал понять Вильгельму фон Грумбаху, что он смотрит на него лишь как на младшего брата одного из незначительных вассалов своего кузена — епископа. А после того как Вильгельм явно затмил его своей ловкостью и сноровкой в стрельбе из арбалета, в метании дротика и других рыцарских забавах, скрашивавших монотонную жизнь замка, Адам стал относиться к нему с подчеркнутой холодностью. Вильгельм фон Грумбах наблюдал эту перемену со скрежетом зубовным. Его старший брат Ганс, молчаливый от природы, привыкший дома в любую погоду скакать вслед за сворой по полям, тяготился вынужденным бездельем в Мариенберге. Вдруг Ганс оторвался от созерцания золотистой влаги в своем кубке и прислушался. Его чуткое ухо охотника уловило среди пьяного шума слова: «…они вершат дьявольское дело, особенно же их архисатана, который, воцарившись в Мюльгаузене, сеет разбой, кровопролитие, смерть, ибо он, как сказал Иисус (Евангелие от Иоанна, 8), был человекоубийца от начала».
— О ком это? — спросил Ганс фон Грумбах соседа, Матерна фон Вестенберга, который, разомлев от жары, расстегнул камзол.
— Об этом чудовище, Томасе Мюнцере, — прохрипел тот. — Но слушайте, слушайте!
Декан Гуттенберг, поднявшись из-за стола, продолжал читать вслух. Это было яростное послание Лютера, направленное против крестьян. В зале постепенно водворилась тишина. Даже те, кто знал это письмо, напряженно прислушивались. Но не успел декан произнести слова: «Такие диковинные времена настали, что князю стало легче уготовить себе царствие небесное кровопролитием, чем простым людям — молитвами…» — как каноник фон Визентау прервал его заплетающимся языком:
— Молитвами? Что? Ведь он сам, проклятый еретик, заварил эту кашу!
— Мы будем колоть, вешать, рубить так, что чертям тошно станет! — крикнул граф фон Кастель, — и не его собачье дело нам указывать!
— Послушайте, друзья, какую награду сулит нам этот клятвопреступный монах, — надсаживаясь, старался декан перекричать всех и прочитал заключительные слова послания: «И если кто погибнет на этой стезе, честь и хвала ему: ибо нигде не найти ему более блаженной смерти. Ибо ты умрешь, повинуясь слову и велению божьему, служа человеколюбию, спасая ближних своих от адского огня и от оков диавола».
— Готов прозакладывать голову, что этот зловонный еретик норовит прикрыться бумажкой, чтобы Швабский союз не вытащил его за уши как главного зачинщика бунта, — изрек Каспар фон Рейнштейн.
— Нет, он не трус, — вступился за Лютера декан Фридрих. — Он просто старается использовать всех, кто ему может быть полезен. Сначала Зиккингена и Гуттена, потом крестьян, а после того, как саксонский курфюрст Фридрих приказал долго жить, и нас, многогрешных.
— Ведь он-то и есть глава всех еретиков! — ядовито вставил брат епископа, Евстафий фон Тюнген.
— Он норовит нашими руками жар загребать. Чтобы мы для него провели Реформацию. Нам — труды, ему — честь, — прибавил приор.
— Поп всегда остается попом, — со свойственной ему бесцеремонностью воскликнул юнкер Цейзольф. — Пусть его берет себе кости, а нам — мясо.
— Счастливой охоты! — поддакнул его дружок.
— К черту заячью травлю, я чую зверя покрупнее! — с презрительной гримасой воскликнул Вольф фон Кастель.
— На коноводов, ату их, ату! — крикнул Адам фон Тюнген.
— Особенно на тех, кто стал позором своего рода и нашего сословия! — добавил граф фон Кастель.
А Адам фон Тюнген, смерив вызывающим взором Вильгельма фон Грумбаха, крикнул:
— Самую высокую виселицу — Флориану Гейеру!
— Ату его, ату! — закричали все хором, а Филипп фон Финстерлор завыл, как добрая свора собак.
— Эй, вы! Вам, видно, хмель бросился в голову! — заревел Ганс фон Грумбах, побагровев от вина и ярости и швырнув свой кубок на пол, раздавил его каблуком.
Его младший брат не проронил ни звука в защиту шурина. Среди пьяного разгула он сидел неподвижно, как окаменелый, и в ответ на свирепые взгляды Адама только улыбался, обнажая волчьи зубы, но его тонкие пальцы сжимали рукоять меча.
Вдруг кто-то крикнул: «Послушайте, что это — гром?»
Должно быть, у францисканца слух был тоньше, чем у других: он первый выбежал из зала, а остальные поспешили к окнам. Но на небе не было ни облачка, и все вернулись к своим кубкам. Бешеный Цейзольф вызвал Адама фон Тюнгена на поединок, поставив перед ним полуведерный жбан.
Состязание было в самом разгаре, другие тоже приняли горячее участие. Кто бился об заклад, кто сражался таким же оружием, когда в зал вернулся францисканец.
— А вот и молния, — сухо сказал он, положив на стол перед приором чугунное ядро. — Она вылетела из жерла кулеврины на Класберге и разбила несколько черепиц, только и всего.
— Да поразит господь громом небесным нечестивых бунтовщиков! — пролепетал каноник фон Лихтенштейн и, уронив на грудь отяжелевшую от вина голову, громко захрапел.
Рыцари и каноники с любопытством рассматривали ядро, взвешивая его на ладони. Сильвестр фон Шаумбург, подбросив его и поймав на лету, воскликнул:
— И такими детскими мячиками они хотят разрушить замок!
Этот выстрел, как и размещение самой батареи, были делом рук Симона Нейфера. Это была первая проба. На Николаусберге Флориан Гейер до наступления темноты обучал стрельбе из пушек отборных молодцов из Черной рати. Времени у них было в обрез. Еще утром решено было послать Гейера в Ротенбург, чтобы закрепить вступление города в евангелический союз и потребовать у ротенбуржцев пушек и боевых припасов. Вторым послом был избран оксенфуртский старшина Ганс Пецольд. Послов сопровождали отец Деннер в качестве секретаря, Большой Лингарт и Себастиан Рааб — каменотес из Гебзателя. Все они были против осады Мариенберга. Таким образом, предводители крестьянских отрядов и члены военного совета не ошиблись в выборе послов, если только ими действительно руководила забота о скорейшем выполнении поручения.
Над широкой гладью Майна еще клубился утренний туман, заволакивая молодую зелень прибрежных виноградников, когда посланцы выехали из Гейдингсфельда и направили своих коней вверх по отлогому склону плато. Справа от них шумело безбрежное зеленое море — Гуттенбергский лес, через который вела дорога из Вюрцбурга в Лауда на Таубере. Озимые на плоскогорье взошли на славу, но яровые имели довольно жалкий вид. Поля возделывались плохо, с большим опозданием. Всюду не хватало рабочих рук; плуги были перекованы на мечи. Кое-где упущенное старались наверстать прибывшие в отпуск ратники. Когда солнце заиграло на верхушках деревьев, перед всадниками открылась деревня Гибельштадт. Замок Цобелей был цел и невредим. Фриц Цобель не зевал и запасся охранной грамотой от Якоба Келя. Деревенская улица, по которой они ехали, словно вымерла. Всадники хранили молчание.
Вдруг Флориан Гейер осадил своего вороного коня. Его суровый взгляд устремился туда, где прошло его детство, где он провел счастливые годы с любимой женой. Перед ним были одни развалины. Почерневшие от дыма, полуразрушенные башни стояли без крыш. От господского дома осталось лишь несколько обуглившихся стропил, торчавших над развалинами в ярком солнечном свете. Одно полотнище ворот валялось на земле, другое еще висело на одной петле. Щит с гербом Гейеров над аркой ворот был изуродован пулями и ударами алебард, и сквозь дыру в нем видна была груда развалин.
Спутники Флориана Гейера тоже придержали коней, молча, с участием поглядывая на него. Священник Деннер попытался утешить его, напомнив ему слова пророка Илии, обращенные к Иову: «Слушай, брат, блажен тот, кого наказует бог, а потому не противься наказанию всемогущего. Он наносит раны, но рука его исцеляет. Он спасет тебя от шести несчастий и в седьмом горе не коснется тебя».
Флориан медленно повернулся к нему и ответил:
— Напрасно ты утешаешь меня, брат. Я не ропщу. Мой замок должен был пасть, как и все замки, для того чтобы крестьянин мог высоко поднять голову и спокойно пожинать плоды своего труда. Развалины замков будут напоминать ему о свергнутом рабстве и будут внушать его потомкам, что если тираны снова посмеют придавить их своей пятой, то они должны взяться за оружие и бороться, как боремся мы.
Он пустил коня крупной рысью. Остальные последовали его примеру, и скоро вся кавалькада скрылась в густом облаке пыли.
Глава третья
На главной Рыночной площади в Ротенбурге собралась огромная толпа крестьян и горожан. Изо всех окон торчали головы любопытных. Это было утром в четвертое воскресенье после пасхи. Разодетые по-праздничному горожане, особенно же их жены и дочери, теснились в открытых окнах. Настроение было праздничное, и больше всего смеха и крепких шуток раздавалось из густой толпы подмастерьев; особенно выделялся громкий голос Каспара Эрлиха. Все с нетерпением ожидали процессию. Депутация Франконского войска, накануне вручившая магистрату свои верительные грамоты и «Двенадцать статей», должна была явиться за ответом на свои требования и предстать перед отцами города и комитетом выборных. Магистрат прислал Флориану Гейеру и старшине Пецольду в скромную гостиницу на Вюрцбургской улице, где они жили и ели за счет города, почетные дары: каждому по церковной ризе из тяжелого бархата и по серебряному распятию. По всем окрестным деревням были разосланы магистратские гонцы с приглашением общинным советам прислать в Ротенбург к этому воскресенью своих делегатов. Утром послы были в соборе св. Иакова и слушали проповедь доктора Дейчлина.
Самые хлесткие шуточки, которыми Каспар Эчлих забавлял своих друзей, приходились на долю Габриэлы Нейрейтер и Сабины фон Муслор, красовавшихся в окне дома Конрада Эбергарда. Сабина следила за сутолокой на площади не так безучастно, как обычно. Ее свадьба с фон Адельсгеймом из-за смутного времени все откладывалась, и она покорно сносила насмешки подруги, которая уверяла ее, что эта отсрочка так же радует ее, как в былые времена, когда они вместе воспитывались в монастыре, ее радовали летние каникулы.
— А вот и рыцарь фон Менцинген, — заметила Сабина. — С каким достоинством он выступает и отвечает на приветствия.
Капризно изогнутые алые губки прекрасной Габриэлы скривились в презрительную гримасу. Ее ненависть ко всему, что носило имя Менцингена, еще усилилась с тех пор, как представители комитета своим заступничеством спасли Бешеного Цейзольфа от гнева крестьян. Эразм фон Муслор и ее опекун, разделяя всем сердцем эту ненависть, охотно прислушивались к советам, рождавшимся в ее умной головке. Ибо если страсть помрачает разум мужчины, то она обостряет рассудок женщины.
Стоявший за спиной девушек Конрад Эбергард высунулся из окна и, глядя вслед Менцингену, произнес:
— Ни дать ни взять народный трибун. Я слышал, что сразу же по прибытии крестьянских послов он отправился к ним в гостиницу и долго там совещался. Теперь магистрату придется отведать кислого яблочка! Несмотря на все наши старания, помощи ждать нам неоткуда: ни Нюрнберг, ни маркграф, ни Швабский союз нам не помогут.
— И ни сам магистрат, с этого надо было начинать! — пренебрежительно закончила Габриэла, наморщив свой тонкий, с легкой горбинкой носик. — О да, досточтимые господа совещались и в ратуше, и в питейном зале, не щадя сил; выносили с утра до ночи постановления, да только ни одного не осуществили.
— Но ведь они невыполнимы, — пояснил бывший второй бургомистр.
— Так ли? — возразила его питомица. — Когда на прошлой неделе к нам заявилась эта дикая орда тауберских крестьян, а потом и вторая подошла к Госпитальным воротам, хватило же ума у магистрата спровадить из города и тех и других? Сумел же он призвать горожан к оружию для предупреждения беспорядков и объявить достоянием города все имущество монастырей и духовенства, чтобы спасти добро от разгрома и расхищения?
— За что все последующие бургомистры должны будут воздать вечную благодарность Иоргу Берметеру, — закончил Конрад Эбергард.
— Так почему же магистрат не проявил тогда же своей власти, не схватил зачинщиков и не бросил их всех в тюрьму? Почему вы не отважились на это? Ведь риск был не так уж велик? Все, кому есть что терять, от страха перед крестьянами жмутся под защиту магистрата, как цыплята под крылышко наседки, когда почуют приближение коршуна.
— Совершенно справедливо, — подтвердил с ехидной усмешкой ее опекун. — Но Менцингену не удастся сыграть на страхе перед крестьянами. Не сбросят же они магистрат из-за прекрасных глаз Менцингена, если их требования будут удовлетворены.
— Союз с крестьянами? Да ведь это — венец позора! — воскликнула прекрасная Габриэла, вся вспыхнув.
— Союзы заключаются лишь для того, чтобы быть расторгнутыми, — прошептал Конрад Эбергард и добавил вслух: — Но что, кроме честолюбия, могло побудить Гейера фон Гейерсберга стать на сторону крестьян, — не могу себе представить. Не верю я в прочность их союза, особенно же после того, как та самая орда, что посетила нас, на обратном пути в Вюрцбург разрушила, как я слышал, его Гибельштадтский замок.
— Какой позор! — простонала Сабина, а Габриэла желчно рассмеялась.
Мелодичный перезвон с колокольни собора св. Иакова слился с ее смехом. Толпа устремилась на площадь, и вскоре между питейной и ратушей показались крестьянские послы. Все они были в панцирях, с мечом на боку и в сверкающих в утреннем солнце шлемах. Даже лейценбронский священник Деннер надел панцирь поверх рясы; у Пецольда же на груди красовалась золотая цепь оксенфуртского старшины. Ликующие возгласы толпы приветствовали их на всем пути до ратуши. Многие пожимали руку Деннеру и Большому Лингарту, популярным в городе. Но из окон патрицианских домов послов не встречали ни радостными криками, ни развевающимися платками, ни цветами. Они шли грубовато-простые, с серьезными, строгими лицами. Напряженные взгляды любопытных, в том числе Сабины и ее подруги, были устремлены главным образом на Флориана Гейера. Сабина, сама того не замечая, все больше и больше высовывалась из окна, и ее голубые глаза загорелись. Зато лицо прекрасной Габриэлы становилось все мрачней.
— Какой красавец! — томно прошептала Сабина, и, когда тот, кем она так восхищалась, исчез под аркой ратуши, с ее полураскрытых губ сорвался вздох. Она посмотрела на подругу и была поражена ее нахмуренным лицом, ее неподвижно устремленными вдаль глазами.
— Ах, как ты можешь, Габриэла! — с упреком воскликнула она.
— Как могу? Вот оно что! Ты сдалась на милость победителя и готова пасть к его ногам? — с резким смехом отпарировала Габриэла и откинулась на спинку кресла.
— Нет, я не знаю никого, кто мог бы сравниться с ним, — отвечала Сабина, слегка зардевшись. — Он должен нравиться любой девушке. Какое гордое, мужественное лицо. Сколько благородства! — И она мечтательно закрыла глаза, не замечая направленного на нее угрожающего взгляда Габриэлы.
— А ты уже влюбилась в него по уши, — холодно заметила Габриэла.
Между тем крестьянские послы вошли в большой продолговатый зал, где три недели тому назад приносили присягу вновь избранные члены магистрата. Ратсгеры и члены комитета были уже на своих местах. На советниках были длинные черные мантии и плоские черные береты. Георг Берметер, как бургомистр, занял место на возвышении. Но обе его стороны, чуть пониже, на скамьях шеффенов, расположились все тринадцать членов внутреннего совета. За каменным барьером на дубовых скамьях вдоль стен восседали: справа — члены внешнего совета, слева — члены комитета. Для послов были приготовлены перед барьером кресла с высокими спинками.
Флориан Гейер с рыцарской учтивостью приветствовал собрание и заговорил о значении заключаемого союза. Его простая, ясная речь была серьезна и убедительна.
— Как друзья и любящие братья христиане, — так начал он, — соединяемся мы в союз, чтобы слово божие, святое евангелие проповедовалось свободно, правильно и ясно, без всяких прибавлений и вымыслов. Нельзя долее терпеть, чтобы враги простого народа утаивали от него истинное учение евангельское: оно должно стать всеобщим достоянием. Вы сами хорошо знаете, что с незапамятных времен бедный люд обременен непосильными, несправедливыми тяготами, барщиной, оброками и повинностями. И для того, чтобы бедняк мог добывать свой хлеб насущный и не был бы вынужден просить милостыню, наше братство требует, чтобы до окончательного преобразования государства были немедленно отменены все эти тяготы. Никто не должен платить ни податей, ни оброков, ни арендной платы, ни десятин, ни пошлин, ни посмертных, ни других поборов до преобразования государства на основании евангелия. Все, что отвергает евангелие, должно быть отвергнуто; все, что признает — признано. Так давайте же основательно все обсудим, чтобы как можно скорей довести дело до конца.
В зале поднялся шум. Со скамей комитета раздались возгласы одобрения, со скамей же магистрата — ропот, возражения. Флориан Гейер объяснил, что в намерения крестьян ни в коем случае не входит уничтожить все лежащие на народе повинности. В каждом городе магистрат, комитет выборных и община должны совместно обсудить, что необходимо для поддержания существования города, и установить размер налогов. Не следует также отрешать от должности тех официальных лиц, которые назначены по воле общины. Напротив того, нужно укрепить порядок и повиновение, и всякий, нарушающий его и призывающий к мятежу, по рассмотрении дела предводителями Светлой рати, будет подвергнут тяжкому наказанию. Но если вся община восстанет против своего магистрата, то союзное крестьянство не преминет оказать ей свою поддержку.
— Нельзя допустить, — заключил он, — расхищения имущества духовенства. Нужно передать его в ведение комитета из честных людей, которые должны употребить его на благо всей общины, под контролем магистрата. Но не следует забывать, что и духовные лица — тоже христиане. Поэтому неправедно поступают те, кто оскорбляет их словами или действиями. Нельзя обрекать их на нищету; необходимо обеспечить им пропитание.
Бургомистр и ратсгеры оказались в затруднительном положении. Никто из них не имел профессии, и все они жили доходами со своей собственности. На какие же средства существовать, если налоги, подати и десятины будут отменены? Они сознавали, что помешать соглашению с франконским крестьянством они не в силах. Но как бы то ни было, этот союз сулил им одну несомненную выгоду: он не даст Менцингену и его партии сбросить магистрат. Так заявил сам Флориан Гейер. А перед Швабским союзом, членом которого является город, они смогут оправдаться тем, что уступили насилию.
Старшина Пецольд пришел им на подмогу.
— Посольство не имеет права соглашаться, — заявил он, — ни на какое изменение статьи об отмене десятин и податей. Но не следует придавать этой статье решающее значение. Можно предполагать, что этот вопрос в ближайшее время будет разрешен в имперском масштабе. Не для того мы подняли восстание, чтобы избавиться от всяких налогов и повинностей, а для того, чтобы установить в этом деле справедливость. Отменить всякие повинности было бы не по-христиански. Мы предлагаем вам избрать трех-четырех представителей, с тем чтобы они заседали в нашем совете с правом решающего голоса. Это будет на пользу дела. В случае если война затянется, военачальникам вместе с советом придется изыскивать средства. Другие городские общины и владетельные господа приняли наши условия, хотя это и было им не легко. Если мы по собственному произволу что-нибудь изменим в условиях, по возвращении в лагерь нам не сносить головы.
В заключение он утешил ратсгеров тем, что им не придется иметь дело с Оденвальдским и Неккартальским ополчением, которое после вейнсбергской резни внушало им не меньший ужас, чем самим франконцам.
Тогда бургомистр и ратсгеры скроил сердце проголосовали вместе с комитетом и приняли условия крестьян. Они также пообещали дать две бомбарды и к ним — боевые припасы, как того требовали послы. Затем Флориан Гейер предложил назначить день, когда магистрат, комитет и община принесут присягу на вступление в крестьянский союз, а послы, в свою очередь, дадут от имени крестьян торжественную клятву на верность городу. Для этого было назначено следующее утро.
Выборы представителей от города вызвали некоторую заминку. Из страха оказаться козлом отпущения, в случае если дело крестьян потерпит неудачу, никто не соглашался быть избранным. Один отговаривался тем, что у него жена на сносях, другой — тем, что он холостяк и потому не пригоден для столь важной миссии. Приверженцы старой дворянской партии заявили напрямик: пусть лучше их бросят в самое глубокое подземелье, чем заседать с крестьянами. Стефан фон Менцинген отвел свою кандидатуру, подозревая, что под предлогом избрания его просто хотят удалить из города, но высказать это подозрение вслух он, конечно, поостерегся. Только почетный бургомистр, Эренфрид Кумпф, неизменно радеющий о благе родного города, согласился, хотя его жена действительно была на сносях. Он лишь потребовал, чтобы ему дали спутника, и магистрат выделил для этой цели молодого Шпельта. После избрания представителей миссия совещания была окончена.
Тогда Георг Берметер приказал впустить в зал делегатов сельских общин, уже давно ожидавших в сенях. Все они были люди пожилые, даже большей частью старые. Среди них был Вендель Гайм из Оренбаха и Иорг Бухвальдер из Оттенгофена. Молодежь ушла под знамена. Флориан Гейер, поднявшись на скамью, обратился к делегатам крестьян с такой же речью, как и к горожанам, но говорил еще проще и убедительней. Он разъяснил им значение союза с городом, раскрыл смысл отдельных статей соглашения и призвал беспрекословно подчиняться всему, что решит магистрат вместе с общинами во имя мира, справедливости и всеобщего блага. Он посоветовал избрать во всех деревнях и селах ответственных за поддержание порядка людей и вменить им в обязанность зорко следить за тем, чтобы полям, лугам, выгонам и лесам не причинялось никакого ущерба.
Крестьяне с напряженным вниманием слушали его, но по их неподвижно устремленным на говорившего глазам трудно было определить, как подействовала на них его речь. Они продолжали молчать и после того, как Флориан кончил и сошел со скамьи. Лишь когда бургомистр предложил им высказать свое мнение, если у них есть что сказать, все глаза, точно по уговору, устремились на Иорга Бухвальдера, старейшего из них. Тот откашлялся, степенно провел рукой по седым волосам и, стараясь выпрямить сутулую спину, произнес:
— Досточтимые, милостивые и любезные господа! Оно конечно, союз с франконскими братьями дело хорошее. И мы надеемся, что ни они, ни наши собственные сыновья и братья, восставшие против нестерпимого гнета нужды, не сложат оружия до тех пор, пока наш спор с господами не будет улажен по чести и справедливости.
Крестьяне закивали головами, и Георг Берметер распустил их, предложив выставить к следующему утру в Гаттенгофене, на Вюрцбургской дороге, пятьсот — шестьсот человек в полном вооружении, чтобы сопровождать выданные городом бомбарды.
Крестьяне удалились, шагая так же осторожно и неловко через зал, как и пришли. Себастиан Рааб и Большой Лингарт последовали за ними, чтобы пожать руку своим городским знакомым. Перед ратушей они повстречались с Бухвальдером и Венделем Гаймом, которого поджидал Каспар Эчлих. К ним подошел Ганс Кретцер и предложил всей честной компании зайти промочить горло к нему в трактир «Красный петух». Но крестьяне отказались: им нужно было торопиться, чтобы позаботиться о конвое для бомбард. Каспар, которого Лингарт тянул за руку так, что чуть не вывихнул ему плечо, насторожился. Ему хотелось пойти с Гаймом в Оренбах, и он тоже отказался от приглашения трактирщика.
— Это ты зря, — вмешался Лингарт. — Такую худую поросль, как ты, нужно почаще поливать, а то ничего путного не получится.
Каспар прищурился, смерил его взглядом с головы до ног и шутливо бросил:
— Глядя на тебя, нельзя сказать, чтобы это помогало.
— Ну, брат, и зубастая же у тебя пасть, господи прости! — расхохотался бывший ландскнехт и, схватив его за руку, потащил за собой. Но Каспар продолжал вырываться, и тот отпустил его, крикнув ему с хитрым подмигиванием: — Ну и парень! Весь горит, а заливать не хочет!.. Ну ладно, кланяйся домашним от Симона да скажи, что шкура у него цела, как будто он и не уходил из дому. А сестре его передай, что на этот раз Розенберг от нас не уйдет. Мы его крепко-накрепко держим в Мариенберге.
— Да только Мариенберг пока держат другие! — насмешливо бросил Каспар и пошел догонять Венделя Гайма, но на бегу обернулся и крикнул: — Я еще повидаюсь с тобой до твоего отъезда.
Огонь действительно еще не погас в сердце Каспара, но он сам был этому не рад. Сколько раз он ни ходил по воскресеньям в Оренбах, ему не удавалось уловить в отношении к себе его хорошенькой двоюродной сестры ни следа чего-либо большего, чем родственное расположение. Она радовалась его приходу не меньше, чем старик Нейфер, ее невестка или ребятишки. Он всегда был весел, стараясь скрыть свою неразделенную любовь. В конце концов он начал думать, что это безумие постоянно бегать в Оренбах, где его ждали одни страдания. Нет, надо поставить точку, тем более что теперь Кэте уже не нуждается в его защите: ее брат Андреас вернулся в свой приход и время от времени наезжает в Оренбах читать проповеди. А в крайнем случае Конц Гарт окажется у нее под рукой скорей, чем он сам. После ухода ротенбургского ополчения Конц Гарт остался в Оренбахе, и Кэте взяла его в работники. С такими помощниками, как он и Фридель, хозяйство под ее твердым и неустанным руководством шло так, как будто ее брат и не думал уезжать из дому. О своей безопасности ей уже давно не приходилось заботиться. Кругом пылал огонь восстания, и эндзейский шультгейс фон Верницер не осмеливался арестовать Кэте, чтобы не навлечь на магистрат еще худшей беды. По той же причине и в деле его преподобия отца Бокеля он ограничился безрезультатным обращением к прихожанам, советуя принять обратно изгнанника. «Хорошо еще, что его только выгнали, ведь могло быть и хуже», — мысленно утешал себя шультгейс. Ему и в голову не приходило, что и ему самому придется разделить участь священника.
Когда Каспар, шагая рядом с сельским старостой, поднял глаза на Эндзейский замок, всегда так гордо красовавшийся на горизонте, он увидел на фоне леса лишь черные, обгоревшие развалины. Молодцы из Тауберского ополчения, выйдя из Ротенбурга, напали на замок и смели его с лица земли, как потом поступили и с Гибельштадтским. Верницеру удалось бежать в Ротенбург, где незадолго до того по его ходатайству отцу Бокелю была предоставлена освободившаяся должность настоятеля в часовне пречистой девы на Площади Капеллы. Обязанности его преподобия сводились к ежедневному служению ранней обедни горсточке пилигримов и нищих, которые получали в примыкавшем к часовне странноприимном доме трехдневный бесплатный приют, топливо, свечи и соль. Аполлония же уехала к своему ребенку в Рейхардсроде.
Пока Каспар вместе с Венделем Гаймом шел в Оренбах, у него созрело твердое решение: хватит с него мучений. На ходу передав привет от Симона старику Нейферу, сидевшему с соседями на скамье под липой, он предоставил Венделю Гайму подробно рассказывать сельчанам о союзе с Франконским ополчением, а сам направился в дом Нейфера. Игравшие на улице маленький Мартин с сестренкой, радостно смеясь, подбежали к нему. Он приласкал их, посадил девочку к себе на плечи, а малыша взял за руку и, болтая с детьми, перешел через двор и остановился на пороге.
— Бог в помощь, вот и я! — весело воскликнул он и, спустив на пол маленькую Урсулу, поздоровался с женой и сестрой Симона. По их лицам он понял, что застал их за грустными мыслями, которым они предавались в тиши воскресного дня. Глаза Кэте были затуманены и печальны; когда нельзя было найти забвение в работе, она все время думала о Гансе Лаутнере.
— Как хорошо, что ты пришел, Каспар. Ну как дела? — своим певучим голосом спросила хозяйка, сидевшая на лежанке. Лицо у нее осунулось и стало еще озабоченней, чем прежде.
— Дела хороши! — чересчур весело отвечал Каспар. — Симон велел кланяться, он цел и невредим.
Эта весть оживила обеих женщин.
— Слава тебе господи! — воскликнула Урсула, глубоко переведя дух, привлекла к себе детей и сказала, что отец кланяется им.
— Так он скоро приедет и привезет мне что-нибудь? — спросил мальчуган.
Кэте подозвала Каспара, посадила его рядом с собой на скамью у окошка и попросила рассказать обо всем подробно. Он повиновался и между прочим упомянул, что встретился в Ротенбурге с Большим Лингартом, приехавшим туда за пушками.
— Значит, война еще не кончена, — сказала, вздохнув, хозяйка.
— Ничего, скоро кончится, — утешил ее Каспар. — Теперь дело пойдет на лад. У наших будет большая сила.
— Ох, ох, — простонала опять Урсула, — а сколько жизней это еще будет стоить? Хотела бы я, чтобы вы, мужчины, хоть раз побыли в нашей шкуре. День-деньской только и думаешь, жив ли он еще? Есть ли еще у детей отец или уж нет его? Пора вам кончать эту драку. Ведь все равно толку не будет.
— Нет, будет! Обязательно будет! — заверил Каспар. — Теперь, когда доставим в Вюрцбург тяжелые пушки, сразу пропоем господам отходную. Да, кстати, Большой Лингарт рассказывал мне, что Розенберг тоже засел в Мариенберге. Так, признаться, и меня туда потянуло.
— Только из-за этого? — спросила Кэте, слегка пожав плечами.
— Не только из-за этого. Но здесь, как и в Ротенбурге, я никому не нужен.
— А об отце ты не думаешь? — с упреком заметила девушка.
— И ему я теперь не нужен. В военное время торговля идет не больно шибко, а что до нашего ремесла, то оно и вовсе замерло.
— Не верь ему, что он и впрямь хочет уйти на войну, — вмешалась Урсула. — Он нас вечно морочит.
— Нет, я не шучу, — уверял Каспар.
Кэте пристально посмотрела на него.
— Ты серьезно? — с расстановкой выговорила она. — Только это и гонит тебя отсюда?
Он не выдержал ее пытливого взгляда и отвернулся. На ее смуглых щеках проступила легкая краска, но она промолчала. Намекни она хоть единым словом, что его намерение огорчает ее, и он с радостью бы остался. Но он напрасно ждал. Между ее насупленными бровями залегла глубокая складка. Она прекрасно понимала, что гнало его отсюда, но не могла ответить на его чувство, и это огорчало ее.
— И то правда, чужая душа — потемки, — промолвила, покачав головой, Урсула и поднялась, чтобы позаботиться об ужине.
В комнату вошел Конц Гарт. Но это был уже не тот изможденный, истерзанный голодом и нуждой крестьянин, которого в начале года выбросили на улицу с женой и детьми. Он стал крепок и мускулист, только лицо его было мрачно. Пережитые страдания наложили свой неизгладимый отпечаток.
— Что скажешь, Конц? — спросила Кэте.
— Да вот какое дело, — сказал он, в замешательстве теребя шапку. — Староста назначил меня завтра вести пушки в Вюрцбург.
— Вот беда-то какая! — воскликнула Кэте. — А у нас уборка сена в самом разгаре. Но что поделаешь? Раз нужно, так нужно.
— Оно, правда, дело нужное, только уж очень не в пору, — сказал Конц, наморщив лоб.
— Ну, Кэте, если без Конца тебе трудно обойтись, — вмешался Каспар, — я знаю выход. Иди к старосте, Конц, и скажи ему, что я хочу тебя заменить и завтра вовремя буду на месте. Или, может быть, Кэте возьмет меня в работники на время сенокоса? — И он принужденно рассмеялся.
Но Кэте не смеялась. Она взяла Каспара за руку и крепко пожала ее.
— Так как ты все равно хочешь идти на войну, я принимаю твое предложение, — сказала она и добавила с теплым взглядом, в котором сквозило сочувствие. — Ты хороший парень, Каспар, и может быть… может быть, потом я сумею отблагодарить тебя лучше, чем сейчас.
— Так я иду к старосте, — сказал Конц и вышел из комнаты.
— Ну вот! Все уладилось, и все довольны! — воскликнул Каспар так радостно, как будто ему выпало на долю великое счастье.
Тем временем Флориан Гейер и Пецольд, оставив на постоялом дворе доспехи, отправились обедать к Стефану фон Менцингену. Священник Деннер извинился перед рыцарем и поскакал верхом к своим прихожанам в Лейценброн. Старый ректор Бессенмейер и Валентин Икельзамер тоже были в числе приглашенных. Хозяйка дома, радушно встретив гостей, удалилась. Мужчины остались одни. Хотя супруг ее и просил дорогих гостей не побрезговать чем бог послал, но в выборе и разнообразии кушаний и напитков чувствовался изощренный вкус большого гурмана. Впрочем, только ректор и сам хозяин отдали отменным яствам заслуженную дань. Флориан Гейер, как истый спартанец, приучил себя к лишениям, а Валентин Икельзамер, выросший в нужде, презирал утехи чревоугодия.
Зато оксенфуртский старшина с жадностью набросился на еду и напитки, не обнаруживая ни малейшего интереса к той словесной приправе, с которой хозяин, по обычаю всех гурманов, рекомендовал вниманию гостя то или иное блюдо. Его неукротимый аппетит вызывал улыбку сострадания на лице рыцаря.
— Собственно говоря, следовало бы остерегаться всякого, кто сидит за столом застегнутый на все пуговицы, — заметил фон Менцинген, — ибо чье жестокое сердце не смягчится, вкушая столь ароматный и сочный олений бок?
— Хорошо бы подвергнуть сему вкусовому испытанию кое-кого из магистрата, — вставил ректор.
— Как бы то ни было, необходимо неустанно разоблачать тайные происки предателей, — уже серьезно поддержал его фон Менцинген. — Еще позавчера вечером, когда я имел счастье впервые встретиться с братом Гейером фон Гейерсбергом, я обратил его внимание на то обстоятельство, что внутренний совет, стремясь дискредитировать в глазах сограждан вновь избранных членов внешнего совета из бюргерского сословия, возлагает на них непосильные обязанности, в которых они ничего не понимают и понимать не могут.
— Совершенно справедливо, — подтвердил ректор.
— На виселицу предателей! — крикнул Пецольд, стукнув кружкой об стол.
— Эти махинации городской знати, — заметил Валентин Икельзамер, — известны с давних пор, еще со времен древней Греции и Рима. Тех, от кого хотят избавиться, усылают из города с почетными поручениями.
— Но со мной у них это не вышло, — рассмеялся рыцарь фон Менцинген, самодовольно подкручивая кончики усов.
Флориан Гейер устремил на него пытливый взор и спросил:
— Так, стало быть, по-вашему, на верность Ротенбурга нашему союзу нельзя положиться?
— Ничуть не бывало! Я только хотел сказать, что, пока патрициат не будет окончательно устранен от кормила правления, Ротенбург не станет надежным оплотом свободы. Это мое искреннее убеждение.
— Вы правы, — согласился с ним Икельзамер. — В наше время возможны лишь демократические республики.
— Посему я считал бы необходимым, чтобы крестьянство еще более укрепило свое положение в городе, — продолжал фон Менцинген. — Однако почему же вы не пьете, господа? Ваши кубки все еще полны. Честное слово, разумней всего было бы заключить союз с одним из князей. Конечно, с таким, который внушает городу страх.
Ганс Пецольд от изумления выронил нож.
— Что? С князем? Да ведь мы решили с ними покончить!
— In politcis[124] имеет значение только сегодняшний день, — заявил фон Менцинген.
— Нет, уж это от лукавого! — вскипел старшина.
Флориан Гейер, пронизывая рыцаря Стефана взглядом, спросил:
— Вы имеете в виду маркграфа Казимира?
— А хоть бы и его? — отозвался тот, насторожившись.
— Нет, вы сами понимаете, это невозможно, — воскликнул Флориан Гейер, вспыхнув от возмущения. — Если даже допустить, что крестьяне когда-нибудь вступят в союз с одним из князей, то уж во всяком случае не с Казимиром: ведь он столь же вероломен, как и жесток. Можем ли мы рассчитывать на верность князя, который оказался предателем по отношению к родному отцу? Вся эта семейка погрязла в вероломстве. Брат его, Альбрехт, нарушил присягу, чтобы превратить Пруссию, владение Тевтонского ордена, в свое собственное герцогство. Да и Фридриху, засевшему в Мариенберге, можно доверять так же, как лисе. Вот Пецольд может вам подтвердить, а еще лучше — Грегор из Бургбернгейма с его двумя тысячами ансбахцев, стоящими под Вюрцбургом, что Казимир всегда вел с крестьянами двойную игру. Так будет и с нами. Когда мы были во Франконии и пламя уже подбиралось к нему, каким любящим отцом своих подданных, каким другом народа прикидывался он тогда! Какими льстивыми письмами забрасывал он все франконские отряды, выдавая себя за ревнителя евангелия! Я тоже получил от него такое послание. Он добивался прекращения военных действий, и когда крестьяне по простоте душевной пошли на эту приманку, он, собрав силы, напал на них во время перемирия и свирепствовал не хуже самого Трухзеса Морга. У крестьянина может быть только один надежный союзник — горожанин, так как у них обоих одни и те же заклятые враги. Добейтесь объединения крестьянства со всеми городами, и вы создадите для дела свободы несокрушимый оплот.
— Готов подписаться под этим обеими руками! — воскликнул Валентин Икельзамер.
— Да, но одно не исключает другого, — промычал с полным ртом рыцарь фон Менцинген и, отхлебнув изрядный глоток вина, продолжал: — Укрепившись благодаря союзу с Ротенбургом, вы заставите князя принять наивыгоднейшие для себя условия. И притом заметьте: вступив в союз и с городом и с князем, вы тем самым подрываете Швабский союз, членами которого они являются. Как вам это улыбается? Об этом стоило бы по крайней мере узнать мнение маркграфа. Что до меня, то по чести я должен признать, что он всегда был для меня милостивым господином. Пусть кто-нибудь из вас, ну, скажем, брат Флориан, отправится со мной к нему; голову даю на отсечение, он найдет радушный прием. Можно выслушать мнение маркграфа, не связывая этим ни той, ни другой стороны. Потом видно будет, как поступить.
— Нет, без ведома крестьянского совета этому не бывать! — горячо запротестовал оксенфуртский старшина. — Я не допущу, чтобы такой человек, как брат Гейер, доверился заклятому врагу крестьян, не обеспечив себя охранной грамотой. Вспомните, с какой лютой ненавистью подстрекал господ и князей к расправе с нами сам Лютер! Да, для маркграфа это был бы отличный улов. Отпусти я Гейера, мне бы ввек не оправдаться перед крестьянством, да и его «черные» изрубили бы меня на куски.
— Я не пожалею жизни, если это может послужить делу свободы, — спокойно и просто сказал Флориан Гейер. — Но волку мало корысти выходить на промысел вместе с лисой.
— Так передайте дело в крестьянский совет, если вам угодно терять драгоценное время, — с плохо скрываемым раздражением пробормотал фон Менцинген. Его жгучие честолюбивые мечты о власти нисколько не остыли. Союз городов с крестьянами, обеспечивающий прочность нынешнего строя, был помехой на его пути. Соглашение с маркграфом должно было, по его мысли, опрокинуть эту преграду. Он надеялся, что маркграф не станет препятствовать крестьянам, когда он, фон Менцинген, начнет с их помощью очищать от аристократии магистрат. Тайные же виды самого маркграфа на Ротенбург были ему как нельзя больше на руку. В случае провала его замыслов у него осталась бы надежная опора в лице маркграфа.
— Ладно! — воскликнул он, овладев собой. — Если вы считаете себя связанными, то я позволю себе на свой страх написать маркграфу и осведомиться о его мнении. А теперь довольно об этом, дорогие друзья! Наполним кубки, прошу вас, пейте, отбросив всякие заботы.
И, схватив серебряный жбан, он начал наполнять бокалы. В это время на городской башне пробило шесть часов. Флориан Гейер отодвинул свой кубок и сказал, что ему пора идти для осмотра обещанных крестьянам пушек.
— До завтра у святого Иакова! — бросил он и поднялся из-за стола. Пецольд последовал за ним, на ходу осушив только что наполненный кубок.
Они отправились в городской замок, служивший для Ротенбурга арсеналом. Подъемный мост, защищенный воротами с толстыми круглыми башнями по обеим сторонам глубокого рва, вел от Дворянской улицы во двор замка. Высокие стены с бойницами, бастионами и башнями по углам окружали замок, над которым возвышалась исполинская башня Фарамунда. Увенчанный фронтоном навес, поддерживаемый шестью каменными колоннами, а также каменные скамьи для судей и двенадцати шеффенов указывали то место во дворе замка, где некогда заседал коронный земский суд. В южной стороне двора, перед остатками так называемой Белой башни, возвышалась часовня с прекрасными византийскими окнами и каменным крестом на остроконечной кровле. На верхнем этаже башни жил когда-то капеллан, отправлявший богослужение. В примыкающих к внутренней стене зданиях, обращенных островерхими фронтонами на город, хранились оружие и снаряжение, а в башнях — порох. Тяжелые пушки стояли на колесах или неуклюжих лафетах под открытым небом. Их огромные стволы покрывала ржавчина.
Начальник городской стражи фон Адельсгейм вышел навстречу посланцам, которых немало удивило многолюдное сборище во дворе замка. Альбрехт фон Адельсгейм, провожая их к пушкам, объяснил, что люди пришли проститься с пушками, уверенные в том, что они уже больше не вернутся назад. По лицу рыцаря было видно, что он сам с большим неудовольствием расстается с орудиями.
— И дамы — тоже? — спросил, заливаясь смехом, основательно подвыпивший оксенфуртский старшина. — А я — то думал, что золотое колечко им милее самой замечательной картауны!
И действительно, среди собравшихся было больше женщин, чем мужчин. Фон Адельсгейм потемнел в лице, подумав, что дам привело сюда пустое любопытство. Невеста уговорила рыцаря взять с собой ее вместе с подругой. Мало того, ему пришлось представить девушек послам, после того как они, особенно же Флориан Гейер, знающий толк в артиллерии, осмотрели пушки и убедились, что крестьянам выдают действительно лучшие. Девушки стояли возле стофунтовой картауны, и их стройные фигурки представляли чарующий контраст рядом со зловещими смертоносными орудиями.
— Ах ты черт! — не удержался от восклицания пришедший в восторг Ганс Пецольд, все еще под сильным действием винных паров, — не огорчайтесь, сударыни мои, вернут вам обратно ваших комнатных собачек.
— Будь то в моей власти, я бы их всех посадила на крепкую цепь, чтобы они никого не трогали! — воскликнула Габриэла и посмотрела на Флориана Гейера, который с нескрываемым удовольствием любовался красавицей. — Ужасно, что человек изобрел подобные чудовища, чтобы умерщвлять своих ближних!
— Скажем лучше: ужасно, что человек вынужден изобретать подобные чудовища, чтобы защищаться от своих ближних, — любезным тоном возразил Гейер.
— Будь это еще против турок, а то немцы против своих же немцев, — с живостью продолжала Габриэла.
— И я тоже так думаю, — вмешалась Сабина, чем навлекла на себя гнев жениха.
— Тем хуже, сударыня, — серьезно возразил Флориан Гейер, — что угнетенные вынуждены прибегать к таким средствам против угнетателей.
Нюрнбергская кулеврина
С гравюры Альбрехта Дюрера
— Но ведь господа и рабы всегда были, и желание крестьянина стать равным дворянину противоречит установленному природой и богом порядку! — воскликнула Габриэла, и глаза ее засверкали.
Флориан Гейер с улыбкой посмотрел на нее и сказал:
— Но не противоречит справедливости, которая стремится уничтожить неравенство между людьми, раз этого не делает, вопреки завету сына божьего, любовь.
Габриэла потупила взор. Но не успела она возразить, как раздались крики: «Дорогу! Дорогу!» — и во двор замка хлынула шумная ватага городской молодежи. Девушки и юноши, с венками и гирляндами цветов и еловых веток, бросились украшать обе картауны. Флориан Гейер, смотревший на них, скрестив руки, не заметил устремленных на него глаз Габриэлы и Сабины.
— Не правда ли, красиво? — обратился он снова к Габриэле. — Пожалуй, среди цветов даже эти страшилища имеют безобидный вид.
Прекрасная Габриэла зарделась, точно застигнутая на месте преступления.
— Здесь слишком жарко, — проговорила она и начала пробиваться через толпу. Флориан Гейер помог ей протиснуться, и когда они вышли на относительно свободное место, она продолжила прерванный разговор.
— Вы — воин, и я понимаю, что подобное зрелище может радовать вас. Но мне, женщине, эти чудовища в цветах кажутся еще более зловещими. Ах, неужели не придет конец этим жестоким временам? Как бы мне хотелось мира и спокойствия!
Она пытливо заглянула ему в глаза, и глубокий вздох вырвался из ее груди. Ее пристальный взгляд смутил его.
— Всем сердцем разделяю ваше желание, — сказал он.
— Оно осуществится, если вы, дворянин и друг бедного люда, протянете руку для примирения, — живо подхватила она.
— А поручитесь ли вы, что бедным людям будет обеспечена справедливость? — спросил он, улыбаясь ее пылкости, которая пришлась ему по сердцу. — Без такого ручательства мир невозможен.
— Я бы не остановилась ни перед чем, чтобы добиться этого. Но что может сделать слабая женщина? Наш удел исцелять раны, нанесенные мечом. Но разве в наших силах удержать меч, который их наносит?
Она улыбнулась и со вздохом устремила на него свой горячий взор, подернутый дымкой мечтательности.
— А разве красота не наносит ран? — спросил он с налетом игривости, но тотчас спохватился и уже сердечно и просто продолжал: — Простите, сударыня, я вижу в вас не только чудесный дар красоты, но и нечто большее — ваши мысли и чувства так же благородны, как и ваш облик.
Щеки Габриэлы запылали, губы приоткрылись, и она закрыла глаза. Резкий голос привел ее в себя. Это был голос начальника городской стражи, подошедшего вместе с Сабиной и Пецольдом. Разговаривая со старшиной и женихом, Сабина не сводила глаз с Габриэлы и Флориана Гейера, и, несмотря на связывавшие их узы дружбы, ревность острым жалом впилась в ее сердце. Фон Адельсгейм извинился, что прерывает их беседу, но пора запирать ворота замка. Габриэла метнула в него далеко не любезный взгляд. Флориан Гейер и Пецольд откланялись. Габриэла, сняв вышитую перчатку, протянула рыцарю руку и глубоко погрузила в его глаза свой томный взгляд.
— Не забывайте своих ротенбургских друзей, — с улыбкой сказала она.
Ее взгляд и пожатие нежной руки согрели ему сердце, но он молча ответил на ее пожатие и удалился.
Когда на следующее утро Каспар пришел в Гаттенгофен с мечом на боку и с аркебузом на плече, крестьянский отряд уже был в сборе. Старый Эчлих не пытался удерживать сына, но прощанье, видно, далось ему не легко. Он долго не выпускал руки Каспара, а под конец не выдержал и поцеловал его в губы. Каспар просто растерялся: сроду он не думал, что его старик способен на такие нежности. Он не мог припомнить, чтобы отец поцеловал его хоть раз в жизни, даже в детстве. Во всяком случае, ни отправляясь в странствования, ни возвратившись домой, он ни разу не удостоился поцелуя. Раздумывая над этим, он даже был рад, что Большой Лингарт, который вместе с Себастьяном Раабом командовал отрядом, сопровождавшим пушки, был так занят приготовлениями к походу, что едва успел, не слезая с коня, пожать ему руку. «Великан не в духе», — подумал Каспар, слушая, как тот мрачно чертыхается.
Айшгрундские крестьяне принесли весть о том, что маркграф Казимир стоит под Иллесгеймом с крупными силами и что его отряды уже свирепствуют на границах ротенбургских владений. Чтобы не попасть под удар, нужно было вместо прямого пути на Вюрцбург избрать окружный путь Тауберской долиной через Реттинген. Это был изрядный крюк, тем более нежелательный, что пушек ждали с великим нетерпением. Наконец показался кортеж: каждую картауну тянула восьмерка крупных и сильных лошадей и сопровождало несколько городских стражников; за пушками следовали три телеги с порохом и ядрами и телега с припасами. Во главе кортежа ехал ротенбургский пушкарных дел мастер Ганс Баслер, человек воинственной наружности, с огромным носом, рдеющим, как горная вершина в лучах заката, над черным лесом усов. Процессию замыкали молодой Шпельт и Эренфрид Кумпф, которого сопровождал по его настоянию доктор Карлштадт.
— Тьфу ты, пропасть! — фыркнул при виде последнего Большой Лингарт. — Как будто у нас в комитете своих попов мало!
Впрочем, и маленький черный доктор был не в большом восторге от этой военной прогулки. У него было на то веское основание.
Большой Лингарт тотчас приказал трубить выступление. В то время как пушечный кортеж спускался в Тауберскую долину, в Ротенбурге большой колокол созывал общину в собор св. Иакова. Оба совета и комитет заняли свои места на хорах, перекрывающих Оружейную улицу. К перилам подошел Флориан Гейер, и при виде его высокой фигуры, этих больших, горящих отвагой глаз, говор, кашель, шепот, шарканье ног — все сразу прекратилось и во всех трех нефах собора наступила тишина. Он говорил горожанам об условиях заключенного союза, и голос его гулко отдавался под высокими сводами церкви. Как и накануне, речь его отличалась простотой и глубоким сознанием важности этого союза. В заключение он сказал:
— Прежде всего помните, что только союз городов с крестьянством может обеспечить свободу горожанам и охранить их мирный труд от произвола светских и духовных владык, которые одинаково притесняют и крестьян и горожан и высасывают из них все соки.
Слова эти зажгли присутствующих и вызвали на всех скамьях, кроме патрицианских, возгласы одобрения. Когда снова водворилась тишина, священник Деннер прочитал статьи договора, после чего Георг Берметер предложил общине принести присягу на верность братскому союзу города и крестьянства.
— Но знайте, — прибавил Флориан Гейер, — что, если кто-нибудь надеется, что, не подняв руки и не произнеся клятвы, он сможет уклониться от обязанностей, налагаемых союзом, то он заблуждается. Присяга распространяется на всех членов общины.
Затем на кафедру главного придела взошел доктор Дейчлин, и оба совета, комитет и все члены общины, подняв кверху указательный палец и повторяя за ним слова присяги, поклялись всемогущим богом на святом евангелии в верности статьям договора. Однако Эразм фон Муслор, Конрад Эбергард и еще несколько человек из местной знати не подняли пальца и не произнесли присяги, что не ускользнуло от внимания Стефана фон Менцингена. Вслед за тем крестьянские послы подошли к перилам хоров и принесли присягу в нерушимой верности союзу от имени Франконского войска. «Аминь!» — произнес со своей кафедры доктор Дейчлин.
По окончании торжественного акта Флориан Гейер хотел немедля отправиться в Вюрцбург. Но, по обычаю того времени, для того, чтобы любой договор вошел в силу, нужно было его хорошенько вспрыснуть. По этому случаю бургомистр пригласил послов в городскую питейную, где их ждала закуска с обильными возлияниями.
Когда толпа выходила из собора, вдруг раздались крики: «Смотрите! Смотрите!» — и сотни рук потянулись вверх. Странная картина открылась взорам. На совершенно ясном небе стоявшее в зените солнце окружала яркая радуга. Над естественной причиной такого явления никто не задумался, но все, кто был в это время на церковном дворе, на площадях и на улицах, собирались кучами, смотрели, запрокинув головы, и переговаривались: «Что это означает?», «Что предвещает этот знак?», «К добру ли это или нет?»
— Я истолкую вам сие знамение! — провозгласил вышедший из дома Тевтонского ордена от командора Христиана слепой монах. — Внимайте, братья! — и он устремил невидящие глаза к солнцу. — Подобно тому, как после всемирного потопа господь, положив на небо радугу, возвестил миру о своем новом союзе с человеком, так и ныне радуга означает, что заключенный нами братский союз окружит солнце свободы семикратным несокрушимым валом. Бог поможет нам и поразит своей карающей десницей преступных князей.
И он зашагал к себе в монастырь, осторожно нащупывая посохом дорогу, а толпа поспешно расступалась перед ним. На площади он еще раз остановился и повторил толкование этого необычайного явления природы.
Глава четвертая
Поздно вечером, в день приезда послов в Ротенбург, под старой липой, перед гохбергским кабаком, любезничала молодая парочка. Он обнял свою красотку за талию, а она прижала его руку к пышным бедрам и крепко прильнула к его груди. Они встретились после долгой разлуки. Долговязый Вильм служил рейтаром на Мариенберге. Теперь, по поручению приора, он направлялся в Гейдельберг и воспользовался случаем, чтобы запастись на дорогу поцелуями своей милой. Он вез епископу письмо, скрытое в полой рукоятке копья, которое в данный момент было прислонено к старой липе. За ее широким стволом, в тени густой листвы, скрывалась женщина. Это была Черная Гофманша. Присев на корточки и опершись локтями на колени, она обхватила голову костлявыми руками. Весть о бегстве епископа с «Горы богоматери» ошеломила ее. Она не хотела верить, что тот, ненавистный, кого она мечтала возложить на алтарь своей мести, в последнюю минуту улизнул. Она рвала свои седые волосы, терзала ногтями грудь, кричала как безумная и с пеной у рта проклинала бога. Повинуясь порывам своей мятущейся души, она то бродила по окрестностям, то просиживала долгие часы, вся сжавшись в комок, как теперь, в глубоком раздумье и не двигаясь с места. Ее хорошо знали не только в отряде оденвальдцев и неккартальцев, но и во всех крестьянских отрядах. Слухи о ее сношениях с нечистой силой снискали ей всеобщее уважение, к которому примешивался страх. Всюду к ее услугам был походный котелок, когда она бывала голодна, а когда силы изменяли ей, она могла растянуться у любого костра, а не то — и на соломе в любой конюшне или хлеве. Для нее не существовало ни дня, ни ночи. Старая липа, под которой дочь кабатчика Розхен ворковала с долговязым Вильмом, была излюбленным убежищем старухи. Отсюда был виден как на ладони весь Мариенбергский замок.
Шепот влюбленных нисколько не интересовал ее. Быть может, она даже принимала его за шелест листвы. Но вдруг она выпрямилась и насторожилась. Парень сказал, повысив голос:
— Ну, прощай, сердце мое. Мне пора в путь-дорогу.
— Ах! Горькая моя доля! — воскликнула Розхен. — Когда же наконец мы сможем больше не разлучаться?
Серые губы старухи скривились в полупрезрительную-полусострадательную усмешку. У молодых вечно одна и та же песня!
— Больше ждали — меньше осталось, — утешал свою красотку Вильм. — Вчера наши гости веселились на славу, и мне пришлось им прислуживать. Вино развязало им языки, и они наболтали больше, чем следовало. Они надеются, что Гец и Мецлер со своими войсками переметнутся к ним. Об этом я и везу сообщение епископу.
— Полно, Вильм, зря болтать. Мыслимое ли это дело? — усомнилась Розхен.
— Да ведь начальники у вас небось днюют и ночуют, — отвечал он, протягивая руку за копьем. — Ты разве не заприметила, как они теперь сорят золотом направо и налево? Знать, завелись у них деньжата.
Девушка недоверчиво покачала головой, и он пояснил:
— Видно, они получили здоровый куш из замка и надеются еще кое-что получить. Ты не зевай.
Розхен громко вскрикнула, и он, зажимая ей рот рукой, зашипел:
— Тише! Ты что — погубить меня хочешь? Я своими ушами слышал, как наши толковали… И вот что, Розхен, если кто из них тряхнет мошной и ты не устоишь перед искушением, знай, тебе несдобровать…
Но она не дала ему договорить и зажала рот поцелуем, а он обхватил ее обеими руками. Видно, такое доказательство верности пришлось ему по вкусу, и он заставил ее повторить его много раз. Наконец он оторвался от девицы, и Черная Гофманша услышала его тяжелые шаги по усеянной галькой дороге. Потом тихо защелкнулась дверь кабака.
Старуха просидела не смыкая глаз всю ночь до утра. Едва забрезжил рассвет, она появилась в Гохберге и взбудоражила весь крестьянский лагерь, крича, что начальники, подкупленные гарнизоном замка, готовят измену. Георг Мецлер и Флукс тщетно пытались успокоить разразившуюся бурю. Тщетно клялись они и доказывали, что ни они сами и никто другой из военачальников не получал денег из замка. Крестьяне захватили пушки графа фон Вертгейма и, переправившись с ними через Коровий брод, двинулись на Гейдингсфельд. Черная Гофманша устремилась туда впереди всех. Когда они подошли к подножью Николаусберга, к ним навстречу выбежали гурьбой стоявшие там на привале крестьяне, и все вместе принялись втаскивать тяжелые пушки на вершину горы.
Тем временем слухи о предательских кознях епископской своры уже успели облететь весь город, и Черной Гофманше не пришлось уговаривать вюрцбуржцев идти на штурм замка, чтобы перебить всех его защитников до единого, прежде чем подоспеет помощь, за которой был послан гонец в Гейдельберг. Подошла партия горожан с лопатами, мотыгами и кирками и начала подводить подкоп под замок. Другая партия сооружала плоты под каменными быками моста, единственного моста, соединявшего в те времена оба берега, чтобы обеспечить связь под прикрытием от обстрела с замка. Возле Блейденской башни, на правом берегу реки, в доме Тевтонского ордена и под аркой августинского монастыря были установлены пушки. Энергичную деятельность развил Ганс Берметер. Из всех кварталов он вызвал к себе людей, которые остались в городе как сторонники крестьян, и взял с них торжественную клятву явиться по первому зову, повиноваться начальникам и стойко оборонять город.
Между тем жители предместья под предводительством Черной Гофманши разгромили монастырскую церковь св. Буркхарда у городских ворот, старейшую церковь Вюрцбурга. Разрисованные окна, алтари, иконы, ковчеги с реликвиями, ризы — все это было принесено в жертву озлоблению против епископа. Все было изрублено, изорвано, разбито на куски. Не уцелел даже крест над главным алтарем. Черная Гофманша, вырвав у кого-то из рук топор, отрубила голову статуе Христа.
Гец фон Берлихинген бросился в новый собор, чтобы укротить разбушевавшиеся волны мятежа. Разгром монастырской церкви привел его в бешенство, и он вбежал в залу капитула с багровым лицом. Он осыпал членов крестьянского совета яростными упреками в том, что они допустили подобное бесчинство. Уж лучше бы он пошел на службу к туркам, чем к ним. Завязалась ожесточенная перепалка. Якоб Кель бросил ему в лицо обвинение в том, что он снюхался с епископским гарнизоном и старается посеять рознь между осаждающими. Гец рассудил, что благоразумней будет убраться восвояси.
Четвертое воскресенье после пасхи началось громовым благовестом пушек. В городе пробило четыре часа, когда с батареи на Николаусберге открыли огонь по замку. Осажденные не отвечали батарее, но направили все орудия на город, и когда упали первые ядра, собравшаяся на площадях и улицах толпа с проклятиями бросилась врассыпную. В продолжение целого часа мариенбержцы осыпали вюрцбуржцев ядрами из своих пушек, усеивая улицы города развалинами обрушившихся стен, обломками балок и черепицы. Между тем пушки, установленные у Блейденской башни, у дома Тевтонского ордена и августинского монастыря, тоже разверзли свои медные жерла. До самой ночи не умолкал грохот николаусбергской и городской батарей; гарнизон же замка берег порох. Городские орудия действовали более успешно, чем николаусбергские: ядром, выпущенным из фальконета, был убит в постели питейный старшина лаудахский; другой выстрел, с городской башни, стоил жизни епископскому капеллану. Город больше всего пострадал от новой, установленной на Шютте, батареи. Все собравшиеся на Николаусберге крестьянские военачальники в один голос заявили, что первым делом нужно заставить замолчать эту батарею. Может быть, ее удастся захватить внезапным ударом и одновременно ворваться в замок?
Симон Нейфер, склонявшийся к этому дерзкому замыслу, посоветовал, однако, отложить его осуществление до возвращения из Ротенбурга Флориана Гейера, который бы взял это дело в свои опытные руки. Тут священники, которые всегда считали, что они сами с усами, наморщили носы. Якоб Кель уперся, как бык, и заявил: эка важность, брали мы замки почище этого и без дворянской указки. И вот в лагере было объявлено, что кому охота идти на приступ замка, тот может записаться в «Зеленом дереве». Ступеньки лестницы, ведущей в трактир, скрипели не переставая: столько нашлось охотников. Особенно много народу явилось из Черной рати, из тех, кто уже побывал под Вейнсбергом. Симон Нейфер счел своим долгом не отставать от других. В числе ротенбургских добровольцев был и знаменосец Пауль Икельзамер. Ослепительная радуга, появившаяся в понедельник около полудня на совершенно ясном небе, была принята крестьянами как знамение победы. И многие уже праздновали ее заранее салютами из фальконетов.
К вечеру небо покрылось тучами. Беззвездная ночь благоприятствовала смелому предприятию. В десять часов вечера охотники выступили в поход. Они шли на смерть с музыкой. Трубили трубы, гремели барабаны, развевались Знамена; храбрецы продефилировали по городу и направились к Целлерским воротам. Многие были снабжены штурмовыми лестницами и другими необходимыми для штурма приспособлениями. В авангарде шли «черные» во главе с Симоном Нейфером, которому было поручено командование штурмовой колонной. Рядом с ним выступал пасынок Конца Гарта, лихо выбивая барабанную дробь. Пауль Икельзамер нес знамя Ротенбурга. У ворот стоял Якоб Кель с крестьянскими членами совета. «За дело, дорогие братья, за дело!» — кричали они выступавшим отрядам, и в ответ им раздавались громовые приветствия колонны. Штурмующие были встречены убийственным огнем. Дозорный на Бергфриде — самой высокой сторожевой башне замка — еще днем заметил необычное оживление в городе, и осажденные были начеку. Но крестьяне шли вперед, не обращая внимания на пули и ядра. «За дело! За дело!» Подобно волнам морским, подгоняемым бурей, катились они все новыми и новыми рядами к редутам, перехлестывали через них и добегали до самого палисада. Они разбивали топорами колья палисада, вырывали их из земли руками, протискивались между ними и скатывались в ров под стенами замка. Блеск и грохот аркебузов, пищалей и крепостных орудий не прекращались ни на минуту. Со стен и из башен, из бойниц и окон домов нападающих поливали крутым кипятком и смоляным варом, обдавали греческим огнем, забрасывали камнями и брандкугелями из смолы и серы. Францисканец демонстрировал свое искусство.
Стоявшие на мосту, на площадях и улицах вюрцбуржцы с ужасом смотрели на беспрестанные вспышки и прислушивались к гулу орудий и грохоту канонады, раскаты которой еще усиливались горным эхом, сливаясь с дикими криками сражавшихся. Казалось, весь замок был облит пламенем, словно над ним сразу разразилось несколько гроз. Но зато они не слышали ни воплей раненых, ни стонов умирающих, ни душераздирающих криков о помощи заживо погребенных в глубоком рву — обожженных и ошпаренных, раздавленных и задыхающихся. И вдруг наступила тишина. Симон Нейфер приказал бить отбой: не для отступления, а для того, чтобы, собравшись с силами, перегруппироваться. Вскоре снова забили барабаны, призывая к новому штурму. Но в Черной рати уже не было юного барабанщика. Отбросив свой барабан, он выхватил из рук убитого товарища мушкет и пороховницу и, ловко, как кошка, протиснувшись через палисад, одним из первых ворвался в неприятельский редут. Но в этот момент пушечным ядром ему раздробило обе ноги, и в страшных муках он корчился на дне рва. Увидев в освещенном окне замка капитана ландскнехтов, подававшего сигналы о продвижении крестьян, он собрал последние силы, приподнялся и метким выстрелом размозжил капитану череп.
— Наши подходят… Победа!.. Мама!.. — вырвалось из холодеющих уст мальчика, и, откинувшись назад, он испустил дух.
Влюбленные в лесу
С гравюры Альбрехта Альтдорфера
Сражение закипело с новой силой. Казалось, гигантский дракон изрыгает дым и пламя, окутавшее весь замок. Крестьяне бросились на приступ сразу со всех сторон. Некоторым удалось проникнуть в передний двор замка, а двум или трем из них — даже вскарабкаться на отвесную скалу, обращенную к Николаусбергу, и оттуда перебраться на стену. Но осажденные тут же сбросили их в ров. Геройская отвага крестьян ни к чему не привела. В конце концов им пришлось отступить. «Черные» последними оставили поле сражения. Они недосчитывали многих в своих рядах. Пауль Икельзамер был убит, Симон Нейфер — ранен. Но он почувствовал это лишь много позже. У Целлерских порот к отступавшим присоединилась Черная Гофманша. Пока шел бой, она все время стояла у ворот, не обращая внимания на свистящие пули, вложив весь жар своей души в ожидание той минуты, когда крестьяне ворвутся в замок.
Осажденные ожидали третьего приступа, но когда они поняли, что его не будет, они разрядили свои тяжелые орудия по городу. Затем они принялись отливать пули; запас их был на исходе. Ожесточенное сражение длилось четыре часа.
На рассвете к стене замка подошли два парламентера с шляпой на палке. Крестьяне предлагали заключить перемирие до двух часов пополудни, чтобы убрать своих раненых, всю ночь пролежавших без помощи, и похоронить мертвых. В одном только рву и траншеях осталось до четырехсот крестьян убитыми и ранеными. Для ведения переговоров на стену поднялся сам приор, маркграф Фридрих Бранденбургский. Он изъявил согласие на перемирие не только до двух часов, но до полуночи; однако до той поры все должно оставаться в том же положении и ни один крестьянин или горожанин не будет подпущен к Теллю. Все уговоры и просьбы парламентеров отскакивали от закованной в панцирь груди князя церкви. Раненые были обречены исходить без помощи в страшных мучениях, пока смерть не сжалится над ними. Если приор надеялся подобной жестокостью сломить сопротивление крестьян, то он ошибся. Этим он привел их в состояние еще более яростного ожесточения, и они немедля начали подводить подкоп под замок со стороны предместья св. Буркхарда и прокладывать новые траншеи.
Вильгельм фон Грумбах, занимавший вместе с братом одну из комнат в восточном крыле замка, следил из окна за ходом окопных работ. Его брат лежал на кровати, стараясь вознаградить себя за бессонную ночь.
— Приятная перспектива, — сказал Вильгельм, повернувшись, — взлететь в один прекрасный день на воздух или шлепнуться в Майн, если мы еще раньше не околеем от жажды.
— От жажды? Едва ли, — невозмутимо возразил его брат. — Мы вместе с Ротенганом осматривали подвалы: там столько вина, что нам его и за несколько лет не выдуть.
— Вина, но не воды. Все колодцы замка пусты. Ведь столько недель с неба не падало ни капли.
— Да, меня начинают уже беспокоить наши посевы, — зевнул Ганс фон Грумбах. — Пожалуй, в нынешнем году не избежать неурожая.
— Об урожае вряд ли нам придется заботиться. Его уберут крестьяне, — ядовито ответил Вильгельм. — Мы еще счастливо отделаемся, если от наших замков хоть что-нибудь уцелеет.
Ганс слегка приподнялся на постели.
— Какого дьявола ты ударился в меланхолию? А, все это вздор! — прибавил он и снова опустился на подушки.
Вильгельм подошел к нему и приглушенным голосом произнес:
— Хочешь видеть двух ослов? Погляди на меня и на себя. Кой черт принес нас сюда, вместо того чтобы последовать примеру Геннеберга и других? Позор для дворянина идти в вассалы к попу! Если наши предки по простоте душевной дали черным рясам себя облапошить ради нескольких обеден за упокой души, то почему мы должны весь век страдать! Я по крайней мере не собираюсь.
— Вспомни о Зиккингене, — предостерегающе сказал Ганс, приподнимаясь на локте. — Если бы мы тогда пошли за Флорианом, не миновать бы нам нищенской сумы.
— Тогда уже было слишком поздно. Но теперь обстановка нам благоприятствует. Сила на стороне крестьян, и если Гец решился, то, ей-богу, и Грумбахи тоже могут рискнуть. У меня все нутро переворачивается, как подумаю, что мы должны пресмыкаться перед этим Тюнгеном, раздувшимся от спеси. Распороть бы ему брюхо! Как ты считаешь, Ганс? Переменим диспозицию?
— Оставь меня в покое! До смерти спать хочется, — пробормотал Ганс и повернулся к стене.
Тонкое лицо Вильгельма дышало отнюдь не братской любовью, когда он направился от кровати к окну. Теребя рыжеватый ус, он в раздумье смотрел во двор.
Симон Нейфер тоже лежал на кровати, в доме одного гончара в Гейдингсфельде, где он расположился на постой, и спал сном праведника. На скамейке, в ногах кровати, сидела Черная Гофманша, подперев голову руками. Она раньше его заметила, что он ранен, пошла за ним, промыла и перевязала ему рану. Пуля пробила левое предплечье, не задев кости, но он позволил ей заняться им лишь после того, как распорядился об оказании помощи раненым, попрощался со своими людьми и поблагодарил их за проявленную отвагу. Черная Гофманша была признательна ему за то, что он хорошо относился к ее внуку. Это он рассказал ей о последних днях Ганса. Сквозь толстую кору ее одичавшего сердца пробился огонек женского сострадания. Глухой, все нараставший гул, подобный далеким раскатам грома, вывел ее из задумчивости. Бесшумно встав со скамьи, она подняла окно, затянутое вместо стекла тонким свиным пузырем, но на небе не было ни облачка. Глухие раскаты потонули в восторженных криках толпы, донесшихся с площади. Симон проснулся.
— Лежи спокойно. Я погляжу, что там такое, — повелительно сказала Гофманша и вышла из комнаты. Обессиленный, он чуть было опять не уснул, но от топота тяжелых шагов по лестнице встрепенулся. В дверях, за спиной Черной Гофманши, появился Большой Лингарт с Каспаром Эчлихом. Симон приподнялся и протер глаза.
— Эх, друг сердешный! Как же это тебя угораздило? — оглушил его громовой бас великана. — Лежи, лежи! Нам уже все известно!
И он заставил Симона откинуться на подушки.
— Сущие пустяки, — заверил тот. — И Каспар здесь? Ну, слава богу. И пушки привезли?
— Разумеется! — отозвался Лингарт.
— Эх, будь они здесь вчера! — вздохнул Симон. — Я все глаза проглядел, дожидаясь их.
— Мы и были бы здесь к вечеру, не вмешайся в это дело дьявол. Без него и обедня не служится, — фыркнул Большой Лингарт.
— А кто же, как не он, правит миром? — с горечью спросила Черная Гофманша.
— Это не по моей части, — заметил Лингарт, взглянув на нее своими круглыми совиными глазами. — Спроси у чернорясников. Ну и подлую штуку выкинул нечистый с нами! Перед самым Рейтлингеном у одной картауны лопнуло, чтоб ей пусто было, колесо. Пришлось торчать там до утра. Тамошние тележник и кузнец будут меня помнить. Уж я нагнал на них страху. Только нам и в голову не могло прийти, что вы полезете на стены, не пробив бреши. Какую глупость откололи, ну-ну!
— Ну, хватит, хватит, — оборвал его Каспар и, придвинув скамейку к изголовью кровати, стал рассказывать Симону о его домашних в Оренбахе.
Большой Лингарт, кивнув на Каспара, сказал Гофманше:
— Знаешь, ведь он был лучшим другом твоего Ганса. Он может тебе рассказать, как его убил Розенберг. Он видел это собственными глазами.
Протяжный стон сорвался с побелевших губ старухи, и она впилась горящими глазами в лицо стригальщика.
— Не падай духом, — продолжал Лингарт. — Теперь, когда мы привезли эти перечницы на место, мы зададим епископским крысам такого перцу, что они буду чихать, пока не лопнут… Ну, ладно, мне пора. Выздоравливай, Симон. До скорого.
Черная Гофманша, прислонившись спиной к окну, слушала рассказы Каспара про Оренбах. Он сообщил двоюродному брату о своем намерении вступить в Черную рать. Тот обрадовался и предложил остаться у него. Каморка, правда, маловата, но для второй кровати место найдется. Черная Гофманша пошла переговорить об этом с хозяином.
Вдруг на лестнице послышались тяжелые шаги и звон шпор. Вошел Флориан Гейер. Он выехал с зарей из Ротенбурга. Завидя его, Симон Нейфер весь залился краской, но вошедший приветливо обратился и нему:
— Лежи спокойно. Главное, что мой храбрый помощник остался жив. Мы еще свое возьмем!
Симон облегченно вздохнул. Его страшила встреча с Флорианом Гейером.
— Вот этот парень хочет вступить в наш отряд, — сказал он, кивнув на Каспара. Гейер внимательно смерил взглядом подмастерья. Невысокая, но коренастая и кряжистая фигура Каспара, видимо, ему понравилась. Он одобрительно кивнул ему и предложил договориться обо всем с Симоном.
— А теперь, капитан Гейер, позволь мне сказать тебе словечко по секрету, — обратился к нему Симон. Каспар придвинул капитану стул к самой кровати и вышел из комнаты.
— Обещай, капитан, что не посетуешь на меня за то, что я тебе скажу, — начал Симон. — Это гнетет меня уже давно, но теперь, после вчерашнего, я не могу больше молчать.
— Как бы ни была горька истина, но раз она должна служить нашему общему делу, я приму ее, не сморгнув, — отвечал Гейер, присаживаясь. — Ну, выкладывай все начистоту.
— Знаешь, такого несчастья с нами не стряслось бы, если бы комитет не услал тебя.
— Ты что хочешь сказать? Что начальники заранее уговорились идти на приступ и намеренно услали меня в Ротенбург, опасаясь, что я воспротивлюсь их безумной затее? — спросил Флориан, широко раскрыв глаза.
— Не совсем так, но им не угодно было ждать, пока ты вернешься. Видишь ли, каждый из них думает, что разбирается в военном деле не хуже тебя. Они завидуют тебе. Поднявшись над простыми крестьянами, каждый из них желает быть первым во всем. Все они завистники и честолюбцы, а ты стоишь у них поперек дороги.
— Я не могу осуждать их, брат Нейфер, это в природе человека, — спокойно возразил Флориан Гейер. — Их всегда угнетали, с ними обращались как со скотом. Так как же они могли чувствовать себя людьми? Теперь же, когда в них пробудилось человеческое достоинство, они не хотят быть ниже тех, на кого прежде могли смотреть лишь с раболепным страхом и ненавистью. Так будем же довольны этой переменой. Без чувства человеческого достоинства не может быть свободы. А если они и пересаливают иногда в своем стремлении к свободе, то это ничего… Перемелется — мука будет. Было бы хуже, если бы они не верили в честность моих намерений.
— Ну нет, они верят, верят, — живо возразил Симон. — Но мелкая зависть разрушает наше единство и губит лучшие намерения. Мы теряем драгоценное время и тем самым играем на руку врагу. Так не может больше продолжаться. Нужен человек с сильной волей, чтобы для общего блага заставить их повиноваться. Этим человеком должен стать ты, капитан Гейер! Стоит тебе пригрозить им в комитете своим мечом, они заворчат, но увидишь, послушают тебя.
Флориан Гейер с изумлением посмотрел на него и, погладив усы, продолжал:
— Пожалуй, меня и самого так и подмывает на это, когда я гляжу, какое пагубное влияние оказывает на людей эта праздность и как ухудшается день ото дня положение в Вюрцбурге. Военный совет ничего не предпринимает, а у Берметера и его друзей не хватает сил держать людей в узде. Отец Амвросий проповедует на ветер, виселицы стоят пустые. Но, по правде говоря, даже в политике цель не всегда оправдывает средства. Если бы я действительно решился захватить власть, применив насилие, то это привело бы лишь к новому насилию. Ибо насилие и произвол могут держаться лишь насилием и произволом. С тех пор как стоит мир, они не привели еще ни один народ к свободе. Напротив, следствием каждого захвата власти узурпатором, попиравшим человеческие права, всегда бывает новое рабство. Пусть человек кристальной честности захватит власть с благороднейшими намерениями, и если у него не закружится голова на высоте, то его испортят лестью, хитростью и коварством его же приспешники и клевреты, чтобы через его посредство добиться своих низких целей. И еще одно я тебе скажу! Когда в народе угасает стремление к свободе, каждый честолюбец может захватить высшую власть; но свободолюбивый народ никогда не допустит этого. Если я решусь на такое дело, мои же «черные» изрубят меня на куски, и правильно сделают.
Симон не сводил с него озабоченного взгляда.
— Да, пожалуй, ты прав. Я еще поразмыслю над этим, — уныло произнес он.
Глава пятая
В гейдингсфельдской церкви отец Амвросий служил панихиду по воинам, павшим под стенами Мариенберга. Он мог бы заодно помолиться и за упокой души трех тысяч тюрингских братьев, павших в бою в тот самый понедельник[125]. Впрочем, правильней было бы сказать не в бою, а во время бойни, ибо ландграф Филипп Гессенский, Эрнст фон Мансфельд и Георг Саксонский напали на крестьян, нарушив перемирие и не сдержав своего княжеского слова. Три тысячи крестьян были перебиты, триста пленных обезглавлены, Томас Мюнцер и его друг Пфейфер попали в руки вероломных князей. Но в Гейдингсфельде об этом еще ничего не знали. В своей прочувствованной проповеди брат Амвросий назвал павших мучениками свободы. Он сравнил их с первыми христианами, мученическая смерть которых сделала возможной победу истинной веры. Так и пролитая ныне кровь взрастит древо свободы и раскрепостит изнывающий под вековым гнетом народ.
Глубоко потрясенные его пророческой речью, слушатели — многим из них пришлось стоять во дворе, так как церковь не могла вместить всех, — начали расходиться. Остались лишь военачальники да члены военного совета, заседания которого происходили здесь, в церкви, с тех пор как мост через Майн находился под огнем мариенбергских батарей. Флориан Гейер и Пецольд кратко доложили о своей поездке в Ротенбург, а Эренфрид Кумпф вручил совету грамоту ротенбургского магистрата, коей он и Георг Шпельт уполномочивались представлять Ротенбург в военном совете. Тогда взял слово доктор Карлштадт. Ссылаясь на проповедь брата Амвросия, он стал говорить о том, что одна политическая свобода ни к чему не приведет, пока весь строй жизни не будет обновлен в духе первых христианских общин.
Но ему не дали высказаться: недаром его предал анафеме сам Лютер. Священники боялись, как бы его слова не повлияли на крестьян, и прервали его речь громкими криками протеста. Они не нуждаются в его поучениях и не хотят ничего и слышать о христианском коммунизме. Эренфрид Кумпф, возлагавший большие надежды на ученость и красноречие доктора, всеми силами старался восстановить тишину, но тщетно взывал к миру и единению. То, что хотел сказать о единении Карлштадт, так и осталось невысказанным; священник Бубенлебен не дал ему говорить, закричав, что он вносит сектантскую рознь в их лагерь, а Якоб Кель заорал благим матом, требуя тишины. Довольно дрязг, пусть господин доктор отряхнет прах у их порога, они его не звали и в его помощи не нуждаются, и нечего ему здесь, в комитете, делать.
Эренфрид Кумпф, которому нужно было ехать в Вюрцбург, чтобы передать бургомистру и магистрату приветствие от ныне вошедшего в их братство Ротенбурга, вышел из церкви вместе с доктором. Так закончилась поездка Карлштадта, начавшаяся при весьма неблагоприятных предзнаменованиях. Один из сопровождавших пушки стражников оказался тупым и свирепым фанатиком, видно, новая вера не просветлила его разума. Увидев доктора под аркой Ворот висельников, он пришел в бешенство:
— Не хотим ехать с этим злодеем! — завопил он и бросился с копьем наперевес, чтобы сбить Карлштадта с коня. К счастью, Георгу Шпельту удалось отвести удар.
Теперь доктора символически побили камнями сами священники крестьянских войск.
— Значит, служители нового папы преисполнены слепого усердия и спеси еще в большей степени, чем слуги папы римского? Они считают себя источником всякой мудрости, а сами смердят чудовищным невежеством. Нет, от такой смоковницы человечество никогда не получит доброго плода!
Такие горькие мысли высказал Карлштадт, прощаясь с бывшим ротенбургским бургомистром, после чего он вместе с провожатыми через Гаттенгофен вернулся в Ротенбург. Но стража у Ворот висельников отказалась его впустить, и бургомистр Берметер рассудил так: кто его выпускал, тот пусть и впускает. По счастью, об этом услышал Стефан фон Менцинген и, поспешив к воротам, именем комитета приказал впустить Карлштадта. Фрейлейн фон Бадель приютила его у себя.
Эренфриду Кумпфу был устроен в ратуше торжественный прием. Его приветственная речь удостоилась полного одобрения, особенно потому, что он упомянул о тирании епископов, отторгнувших Вюрцбург от империи, а также потому, что он призывал к разрушению Мариенбергского замка. Горожане единодушно избрали его своим шультгейсом, в каковом звании он и заседал с тех пор во внутреннем совете, тогда как Шпельт был избран в крестьянский совет.
Едва выехав из ворот Гейдингсфельда, Эренфрид Кумпф столкнулся с двумя вооруженными крестьянами, мчавшимися навстречу на взмыленных конях. То были Иорг Мецлер и Ганс Мюллер, по прозвищу Флукс, начальник гейльбронского отряда. Кумпф хотел было с ними заговорить, но они пронеслись мимо, не останавливаясь. Разгоряченные быстрой ездой, они вошли в церковь, где Большой Лингарт встретил их не очень любезным приветствием:
— Нечего сказать, приехали, как подобает настоящим союзникам! Вы думаете, раз вы не принимали участия в штурме Мариенберга, так вы не обязаны отдать последний долг павшим? Что?
— Послушай, любезный, — с видом превосходства оборвал его Флукс. — Стоит мне сказать тебе словечко, и ты раскроешь рот пошире, чем тот кит, что проглотил Иону.
— Поди ты, — осадил его Михаель Газенбарт из Мергентгейма, — при твоем уменье бахвалиться, тебе и китовой пасти мало.
Раздался взрыв хохота по адресу Ганса Флукса. Но Иорг Мецлер воскликнул:
— Хватит! Теперь нам не до шуток! Когда мы садились на коней, гейльбронцы привели двух пленных. Мы допросили их. Они оказались лазутчиками из Фрауенберга. Один из них, по прозвищу долговязый Вильм, возвращался в замок из Гейдельберга; другой пробирался к епископу. Они встретились в Вальдбютельбруне, где, сидя в трактире, делились своими секретами.
— А вот и письмо епископа к маркграфу Фридриху! — воскликнул Флукс, размахивая бумажкой, которую он вытащил из-за пазухи. — Мы его нашли в копье Вильма.
— Читай! Читай! — закричали со всех сторон.
Ганс Флукс начал читать, запинаясь на каждом слове, и у всех сразу вытянулись лица. Епископ писал, что Швабский союз, курфюрст Трирский и пфальцграф обещали ему немедленную помощь, что граф Вильгельм фон Геннеберг заключил с ним соглашение, обязавшись порвать с крестьянами и, соединившись с бежавшими в Кобург вассалами епископа, напасть на мятежный Мейнинген, как только из Тюрингии подойдут силы ландграфа Гессенского, а затем ударить с севера на Вюрцбург.
Не успел Флукс дочитать послание, как начальник бильдгаузенского отряда Ганс Шнабель, в свое время принимавший графа Геннеберга в крестьянский союз, с пеной у рта закричал:
— Проклятый изменник и предатель! Разрази его гром! Ведь он снял перчатку в Бильдгаузене и клялся всемогущим богом на «Двенадцати статьях» не щадя сил отстаивать крестьянское дело. Получать доходы от всех игорных и публичных домов епископства — это не противоречит его княжеской чести! Деньги не пахнут! Но оставаться верным данной нам присяге — это ниже его достоинства!
— В Вюрцбурге поставлены виселицы. Выставим на них его имя, — предложил Леонгард Мецлер.
— Правильно! А я смастерю для него доску, — поддержал его Ганс Шнабель, по профессии столяр.
— Я еще не кончил, братья! — продолжал Ганс Флукс. — Другой схваченный лазутчик ехал без письма. Ему было поручено, как он признался, заклинать епископа всеми святыми не медлить с помощью ни минуты. Их дела совсем плохи: в замке нет воды.
— Прекрасно, дорогие друзья! — воскликнул Флориан Гейер, охваченный, как и все, радостным возбуждением. — Теперь, когда подоспели ротенбургские пушки, мы смело можем надеяться, что Фрауенберг будет наш, прежде чем явится епископ.
Звон шпор по каменным плитам заставил его повернуться к двери, и он в изумлении воскликнул:
— Вендель Гиплер! Возможно ли? Да ведь он — в Гейльброне!
— Да, это я, братья, — отвечал вошедший, пожимая руку Флориану. — И если вы дадите мне глоток воды, я буду вам премного обязан.
Он прискакал из Гейльброна в Гейдингсфельд без остановки и только что слез с седла. Его забрызганные грязью сапоги и костюм, запыленные волосы, усталое лицо свидетельствовали лучше всяких слов о долгом пути. Иорг Мецлер поспешил исполнить просьбу канцлера, который в изнеможении опустился на ближайшую скамью и, обращаясь к обступившим его военачальникам и членам крестьянского совета, продолжал:
— Учредительному съезду пришлось прервать свою работу, ибо в данный момент Трухзес, вероятно, уже в Гейльброне и угрожает Вейнсбергу, которому горит желанием отомстить.
— Ну положим, на Гейльброне он обломает себе зубы! — воскликнул среди напряженного молчания Ганс Флукс.
— Вы были бы правы, если бы население этого города не уступало в стойкости его стенам. Но когда я отправлялся в путь, ваш собственный зять, бургомистр Ризер, вместе с городским писарем и Гансом Берле двинулись в Штуттгарт, где уже находится главная квартира Трухзеса, чтобы договориться о сдаче ему Гейльброна.
— Тьфу ты, пропасть! — вскрикнул красный как рак Флукс. — Будь я там, никогда бы не допустил такого позора!
Громкий смех, вызванный его хвастливым заявлением, слегка разрядил напряженное состояние присутствующих. Иорг Мецлер принес кружку вина из «Оленя», и Вендель Гиплер, утолив жажду, сказал со вздохом:
— Горестно думать, что все было бы иначе всюду — от Шварцвальда до самого Унтерзее, — если бы вы, согласно решению, принятому под Вейнсбергом, ударили бы во фланг Трухзесу, вместо того чтобы сидеть здесь в бездействии.
— Тогда он не смог бы подавить восстание в Верхней Швабии и обрушиться на Франконию.
— Попробуйте-ка вразумить их, — сказал Флориан Гейер. — Мы с Гецом старались изо всех сил, но это было все равно что служить обедню глухим.
— Пять дней тому назад под Беблингеном произошло кровопролитное сражение, — продолжал Гиплер. — Вюртембержцы дрались как львы, но в конце концов их сломили. Свыше двух тысяч крестьян пало в бою, а тех, кто пытался спастись бегством, перебили. Все окрестные дороги и леса были наводнены беглецами, и Трухзес в каждое местечко, в каждую деревушку приводил с собой палача, у которого работы было по горло. С особой яростью он преследует проповедников новой веры. Вперед он высылает своих «железных всадников», которые всюду сеют ужас. Народ называет их «иорговой смертью».
— Пусть приходят! Нас они не застращают! — рявкнул Якоб Кель, ударив себя кулаком в грудь.
Вендель Гиплер продолжал:
— Как только мы узнали от беглецов о Беблингенском деле, мы с Лохером и Шикнером решили принять все меры, какие только были возможны. Но так как оденвальдцы и неккартальцы остались здесь, все наши усилия были тщетны. Крестьяне были готовы сражаться, но горожане струсили и стали отправлять к Трухзесу послов с изъявлением покорности. Без опорных пунктов в городах и с теми ничтожными силами, которые нам удалось сколотить, сопротивление теряло всякую почву. Особенно после того, как Трухзес разбил остатки войск, уцелевших под Беблингеном, собранные Еклейном Рорбахом. Поэтому я и поспешил сюда. Помогите же, братья! Помогите, друзья! Участь нашего общего дела решается не здесь, а в Вюртемберге. Только бы разбить наголову Трухзеса, и мы обезглавим всех наших врагов.
Большой Лингарт, звонко стукнув своим большим мечом о каменный пол, крикнул:
— Он прав! К оружию! Вперед, на Трухзеса!
Но его призыв почти не нашел отклика. Кунц Байер, оттенфингенский шультгейс, спокойно отчеканил:
— Мы франконцы, а не швабы.
— Своя рубашка ближе к телу, — уточнил Якоб Кель.
Иорг Мецлер и Ганс Флукс замахали на них кулаками.
Вендель Гиплер смотрел на них, не веря своим ушам.
— Так вот они каковы, эти борцы за свободу, взирающие сложа руки на гибель своих братьев, — с горечью заметил Флориан Гейер.
— Но ведь и вюрцбуржцы тоже наши братья, и мы поклялись им не уходить отсюда, пока не сбросим замок с «Горы богоматери», — возразил священник Бубенлебен.
— Беда, беда, теперь все пойдет прахом! — горестно произнес бретгеймец Мецлер.
— Нет, преподобный брат, так не годится, — возразил Бубенлебену главный предводитель Тауберского ополчения, приземистый и коренастый Ганс Кольбеншлаг. — Охотно верю, что там, в замке, дело швах. Но мы слышим, что нам угрожают епископ Конрад с пфальцграфом, а с севера — Геннебержец и ландграф Гессенский.
— А с востока маркграф Казимир, — дополнил его Грегор из Бургбернгейма, предводитель маркграфских крестьян. — Он собрал большие силы на ротенбургской границе и уничтожает все огнем и мечом пока в своем краю.
— И кроме всего, мы еще не готовы к бою, — заговорил опять Кольбеншлаг. — Мы распустили по домам на полевые работы много людей, наиболее надежных, — тех, в ком мы были уверены, что они вернутся по первому зову, а Черная рать понесла большие потери.
— Так вот оно что? — растерянно воскликнул Вендель Гиплер. — Вот когда нам придется горько раскаяться в том, что мы отказались от вербовки ландскнехтов, вернувшихся после Павии. Мы отдали их врагу и повернули их оружие против себя же.
Флориан Гейер, задумчиво теребивший свой ус, выпрямился и сказал:
— Из всех наших врагов самый опасный, несомненно, Трухзес. Разбей мы его, нам нетрудно будет справиться с остальными. Мы сами виноваты в том, что дали ему усилиться. Поэтому мы должны в первую очередь, не обнажая нашего тыла, бросить против него наши главные силы. Наша первая и неотложная забота — вернуть под знамена временно отпущенных и обратиться от имени комитета к союзным общинам с призывом вооружить всех способных носить оружие и быть готовым к выступлению по первому нашему зову. Теперь нам придется собрать в кулак все наши силы, чтобы отразить врага. Лишь самую незначительную часть войск нужно будет оставить для наблюдения за Мариенбергом, другую часть — выдвинуть против Геннеберга и ландграфа, третью — против маркграфа, но главное ядро мы должны бросить на Трухзеса. Обсудите мое предложение, не теряя времени, и за дело!
— Но прежде всего надо наметить план кампании, — возразил Кунц Байер.
— Мы его наметим и обсудим, пока наши гонцы будут разъезжать по краю, — отвечал Флориан Гейер. — Главное — не дать нашим врагам соединиться и обложить нас здесь, как затравленного кабана.
— Правильно, — поддержал его канцлер, — мы должны избрать сильную позицию и ударить на епископа, чтобы не дать Трухзесу, который не любит мешкать, соединиться с епископом и пфальцграфом Людвигом. Составим же письма и разошлем гонцов, как предлагает ваш начальник Гейер. Но не посетуйте на меня, если я немного отдохну.
— Да и всем нам не мешает подкрепиться. Я уже давно голоден как волк, — громогласно заявил Якоб Кель.
— А как же мое предложение? — спросил, насупив брови, Флориан Гейер.
— Что ж, кажется, никто не возражает, — отвечал главнокомандующий, и со всех сторон послышались возгласы одобрения.
Когда Вендель Гиплер выходил из церкви, в толпе, среди которой уже разнесся слух о его приезде, к нему подошла Черная Гофманша. Она спросила его, не слышал ли он что-нибудь о Еклейне Рорбахе.
— А, это вы, Гофманша! — смешавшись, произнес он, — о Рорбахе? Ничего утешительного, к сожалению, сообщить вам не могу. Сами знаете, война!
— Убит? — прошептала она.
— Я слышал только, что под Гогенаспергом он попал в плен к Трухзесу.
— О, это хуже смерти! — простонала она.
— Несомненно. Он расправится с ним за вейнсбергское дело, — отвечал Гиплер, бросив на старуху сочувственный взгляд.
Георг Трухзес фон Вальдбург
С гравюры К. Амбергера
Она испытующе посмотрела на него и сказала:
— Говорите прямо, что знаете.
— Эх, милая моя, вы сами можете догадаться. Мельхиор Нонненмахер, игравший графу фон Гельфенштейну на флейте, когда того прогоняли сквозь строй, тоже был схвачен за несколько дней до Рорбаха. После большого сражения под Беблингеном Нонненмахеру удалось бежать в Зиндельфинген. Но бюргеры выдали его Трухзесу. Когда наступила ночь, Трухзес велел приковать его цепью к яблоне, в лагере, так что он мог отойти шага на два и бегать вокруг дерева. Потом он приказал принести побольше дров и разложить их вокруг яблони. Сам Трухзес и его рыцари подкинули по охапке дров и злорадствовали, что зажарят музыканта на медленном огне. И эти звери стояли вокруг костра, шутили и смеялись, глядя, как несчастный бегал, подпрыгивал, корчился и ревел от боли в огненном кругу. Его мученья длились долго; наконец он упал на землю и затих… Мне рассказал об этом один из пленных крестьян, которого заставили присутствовать при казни. Ему удалось бежать.
Среди слушавших этот рассказ были большей частью закаленные люди, но и те содрогнулись, узнав о такой варварской жестокости. Черная Гофманша разразилась безумным смехом.
— Уму непостижимо, как полководец мог решиться запятнать себя такими зверствами перед современниками и потомством? — сказал Вендель Гиплер, прощаясь с Гейером перед входом в «Олень», где он остановился на ночлег. — Он покрыл себя несмываемым позором, который никогда не сотрется в памяти людской.
— Швабский союз хорошо знал, кого выбирает в главнокомандующие, — отозвался Флориан Гейер. — Чтобы спасти такое неправедное дело, как дело господ, нужен самый бессовестный из негодяев. Так постараемся же извлечь пользу из страха, который он внушает.
Между тем согласно распоряжению, отданному Гейером накануне, на площади возле орудий выстроились пушкари, подъехали упряжки и началась перевозка батареи на Николаусберг. Гейер совсем забыл об обеде и только через несколько часов, сидя вместе с Гиплером в «Олене» над планом военных действий, подкрепил свои силы. Они совещались до поздней ночи.
Исключительно удобную позицию, соответствующую намеченному Гиплером плану, представлял собой городок Краутгейм, лежавший высоко на холме, господствовавшем над долиной Якста. Отсюда, отрезав Восточную Франконию, можно было мешать продвижению Трухзеса. Укрепившись в Краутгейме, крестьяне могли бы не только держать в своих руках всю еще не усмиренную область до самого Штуттгарта, но и охранять подступы к Тауберу и среднему течению Майна, что имело огромное значение для снабжения войск необходимыми припасами. Обойти эту позицию было невозможно. С правого фланга ее прикрывали Аллерсгейм и Аморбах, а фланговый марш через Мильтенберг обнажил бы Штуттгарт. С левого же фланга обход был невозможен, покуда держался Ротенбург. Лишь Гальтенбергштеттен, замок Цейзольфа фон Розенберга, прерывал линии крестьянской обороны и потому подлежал разрушению. Фронтальные подступы были защищены не только самой природой, но и целым рядом замков и крепостей графов Гогенлоэ — союзников крестьян. Нужно было предложить графам безотлагательно снабдить свои гарнизоны артиллерией, снаряжением, пополнить людьми и съестными припасами.
Но когда на следующий день Флориан Гейер и Вендель Гиплер изложили этот план перед собранием, они натолкнулись на упорное сопротивление. Даже неоспоримые доказательства выгодности позиции под Краутгеймом не оказали на членов военного совета никакого действия. Они и слышать ничего не хотели. Прав был Симон Нейфер, утверждая, что большинство крестьянских главарей враждебно Флориану Гейеру. Не только тщеславие, зависть, мелкое честолюбие военачальников, но и диспутомания и нетерпимость попов вылились сейчас наружу в этой постыдной словесной перепалке. Люди слишком зажились в богатом Вюрцбурге и не хотели покидать его, как им казалось, без большой нужды. Какое им дело до швабов или вюртембержцев? Даже обращения к союзным общинам не были разосланы. При всей поддержке, которую оказывали Флориану Гейеру и Венделю Гиплеру Большой Лингарт, братья Мецлеры, Ганс Кольбеншлаг, Грегор из Бургбернгейма и Иорг Шпельт, драгоценное время шло, а дело не двигалось с места. Канцлер был близок к отчаянью.
— Ну что ж, отлично! — крикнул он с горечью. — Будем сидеть здесь сложа руки и ждать, пока Трухзес не перережет нас всех или зажарит живьем. В этом и будет все наше геройство.
На следующее утро в комитет явился Гец фон Берлихинген — впервые со времени разгрома церкви св. Буркхарда. С большим трудом ему удалось протиснуться через толпу крестьян, запрудившую всю площадь. Там были воины Черной рати, ротенбургского ополчения, евангелической рати, стоявшие лагерем в Гохберге. Привезенные Гиплером вести взбудоражили весь крестьянский стан, и раскол в комитете грозил передаться всему войску. Навстречу рыцарю с железной рукой неслись яростные крики: «Поможем нашим братьям!», «Долой предателей общего дела!», «В поход! В поход!» В комитете представители враждующих партий угрожающе наступали друг на друга, и лишь Якобу Колю с его громовым голосом удалось водворить относительную тишину. Заседание открылось. Слово взял Гец. Он заявил, что теперь уже слишком поздно совещаться. Примет ли комитет план Гейера или отвергнет его, он, Гец, немедленно порывает с евангелическим воинством. Братья на Неккаре зажаты в тиски неприятелем и молят о помощи.
— А я утверждаю, — воскликнул возмущенный Флориан Гейер, выпрямившись во весь свой рост, — что всякий, кто покидает своих братьев в нужде, предает дело свободы. Он подлежит военному суду, и с ним надо поступить, как с предателями в Вейнсберге.
Среди поднявшегося ропота Гец вскинул на него странный, почти смущенный взгляд и сказал:
— В Вейнсберге? Вот как раз из-за Вейнсберга я и явился сюда. Трухзес отомстил за эту кровавую резню. Вейнсберга больше не существует. Железные рейтары окружили город, вышвырнули оттуда стариков, женщин и детей, — мужчины еще раньше бежали, — и подожгли город со всех концов. Сегодня на рассвете мне донес об этом гонец. Весь город со всем имуществом, скотом, запасами обращен в пепел. Не уцелело и десятка домов. Вейнсбержцы бежали с пустыми руками, ландскнехтам запрещено было грабить. И в то время как все добро погибало в огне, глашатаи объявили разбегавшимся с воплями горожанам, что то место, где прежде стояли город и замок, должно остаться пустынным на вечные времена. Все доходы с окрестных полей переходят в казну, за исключением крупной суммы, которая будет выплачиваться ежегодно вдове графа фон Гельфенштейна и его сыну. А за несколько дней перед тем таким же образом был сметен с лица земли и Бекинген, родина Еклейна Рорбаха.
Все застыли в немом ужасе. Теперь уже никто не возражал против предложения Гейера, которое было принято единогласно. Комитет издал приказ о возвращении под знамена всех находящихся в отпуску, разослал вербовщиков, обратился к братским общинам с призывом быть в боевой готовности. Он написал графам фон Гогенлоэ, чтобы они, не теряя времени, привели в состояние обороны все расположенные на западе крепости и замки, обратился к ротенбургскому магистрату со строгим наказом разрушить Гальтенбергштеттенский замок и потребовал у него новую партию пороху и ядер.
Наутро Гец фон Берлихинген и Иорг Мецлер выступили на Краутгейм с оденвальдцами и неккартальцами общей численностью в восемь тысяч человек. Подкрепления должны были следовать за ними. Флориан Гейер обещал канцлеру, сопровождавшему евангелическое войско, по первому же зову присоединиться к ним со своей Черной ратью. Гофманша не последовала за своими земляками. Она осталась в Гейдингсфельде дожидаться, пока решится судьба Мариенберга.
Тем временем в каждую картауну впрягли по двенадцати лошадей и пушки втащили на самую вершину Николаусберга. Вюрцбуржцы вырыли на Телле две линии траншей и пригласили рудокопов, чтобы подвести мину под крутую скалу у церкви св. Буркхарда и по всем правилам искусства взорвать на воздух епископский замок. Между тем канонир Ганс Буслер открыл огонь из своих батарей. Орудия с горы св. Николая, с Телля и городских башен извергали громы и молнии, и от непрерывного грохота содрогалась земля. Осажденные пока берегли порох. Как только они втащили бомбарду на крышу сеновала в замке, они тут же открыли убийственный огонь по траншеям, но выбить оттуда вюрцбуржцев не смогли. Ротенбургские картауны не оправдали ожиданий, так как вершина Николаусберга была ниже замка. Поэтому из Ротенбурга был выписан литейщик Шиллер и ему было поручено отлить такую пушку, перед которой не устояла бы ни одна стена. Мастер тотчас же принялся за работу, но события опередили его.
Хорошо пристрелявшаяся батарея на Класберге наносила епископскому гарнизону серьезный ущерб, и в один прекрасный день тяжелые ядра отбили у замка целый угол стены. Но сему поводу в Вюрцбурге было большое ликованье, и в «Зеленом дереве» опять началась запись охотников для повторного штурма замка. К счастью, еще свежи были воспоминанья об ужасах ночи 15 мая. Они отпугнули тех, на кого не подействовали протесты Флориана Гейера и Келя, считавших непростительным легкомыслием посылать на верную гибель людей теперь, когда нужно было беречь каждого человека для предстоявшей решительной схватки. Тем более что замок, отрезанный осаждающими со всех сторон, скоро должен был пасть, как перезрелый плод, в руки вюрцбуржцев. Народ валом валил в «Зеленое дерево», но там объявилось куда больше охотников промочить горло, чем идти на приступ. День был знойный и душный. С наступлением сумерек в небе заблистали зарницы.
В глубоком раздумье стоял Флориан Гейер перед окном своей каморки в доме священника. Итак, поход против Геннебержца и маркграфа Казимира — дело решенное. Но препирательства по этому поводу длились так долго, что теперь все зависит от событий на западе. Флориан мысленно взвешивал преимущества краутгеймской позиции и боевые качества каждого крестьянского отряда.
Вспышка молнии вырвала из мрака церковную ограду, на фоне которой он увидел две фигуры в плащах, переходившие через улицу. Секунда, и они опять исчезли во тьме. Потом почти бесшумно отворилась дверь, и Гейер, встрепенувшись, спросил:
— Кто там?
— Говори тише, — отвечал сдавленный голос, показавшийся рыцарю очень знакомым. — Никто не должен знать, что я здесь.
Гейер достал трут, высек огонь и при свете голубоватого пламени пропитанного серой фитиля убедился, что не ошибся: перед ним стоял его шурин Вильгельм фон Грумбах.
— А твой спутник? — спросил он, сдержанно пожав ему руку.
— Он ждет внизу, у входа, — тихо отвечал Вильгельм. — Это мой конюх, Тес Ланг, ты его знаешь.
— К сожалению. Ну, садись. Можешь говорить громко. Мы одни. Но что привело тебя ко мне? Ты из Мариенберга?
Усевшись за стол, Вильгельм фон Грумбах продолжал, однако, говорить шепотом:
— Я не уверен, что нас никто не подслушивает за дверью.
— У тебя совесть нечиста, — сказал Флориан Гейер, пожав плечами.
Его шурин промолчал.
— Так чего же ты от меня хочешь?
— Я покинул замок, чтобы привести подкрепление. Но это только предлог…
— Подкрепление, которого вы с таким нетерпением, но тщетно ждете, — закончил вместо него Гейер. — Нам это известно. Мы перехватили гонцов приора.
— Мы так и думали. Видишь ли, я приехал поговорить с тобой по душам. Я знаю, что ты будешь молчать, но все-таки дай мне слово.
— Ты требуешь слишком многого. Я буду молчать обо всем, что касается лично тебя, но не больше.
— Этого достаточно, — заявил Грумбах. — Итак, я вызвался отправиться за подмогой. Ваши ядра стоили жизни не одному из наших рыцарей и ландскнехтов. Каноники, правда, намерены мужественно обороняться, но вы не даете им передышки ни ночью, ни днем, и они тоже начинают сдавать. К тому же у нас вода на исходе. Уже третий день все варят на вине. А у меня ведь с самого начала не было никакой охоты рисковать своей шкурой из-за епископа. Ты знаешь, мне всегда претило быть вассалом попа, а тем более теперь, когда епископ спрятался в кусты, а мы должны подставлять свой лоб. Как будто мы не дворяне, а крепостные. Мне растолковал это еще Зиккинген. Пора сбросить это ярмо. Теперь или никогда! Одним словом, я хочу быть с вами, как Гец, Вертгейм, Геннеберг, Гогенлоэ, Лёвенштейн и другие.
— Рад, что ты наконец пришел к этому, — произнес Гейер и провел рукой по глазам, как бы желая отогнать образ жены, которую живо напомнил ему шурин. — Но серьезно ли твое решение стать гражданином нового мира? Готов ли ты отдать свое добро и, если понадобится, и жизнь за свободу для всех?
— Да, готов, будь ваша хваленая свобода хоть от самого дьявола.
— Это дворянская свобода от дьявола! — воскликнул Флориан Гейер. — А ты знаешь наш манифест?
— Гец и ваш комитет любезно прислали его нам в замок. Кстати, Гец, не знаю по каким владениям, тоже вассал епископа. Он, правда, разорвал вассальную связь, но когда уже стоял под стенами Фрауенберга.
— Тебе тоже придется это сделать или, вернее, твоему брату Гансу, как главе Грумбахов, когда вы вступите в союз.
— С Гансом ничего не выйдет, пока он сидит в замке, — сказал Грумбах, подернув плечами, — пока вступаю в союз один я.
— И ты серьезно намерен принять наши «Двенадцать статей» под присягой?
— Да, намерен, раз ты требуешь, и обязуюсь помогать союзу в нужде и опасности так же, как и он — мне.
— Само собой, наш союз основан на обоюдной поддержке, — сказал Гейер, — но я не могу принять от тебя присяги без свидетелей.
— Дело не к спеху, — небрежно бросил Вильгельм. — Я напишу вашему комитету из Римпара. Заезжать в Вюрцбург я пока не рискую. Там меня слишком хорошо знают. Ты помнишь дом рыбаков, не доходя до Буркхардских ворот? Там мы оставили коней. Переправа обеспечена. Мне бы только запастись охранной грамотой…
— Грамотой я могу тебя снабдить, как предводитель Черной рати, если ты поклянешься служить верой и правдой Франконскому братству и свято соблюдать все его приказы и предписания. Клянешься?
— Клянусь, — произнес Грумбах и скрепил клятву торжественным рукопожатием.
Флориан Гейер написал охранную грамоту и вручил ее своему молодому шурину со словами:
— Теперь ты связан клятвой. Советую тебе по возвращении домой укрепить как можно лучше Римпар и все наши замки. Комитет обратился ко всем союзным общинам с призывом поставить под ружье всех способных носить оружие мужчин до сорокалетнего возраста. Я пришлю тебе это воззвание, как члену нашего союза. Позаботься о его распространении в Грамшацком лесу и о том, чтобы оно было приведено в исполнение. Мы должны нанести нашим врагам решительный удар. Ну, прощай. Передай поклон моей дорогой жене. При первой же возможности я буду у нее в Римпаре. До сего времени, при всем моем великом желании, никак не мог вырваться.
Он расстался с шурином так же холодно, как и встретил его. Уже не говоря о своекорыстных причинах перехода Вильгельма на сторону крестьян, благородное сердце Флориана возмущалось тем, что тот покидал своих друзей в опасности. Молодой Грумбах проверил, свободно ли ходит кинжал в ножнах, закутался плотней в плащ и направился к двери. Его зять остановился на пороге с высоко поднятым поставцом, освещая ему дорогу. Грумбах быстро и бесшумно выскользнул за дверь.
Глава шестая
Фрауенбергские господа сидели за утренней трапезой в довольно мрачном расположении духа. Картауны крестьян продолжали громить стены замка, а из Гейдельберга все еще не было никаких вестей и никакой надежды на снятие осады. Для лошадей и коров уже не было воды. Расчеты же на то, что уход евангелического воинства, о чем донес сторож с дозорной башни, вызван распрями среди крестьян, не оправдались. Адам фон Тюнген и Цейзольф фон Розенберг с несколькими рыцарями в тот же день предприняли вылазку, но уже в Гохберге были встречены столь метким огнем, что были вынуждены повернуть вспять. Через несколько часов вюрцбуржцы, во главе с храбрым начальником квартальной стражи и шлейнским трактирщиком Бальтазаром Вюрцбергером, заняли деревню.
Разговор за столом не клеился. Даже сам юнкер Филипп фон Финстерлор утратил свою словоохотливость. В это время слуга принес приору листок, обернутый вокруг стрелы, выпущенной из арбалета и упавшей на северном дворе замка. Озабоченные, мрачные лица сидевших за столом вдруг оживились.
«Манифест военачальников, избранных людей и собрания общин всей Франконской земли, скрепленный их и города Вюрцбурга печатями», — прочитал приор Фридрих, развернув листок.
— Бросьте в огонь! Какое нам дело до пасквилей этого грязного мужичья, — вскричал граф Вольф фон Кастель.
— Нет, это касается как будто и нас, — возразил приор. — Тут написано: «Ко всем курфюрстам, князьям, графам, баронам, рыцарям, воинам, амтманам, шультгейсам, бургомистрам, членам магистратов, сельским старостам и общинам».
— Ух ты! — крикнул юнкер фон Финстерлор, но гофмейстер и доктор права Себастьян фон Ротенган заметил:
Курфюрст Фридрих Саксонский
С гравюры Альбрехта Дюрера
— Да это обращение ко всей немецкой нации, по всей форме, как будто от настоящего имперского сейма!
— Давайте послушаем, — сказал соборный декан маркграф Бранденбургский и начал читать: — «Поелику всем и каждому известно, что цеховые, торговые и прочие люди, проезжающие по дорогам империи, нередко подвергаются умерщвлению, а также всяческим обидам и притеснениям, как-то: ограблению, нанесению ран, обрезанию ушей, вымогательству под пыткой и задержанию в целях выкупа; поелику известно также, что беднота — простой народ — обременена непосильной барщиной, оброками, поборами и прочими тяготами и столь безбожно ограблена своими господами, что великое множество крестьян с их детьми ввергнуто в жесточайшую нужду…»
Ропот, послышавшийся среди рыцарей и юнкеров, перешел в яростные крики и проклятия по адресу «обнаглевшего мужичья». Манифест задел их за живое. «В огонь! В огонь!» — кричали они. Но каноники молчали, переглядываясь с тайным злорадством. Приор, тоже побагровевший от злобы, выжидал, пока уляжется буря, затем поднял руку, призывая к спокойствию, и продолжал читать:
— «…и поелику известно также, что, к нашему глубокому прискорбию, некоторые духовные и светские владетели, уговорившись между собой, вознамерились лишить своих подданных пищи духовной — божественного слова святого евангелия и, открыто защищая лживые, противные священному писанию учения, воздвигли гонения на праведных христианских наставников, заточают их в темницы и со свирепостью истых тиранов проливают их кровь…»
— Наглая ложь! — воскликнул декан Гуттенберг.
— «…то, дабы искоренить сии нетерпимые злоупотребления и положить предел сим пагубным козням, а также памятуя, что всемогущему богу надлежит повиноваться более, чем людям, мы объединились во имя божие и в защиту святого евангелия и для сохранения мира и справедливости заключили между собой братский и дружеский союз. Мы стремимся восстановить и утвердить лишь то, что нам повелевает слово божие, и уничтожить лишь то, что ему противно. И на этом мы будем стоять твердо, не щадя своей жизни, чести и достояния. Вместе с тем мы порешили истребить все до единого замки, эти разбойничьи гнезда, причиняющие столь великий ущерб цеховым людям и общинам, дабы обеспечить безопасность на сухих и водных путях, и, с божьей помощью, уже немало преуспели в этом деле. Посему мы обращаемся к вам со всеподданнейшей и покорной просьбой оказать нам всемерную помощь и поддержку в сем христианском начинании нашем и не чинить нам препятствий ни делом, ни словом, ни иными путями».
Приор отложил в сторону листок. Все молчали, словно подавленные тяжестью обвинений и устрашенные мощным голосом народного суда, прозвучавшим с такой силой в этом манифесте. Они избегали даже смотреть друг на друга. Только чистая совесть может смотреть правде в глаза. Ганс фон Грумбах проворчал, глядя в свой кубок:
— Узнаю птицу по когтям. Это Гейеровы[126] когти!
И он не ошибся. Это Гейер настоял на том, чтобы в ответ на неслыханную жестокость князей и их военачальников, беспощадно расправлявшихся с восставшими, крестьяне разорвали бы перед лицом всей нации сеть гнусных наветов и обвинений, лжи и клеветы, которой враги неустанно оплетали крестьян. Замысел принадлежал Флориану Гейеру, исполнение — брату Амвросию.
В тот самый день, когда крестьянство обратилось ко всей немецкой нации с манифестом, который, как трубный глас, прозвучал на всю страну, Ганс Кольбеншлаг из Мергентгейма проследовал во главе пятитысячного войска за евангелической ратью в Краутгейм. Еще раньше Грегор из Бургбернгейма выступил со своим отрядом против маркграфа Казимира на Виндсгейм, а Большой Лингарт с ротенбуржцами двинулся в Эндзее и расположился там лагерем, чтобы зайти во фланг маркграфу, беспощадно истреблявшему своих собственных подданных. Одновременно бильдгаузенский отряд направился к северу, чтобы, соединившись под Мельрихштадтом с мейнингенцами, дать отпор графу фон Геннебергу и маркграфу Гессенскому. Кряжистый, упорный Иоганнес Шнабель был самым подходящим человеком для борьбы с Геннебержцем.
Прибыв в Краутгейм, Кольбеншлаг вместо евангелической рати нашел гам приказ главнокомандующего без промедления выступить через Эринген на Неккарсульм. Его немало удивило, почему он должен делать столь долгий и трудный обход через владения графов Гогенлоэ, но он повиновался и, дав небольшую передышку людям и коням и запасшись проводниками, двинулся в путь. Глухой ночью он подступил к Эрингену, но ни Геца фон Берлихингена, ни Иорга Мецлера там не оказалось. Вдруг внизу, в долине, он увидел бесчисленное множество огней. Но высланные с большими предосторожностями разведчики донесли ему, что это не рыцарь с железной рукой, а Трухзес, расположившийся лагерем под Неккарсульмом. Сторожевые огни, пылавшие на огромном пространстве, ввели в заблуждение Кольбеншлага. Решив, что он имеет перед собой значительно превосходящие его численностью силы противника, он не осмелился напасть на него и отступил назад к Эрингену. Между тем Трухзес фон Вальдбург просто в силу какой-то непонятной неосторожности рассредотачивал свои войска, и рискни Кольбеншлаг атаковать его, он разбил бы Трухзеса наголову и сбросил бы его в Неккар.
Измученные и обессиленные долгим, утомительным переходом, тауберцы уже на рассвете подошли к стенам Эрингена. Евангелического воинства нет и в помине. Город запер перед ними свои ворота. Выстрелы на аванпостах всполошили крестьян, завтракавших у походных кухонь. С запада неслась к ним столбом огромная туча пыли. Сквозь завесу поблескивало оружие. Ганс Кольбеншлаг вскочил в седло и поскакал вперед. Сквозь облако пыли он узнал знамена евангелической рати. Но в каком она была виде! То было не войско, а беспорядочная вооруженная толпа, смешавшиеся в диком хаосе пехота и конница, пушки и пороховые фургоны, повозки со снаряжением и обоз. Казалось, это были остатки армии, разгромленной неприятелем и бежавшей с поля сражения!
Ганс Кольбеншлаг не мог выговорить ни слова, когда к нему подъехали Вендель Гиплер и Иорг Мецлер. Но при виде Кольбеншлага у Гиплера как будто отлегло от сердца, и он радостно воскликнул:
— Ну, слава богу, что вы наконец здесь!
И когда предводитель тауберцев рассказал о своем ночном марше, Иорг Мецлер расхохотался, как безумный.
— А мы торчали в это время под Адольцфуртом! — простонал канцлер.
— Уму непостижимо! Кой черт занес вас туда? — спросил Кольбеншлаг, в недоумении глядя на них. — Не разойдись мы, от Трухзеса осталось бы мокрое место. А теперь он, кажется, разбил вас? И теперь преспокойно стоит под Неккарсульмом. Но куда запропастился Гец?
— Ищи ветра в поле! Теперь ему сам черт соли на хвост не насыплет! — возбужденно вскрикнул обычно столь невозмутимый Мецлер, после чего Гиплер поспешил заявить:
— Мне нужно срочно в город. Постарайтесь по мере возможности навести порядок.
— И он ускакал прочь.
Последовав за Мецлером, Кольбеншлаг узнал, что при первом же известии о приближении Трухзеса евангелическое воинство, стоявшее в Неккарсульме, с величайшей поспешностью очистило город, оставив гарнизону в виде подкрепления часть своих людей и пушек.
— Почему мы не двинулись прямым путем на Эринген? — продолжал мрачный, как туча, Мецлер. — Сам можешь догадаться. Гец боялся встретиться с вами, это могло расстроить все его планы. Прошлой ночью, когда мы стояли в Адольцфурте, он, имеете со своими приспешниками, дал тягу.
Кольбеншлаг так затянул поводья, что его тяжелый валашский конь взвился на дыбы.
— Да, брат, дело ясное, тут пахнет предательством! — помрачнев, воскликнул Мецлер. — Для Гиплера это большой удар. Ведь это он привел к нам Геца и сулил златые горы. А затея его лопнула, как мыльный пузырь.
— Проклятье! Видать, сам дьявол подсунул нам однорукого на нашу погибель! — крикнул Кольбеншлаг, успокоив коня.
— Поделом нам, — сокрушенно проговорил Мецлер. — Ведь был человек, который еще тогда, в Вейнсберге, предостерегал нас, чтобы мы не связывались с Гецом и дворянами. А мы и ухом не повели.
— Гейер фон Гейерсберг?
— А то кто же? Когда утром поднялись крики «Измена!», неккартальцы посрывали знамена с древков и все как один разбежались кто куда горазд, как будто Трухзес уже схватил их за загривок. Ганс Флукс тоже — поминай как звали!
Когда Иорг Мецлер и Кольбеншлаг спешились, перед ними опять появился Вендель Гиплер. Доблестные эрингенские граждане не впустили его в город, хотя только благодаря ему добились от графов фон Гогенлоэ немалых уступок. Вместо того чтобы открыть ворота, на городской стене появился шультгейс и заявил, что они не получали от его светлости никаких распоряжений насчет укрепления гарнизона и обеспечения города съестными припасами. Поэтому они лишены возможности оказать сопротивление Трухзесу и, опасаясь его мести, не могут впустить крестьян.
— Все они одним миром мазаны! — воскликнул Мецлер, выслушав канцлера. — Графы Лёвенштейны и Вертгеймы тоже не выполнили своих обязательств. Ведь они присягали на верность евангелической рати на «Двенадцати статьях», а теперь отвиливают.
— Зато мы теперь по крайней мере знаем, на кого можем положиться, — возразил Гиплер. — Поспешим же в Краутгейм.
Мецлер вместе с Кольбеншлагом постарались установить порядок среди остатков евангелической рати, и затем все тронулись в путь. Кольбеншлаг со своими франконцами шел в арьергарде. Но не успели они удалиться от Эрингена, как у них в тылу показалась конница Трухзеса. Однако гористая местность, пересеченная узкими, извилистыми ложбинами, а также стойкость франконской пехоты заставили всадников отказаться от преследования. На походе к крестьянам стекались из всех деревень свежие пополнения; вернулось немало и беглецов, оправившихся от страха, который нагнала на них измена Геца. К Гиплеру снова вернулась его энергия, и по прибытии в Краутгейм он тотчас разослал гонцов вверх по долине Таубера и в Вюрцбург, требуя скорейшей присылки подкреплений. Сборным пунктом был назначен городок Кёнигсгофен, расположенный к северу, на Таубере. Туда и направился Гиплер, ибо Трухзес, выступив из Неккарсульма на Мекмюль, угрожал зайти с правого фланга и отрезать крестьянские войска от Вюрцбурга.
Между тем вюрцбургский съезд вслед за манифестом ко всей немецкой нации выпустил обращение ко всем городским и сельским общинам Восточной Франконии, призывая их к неукоснительному повиновению властям. Не только прямое сопротивление, но и нерадение при выполнении приказов будет караться по всей строгости закона. Это было то самое обращение, которое послы уже доставили в Ротенбург. Но, требуя повиновения от всей Восточной Франконии и противопоставляя себя князьям и сеньорам, как высшую государственную власть, съезд опирался на древнее право свободных общин, бывшее некогда единственным источником всякой власти в германском государстве. Оксенфургский старшина предложил, чтобы съезд объявил себя представителем свободных общин Франконской земли. Вспомнив о разговоре за столом у Стефана фон Менцингена, Пецольд предложил созвать ландтаг с участием не только союзных сельских и городских общин, но и общин всей Франконии, не исключая Бамберга и Нюрнберга.
Альбрехт Бранденбургский, архиепископ Майнцкий
С гравюры Альбрехта Дюрера
— Но ведь это только часть дела! — возразил вюрцбургский городской писец[127], представлявший вместе с Эренфридом Кумпфом Вюрцбург на съезде. — В ландтаге должны участвовать дворяне и духовенство.
— Ну нет, наши дороги с папистами разошлись на веки вечные! — вскричал лейценбронский поп Деннер, выпрямив свой тощий стан. Он, по своему обыкновению, был в панцире, надетом поверх рясы, и с мечом на боку. — Или вы хотите заставить нас подчиниться решениям ландтага, противным новой вере? Этому не бывать!
— А как насчет епископа Конрада? Его тоже попросим пожаловать на сейм? — насмешливо спросил священник Бубенлебен.
Городской писец решительно заявил:
— Мы обязаны пригласить владетельных господ Восточной Франконии: графов Гогенлоэ, Вертгеймов, маркграфа Казимира; если мы этого не сделаем, мы дадим повод оспаривать постановления ландтага. И ничего не поделаешь, епископа Вюрцбургского тоже нельзя обойти.
Представители духовенства бурно запротестовали. Эренфрид Кумпф, вскочив с места, стал горячо доказывать всю бессмысленность подобного приглашения.
— Ну нет! — воскликнул он с юношеской живостью, — епископа и всю эту клику нельзя и близко подпускать к нашему святому делу!
Флориан Гейер с тревогой почувствовал, что спор принимает угрожающий характер. Он понял, что устами городского писца говорит вюрцбургский патрициат, и решил вмешаться.
— Дайте только этим прохвостам палец, — сказал он, — и они отхватят у вас всю руку. Духовные и светские владетельные господа захватили власть путем насилия, лишив общины свободы, которую мы стремимся восстановить и которую восстановим. Да простит нам господь, что мы сами своей бездеятельностью дали им время собраться с силами. Теперь они, вооруженные до зубов, стоят у наших границ. Чем же вы собираетесь заставить их подчиниться решениям ландтага, даже если они согласятся участвовать в нем? Если мы не противопоставим силе силу, то этот ландтаг окажется лишь детской забавой. Как и вы, я непоколебимо верю в конечную победу нашего дела. Настали решающие дни: теперь нас рассудит меч. Пока что для укрепления наших сил вполне достаточно призвать на сейм только городские и сельские общины Восточной Франконии. В свободном государстве не должно быть привилегированных сословий. Они были бы язвой на его теле.
Его речь произвела заметное впечатление, но Бубенлебен поспешил рассеять его своими словами, обращенными к священникам:
— Мы все до единого, так же как и брат Гейер, свято верим в победу нашего оружия. Наша мощь несокрушима, и ничто не может ее поколебать. Но наш христианский долг сделать все от нас зависящее, чтобы помешать пролитию крови. Ландтаг даст нам эту возможность. Созовем его согласно предложению городского писца и попытаемся, ничем не поступаясь, уладить полюбовно наши разногласия с господами. Время не терпит.
Флориану Гейеру так и не удалось вразумить их, и он удалился с горьким сознанием того, что его предвидение бессильно перед тупым непониманием и тайными происками. Было решено созвать ландтаг в Швейнфурте 1 июня. Было также принято предложение городского писца, который настоял на том, чтобы епископу Конраду, в знак особого почета, приглашение было отправлено с двумя послами. Не помогли даже упорные возражения Эренфрида Кумпфа. Одним из этих послов был юный Шпельт. Но послам пришлось вернуться с полпути несолоно хлебавши: ландграф Людвиг Пфальцский, который намеревался объединить свои силы с Трухзесом фон Вальдбургом, преградил им дорогу. Узнав о приглашении епископа на ландтаг, вюрцбуржцы в гневе высыпали на улицу. Торговцы поспешно запирали лавки. Кое-кому из местной знати, кто попал под горячую руку, задали изрядную трепку. На овощном рынке, возле прекрасной готической церкви святой девы, под ликующие крики толпы, сожгли куклу из тряпок и соломы, изображавшую его преосвященство епископа Конрада. Затем толпа бросилась к ратуше и выбила нее стекла. Бургомистр и ратсгеры попрятались кто куда и не вылезали до тех пор, пока буяны не утомились и не разбрелись по кабакам.
Предводитель Черной рати вместе с Якобом Келем и еще двумя командирами Франконского войска был избран делегатом на швейнфуртский ландтаг. Он пытался было уклониться от этой чести, доказывая, что теперь нужно драться, а не заседать, но все его старания были напрасны. Когда брат Амвросий, который пользовался его доверием, стал его уговаривать, Гейер сказал ему:
— С врагом я предпочитаю разговаривать языком пушек. Почему бы им не послать Бубенлебена или кого-нибудь из тех, кто, как и он, нахватался учености?
— Потому что им нужен человек, владеющий мечом не хуже, чем языком, человек, одно имя которого внушало бы уважение врагу, — отвечал брат Амвросий.
И Флориан Гейер и на этот раз подчинился общей воле. Но подчинился скрепя сердце, как он сам признался брату Амвросию.
— С какой радостью я бы пошел сейчас в бой, — сказал он ему на прощанье, садясь на своего вороного коня, чтобы ехать в Швейнфурт. Это было в последний день мая.
Все башни имперского вольного города Швейнфурта были украшены флагами, и над колокольней старинной церкви св. Иоанна реяло городское знамя с черным орлом на серебряном поле. У городских ворот делегатов встречали фанфарами. На следующее утро все приехавшие на ландтаг собрались в старой ратуше, где магистрат их потчевал майнцским вином. Но делегатов не набралось и двадцати человек. Кучка людей казалась затерянной в огромном сумрачном зале. Это были главным образом представители крестьянских отрядов Вюрцбурга, Бамберга, верхней Франконии и Айшгрунда. От городов были только представители Ротенбурга, Вюрцбурга и два-три из верхней Франконии. Из крупной знати и владетельных феодалов ни один даже не соблаговолил ответить на приглашение; только маркграф Казимир написал, что приедет, если ему позволит время. Ротенбург прислал рыцаря фон Менцингена, но дал ему в спутники ненавистника крестьян Иеронима Гасселя.
— Календари, должно быть, предсказывают дождь: все лягушки попрятались в болото, — сказал рыцарь фон Менцинген, поздоровавшись с Флорианом Гейером. Он имел в виду вюрцбуржцев. Увлекая Гейера в глубокую амбразуру окна, он продолжал: — Ну, кто был прав? Вы сами видите: на города нельзя положиться. Я взял на себя смелость написать маркграфу Казимиру. Он изъявил готовность вступить в переговоры с франконским крестьянством. Он даже собирается, как вы, должно быть, слышали, самолично прибыть сюда.
— Да, потому что Грегор и Большой Лингарт грозят зажать его в клещи, — усмехнувшись, отвечал Флориан Гейер.
И в самом деле, маркграф отступал форсированным маршем, спасаясь от крестьянских войск, и уже на следующий день делегатам ландтага стало известно, что он прислал в Вюрцбург заверение в своем благорасположении и намерении вступить с крестьянами в переговоры и даже заключить с ними союз. Между тем все военачальники были отозваны назад к своим войскам, и неудавшийся ландтаг разошелся, поручив Стефану фон Менцингену и Флориану Гейеру ведение мирных переговоров с маркграфом. В ожидании охранной грамоты от последнего они оба прибыли в Ротенбург, откуда до ставки маркграфа было ближе, чем из Швейнфурта.
В пятницу накануне троицы возвращавшиеся в Вюрцбург делегаты увидели, что на западе весь небосклон окрашен заревом. Ротенбуржцы, отозванные вместе с Грегором, чтобы выступить на Кёнигсгофен, тоже обратили внимание на зловещее зарево. Тяжелое предчувствие овладело Большим Лингартом и Леонгардом Мецлером, скакавшими к югу, и, пришпорив коней, они понеслись во весь дух вниз по течению Таубера.
Глава седьмая
— Доктор Эбергард вернулся, — сказала Сабина фон Муслор. Стоя у окна, она видела, как фрау Маргарета фон Менцинген с Эльзой переходят через Дворянскую улицу.
— А мне-то что? Я давно это знаю, — не меняя позы, холодно отвечала Габриэла. Она лежала на софе, положив сплетенные руки под голову. Ее правая нога свисала до пола. В таком положении она пребывала уже добрый час.
— Помнится, ты не всегда была к нему так безразлична, как сейчас. Если бы ты после крещенского обеда не отказалась из упрямства, я помирила бы тебя с Максом. Ты проморгала свое счастье, а теперь оно достанется другой.
Ответом был резкий смех.
— Твой смех ужасен! — промолвила Сабина. — Так может смеяться только женщина без сердца.
Ответа не последовало, и Сабина со вздохом опустилась в кресло, на подушки, искусно вышитые ее рукой. Этот смех обдал ее таким холодом, что у нее не хватило духу продолжать.
С того дня, как они встретились во дворе замка с Флорианом Гейером, между подругами пробежала черная кошка. Сердце Сабины ожесточилось против подруги, но Габриэла ничего не замечала, как не замечала и поблекших роз на щеках Сабины. Она жила рядом с подругой и ее матерью, замкнувшись в себе, и то, что еще недавно живо интересовало и даже волновало ее, стало ей теперь безразлично. Не тронуло ее и возвращение Макса в Ротенбург.
Он вернулся после роспуска гейльбронского съезда, созванного для выработки новой конституции империи. По просьбе канцлера он забрал с собой связанные с этим съездом документы, которые впоследствии сдал в ротенбургский архив. Там, через несколько столетий, среди других бумаг, был обнаружен проект конституции Германской империи — светлый памятник Великой крестьянской революции, социально-политические идеи и чаяния которой оставили далеко позади идеалы той эпохи, — революции, против которой ее враги воздвигли целые монбланы грязной лжи и клеветы. Но правду нельзя утопить даже в море крови и грязи: настанет день, и она восторжествует.
Макс хранил этот драгоценный документ в своем скромном убежище на Вюрцбургской улице. Он был твердо уверен в том, что комиссия по составлению конституции скоро возобновит свою деятельность, и жил, впитывая полной грудью радость встреч с любимой. Фрейлейн фон Бадель по-прежнему покровительствовала молодым людям. Через нее Эльза получала письма от Макса из Гейльброна. К ней в дом и направлялись сейчас мать с дочерью, когда Сабина увидела их из окна. Эльза шла с радостным нетерпением, забыв о черных тучах, нависших над ее будущим; фрау Маргарета — в надежде отвести душу в приятной беседе. У ее мужа было серьезное столкновение с бургомистром. Вопреки запрету Берметера Стефан фон Менцинген впустил в город доктора Карлштадта. Тогда бургомистр категорически предписал главе комитета выборных в двухнедельный срок порвать всякие отношения с маркграфом Казимиром, как противоречащие законам города. Ответ маркграфа, тот самый, на который фон Менцинген ссылался в Швейнфурте, разговаривая с Флорианом Гейером, сослужил рыцарю Стефану плохую службу. Прискакавший с этим ответом гонец вынужден был показать его страже у городских ворот, чтобы получить доступ в город, а на письме, адресованном рыцарю фон Менцингену, значилось: «Нашему советнику и верному слуге».
— Не кручиньтесь, милая моя, — утешала фрейлейн фон Бадель свою гостью, сидя рядом с нею на каменной скамье в саду и поглядывая на влюбленных, прогуливавшихся под руку в отдаленье по аллее. — Правда, жизнь запутала судьбы человеческие, как нерадивая пряха — кудель, но наберитесь терпенья, и все опять войдет в колею. За будущее детей я спокойна. Ведь у молодежи сил — непочатый край, и смирить ее не так уж легко. Ваша Эльза, сдается мне, вся в отца, умная и настойчивая и когда два таких человека столкнутся, мужчина, как существо более грубое, всегда окажется в дураках. Ваш супруг теперь с бургомистром на ножах из-за этого бедняги, — она показала взглядом на прилегающий к городской стене флигель ее дома, где приютила Карлштадта, — дни и ночи он корпит над своим фолиантом, чтобы сразить им, как пушечным ядром, своих противников. Но вы ведь знаете притчу: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного — сладкое»?[128] Господа из магистрата, правда, рычат по-львиному, но они отнюдь не львы. И меньше всего Берметер. Ударил их лис по лапам, они и спрятали когти. Ну пойдемте, дорогая моя.
Фрау фон Менцинген невольно улыбнулась намеку фрейлейн фон Бадель. Темные силы пытались использовать возвращение Карлштадта в город, чтобы нанести удар Реформации. Реакционеры составили петицию и подговорили одного школьного учителя и двух захудалых горожан агитировать среди граждан за восстановление католического богослужения. Им даже удалось собрать свыше сотни подписей; петиция была чересчур длинна, и многие подписывали ее не читая. Но слепой монах, по прозвищу «Лис», заставил водить себя из дома в дом по пятам агитаторов и собирал подписи под краткой, но решительной декларацией верности учению Карлштадта. По мнению фрейлейн фон Бадель, ее составителем был Валентин Икельзамер. Но еще сильнее, чем декларация, подействовали на нервы господ из внутреннего совета доносившиеся из питейных домов громовые угрозы расправиться с ними по-свойски, если они посмеют восстановить мессу.
Ссылаясь на сложность обстановки, Георг Берметер неофициально ходатайствовал перед внешним советом и комитетом о сложении с него обязанностей бургомистра и назначении на его пост другого члена магистрата. Он был действительно чем угодно, но только не львом и чувствовал, что не в силах оградить еще не окрепший союз с крестьянами от яростных наскоков патрициата и зажиточного бюргерства. К тому же его совесть восставала против нарушения присяги на верность крестьянам. Вокруг громче и все более угрожающе раздавались шепот и шушуканье: «Долой союз!» Внешний совет и комитет ответили ему, что они всецело доверяют своему бургомистру и полагаются на магистрат. Сами они уже по горло сыты властью, но Конрад Эбергард и Эразм фон Муслор решительно отказывались занять свои прежние посты. Они считали, что их время еще не пришло. Тем не менее, они не отказывались по мере своих сил помогать магистрату советом. И сдержали свое обещание. По их тайному наущению город послал крестьянам новый запас пороху и ядер, но зато уклонился от выполнения приказа разрушить Гальтенбергштеттенский замок. Поданная городом в имперский верховный суд жалоба на юнкера фон Розенберга успела превратиться в потерявший всякое значение клочок бумаги; и Эразм фон Муслор смекнул, что хорошие отношения с мариенбергским дворянином могут оказаться для них выгодней дружбы с крестьянами. Но и все эти события, к великому изумлению Сабины, оставили ее прекрасную подругу совершенно безучастной. В то время как магистрат еще прикрывался личиной приязни к крестьянам, местный патрициат нередко выдавал свое истинное настроение, открыто празднуя в Дворянской питейной победы Трухзеса, одобряя его кровавые расправы над пленными, над несчастными вейнсбержцами и восхваляя его зверскую жестокость, не уступавшую зверствам турецких пашей.
— Героями они становятся только в кабаке, — с презрением говорила об «именитых» прекрасная Габриэла. Она обвиняла магистрат в трусости, в крохоборстве и убеждала своего опекуна и господина Эразма в необходимости нанести крестьянам решительный удар.
— Я и сам бы не прочь, ну а если сорвется, что тогда? — отвечал ей вопросом Конрад Эбергард.
— Зато будет покончено с этой неопределенностью, и мы будем знать, что нас ожидает, — сказала Габриэла, едва сдерживая негодование.
Со времени заключения союза с крестьянами ее презрение к восставшим превратилось в ненависть, бурные вспышки которой приводили в ужас добродушную фрау фон Муслор.
В пятницу перед троицей Эразм фон Муслор и члены его семьи сидели после ужина в саду позади дома. Солнце склонялось к закату и уже скрылось за крышами домов. Жаркий день близился к концу. Повеяло прохладой. Вдыхая полной грудью свежий ветерок, напоенный ароматом жасмина, Эразм фон Муслор держал в руке вечерний кубок и с наслаждением потягивал вино. Его супруга обдумывала меню праздничного обеда, а Сабина рвала цветы для букета. Габриэла сидела на низкой насыпи, отделявшей сад от спускавшейся вниз Замковой улицы, где теснились узкие островерхие домики ремесленников. Дневной шум уже умолк, и с улицы доносились лишь свежие, звонкие голоса играющих детей да щебетанье проносившихся над ее головой ласточек. С юга, за низкими соломенными и гонтовыми крышами, свободно открывались взору расстилавшиеся за извилистой лентой Таубера зеленеющие поля и луга, а за ними темнела буковая и еловая роща. Габриэла, положив ногу на ногу, обхватила обеими руками колени и, запрокинув голову, смотрела на циклопическую башню Фарамунда, на ее кровлю, еще залитую золотым сияньем заката, на ласточек, взмывавших над нею в зигзагообразном стремительном полете.
Легкий ветерок играл черными локонами Габриэлы. Когда к ней подошла Сабина, на ходу разбирая цветы, она, следя взглядом за полетом птиц, со вздохом вымолвила:
— Ах, хорошо бы улететь!
— А куда бы ты улетела? — спросила Сабина. — Впрочем, можешь не отвечать. Я знаю куда.
— Значит, ты знаешь больше меня, — возразила Габриэла, удивленно взглянув на подругу. — Я как раз ломала себе голову над тем, куда бы улететь. Ну, подскажи мне.
— Нет, на этот раз ты меня не обманешь! — воскликнула Сабина, и кровь прихлынула к ее щекам. — А ты мастерица на этот счет. Как я могла столько лет верить в твою дружбу? Ведь ты всегда меня ни во что не ставила.
— Разве мы все еще в монастырской школе? — насмешливо спросила Габриэла. — Но я хотела бы знать, в каком страшном преступлении против дружбы ты меня обвиняешь?
— Ты еще спрашиваешь? Нет, я была права. У тебя нет сердца! — раздраженно вскричала Сабина. — Ведь я все тебе говорю. Ты знаешь, я не люблю Адельсгейма и выхожу за него поневоле. А ты, узнав, что мое сердце отдано другому, становишься у меня поперек дороги и стремишься им завладеть.
Слезы выступили у нее на глазах.
— Так это ревность? — сказала Габриэла, спуская ноги на землю и пожав плечами. — Что поделаешь, моя милая, пусть я виновата, но с вами со всеми так смертельно скучно.
— Да, ты виновата в том, что заставляешь меня расплачиваться за твои развлечения! — воскликнула Сабина, и ее голубые глаза гневно заблестели сквозь слезы. Габриэла промолчала.
— Если бы ты еще любила его!
Габриэла остановила на ней свой мрачный взор.
— Любила? — переспросила она, растягивая слово. И, немного погодя, закончила: — Какой вздор!
— Но для меня далеко не вздор! — произнесла Сабина дрожащими губами. — Тебе, конечно, все равно. Ты так люто ненавидишь крестьян; как же ты можешь любить их вождя?
— Да, ты права, — согласилась Габриэла и соскользнула с насыпи на землю. — Да, я ненавижу их так, как ненавидела бы самое себя, если бы… если бы все было иначе. Ты разве не знаешь, что у нас, в Ротенбурге, отменены подати, оброки, земельная рента и другие платежи, а ведь в них — все мое состояние. Так не прикажешь ли мне любить тех, кто сделал меня нищей? Куда мне теперь деваться? Об этом и думала я, мечтая улететь.
Природная доброта одержала верх над ревностью в сердце Сабины, и она воскликнула:
— Ах, прости меня, я и не подумала об этом. Но разве здесь ты не у себя дома? Разве ты для нас не родная? Что нам до того, богата ли ты или бедна? Почему ты хочешь нас покинуть?
У Габриэлы чуть было не вырвалось опять: «Да потому что мне с вами до смерти скучно!» — но она сдержалась и, выпрямившись, сказала:
— Ты предлагаешь мне милостыню? Да, да, милостыню, хоть и от любящего сердца. Никогда! Ни за что на свете не соглашусь я жить бедной здесь, где меня знали богатой. А теперь, прошу тебя, пусть все это останется между нами, и не будем больше говорить об этом.
— Напротив, будем говорить, чтобы высказаться до конца. Я должна побороть в тебе эту гордость! — вскричала Сабина.
— Вот идет мой опекун, — прервала ее Габриэла. — Интересно, что привело его в столь поздний час.
Они направились к старому клену, под которым сидели супруги фон Муслор. Те поднялись, приветствуя гостя.
— Мои новости не составляют тайны, — отвечал тот на вопрошающий взор хозяина и поздоровался с Сабиной и своей питомицей. — У меня только что был Иероним Гассель.
— Как, он уже вернулся из Швейнфурта? — воскликнул изумленный Муслор.
— Ландтаг распущен. Полный провал. Едва собравшись, они разошлись, ничего не сделав.
— А Менцинген?
— Тоже вернулся. Гассель приехал вместе с ним и Гейером фон Гейерсбергом. Сейм отрядил их в качестве посредников к маркграфу Казимиру для заключения мира между ним и крестьянами. Они будут ждать указаний, когда его светлости будет угодно их принять.
При упоминании о Флориане Гейере лицо прекрасной Габриэлы побледнело, а потом залилось пламенем. Сабина, которая тоже зарделась, поспешила уйти в дом позаботиться об угощении Конрада Эбергарда. Когда через некоторое время она вернулась, неся кубок и тарелку печенья с пряностями для возбуждения аппетита, Габриэла уже исчезла. Позже Сабина увидела, как ее подруга вышла из увитой жимолостью беседки и направилась в дом. Хотя еще было рано, Габриэла легла в постель, и когда через час Сабина пришла в их общую опочивальню, ей показалось, что та крепко спит.
На следующий день, в канун троицы, в городе почти не чувствовалось праздника. Известие о роспуске ландтага и распространившийся в последнюю минуту слух о том, что внутренний совет отозвал представителей города из Вюрцбурга, вселили смутную тревогу в сердца. Людям казалось, что, уносимые в утлой ладье мощным потоком событий, они с каждой минутой все быстрей и быстрей приближаются к чудовищному водовороту. На рынках почти не видно было крестьян. Зато праздник привлек в город массу нищих. Среди них было немало примелькавшихся лиц, которые появлялись в Ротенбурге, не пропуская ни воскресенья, ни праздника, облюбовывали себе определенные кварталы и располагались для взимания дани на папертях церквей. Один из них, старик с длинной белой бородой, привык собирать обильную жатву у подъездов патрицианских домов. Обычно он стоял на своем посту возле женского доминиканского монастыря — прекрасного в своей строгой простоте здания раннего готического стиля, с фронтонами, увенчанными стрельчатыми башенками.
Этого патриарха оборванцев увидел Флориан Гейер у дверей дома фон Менцингена, выйдя поутру, чтобы посетить доктора Дейчлина и командора Христиана. Пока он вынимал из-за пояса кошелек, чтобы достать монету, нищий протянул ему сложенную вдвое записку. «Прочтите, ваша милость», — прошептал он и хотел было удалиться, но Флориан Гейер удержал его и спросил, кто его прислал.
— Должно быть, тот, кто писал, с позволения вашей милости, — отвечал, прикидываясь дурачком, старик. Флориан Гейер быстро пробежал записку, содержавшую лишь несколько слов: «Мне необходимо говорить с Вами. Приходите в шесть часов в церковь доминиканского монастыря». Когда он поднял голову, нищего уже и след простыл.
Сообщения Каспара Христиана и проповедника собора св. Иакова о настроениях, господствующих в Ротенбурге, заставили Флориана Гейера призадуматься. Под вечер он снова вышел из дому, чтобы наконец лично познакомиться с Максом Эбергардом. Благоприятное впечатление, сложившееся о молодом человеке по его письмам, подкрепил Вендель Гиплер, но особенно горячего защитника Макса встретил Флориан в лице Эльзы, когда упомянул о нем в разговоре.
При виде дорогого гостя Макс Эбергард порывисто вскочил из-за своего рабочего стола и, назвав Гейера по имени, протянул ему обе руки. Эльза видела, как подъезжали к ратуше послы, и подробно описала внешность рыцаря Максу.
— Разве вы знаете меня в лицо? — спросил Флориан Гейер, несколько удивленный. Макс смутился, а его гость улыбнулся, вспомнив, как тепло говорила о нем Эльза. Он угадал тайну молодых людей и порадовался за них душой; среди водоворота политических страстей на него повеяло свежим дыханием вечно живого человеческого чувства. Это отвлекло его на время забот и мрачных мыслей, навеянных утренними визитами. Показав на раскрытую книгу, над которой он застал Макса, рыцарь, улыбаясь, спросил:
— Вы, кажется, читали одного из писателей древности?
— Я бы скорей назвал его пророком, ведь он рисует нам грядущие времена, — отвечал, слегка покраснев, Макс. — К тому же он наш современник. Это «Утопия» превосходнейшего Томаса Мора[129], о котором вы, должно быть, слышали.
— Конечно, слыхал, — живо отозвался Гейер. — Ульрих фон Гуттен часто говорил нам в Эбербурге об этой книге, подробно рассказывал ее содержание и переводил нам из нее целые куски. Он читал нам также письмо знаменитого Эразма, в котором тот, обращая его внимание на «Утопию», указывал, что Мор сочинил ее, желая показать причины бедственного состояния государств.
— Что он и сделал, осветив с поразительной глубиной положение своего отечества — Англии.
— Только в одном вопросе я не разделяю его стремлений и полагаю, что он сам в них разочаруется. Все мы хорошо знаем, что представляют собой князья, и я еще в те времена доказывал Гуттену и Зиккингену, что никогда не найти Мору князя, который пожелал бы учредить столь идеальное государство, созданное воображением писателя.
— Так вы полагаете, что «Утопия» не фантазия, а осуществимая цель? — спросил Макс.
— Послушайте, любезный доктор, — отвечал Флориан Гейер, — вы, вероятно, не раз слыхали проповеди Карлштадта о том, что мир должен обновиться в духе евангелия и вернуться к коммунизму первых христианских общин. По моему разумению, человечество никогда не возвращается назад, к уже пережитым и отошедшим в прошлое формам общежития и учреждениям. Цель, к которой оно стремится в своем развитии, часто может быть скрыта в туманной дали, но она всегда впереди, а не позади. Религиозный коммунизм отжил свой век, и наша цель — социальный коммунизм острова «Утопии». И я уверен, наступит день, когда мы причалим к его берегам. Убеждение мое так же твердо, как клинок моего меча. И мы уже плывем к этой заветной цели. Иначе разве поднялось бы крестьянство по всей немецкой земле?
Он взял в руки книгу и, рассматривая гравюру на дереве, служившую заставкой, продолжал:
— Если мои слабые познания в латыни мне не изменяют, здесь написано: «Золотая книга истины о наилучшем устройстве государства». Жаль, что этот великий человек написал ее до нашего восстания. Не то он оставил бы всякие надежды на князей и признал бы, что золотые мысли, высказанные в этой книге, могут воплотиться в золотую правду жизни лишь через разум, волю и мощь народа.
— Достойно удивления, что Вендель Гиплер считает эту книгу шуткой, плодом досужей фантазии, — задумчиво проговорил Эбер гард.
— Меня это не удивляет. Он — великий политик, но только политик, а для понимания «Утопии» нужно нечто большее. Вот вы, дорогой доктор, вы больше чем политик, но всяком случае не только политик.
Эти слова Флориана Гейера сопровождались столь значительным и красноречивым взглядом, что Макс не мог не понять его и покраснел.
Когда на городской башне пробило шесть часов, Флориан Гейер расстался со своим молодым собеседником, приятно возбужденный. Он очутился под темными сводами доминиканской церкви, и в первую минуту ему показалось, что церковь пуста. Но когда его шпоры зазвенели по каменным плитам, из-за чудесного резного алтаря выступила темная фигура и нерешительно направилась ему навстречу. Капюшон черного шелкового плаща, отороченного мехом, был откинут, и Флориан узнал прекрасную Габриэлу.
— Мое послание, должно быть, вас удивило, благородный рыцарь, — начала она, вспыхнув ярким румянцем, и запнулась.
— Вам нужна моя помощь, сударыня? Приказывайте, я к вашим услугам.
— Вы угадали, — уже смелей отвечала она, — но помощь не для меня, а для вас самих. Об одном прошу вас: будьте осторожны. Есть люди, которые хотят помешать вашей встрече с маркграфом Бранденбургским.
— Спасибо, мой прекрасный друг! — отвечал он, изумленный. — Но, по чести говоря, я был бы рад, если бы меня избавили от нужды протягивать руку мира маркграфу. Ибо скорей соединятся вода и пламя, чем крестьянин и дворянин.
— Вы правы, — сказала она, бросив на него удивленный взгляд. — Но именно поэтому я и не понимаю вас. Ведь вы сами — дворянин, а боретесь вместе с крестьянами против своего сословия.
— Я борюсь за свободу, против угнетателей, — спокойно и серьезно отвечал он.
— За свободу? — живо повторила она. — Но что может дать она вам взамен всего, что вы потеряли? Как можете вы стремиться стать равным простолюдину? Называть братьями этих грубых, грязных, зловонных крестьян! Сознайтесь, что вами руководит честолюбие.
— О нет, в этом, при всех моих недостатках, я неповинен, — спокойно возразил он. — В благородном происхождении нет заслуги. Но если я смогу подняться до высшего благородства — до признания права на свободу и человеческое достоинство для каждого, то этим я буду обязан только самому себе. Более высокой цели нет. Человеку дана жизнь, чтобы он стремился к этой цели и помогал возвыситься до нее тем, кто лишен свободы и человеческого достоинства.
Его горячие слова захватили и Габриэлу, и ее прекрасные глаза засияли восхищением. Но она не могла возвыситься до его мировоззрения и со вздохом призналась в этом.
— Пусть так. Но вы никогда не поднимете крестьянина до своего уровня. Вы погибнете, не достигнув цели.
Он посмотрел на нее с состраданием, как на ребенка. Но она продолжала с жаром, слегка коснувшись рукой края его рукава:
— О да, верьте мне, это невозможно. Излишне говорить, что крестьянство не может меряться силами с князьями, что из каждого столкновения оно выходит побежденным. На что вы рассчитываете? На помощь городов? Ландтаг потерпел неудачу. Ротенбург надеется на Швабский союз как на избавителя. Я не должна была это говорить, ведь это мой родной город…
Горячая волна залила ее щеки, но она продолжала:
— Вложите меч в ножны, пока не поздно. Я прошу, я заклинаю вас! Подумайте о своей безопасности!
— Ей ничто не угрожает, — успокоил он ее. — Хотеть еще не значит свершить. Мы еще на ратном поле, и не малодушию, а мечу принадлежит последнее слово. Но почему вы стремитесь, мой прекрасный друг, подобно Далиле, лишить Самсона его силы?
Перейдя на шутливый тон, он взял ее за руку и заглянул в глаза. Она потупила взор, но тотчас подняла веки. Кровь бросилась ей в голову и залила щеки огнем. С трудом сдерживая себя, она воскликнула:
— Потому что я хочу вас спасти! Потому что вы должны жить!
Ошеломленный, он выпустил ее руку. Но она уже не владела собой, страсть прорвалась через все преграды.
— Живи ради меня! Ведь я тебя люблю! — воскликнула она. — Я искала спасения от этой любви в ненависти к твоему делу. Как я могла полюбить тебя, ненавидя его?
— Ведь я должна презирать себя за это! Но все было напрасно. Любовь заставила меня забыть обо всем.
— Бедное дитя! — произнес он. Но она, вспыхнув ярким румянцем, вскричала:
— Нет, не сострадания, а любви я хочу! Ведь я же люблю тебя!
Она обвила его шею руками и прижала свое пылающее лицо к его груди. Он попытался осторожно высвободиться, но она еще крепче прильнула к нему и, вскинув на него свой горящий взгляд, простонала:
— Да, люблю! Бежим куда хочешь, лишь бы укрыться от этой обезумевшей черни, туда где мы будем счастливы вместе.
— Придите в себя! — сурово произнес Флориан Гейер, высвобождаясь из ее объятий. — Как вы могли подумать, что я, как последний трус, убегу с поля сражения? И разве вы не знаете, что у меня есть жена и ребенок?
— Что жена и ребенок, что целый свет, если мы любим друг друга? — воскликнула она, вся трепеща и пронизывая его горящим взором.
Он вспыхнул до корней волос и, сдвинув брови, резко ответил:
— Но ведь я вас не люблю.
Глаза ее широко раскрылись и застыли. Смертельная бледность покрыла лицо. Он же, смягчившись, продолжал:
— Очнитесь, вспомните, что я — непримиримый враг вашей касты. Я не слышал ваших признаний. Расстанемся друзьями.
И он протянул ей руку. Она отшатнулась, вперив в него застывший взор, и не приняла его руки.
— Прощайте, — произнес он и, с состраданием взглянув на нее, удалился.
Без единого звука, как пораженная молнией, она упала за его спиной на каменные плиты.
Всю дорогу до дома Стефана фон Менцингена он шел стремительным шагом, стараясь заглушить в себе тягостное волнение. У торговых рядов под навесом ратуши его окликнул, выглянув из своей лавки, возле которой столпились горожане, золотых дел мастер, один из приверженцев Менцингена.
— Господин фон Гейерсберг! Вы должны быть осведомлены. Неужели это правда?
— Что именно, любезный мейстер?
— Известие о кровавом побоище? — вмешался одни из горожан.
— Да, да, перебито четыре тысячи крестьян, — подтвердил хриплым голосом чахоточный гончар.
— Пусть говорит кто-нибудь один, — сказал Гейер и, обратись к золотых дел мастеру, продолжал: — Рассказывайте, в чем дело.
— А дело в том, господин рыцарь, — заговорил тот, — что оттуда прибежало несколько крестьян. Едва ноги унесли.
— Дело было под Кёнигсгофеном[130], — опять вмешался один из горожан. — Сражение затянулось до самой ночи.
— Да, под Кёнигсгофеном, — подтвердил мастер. — Город и все окрестные деревни в пламени.
При упоминании о Кёнигсгофене Флориана Гейера точно ножом полоснуло по сердцу. Но он не подал и виду и внешне спокойно произнес:
— Я ничего не знаю. Где беглецы?
— Бургомистр велел привести их в ратушу.
— Их всего двое, — послышалось сразу несколько голосов.
— У страха глаза велики, — заметил Флориан Гейер, подкручивая усы. — Прощайте, господа.
Рыночная площадь почти опустела от торгового люда. Толпа устремилась к ратуше и запрудила Дворянскую улицу. Флориан хотел услышать вестников несчастья своими собственными ушами. Люди, большей частью ремесленники низших цехов, предупредительно расступались перед ним, и вскоре он подошел к ратуше в тот момент, когда оттуда вышли оба крестьянина. Без шапок, в изодранной одежде, грязные, измученные, с посеревшими от пыли и пороха изможденными лицами и глубоко запавшими глазами беглецы внушали страх. Чтобы ничто не мешало им во время бегства, они побросали все оружие, кроме мечей. В паническом ужасе перед железными рейтарами Трухзеса они добежали до самого Ротенбурга, не считая себя в безопасности в своей родной деревне близ Игерсгейма. Это были ратники Тауберского ополчения.
По их словам, Трухзес, соединившись с пфальцграфом, напал на крестьян, ударив из Шюпфергрунда, в то время как те, заняв укрепленную позицию на горе повыше Кёнигсгофена, прикрыли ее сорока орудиями. Войска пфальцграфа, переправившись через Таубер, обошли город с двух сторон, а вслед за ними, несмотря на огонь крестьянских батарей, подошел и Трухзес с главными силами.
Сражение началось часа в четыре дня. О ходе событий у беглецов не было ясного представления. Среди сумятицы, начавшейся во время боя, они увидели, как канониры, перерезав постромки, побросали орудия и умчались верхом, подав этим сигнал ко всеобщему бегству.
— Трусы! Предатели! — загудела толпа, плотным кольцом окружив Флориана Гейера и беглецов.
— Да, предатели! — подтвердил один из них. — Они подкуплены Трухзесом. Готов прозакладывать голову, что это так. С самого начала наши пушки били слишком высоко.
В ответ на расспросы Гейера они сообщили, что Ганс Кольбеншлаг с большей частью тауберцев бежал во время отступления в рощу на холме и продолжал мужественно сопротивляться. Остальные тауберцы, числом около трехсот, добежали до лесу и были взяты в плен. Они оба, вместе с сотней товарищей, были отрезаны от Тауберского ополчения, но сумели благополучно пробиться и бежать. О судьбе Венделя Гиплера и Иорга Мецлера они ничего не знают. Не знают они и чем кончилось сопротивление Кольбеншлага. Ротенбуржцев во главе с Большим Лингартом и бретгеймцем Мецлером они и в глаза не видели.
Флориан Гейер отдал им бывшие при нем деньги и, возвысив голос, сказал, обращаясь не столько к ним, как к горожанам, стоявшим вокруг с удрученными лицами:
— Да, новости не веселые. Но война — что азартная игра. А это не последний наш ход.
И он направился к дому фон Менцингена. Прежде чем подняться к себе, он зашел на конюшню и приказал конюху немедля седлать коня.
Глава восьмая
Беглецы разминулись с ротенбургским отрядом. Охваченный зловещим предчувствием при виде кровавого зарева, отряд шел вперед без привалов, встречая на своем пути лишь толпы бегущих крестьян, которые кричали, что все погибло, что рейтары Трухзеса свирепствуют, как бешеные волки, и что Вендель Гиплер и Иорг Мецлер тоже бежали.
— Раз такое дело, раз крестьянское войско разбито и рассеяно под Кёнигсгофеном, чего ради переть на рожон и зря рисковать своей шкурой? — заявляли ротенбуржцы. Большой Лингарт яростно обрушился на них:
— Не верьте трусам! Позор тем, кто оставляет братьев в беде! Вперед! Вперед!
Но никто не поддержал его. Даже Леонгард Мецлер молчал. Тогда бывший ландскнехт, разразившись громовыми проклятиями, выхватил свой исполинский меч, врезался в толпу на своем сером жеребце и, ударяя плашмя мечом, пытался повернуть беглецов. Но устремившийся вспять поток был так силен, что увлек и его за собой. Все рвались назад, по домам.
Лишь с огромным трудом, врезаясь на коне в самую гущу беглецов, он сумел пробиться и со слезами ярости поскакал в Гейдингсфельд. Но, примчавшись к дому священника Штейнмеца, где собрались военачальники, он лишь мог подтвердить то, что уже сообщили опередившие его вестники несчастья. Правда, сообщения первых беглецов показались настолько невероятными, что их бросили в тюрьму, решив, что они подосланы Трухзесом, чтобы посеять панику в крестьянских войсках. Но Большому Лингарту нельзя было не верить, и принесенные им страшные вести повергли весь Гейдингсфельд и Вюрцбург в тревогу и смятение. Не один военачальник из тех, что рвутся в бой больше на словах, чем на деле, пустился наутек под покровом ночи, не один казначей исчез вместе с вверенной ему войсковой казной. К утру от спасшихся, бежавших через горы тауберцев стало известно, что Ганс Кольбеншлаг, продержавшись до темноты на лесистой возвышенности и нанеся тяжелый урон противнику, пал в бою.
В воскресенье уныние сменилось небольшим подъемом, когда в город вошел молчаливый Грегор из Бургбернгейма со своим отрядом, потеснившим маркграфа Казимира. К тому же распространился слух, что евангелическая рать стоит цела и невредима под Кёнигсгофеном. Вполне возможно, что слух этот был пущен командованием, но он сделал свое дело. Люди опять воспрянули духом и решили двинуться на Кёнигсгофен. Сидя за чаркой вина, они клялись, что не оставят в живых ни одного пленного, перевешают рейтаров и отрубят головы ландскнехтам.
День прошел в лихорадочных приготовлениях к выступлению, и не один Симон Нейфер с тоской смотрел вдаль, не едет ли Флориан Гейер. Противники Гейера в крестьянском совете много отдали бы теперь, чтобы с ними был этот опытнейший полководец. Теперь на Нейфере лежала тяжелая ответственность — предводительствовать Черной ратью. Чтобы не привлечь внимание фрауенбергского гарнизона, войска готовились к выступлению ночью. Но и на Мариенберге творилось что-то необычное. Из города и с Телля было заметно, как после полуночи во всех комнатах замка забегали огоньки, а засевшие в траншеи на Телле ратники увидели в предрассветных сумерках несколько черных всадников, которые, отделившись от замка, помчались по направлению к лесу у Гохберга. Крестьяне открыли огонь, но всадники уже исчезли. Рыбак Тес Мерц уверял, что эго были привидения — мертвые рейтары, — которых напустил на них монах-чернокнижник.
Когда заалело небо и наступил первый день троицы, крестьянские отряды стояли готовые к выступлению, не менее пяти тысяч человек и вся артиллерия: легкие полевые орудия, семьдесят фальконетов, бомбарды, двойные и одинарные кулеврины, пороховые фургоны и обоз. Чтобы держать под ударом Мариенберг, оставили две тысячи ратников из Вюрцбурга, три тысячи — из сельских округов под командованием Ганса Берметера, Леонгарда Виснера и Бальтазара Вюрцбергера.
Жизнь в крестьянском лагере
С гравюры Г. 3. Бегама
Но кто это спускается по холму из Гейдингсфельда на взмыленном коне? Кому навстречу летят Якоб Кель, Грегор, Симон Нейфер, Большой Лингарт? Кому радостно пожимают руку? Громовой крик из многих тысяч глоток и звон оружия приветствуют появление Флориана Гейера. Встречает его и брат Амвросий — единственный из всех священников, приведший свою паству под Вюрцбург и оставшийся с повстанцами до конца. Остальные убрались восвояси под покровом темноты, даже не попрощавшись. Это он благословил выступавших в поход. Благословила их и Черная Гофманша, только, правда, на свой лад. Когда войска, выйдя из города через Гейдингсфельдские ворота, стали спускаться по холму, она воскликнула пронзительным голосом:
— Отмщение! Отмщение за наших порубленных братьев! Мертвые встанут из могил и поведут вас вперед! Победа в наших руках!
Старуха осталась в Вюрцбурге. Показывая костлявой рукой на Мариенберг, она сказала Каспару Эчлиху, уходившему с войсками:
— Я останусь здесь до Судного дня.
Флориан Гейер выступил во главе своей Черной рати. К нему присоединился Большой Лингарт с пятьюдесятью молодцами, которых завербовали на свой счет вюрцбургские францисканцы. По-летнему жаркое солнце взошло над горизонтом, когда утром 4 июня крестьянские войска начали подниматься по склону горы. Поднявшись, они свернули на ретингенскую дорогу, в надежде, что враг еще стоит под Кёнигсгофеном. Беглецы из Тауберского ополчения в один голос твердили, что Ганс Кольбеншлаг нанес неприятелю тягчайший урон.
Было прекрасное летнее утро. В прозрачном воздухе звонко заливались жаворонки. Овсянки, синицы, зяблики оживляли своим щебетанием и трелями рощицу вдоль дороги. Слышались веселые звуки свирелей и волынок; не переставая, гремели барабаны, и крестьяне распевали песни, шутили, смеялись и оглашали воздух радостными криками. На широком лугу между деревнями Ингольштадт и Зульцдорф, в полумиле к западу от Гибельштадта, крестьяне сделали привал. Лесистая возвышенность, на которой стояли развалины некогда разрушенного ротенбуржцами разбойничьего Ингольштадтского замка и небольшая рощица заслоняли от глаз Флориана Гейера его родное гнездо. На севере, в тылу у крестьян, в трех четвертях мили от деревни Моос, начинался дремучий Гуттенбергский лес.
Осада Ингольштадта
С гравюры Ганса Милиха
Не успели крестьяне снять с плеч самопалы, мушкеты, копья и двуручные мечи, а всадники — сойти с коней, как на юго-западе засверкало оружие. Раздались крики: «Враг!», «Трухзес!» С бешеной быстротой, по приказу Флориана Гейера, вокруг лагеря был выстроен вагенбург, а в промежутках между повозками установлены орудия. Железные всадники летучего отряда Трухзеса уже приближались. Их встретили убийственным огнем. Вот они повернули на скаку — одни направо, другие налево, пытаясь охватить крестьян с флангов. Но им не удалось прорвать крестьянский вагенбург. Два раза они атаковали его в конном строю и оба раза были отброшены сильным огнем. Не одни всадник был выбит из седла, не один конь остался на месте.
Вдруг надвинулась черная туча, но это еще не были главные силы врага. Не получив от Трухзеса добавочной платы за Кёнигсгофенское сражение, ландскнехты взбунтовались и отказались идти в бой. Приближавшийся к вагенбургу отряд состоял из военачальников, знаменосцев, фельдфебелей и получавших двойное жалованье ландскнехтов. Всех их, общим числом около восьмисот, Трухзес сумел посулами отколоть от их товарищей. Их вел он сам. Между тем его конница была стянута к деревне Моос, чтобы отрезать крестьянам возможное отступление через Гуттенбергский лес. Но и этим отборным войскам крестьяне не дали спуску. Большой урон наносил им огонь артиллерии, особенно же каменные ядра бомбард Черной рати. Эти ядра прорывали широкие борозды в рядах оголтелых молодчиков, которые бросались в атаку в изодранных копьями камзолах и штанах и в лихо заломленных набекрень беретах. Любо-дорого было смотреть, как разлетались в клочья их пестрые перья! Многим рабам божьим пришлось здесь распрощаться с жизнью. «За дело! За дело!» — только и слышался боевой клич. Но у отборных ландскнехтов не было копий, а крестьянских стрелков прикрывал вагенбург. Вдруг земля задрожала от гула и грохота, от топота бесчисленных копыт. То приближалась неприятельская конница и пушки.
Когда в тылу у вагенбурга образовалась брешь, защитники хлынули через нее и в паническом ужасе бросились бежать. Впереди всех мчался сам командующий — Якоб Кель. Но «иоргова смерть» настигла беглецов. Несколько часов железные рейтары преследовали убегающих, на скаку врезывались в толпу, кололи, рубили, давили направо и налево всех, безо всякой пощады. Как рассказывал впоследствии Генрих Трухзес, маршал епископа Конрада, это было зрелище почище кабаньей травли. Но кабан еще показал охотнику свои клыки. Грегор из Бургбернгейма не пожелал спасаться бегством. С кучкой своих храбрецов он стойко держался до конца, пока не пал смертью героя. Шестьдесят крестьян, которых всадники взяли в плен, польстившись на обещанный выкуп, были тут же, у вагенбурга, перебиты по приказанию Трухзеса. Ему донесли, что перед сражением крестьяне клялись не оставлять никого в живых.
Из-за вагенбурга, который уже больше не мог держаться, вышла небольшая, тесно сплоченная группа войск и направилась назад, к деревне Ингольштадт. Это были «черные» Флориана Гейера и пятьдесят вюрцбургских молодцов под предводительством Большого Лингарта. Несколько раз налетали на них железные всадники, но небольшой отряд ощетинивался во все стороны «ежом», перед иглами которого лошади шарахались назад. Защищенные таким образом своими длинными копьями, стрелки поражали неприятеля смертоносным огнем. Черная рать благополучно достигла деревни. Но колючая щетина представляла собой плохую защиту, поэтому отряд разделился: Симон Нейфер с двумя сотнями крестьян занял обнесенное каменной стеной кладбище, а Флориан Гейер с остальными четырьмя сотнями устремился в прежнюю цитадель рыцаря-разбойника фон Эльма, куда вела из деревни полуразрушенная арка ворот. Внешняя стена, вдоль которой тянулся болотистый ров, еще довольно хорошо сохранилась, а угловая башня была цела. Во дворе, среди развалин этого разбойничьего гнезда, разрушенного ротенбуржцами, приютились бездомные. Теперь от их жалких лачуг осталось сплошное пожарище. Их сжег летучий крестьянский отряд, тот самый, который разрушил замок Флориана Гейера.
Гейер приказал завалить ворота камнями и поднялся на башню, чтобы следить за ходом сражения в деревне, откуда доносились отчаянные крики и непрерывная пальба.
Несмотря на упорное сопротивление, Симон Нейфер со своим отрядом под натиском превосходящих сил отборного неприятельского войска очистил кладбище и отступил в церковь. Флориан Гейер больше не мог следить за боем. Со стороны вагенбурга к замку мчался пфальцграф с тяжелыми пушками, а за ним следом — Георг Трухзес со своими графами, рыцарями и баронами спешил на кровавую тризну. Разрушив часть стены, неприятельские пушки образовали в ней брешь шириной в двадцать четыре фута. Три крестьянина выбежали из замка и упали на колени, моля о пощаде. Но их прикончили на месте. Теперь осажденные могли воочию убедиться, какая милость их ждет, если они сдадутся.
Наступающим уже казалось, что они могут взять замок шутя и играя. Все спешились, и рыцари, графы, бароны, чтобы показать пример рейтарам, побрели в своих тяжелых доспехах через вязкую тину рва. Они шли с криками «За дело! За дело!» под звуки рожков, но были встречены градом пуль и грозным лесом копий и алебард. Смерть пожинала богатую жатву. Разъяренному неудачей Трухзесу пришлось трубить отступление. Атакующие были отброшены, и более сотни из них, в том числе много знатных господ, остались в болотистом рву. Уцелевшие были обессилены и нуждались в передышке. Теперь им было не до шуток. Они отстегнули тяжелые шлемы и шишаки, чтобы охладить разгоряченные головы. Снова загрохотали пушки, расширяя брешь. Обрушившаяся стена уже не могла служить защитой для «черных», но их мужество было несокрушимо, и, забывая в пылу сражения об опасности и жажде, ратники осыпали насмешками господ, ковылявших назад через ров, как хромые журавли. К Каспару вернулся его прежний юмор.
Вдруг пушки смолкли. Господа бросились на второй приступ — на этот раз не с шутками, а с затаенным бешенством. Не встретив сопротивления, они пересекли ров и подошли к бреши. У «черных» уже не оставалось ни пороху, ни ядер. Атакующие разразились ликующими криками. Они решили, что препятствия уже преодолены. Но что это? Перед ними оказалась еще одна стена, высотой с копье, с небольшой амбразурой и узкой дверью, преграждавшая им путь. На стене развевалось знамя Черной рати. Дверь была заложена изнутри камнями. На стене стояли бесстрашные воины Флориана Гейера и пятьдесят молодцов Лингарта. Они осыпали атакующих камнями и отгоняли пиками, и лишь крепкие шлемы и латы спасали атакующих от смерти. Зато многие убрались назад с тяжкими ушибами, с раздробленными или вывихнутыми ногами и руками. А вслед им неслась популярная в то время, сложенная в насмешку над дворянами песенка. Ее пел своим громовым басом Большой Лингарт, безбожно фальшивя:
Ах ты, бедный Иуда, Что ты натворил? Расскажу я людям, Станет свет не мил. Ах ты, бедный Иуда, Что ты натворил?Неожиданно взрыв смеха сменился возгласами ужаса: «Смотрите, смотрите на церковь!» Каспар показал Гейеру на деревню. Расстреляв все заряды, Симон Нейфер и его молодцы продолжали яростно сопротивляться. Они сбрасывали с крыши церкви и с колокольни черепицу и камни на головы атакующих и многих уложили на месте. Но вдруг церковь запылала, и колокольня, как гигантский факел, взвилась к небесам, уготовив Симону и его храбрецам пылающую могилу.
Осада крепости
С гравюры XVI в.
Засевшие в замке в глубоком молчании смотрели на бушующее пламя. Флориан Гейер обнажил голову, другие последовали его примеру.
— Они пали смертью героев, — сказал он, — так последуем же их примеру, дорогие братья, если так суждено. Победа или смерть! Иного выхода у нас нет!
— Победа или смерть! — громко подхватили все его возглас.
— А теперь, друзья, — продолжал Гейер, — передохните и соберитесь с силами. Они не заставят нас долго ждать.
Каждый устроился как придется, кто стоя, кто лежа. Большинство застыло в немом напряженном ожидании, но были такие, что смеялись и перебрасывались шутками. Большой Лингарт и Каспар, сидя рядом на каменной глыбе, с глубокой печалью глядели на объятую пламенем церковь, то ярко вспыхивающую, то окутанную клубами дыма. Великан положил свою ручищу Каспару на плечо. Он, видно, хотел что-то сказать, но не мог. Его лицо хищной птицы как-то странно подергивалось. Каспар взглянул на него и, хитро улыбнувшись, проговорил:
— Да, я знаю, что ты хочешь сказать.
Глубокий вздох вырвался у бывшего ландскнехта:
— Черт меня совсем побери, если Симон не был храбрейшим из храбрых!
Его совиные глаза замигали, и на ус скатилась слеза. Каспар сидел, молча понурив голову. К ним подошел Флориан Гейер и сказал, обращаясь к Лингарту:
— Дай руку, старый товарищ. Кто знает, может, потом нам уже будет не до этого. Прими мою благодарность. Ты был верен нашему делу до конца.
— Эх, капитан, — отозвался Лингарт, отвечая на его пожатие, — если свободе пришел конец, то пусть идет к чертям вся эта кутерьма. Что толку цепляться за жизнь? А вот его, Эчлиха, мне от души жаль. У него дома есть зазнобушка.
Каспар покраснел до ушей. Флориан Гейер, протягивая ему руку, с улыбкой сказал:
— Ну что же… передай от меня привет твоей зазнобе, если выберешься отсюда. А ты должен выбраться. Мне кажется, ты и смерти нос утрешь.
— Опять началось! — крикнул, вскочив с места, Большой Лингарт и тихо прибавил: — Ах, если бы не эта проклятая жажда!
Наступающим теперь уже нечего было бояться выстрелов Черной рати, и их канониры выкатили орудия вперед и поставили их на самом краю рва. Возобновив с такой близкой дистанции канонаду, они скоро не только значительно расширили брешь в наружной стене, но и снесли верхнюю половину внутренней стены. Благородные господа не повторяли штурма в ожидании Трухзеса. После неудачного второго штурма он поскакал в деревню Ингольштадт, чтобы привести оттуда отборный отряд ландскнехтов, который уже закончил там свое кровавое дело. И когда эти наемники подошли ко рву, знатные господа погнали их на крестьян, как гончих на зверя. «За дело! За дело!» — не переставая кричали господа.
Атакующие карабкались на стену по грудам трупов. Вот уже один из них очутился наверху и водрузил желто-черное знамя. Тут Каспар, появившийся на стене, внезапным ударом сбросил вниз знаменосца, сорвал вражеское знамя и вместе с ним спрыгнул со стены. Но вслед за знаменщиком на стену в разных местах карабкались все новые и новые ландскнехты, с диким воем бросаясь на крестьян, которые стойко держались, не отступая ни на пядь. Завязался горячий бой врукопашную. Бились древками копий, прикладами аркебузов, колотили по головам камнями, душили голыми руками, и все это в яростном молчании; слышался лишь лязг оружия, хруст костей, стоны раненых, хрипы умирающих, глухие вопли растоптанных тяжелыми сапогами.
Флориан Гейер и Большой Лингарт все время были там, где их воинам грозила наибольшая опасность; своими острыми мечами они беспощадно разили врага. Длинный меч Каспара был красен от крови. Свой аркебуз он разбил о голову капитана ландскнехтов. Черное знамя с золотым солнцем он сорвал с древка и обмотал вокруг туловища.
Спустилась ночь, и с наступлением темноты немая ярость сражавшихся сменилась звериным воем. Но и мрак не положил конец кровавой бойне. Она продолжалась в зареве от пылавшего Ингольштадтского замка. Во многих местах прикрытием для сражавшихся служили тела убитых и раненых. Но численный перевес неприятеля был слишком велик, а горсть «черных» все таяла и таяла. Завербованные в Вюрцбурге добровольцы были перебиты все до единого. Небольшая кучка крестьян укрылась в подвале замка. Через окна туда полетели пуки зажженной соломы и бочонки с порохом. Раздался оглушительный взрыв. Только троим удалось спастись, остальные задохнулись или сгорели. Рухнул потолок, камни разлетелись во все стороны, и неприятельским ландскнехтам пришлось отступить. Но в это время в тылу у «черных» обрушилась часть внутренней стены. Флориан Гейер вовремя заметил это. «Выходи!» — скомандовал он. К нему подбежал Большой Лингарт, и они, пустив в ход мечи, прикрывали отступление. От всего отряда уцелела лишь ничтожная горсточка. Благодаря смятению, вызванному взрывом, поднявшейся пыли и темноте всем им удалось выбраться из замка. Последними вышли Флориан Гейер и Лингарт.
Прежде чем неприятель успел опомниться, беглецов принял под свою защиту лесок, расположенный к югу от замка. Эта рощица уже была полна крестьян, укрывавшихся там от преследования рейтаров Трухзеса. В небе полыхало зарево: то горели зажженные противником деревни Ингольштадт, Зульцдорф, Бютгарт и Гибельштадт. Взошел красный месяц. Он плыл точно по морю крови. Из деревни Моос, где разбил свой лагерь Трухзес, доносились ликующие звуки труб и литавр. Благородные господа пировали, истребляя захваченные у крестьян припасы.
Взбунтовавшиеся накануне сражения ландскнехты явились с повинной головой. Трухзес простил их, но не из великодушия, на это он не был способен: предстояло еще немало кровавой работы, и он не мог без них обойтись. Кёнигсгофенское сражение и особенно нынешний день стоили ему огромных потерь людьми и лошадьми. От его отборного отряда не осталось и одной трети. Конное охранение, оцепившее лес, теперь сменили явившиеся с повинной ландскнехты. «Кабанья травля» была окончена, наутро еще предстояла веселая охота на мелкую дичь.
Под темными сводами леса, на прогалине, озаренной кровавым отблеском пожаров и бледным сияньем луны, Флориан Гейер собрал беглецов и пытался вдохнуть мужество в их сердца.
— Если вы станете ждать до утра, — убеждал он их, — когда ландскнехты смогут проникнуть в лес, то вы неминуемо погибнете. Вы сами прекрасно знаете, что скорей волк пощадит ягненка, чем Трухзес крестьянина. Если вы пойдете со мной, я переправлю вас через Майн и доведу до Вюрцбурга. Эти края мне знакомы с детских лет, я охотился здесь не раз. Летучих отрядов врага нам бояться нечего. Вы хорошо вооружены. В тысячу раз достойней умереть в бою, чем трусливо ждать смерти, укрываясь в лесу.
Но крестьяне пали духом, и лишь ничтожная горсточка согласилась следовать за ним и его «черными» ратниками. Оставшиеся в лесу отдали уходившим свои самопалы и еще полные пороховницы. Между тем вернулся Большой Лингарт, ходивший в разведку до опушки леса. Тогда Гейер, производя как можно больше шума, чтобы отвлечь внимание противника, атаковал Зульцдорф, и когда ландскнехты Трухзеса устремились туда, повернул назад и, быстро пройдя через лес, вышел к югу, на дорогу к Аллерсгейму. Молниеносным ударом он ошеломил преследователей и, прежде чем к ним подоспела помощь, благополучно достиг Зееберга — лесистого холма у одноименной деревни.
Измученные почти непрерывным боем, длившимся с самого утра, беглецы повалились на землю. Недосчитывались только одного.
— Сто чертей! А где же Эчлих? — крикнул Большой Лингарт, вскочив на ноги. — Он ведь вышел вместе с нами из лесу.
Другие тоже видели его, но никто не знал, куда он девался. Большой Лингарт долго во всю глотку выкрикивал его имя, но ответа не последовало. Каспар Эчлих пропал без вести.
Несмотря на смертельную усталость, беглецы, гонимые жаждой, шли не останавливаясь. В Эйергаузене они вышли на большую дорогу, ведущую мимо Гибельштадта на Вюрцбург. Возле трактира бил ключ, и они жадно прильнули к нему. Флориан Гейер, забарабанив в дверь своими железными кулаками, разбудил трактирщика, спавшего мирным сном. Прошло немало времени, прежде чем тот осторожно высунулся из окошка, но при виде поздних гостей тотчас скрылся. Он боялся мести войск Швабского союза, всадники которого, преследуя беглецов, уже рыскали по Эйергаузену. Только угроза выломать дверь заставила его отпереть. Крестьяне потребовали прежде всего хлеба и с жадностью набросились на него. Они ничего не ели с самого Гейдингсфельда. Но Большой Лингарт не мог проглотить ни куска и отказался даже от вина, которое потребовал для всех Флориан Гейер. Бывший ландскнехт только бормотал что-то себе под нос и то и дело качал головой. Флориан Гейер сидел сумрачный, в глубоком раздумье.
— А теперь разойдемся, друзья, всяк своей дорогой, — сказал он, выйдя на улицу. Он заплатил за пиршество из своего кармана, оставив всего несколько геллеров. — Кому через Майн, вот отсюда дорога прямо на Оксенфурт. Но ждите моего сигнала в ближайшие дни. Пляс еще не кончен. Поверьте мне, мы еще споем им отходную.
Штурм крепости
С гравюры XVI в.
Они пожали друг другу руки и исчезли в темноте. Флориан Гейер, Большой Лингарт и несколько человек из Черной рати, все рейхардсродерские крестьяне, свернули на проселочную дорогу, ведущую к Реттингену. Она привела их к Бибергейму, где Штейнах впадает в Таубер. Здесь ратники распрощались с Флорианом Гейером и Лингартом, который заявил своему командиру, что, куда бы тот ни направил свой путь, он от него не отстанет. Вместе они двинулись к верховьям Таубера и к вечеру вошли в Ротенбург.
Стража у Оружейных ворот и прохожие на многолюдных по случаю троицы улицах с удивлением смотрели на пришельцев, особенно же на рыцаря Флориана, пешего, в полном вооружении. Друзья расстались перед домом фон Менцингена. Большой Лингарт решил остановиться у свояка — члена магистрата и владельца «Красного петуха» — Кретцера.
— Так ты понял? — спросил Флориан. Лингарт утвердительно кивнул головой. — Стало быть, завтра на рассвете. Я полагаюсь на тебя. Ну, до более счастливого свиданья, старый товарищ!
Большой Лингарт, ответив таким же пожеланием, зашагал по Кузнечной улице. Флориан Гейер вошел в дом рыцаря фон Менцингена. Хозяин как раз собирался выезжать. Он был дома один: его супруга с дочерью отправились к фрейлейн фон Бадель, пригласившей их посидеть у нее в саду. При виде вошедшего хозяин в изумлении отпрянул.
— Ради бога, что случилось? — спросил он, выпучив глаза.
— Рассказать недолго, — с обычной невозмутимостью отвечал Гейер. — Но сначала помогите мне снять доспехи. С самого отъезда от вас, с кануна троицы, я не разоблачался.
И он в кратких словах рассказал о поражении под Ингольштадтом, между тем как хозяин дрожащими от волненья руками помогал ему вместо оруженосца. Вся кровь отхлынула от его лица, и губы почти беззвучно прошептали:
— Все погибло?!
— Ничего не погибло! — решительно возразил Флориан Гейер. — Только дайте мне подкрепить силы и промочить горло. Я давно в этом нуждаюсь.
Фон Менцинген, с трудом овладев собой и стараясь сохранять внешнее спокойствие, отдал необходимые распоряжения слуге. Пока тот выполнял приказание, хозяин в смятении, звеня шпорами, метался взад и вперед по комнате, не снимая берета и выездного плаща.
Флориан Гейер в изнеможении присел к столу. Прежде чем приняться за еду, он должен был смочить вином пересохшее от зноя и пыли горло. Его спокойствие еще усиливало тревогу рыцаря Стефана, опустившегося на стул рядом с ним. Слегка подкрепившись, гость повторил:
— Нет, пока еще ничего не погибло. Конечно, Франконское войско рассеялось. К несчастью, у нас не хватило времени обучить как следует крестьян военному искусству. Но они еще научатся. И, что ужасней всего, мои «черные» молодцы перебиты. Но я могу вас заверить, что они с честью выполнили свой долг.
— Но что же теперь будет? — прервал его фон Менцинген, лихорадочно теребя усы.
— Крестьяне Галля Швабского еще не разоружены. Лимбуржцы присягнули «Двенадцати статьям», а гайльдорфский отряд еще даже не нюхал пороху. Так поднимем же снова крестьян в ротенбургских владениях. Бреннэкен, то есть Большой Лингарт, уверен, что они откликнутся на наш призыв, и не пройдет и несколько дней, как в тылу у Трухзеса вырастет новая грозная рать. Оружием, порохом, пушками город снабжен в изобилии, и здешнее бюргерство, — я, конечно, разумею не патрициев и купцов, — несомненно готово бороться до конца, как и бюргерство Вюрцбурга, Мейнингена, Бамберга и других, менее значительных городов Швабского союза. Не станут они обороняться, им же самим хуже будет.
Лицо рыцаря Стефана снова оживилось. Он перевел дух и сказал:
— Низшие цехи Ротенбурга стоят за меня горой. Но я сомневаюсь, чтобы магистрат по доброй воле открыл вам свой арсенал и склады.
— Так нужно его заставить! — с решимостью воскликнул Флориан. — Тогда видно будет, действительно ли эти господа только и ждут предлога, чтобы разорвать союз с крестьянами. В таком случае они используют наше вчерашнее поражение. Тогда их песенка спета. Гоните их прочь.
— Клянусь честью, за мной дело не станет! — подтвердил фон Меннинген. — Я ими сыт по горло.
— Вы должны понять, что стоит вюрцбуржцам продержаться еще немного, и Трухзесу со всеми его князьями придется убираться подобру-поздорову, чтобы не попасть в мешок. Ведь, несмотря на все победы, его положение далеко не блестящее.
— Да, но смогут ли вюрцбуржцы продержаться? — спросил фон Менцинген, усердно разглаживая усы.
— Об этом позабочусь я, — успокоил его Флориан Гейер. — Отсюда я направлюсь в Римпар, призову к оружию крестьян из Грамшацкого леса, если это еще не сделано, вызову Ганса Шнабеля с его бильдгаузенским отрядом из Мельрихштадта. Мне думается, что, располагая такими силами, можно прийти на подмогу вюрцбуржцам с севера, тогда как Большой Лингарт с лимбуржцами и гайльдорфцами пробьется к нам с юга. Да, еще одно обстоятельство: Венделю Гиплеру, конечно, удалось спастись после Кёнигсгофенского дела. Будь это иначе, Трухзес раструбил бы о такой добыче на весь мир. Вендель Гиплер, человек с обширнейшими связями, будучи еще в Вюрцбурге, говорил мне, что восстание опять готово вспыхнуть со всех концов, от Зальцбурга до Боденского озера и вдоль всей Рейнской долины. Альгауцы вооружаются, чтобы осадить Мемминген; Вейсенбург и Вормс примкнули к крестьянам, а в Мюнстере все кипит и бродит. Вюрцбуржцам придется держаться не так уж долго.
Черные выпуклые глаза Стефана фон Менцингена заблестели из-под тяжелых век. Несгибаемое мужество и хладнокровие Флориана Гейера вдохнули в него новую надежду. Они еще продолжали обсуждать детали плана, когда слуга доложил о том, что господина Флориана желает видеть магистратский гонец. Тот вошел — в должностном наряде: с цепью на шее и с медной бляхой с гербом имперского вольного города Ротенбурга.
— А, Лизеганг, в чем дело? Чего ради вы затрудняете себя в праздничный день? — непринужденно обратился к чиновнику Стефан фон Менцинген. Но тот, напустив на себя неприступный вид должностного лица, отвечал:
— Я пришел с поручением от всемудрого магистрата передать это письмо высокородному и достославному рыцарю Флориану Гейеру фон Гейерсбергу в собственные руки.
Флориан Гейер взял большое с печатью магистрата письмо и вскрыл его. Краска гнева залила его лицо, и он отрывисто рассмеялся и сказал, иронически глядя на Лизеганга, который стоял вытянувшись, как на посту:
— Можете доложить вашему всемудрому магистрату, что я, высокородный и достославный рыцарь Гейер фон Гейерсберг, почту для себя величайшей честью отряхнуть прах этого гостеприимного града от моих ног.
— Будет доложено, — отвечал гонец и, круто повернувшись, направился к двери.
Флориан Гейер протянул фон Менцингену письмо и сказал:
— Читайте! Магистрат высылает меня; завтра поутру я должен покинуть город.
— Клянусь адом! Это неслыханная наглость! — вскричал фон Менцинген и с размаху стукнул кулаком по письму.
— Если вам нужны доказательства вероломства магистрата — вот они, перед вами, — сказал Флориан Гейер.
— Не я буду, если их наглость не станет им поперек горла! — задохнулся хозяин. — Магистрат вместе со всем этим спесивым юнкерством нужно вымести помелом, чтобы и духу их не осталось!
Такие же пожелания слышал Большой Лингарт из уст горожан, отдыхавших по случаю праздника за стаканом вина в «Красном петухе». Разумеется, и они, узнав об ингольштадтском побоище, пришли в уныние, но Лингарт сумел поднять их дух. Он пристыдил их за малодушие, рассказал, как геройски защищал Ингольштадт отряд Черной рати, рассказал о готовности галльцев и гайльдорфцев прийти на помощь и выразил уверенность в том, что ротенбургские крестьяне поднимутся вновь, как только увидят, что горожане взялись за дело не на шутку. Но, что самое главное, Флориан Гейер жив и не собирается сложить оружие. В правоте его доводов все окончательно убедились, когда за здоровье Флориана было выпито немало кубков доброго вина.
Большой Лингарт поостерегся выкладывать планы, в которые его посвятил Гейер во время их долгого пути. Только оставшись в тесном кругу с мясником Фрицем Дальком, дубильщиком Иосом Шадом, виноградарем Гансом Маком и еще несколькими такими же решительными горожанами, он заговорил без обиняков. Эти люди готовы были скорей расстаться с жизнью, чем позволить дворянам и толстосумам загребать жар их руками.
— А теперь, друзья, кто добудет мне коня? — сказал Лингарт, собравшись уходить. — Нам с Флорианом Гейером не удалось вывести наших коней из замка.
Фриц Дальк предложил ему хоть сейчас свою животину, что стоит у него на конюшне. И честный мясник сдержал свое слово. На следующее утро Большой Лингарт, рысцой выехав из города через Кобольцельские ворота, миновал часовню пилигримов и, проехав по трехъярусному каменному мосту через Таубер, направил коня к швабскому городу Галлю.
Глава девятая
В тот же вечер второго дня троицы Эразм фон Муслор и Конрад Эбергард со своими единомышленниками держали совет. После тяжелого поражения крестьян под Ингольштадтом и Кёнигсгофеном господа решили, что гроза пронеслась, и Конрад Эбергард, со всей присущей ему резкостью, настаивал на том, чтобы вовсе сбросить маску братской верности крестьянам. Они и так уже приоткрыли ее, когда отозвали делегатов города с вюрцбургского съезда. Теперь они решили идти до конца. Было созвано совместное заседание обоих советов и комитета, и Георг Берметер объявил, что приспело время, когда бюргерство должно в первую голову подумать о собственной безопасности. Необходимо без промедления искать мира с Швабским союзом и с этой целью отрядить послов к Трухзесу фон Вальдбургу.
— Так вот чего стоит ваша присяга на верность крестьянам! — вскричал, вращая белками, Стефан фон Менцинген. — Вместо помощи в беде вы, как трусы, хотите их бросить. — Поднялся ропот, но рыцарь, нисколько не смутившись, повторил свое обвинение и добавил: — Впрочем, это не первое ваше клятвопреступление. Вы вступили на этот путь, когда изгнали Гейера фон Гейерсберга… Да, можете кричать сколько угодно, — продолжал он зычным голосом, когда все загалдели и затопали ногами, чтобы не дать ему говорить. — Как председатель комитета, я обязан избавить город от опасности, которую вы навлекаете на него. Своим малодушием вы не спасете, а погубите и его и самих себя. Изъявляя покорность врагу, вы заслужите лишь его презрение и испытаете еще худший гнет. Хотите спастись? Заставьте себя уважать! Это диктует здравый смысл, если даже вы, не имея мужества сопротивляться, стремитесь достигнуть лишь терпимых условий мира. У Ротенбурга достаточно сил, чтобы дать отпор врагу. Под нашими стенами Трухзесу придется забыть о лаврах, которые он стяжал, сражаясь с неискушенными в военном деле крестьянами. Так укрепим же наш город, наберем войска и встретим врага во всеоружии.
Не своими доводами, а зычным голосом он заставил себя слушать. Водворилась относительная тишина. Но не успел он кончить, как с новой силой разразилась буря. Все кричали, чтобы не дать ему говорить. «На голоса! На голоса!» — повторяли противники Менцингена, вскочив с мест и топая ногами.
За предложение Берметера поднялся целый лес рук. Даже из членов комитета почти никто не голосовал против него. Итак, решено было просить пощады и с этой целью отправить к Трухзесу Эразма фон Муслора, Конрада Эбергарда и ротенбургского канцлера и летописца Томаса Цвейфеля.
Они нашли Трухзеса в Гейдингсфельде, в доме священника. Его окружала пышная свита князей, графов и рыцарей. Посланцев встретили возгласами:
— Пожаловали, голубчики! Явились с повинной! А мы было собрались сами вас проведать.
Трухзес набросился на них с грубыми упреками: они изменили Швабскому союзу, якшались с крестьянами. Депутация вынесла бурю с величайшим смирением. Только Томас Цвейфель не склонил головы. Хотя по своим убеждениям он всецело был на стороне реакции, но все же он оставался мужественным и честным человеком. И он бесстрашно выступил против чрезвычайно тяжелых условий перемирия, которые Трухзес хотел навязать Ротенбургу. Опираясь на дипломатическое искусство фон Муслора и — не в последнем счете — на всеподданнейше поднесенный Трухзесу через депутацию дар, серебряный сервиз — он сумел добиться смягчения многих требований и, что особенно важно, скостить девять десятых первоначальной суммы контрибуции — шестьдесят тысяч гульденов, на которой сначала настаивал Трухзес. Зато в своем требовании предоставления Швабскому союзу права наказать крестьян Трухзес остался непреклонен.
Внутренний совет, с присущим ему в этой области мастерством, увенчал дело своего посольства двойным предательским ходом. Он разложил контрибуцию, не считаясь с материальным положением горожан, поровну между всеми домами в пределах внутренней городской стены, так что на каждую семью пришлось по семь гульденов. Неуплатившим грозило изгнание из города за пределы тридцатимильной зоны. Не одному бедняку пришлось покинуть город с женой и детьми, и таким образом магистрат избавился от самой беспокойной части населения. Этот чрезвычайный налог — сущие пустяки для богачей — был непосильным бременем для бедноты. Стефан фон Менцинген, как податной старшина, должен был взыскать его, чем заслужил всеобщую ненависть.
По законам Ротенбурга никто из горожан не имел права отказываться от поручений магистрата. Фон Менцинген, поняв, что попал в силки, решил действовать в духе последнего разговора с Флорианом Гейером. Он еще раз созвал своих наиболее преданных сторонников на тайное совещание в доме Килиана Эчлиха, и все согласились с ним, что теперь необходимо, не теряя времени, нанести правящему совету решительный удар. Один лишь Кретцер, сидя в своем «Красном петухе» и лучше зная настроение масс, сомневался в успехе. В день троицы командору Христиану удалось расшевелить толпу, упавшую духом после сражения под Кёнигсгофеном. Он произнес в соборе св. Иакова громовую проповедь против властей, бросив им обвинение в кровавом терроре против крестьян. Ведь только невыносимый гнет заставил бедных людей поднять восстание, и кто возлагает ответственность на них, тот недостоин называться человеком. Но весть о поражении под Ингольштадтом свела на нет все его старания, и даже Крист Гейнц, Лоренц Дим, Христиан Мадер вынуждены были признать, что сейчас зажечь народ так же трудно, как мокрую губку.
И вот настало время, когда Эразм фон Муслор и Конрад Эбергард снова взяли в свои руки бразды правления. Несправедливым распределением контрибуции и назначением Менцингена ее сборщиком Георг Берметер оказал реакции последнюю услугу. Обвиненный в том, что его политика заставила город изменить Швабскому союзу, вести двойную игру с маркграфом Казимиром и предать крестьян, он вынужден был сложить с себя полномочия бургомистра и удалиться в свой прекрасный дом на Дворянской. Призванный к власти благодаря своему благодушию и доверию всех партий, он выпустил эту власть из своих рук по слабости и уходил теперь, сопровождаемый насмешками и презрением тех, кто использовал его в своих интересах, и ненавистью и проклятиями народа, обманутого в лучших своих чаяниях.
Люди, хоть сколько-нибудь скомпрометировавшие себя или нажившие себе врагов в городе, не чувствовали себя больше в безопасности. Ратушу целыми днями осаждали граждане, жаждущие уехать по срочным делам то на Нердлинскую ярмарку, то еще куда-нибудь и пытались добиться пропуска. Эренфрид Кумпф отлично знал, что патрициат ненавидит его, хотя и сам принадлежал к этому сословию, и нисколько не обольщал себя надеждой на то, что город возьмет его под свою защиту, хотя он согласился представлять Ротенбург на вюрцбургском съезде, лишь уступая настояниям магистрата. Поэтому он бежал из города, и все его имущество было конфисковано. Даже молодой Шпельт, сопровождавший его на вюрцбургском съезде, скрылся. Макс Эбергард предупредил фрау фон Бадель об опасности, угрожающей опекаемому ею Карлштадту. Сам Макс не помышлял о бегстве. Мог ли он покинуть свою возлюбленную и ее мать в такое опасное время?
Так как доктора Карлштадта могли опознать у городских ворог даже переодетого, то Макс помог его покровительнице темной ночью переправить маленького доктора через городскую стену, примыкавшую к ее дому, в бельевой корзине. «Как миннезингера, отправляющегося на тайное свидание к даме своего сердца», — сказала эта добрейшая душа и рассмеялась. Беглецу посчастливилось добраться до Базеля, где он и провел остаток своей бурной жизни, мирно занимаясь обучением молодежи. Отцу Христиану, женитьба которого на сестре слепого монаха была отпразднована в доме фрейлейн фон Бадель, Валентину Икельзамеру и командору Тевтонского ордена тоже удалось бежать в последнюю минуту, хотя город кишел шпионами и доносчиками, которые, как черви на падали, заводятся всегда в таком множестве на теле реакции.
Габриэль Лангенбергер, чахоточный хозяин «Медведя», теперь, не щадя сил и не помня зла, старался выслужиться перед досточтимым господином Эразмом и осаждал его доносами, и тот благодарил его уже безо всякого отвращения. Патриот подслушал в своем трактире, как беглецы сговаривались с крестьянами и со своими оставшимися в Ротенбурге друзьями о нападении на город. Сноситься между собой им будто бы помогали францисканские монахи. Магистрат, не теряя времени, распорядился переселить францисканцев из монастыря у городских ворот в подворье Тевтонского ордена, в самом центре города. Для устрашения крестьян магистрат приказал начальнику городской стражи фон Адельсгейму сжечь и разрушить до основания Шварценброн — родину Большого Лингарта, Лейценброн — приход Леонгарда Деннера, Шпильбах и еще несколько деревень. Иероним Гассель и кое-кто из молодых дворян вызвались сопровождать Адельсгейма и его стражников и выехали как на увеселительную прогулку.
Тогда и Стефан фон Менцинген решил, что ему больше нельзя оставаться в городе. Он прекрасно знал, что за ним по пятам следуют магистратские шпионы. Теперь, когда его честолюбивые замыслы потерпели крах, враги не замедлят рассчитаться с ним. Он задумал бежать к маркграфу Казимиру, который, конечно, возьмет его под свою защиту. В этом он был так же твердо убежден, как и в том, что маркграф заставит ротенбуржцев поплатиться за их двойную игру.
В Ротенбурге был храмовой праздник. Но обычного в такие дни веселого оживления в городе не было. Не видно было ни гирлянд, ни зеленых веток, украшавших обычно дома в такие дни. Пустовали длинные столы и скамьи, расставленные в просторных сенях у горожан, имеющих право торговать своим вином. Поселяне, обычно веселыми ватагами стекавшиеся в город по праздничным дням, теперь, запуганные и озлобленные, вовсе не показывались. Странствующих лекарей, фокусников, фигляров, скоморохов и всякий бродячий люд магистрат запретил впускать в город.
Приказав держать лошадей оседланными, фон Менцинген отправился в собор св. Иакова послушать на прощанье проповедь доктора Дейчлина. Чтобы скрыть свой дорожный костюм, он набросил на плечи богатый камлотовый плащ.
Выйдя из церкви вместе с Килианом Эчлихом, он остановился у ратуши, перед лавкой золотых дел мастера.
— Пусть друзья будут наготове, — сказал он напоследок, — с юга и с запада опять надвигаются тучи.
Вдруг фон Менцингена окружили солдаты наемной городской стражи и, не дав ему обнажить меча, схватили и потащили в тюремную башню.
— На помощь, граждане! На помощь, братья! — кричал он толпе, собравшейся на Рыночной площади. Но ни один человек не тронулся с места. А кто-то даже крикнул: «Эх, милый, братству пришел конец!»
Только доктор Дейчлин не забыл о нем и с кафедры призывал народ сжалиться над заточенным братом и освободить его из тюрьмы. Тогда магистрат приказал схватить проповедника, а заодно и слепого монаха.
Флориан Гейер покинул Ротенбург еще на исходе второго дня троицы, перед закрытием ворот. Фон Менцинген дал ему самого выносливого из своих коней. Чтобы не напороться на войска Трухзеса, которые, как он полагал, уже взяли Вюрцбург, он переправился у Клейн-Оксенфурта на правый берег Майна. Взошел месяц; медленно поплыл он по темному небосводу, как челн по спокойной поверхности горного озера. Его кроткое сияние мало-помалу успокоило одинокого всадника, нервы которого уже свыше двух суток были в состоянии крайнего напряжения. На смену мыслям, всецело отданным войне и политике, пришли более радужные образы. Перед отъездом он еще раз повидался с Эльзой и ее матерью, и сейчас вновь переживал обаяние глубокой чистоты и благородства натуры юной и прекрасной девушки, которая, при всей своей серьезности, была так подкупающе женственна. Он привязался к ней, как к младшей сестре. «Да, пусть сейчас все бурлит и бродит, как в кипящем котле, — думал он, — Германия может быть спокойна за свое будущее, пока не перевелись еще такие женщины, как Эльза». Он перенесся в воображении к своей жене и при мысли о близком свидании, — увы, очень коротком, — с ней и ребенком, вонзил шпоры в бока лошади, которая перешла было на мелкую рысь. Проселочными дорогами он домчался до Ленгфельда и через несколько часов после восхода солнца увидел перед собой родовое гнездо Грумбахов — старый замок, точно помолодевший в ярких лучах.
Римпар лежал в узкой излучине Плейхаха, который течет с востока, пробиваясь извилистой лентой через прекрасную холмистую долину, и здесь сворачивает на юг, к Вюрцбургу, где впадает в Майн. Основание этого величественного замка возвышается на несколько футов над уровнем быстрой речушки, омывающей с севера и с запада его стены и башни. Римпар был защищен не столько природой, как искусством: у него были стены, башни, ворота исключительной толщины. Но устоят ли они перед жерлами таких стенобитных чудовищ, как Петух, Соловей[131] или Певунья, которые в то время только-только появились на свет, — это должно было показать будущее. Страсть к разрушению изобретательней инстинкта самосохранения, что приводило и приводит к гибели не один народ. Главные ворота замка были расположены на западе. На некотором расстоянии от них, у подножья холма, прилепились жалкие лачуги деревушки Римпар. На севере, на другом берегу Плейхаха, раскинулся необозримый холмистый массив Грамшацкого леса, тянувшегося на западе до самого Майна. На этот лес и на деревню выходили окна двух покоев, отведенных фрау Барбаре Гейер. Тех самых покоев, где она жила еще в девичьи годы. Под западными окнами замка находился громоздкий балкон, под которым был разбит цветник. Конюшни, амбары и помещения для слуг тянулись вдоль восточной стены замка. Замок имел форму четырехугольника; посреди двора возвышалась сторожевая башня — Бергфрид.
Фрау Барбара выбежала на балкон навстречу въезжавшему через ворота мужу. Она стояла в белом пеньюаре, с раскрасневшимися щеками и распущенными волосами и махала ему рукой. Она собиралась причесываться, когда услыхала, как он громко звал сторожа. Еще миг, и он сжал в своих объятьях ее высокий полный стан. «Слава богу! Наконец-то ты дома», — прошептала она и со вздохом заглянула ему в глаза, с глубокой любовью устремленные на нее. В этих словах вылилась вся ее тоска по нем, тоска мучительная, почти невыносимая, особенно с тех пор, как ее брат привез от него поклон и она стала ждать его изо дня в день, из часа в час. Она почувствовала, как будто у нее с души спал тяжелый гнет, гнет тоски и одиночества. Хотя фрау Барбара родилась и выросла в Римпаре, теперь она не чувствовала себя здесь хозяйкой, как до замужества и в Гибельштадте.
Мужественно переносила она тревогу за мужа, которого вечно окружали опасности. Когда у нее было слишком тяжело на сердце, она черпала силы и утешение в своем ребенке. Она горячо любила мужа и преклонялась перед чистотой и величием его души. Но самой возвышенной и чистой любовью женщина любит своего ребенка. Радостная фрау Барбара засуетилась, помогая мужу вместо оруженосца снять доспехи, а потом, приложив палец к губам, повела его в опочивальню, где у колыбели малютки сидела няня, привезенная ею из Гибельштадта. Женщина встала и хотела поцеловать край одежды Флориана Гейера, но тот предупредил ее и пожал ей руку. Ребенок проснулся до петухов и теперь старался вознаградить себя крепким сном. Подперев ручонкой золотистую головку с мягкими, как лен, волосами и откинув на перину другую, сжатую в кулачок, он лежал, раскрасневшийся и круглощекий, как румяное яблочко, погруженный в безмятежный сон. Отец и мать, взявшись за руки, любовались им. Глаза матери сняли нежностью и счастьем. Отец, боясь разбудить ребенка поцелуем, прильнул к губам матери.
— Не правда ли, как он вырос и окреп? — спросила она.
— О да. Просто геркулес в колыбели, — шутливо отвечал он. Няня с довольным видом закивала головой.
— Он уже начинает говорить, — сказала фрау Барбара.
— Конечно, на материнском языке, — насмешливо произнес Флориан, — на языке, понятном только материнскому уху.
Няня возмущенно покачала головой. Фрау Барбара, смеясь, погрозила ему пальцем.
— Ну, пойдем, — сказала она, — тебе пора подкрепиться и отдохнуть.
По витой каменной лестнице они спустились на первый этаж, где помещалась общая трапезная. Это была огромная и довольно мрачная комната, где в течение жизни целого поколения ничто не обновлялось. Фрау Барбара оставила мужа одного и пошла распорядиться о завтраке. В этой самой комнате Гейер впервые познакомился со своей будущей женой. Он не замечал ни потемневших от времени, обитых кожей, панелей, ни поблекшего золотого тиснения на стенах, ни почерневших дубовых балок на потолке. Не заметил он и теперь, как обветшали и потерлись скамьи и кресла, как вылиняли и изорвались скатерти и вышитые покрышки. Огромный камин, в котором можно было зажарить целиком барана на вертеле, разевал свою пустую черную пасть. Посреди комнаты, под свисавшей с потолка люстрой — оленьей головой из дерева с шестнадцатью настоящими рогами, — стоял большой стол из потемневшего дуба с толстыми гнутыми ножками.
Фрау Барбара скоро вернулась. За ней служанка внесла блюда с копченым окороком, холодной говядиной и другими кушаньями. Фрау Барбара потчевала мужа, радуясь его аппетиту. Вдруг темное облако набежало на ее чело, и она глубоко вздохнула. На его вопрошающий взор она отвечала дрожащими губами:
— Прости меня. Я подумала, когда мы наконец будем сидеть за столом у себя дома. Мы были так счастливы в Гибельштадте.
Ее синие глаза наполнились слезами.
— Хотел бы я тебе дать более утешительный ответ, — сочувственно произнес он. — Но надо вооружиться терпением. О мире нечего и думать, пока мы не сломим врага. Теперь, я надеюсь, предстоит решительная схватка.
Со двора донесся конский топот, лай собак, громкие голоса.
— Это Вильгельм, — промолвила молодая женщина. — Он каждый день справлялся у меня, когда ты приедешь. Я оставлю вас одних. При нем нам не о чем говорить.
Когда ее брат, в охотничьем костюме, вошел и протянул шурину свою как всегда холодную и влажную руку, она встала и направилась к двери. Вошедший не стал ее удерживать.
— Ты с охоты? — спросил Флориан Гейер.
— А что мне еще делать? — отвечал тот, осушая кубок и отрезая себе увесистый кусок говядины. — Впрочем, разве это охота? Господа крестьяне перестреляли всю дичь, оставив нас ни с чем. Ведь теперь им на это дано право!
— Что делать, ты спрашиваешь? Помнится, мы уже толковали об этом в Гейдингсфельде. Так ты не собрал крестьян из лесу?
— И не подумал! — вызывающе отвечал юнкер. — А известно ли тебе, какой приятный сюрприз ожидал меня здесь по возвращении из Мариенберга? Крестьяне успели разрушить четыре наших замка: Эссенфельд, Плейхах, Альтгогенбах и Герольдсгофен. И за это я еще должен хороводиться с этим сбродом!
— Ты забываешь, что тогда ты еще был в стане врагов, а теперь этот «сброд» — твои союзники.
— К черту таких союзников! — проворчал юнкер. — Лучше расскажи, как обстоят дела в Вюрцбурге, вместо того чтобы читать мне Левитов[132]. Я уже не мальчик.
— Все же я должен самым решительным образом осудить твою беспечность, — строго произнес Флориан. — Может ли успешно действовать организм, если отдельные его члены отказываются повиноваться? И на каком свете ты живешь, что ничего не знаешь? Ведь отсюда езды час с небольшим. Так знай: Трухзес Иорг стоит у ворот Вюрцбурга.
Вильгельм Грумбах в изумлении уставился на шурина.
— И ты — здесь? — спросил он с недоверием в голосе.
— Да, именно потому я здесь, — и Флориан Гейер отодвинул тарелку и кубок и в немногих словах рассказал ему о поражении крестьян под Кёнигсгофеном и Ингольштадтом. Юнкер вскочил с места, и его стул грохнулся на пол.
— Так ты в бегах? — прошипел он, побагровев. — Так вот чем вы кончили! Ах я болван! — И он изо всех сил ударил себя кулаком по лбу.
— Может статься, твоя игра и кончена, но не моя! — возразил Флориан Гейер и с легким презрением в голосе прибавил: — Ну, конечно, его преосвященство господин епископ как был, так и остался для тебя милостивым господином?
Вильгельм фон Грумбах крепко выругался, налил себе полный бокал, осушил его залпом и забегал взад и вперед по комнате. Потом он бросился в одно из двух кресел с почерневшей кожаной обивкой, стоявших по обе стороны камина, и простонал:
— Что ж теперь будет?
— Ничего. Если только ты не решил бороться до конца, — сухо отвечал Флориан Гейер.
— А если решил? — спросил Грумбах, пристально глядя на него.
Флориан встал из-за стола и пересел в кресло напротив шурина.
— Так слушай, — начал он и посвятил его в план кампании, который он излагал фон Менцингену. Он упомянул также и о вооруженных силах, с помощью которых крестьяне еще могли бы привести этот план в исполнение.
Вильгельм внимательно слушал его, опершись локтем на ручку кресел и положив голову на ладонь. Изредка он бросал на говорившего холодный, как сталь, взгляд из-под полуопущенных ресниц. Когда Флориан кончил, он, не поднимая головы, сказал:
— Не думаю, чтобы Вюрцбург продержался против Трухзеса хотя бы неделю. А что потом?
— И потом еще ничто не потеряно, если мы будем стойко держаться, — решительно отвечал Флориан Гейер. — В городе не меньше пяти тысяч человек, а Трухзес понес значительные потери под Кёнигсгофеном и Ингольштадтом. Если мы все же не сможем удержать город, пока не подойдут подкрепления, то нам придется не теряя времени покинуть его, забрав с собой все запасы. До Грамшацкого леса — рукой подать, а под его прикрытием через несколько часов мы уже в горном районе между Рёном, Шпессертом и Птичьими горами. Там мы — как в неприступной крепости. Железная конница, которая внушает крестьянам такой ужас, немногого стоит в горной лесистой местности, где с нею легко бороться засеками и волчьими ямами. Да и от длинных копий ландскнехтов в лесу толку мало. Уже не говоря о том, что, как теперь это ясно, на одну пехоту надежда плохая. Крестьянин с самопалом подстрелит пехотинца прежде, чем тот успеет его заметить. Военное искусство Трухзеса тоже им мало поможет. Мы противопоставим ему то, что крестьяне знают эти места как свои пять пальцев и смогут производить набеги в любом направлении. Там нет недостатка в кузницах, которые станут нашими оружейными мастерскими, а уж закаленных людей — хоть отбавляй. Там мы будем непобедимы.
— Нет, лучше к черту на рога, чем назад к епископу! — воскликнул Вильгельм фон Грумбах, выпрямившись в креслах и устремив на Флориана Гейера почти восхищенный взгляд. Гейер вскочил на ноги.
— А теперь дай-ка мне перо и бумагу и раздобудь двух надежных гонцов. Нельзя терять ни минуты.
— А куда ты их думаешь послать?
— Одного в Вюрцбург с указаниями Гансу Берметеру, а другого в Мельрихштадт, к Шнабелю, чтобы он со своими мюльгаузенцами немедля шел сюда.
Письменные принадлежности имелись лишь у кастеляна, в нижнем этаже. Вильгельм сам принес их и попутно приказал своему верному слуге Тесу Лангу, чтобы к тому времени, когда Гейер напишет письма, гонцы были готовы.
Тес Ланг был всего на пять-шесть лет старше своего господина. Сын крепостного из деревни Римпар, он попал в услужение в замок еще мальчишкой, пришелся по вкусу Вильгельму и рос сотоварищем его игр и козлом отпущения за все его шалости и проделки. Впрочем, нередко случалось и так, что он выступал не в роли невинной жертвы, а соучастника и даже зачинщика далеко не безобидных затей. Как и юнкер, он был мастером на всякие рискованные предприятия и проявлял в них при случае дерзость, граничащую с полной беззастенчивостью. Подобно своему молодому господину он всегда был готов, не стесняясь в выборе средств, добиваться того, что ему было выгодно.
Того свойства, которое принято называть совестью, он был совершенно лишен, и было бы явной клеветой сказать о нем, что он хоть раз в своей жизни, хоть ненароком, пожелал добра своему ближнему. Но он был достаточно хитер, чтобы это скрывать, особенно в тех случаях, когда наглость неуместна. Раскусил ли его юнкер фон Грумбах? Едва ли. Не такой человек был Вильгельм фон Грумбах, чтобы ломать себе голову над характером своего крепостного! Будь это лошадь или собака — другой разговор! С него было достаточно того, что Маттеус Ланг потакал всем его капризам и дурным страстям, помогал в удовлетворении его прихотей и всегда умел найтись. Так как Вильгельм в свое время посвятил его в тайну своей поездки к Флориану Гейеру, он и теперь не скрыл от своего верного слуги цели отправления двух курьеров.
— Гм… — промычал Тес, ухватившись за широкий подбородок и сощурив глаза. — Что ж, письма отправить можно. Ведь они не от вас, а от рыцаря Флориана. В таких делах, ваша милость, никогда не следует оставлять против себя письменных свидетельств. В Вюрцбург я съезжу сам и заодно погляжу, чем там пахнет. А в Мельрихштадт можно послать Венделанда, если на то будет господская воля. Он малый с головой и предан вашему шурину.
На том и порешили. Лишь после того, как письма были написаны, Флориан Гейер решил вознаградить себя за три проведенные без сна ночи.
Тес Ланг вернулся из своей миссии в тот же вечер. Он пересек возвышенность, которая начиналась у деревни Римпар и, постепенно поднимаясь, переходила в широкое плато, круто обрывавшееся у самого Вюрцбурга, среди виноградников. Плато еще не было занято неприятелем, и Тес сумел передать письмо для Берметера страже у Плейхахских ворог. Стражники, по его словам, были в бодром расположении духа, хотя по городу сильно били пушки из предместья св. Буркхарда, занятого Трухзесом. На правый берег Майна враг еще не перешел.
Зато из Мельрихштадта Венделанд привез дурные вести. В воскресенье на троице курфюрст Саксонский, к которому присоединился, нарушив данную крестьянам присягу, Вильгельм фон Геннеберг, разбил наголову Бильдгаузенское ополчение. Граждане Мейнингена, подло струсив, схватили Ганса Шнабеля и, чтобы купить себе прощение, выдали его графу фон Геннебергу. Но о самом худшем Флориану Гейеру еще не суждено было узнать. Большой Лингарт пал от руки врагов. Подданные Галля Швабского изъявили покорность городу. Крестьяне графов лимбурских отдались на милость своих господ и дали себя разоружить. Гайльфордская рать рассеялась. Несмотря на все это, Большой Лингарт бесстрашно продолжал выполнять поставленную перед ним задачу, но попал в окружение и после ожесточенной стычки, во время которой он отправил на тот свет немало врагов, был изрублен на куски.
Печальные вести, привезенные Венделандом, не сломили решимости Флориана Гейера. На всякий случай он принял меры: обследовал Грамшацкий лес, наметил наиболее удобную линию засек и постарался призвать к оружию крестьян лесных деревушек. Чем богаче трудами и заботами был день, тем сладостней был отдых вечером в Римпаре подле жены и ребенка. Вильгельм фон Грумбах не мешал им, он не выносил детского крика. Фрау Барбара старалась скрывать от мужа свои гнетущие думы, зная, что ничто не заставит его сложить оружие и отказаться от борьбы за свободу, до последнего издыхания. Он переживал счастливейшие часы в своей жизни с тех пор, как покинул замок своих предков, и его суровое мужественное сердце солдата смягчалось под напором иных чувств.
В ночь с четверга на пятницу после троицы, несмотря на поздний час, мирный сон обитателей замка был нарушен громким стуком у наружных ворот. Прибыл верховой с письмом для рыцаря Вильгельма фон Грумбаха. Тес Ланг принял письмо и понес его своему господину, которого ему пришлось разбудить. Проснувшись, тот осыпал его проклятиями и отборными ругательствами. Тес, нисколько не смутившись, зажег свечу и сказал:
— Оно, пожалуй, лучше обойтись без шума, ваша милость. Письмо от вашего братца.
Юнкер спрыгнул с постели босыми ногами, схватил письмо и разрезал скреплявший его шнур кинжалом, всегда лежавшим у него под подушкой. С листа на него глядел какой-то частокол из пик и кривых турецких сабель. Тес держал перед ним свечу, и юнкер с немалым трудом, то и дело запинаясь и выходя из себя, прочитал следующее:
«Любезный брат Вильгельм!
Виктория! Мужицкому бунту конец! Сегодня, в семь часов поутру, Трухзес со всеми своими князьями, графами, рыцарями, с тремя с половиной тысячами рейтаров, с отборными частями пехоты и с большой помпой вошел в Вюрцбург. Вступление происходило через Беговые ворота, остальные были заперты. Тотчас было приказано собраться всем вюрцбургским гражданам на центральной Рыночной площади, иногородним — на бывшем еврейском кладбище, крестьянам — на ристалище. Всем — без оружия. Трухзес прежде всего подъехал к вюрцбуржцам и обратился к ним с весьма немилостивой речью, а рядом с ним стояли четыре палача с секирами наголо. Тут же отсекли головы пятерым. Начали с Якоба Келя. Из Ингольштадта он доскакал было до Эйвельштадта, но добрые сограждане выдали его вюрцбургскому магистрату, чтобы тот похлопотал за них перед Трухзесом. Раба божьего вытащили из страшной Эккардовой башни, где его держали в кандалах, и укоротили на голову. Потом приволокли девятнадцать иногородних и тоже сняли им головы. Потом Трухзес отправился на ристалище к крестьянам и там казнил тридцать шесть вожаков и знаменосцев, а остальным дали по белому посошку в руки к выгнали из города. Жаль, что Берметер, первейший коновод у этого сброда, вовремя дал тягу. Хоть убей, не понимаю, почему пять тысяч горожан и крестьян, запершись в городе, терпеливо ждали Трухзеса, как бараны мясника, когда еще третьего дня весь правый берег Майна был свободен и они могли бежать. Но поговаривают, что магистрат, который вел переговоры с Трухзесом, взял дуралеев на пушку, уверив, что дарованная городу пощада распространяется и на них. Выходит, стало быть, что их бараньи головы пошли в приплату за то, что Трухзес был милостив и не повыдернул вюрцбуржцам чубы. Милый Вильм, пишу тебе это все не зря. Теперь ты сам смекаешь, что с Трухзесом шутки плохи. Он даже за вином не становится добрее. Когда он вернулся из Гейдингсфельда, мы закатили ему и князьям в замке большой пир, и все так зверски перепились, что никто не мог добраться до постели, а спали, где кто свалился, большей частью под столом. Но Трухзес даже ни разу не улыбнулся.
Писано в четверг св. Мердардуса. Anno Domini[133] 1525.
Ганс фон Грумбах».
Рука юнкера с письмом бессильно опустилась, и его глаза встретились с устремленным на него исподлобья взглядом его наперсника. Некоторое время оба стояли молча. Тес первый нарушил молчание. Поставив свечу на стол, он сказал:
— Дело ясное. Теперь вы должны повременить бороться с епископом. Но ваше счастье, ваша милость, что еще не поздно повернуть оглобли; ведь вы еще ни в чем не замешаны.
— А мой союз с крестьянами? — спросил Вильгельм фон Грумбах, озабоченно наморщив лоб.
— Да ведь об этом никто не знает, кроме рыцаря Флориана, а он вам родня и вас не выдаст, — успокоил его Тес. — Кстати говоря, раз его игра проиграна, не мешало бы ему поискать себе другое убежище.
— Да, да, он должен сейчас же убраться из Римпара, — поддакнул ему юнкер. — Только куда? Впрочем, это не моя забота.
Он забегал взад и вперед по комнате, босиком, в одной сорочке. Тес взял подбитый мехом шлафрок и, широко держа руки, протянул своему господину.
— Только где же он найдет себе убежище? — продолжал думать вслух юнкер, натягивая рукава, — ведь его всюду выследят.
Он присел на край кровати и в раздумье не заметил, как Тес, опустившись на колени, ловко натянул ему туфли на босые ноги.
— Конечно, он будет молчать, — пробормотал он, — но если его схватят… и если… будут пытать? — Глаза его расширились и впились в лицо наперсника. — Тес, ведь пытки — дело нешуточное, а?
— Да, они хоть кому развяжут язык, — тихо согласился тот.
— А каким ужасным пыткам перед казнью они подвергли Томаса Мюнцера! — сдавленным голосом произнес юнкер фон Грумбах и вытер со лба холодный нот. — Многие на пытке сознаются в преступлениях, которые им и во сне не снились. Это ужасно!
Он встал и заходил, шаркая комнатными туфлями, из угла в угол.
— Только мертвые умеют молчать, — пробормотал он через некоторое время и, подойдя к окну, посмотрел на небо, озаренное бледным сияньем луны. — Ты что-то сказал, Тес? — спросил он, не оборачиваясь.
Тес стоял у стола перед горящей свечой, не разжимая рта.
— Я ничего не говорил. Но вы правильно изволили сказать: только мертвые умеют молчать.
Вильгельм фон Грумбах отошел от окна, заметался по комнате и, подойдя вплотную к Тесу, густо покраснел и продолжал:
— Он очень скоро попадет в руки врагов. Их шпионы рыщут повсюду. Только подумать, если он умрет как преступник, каким позором это падет не только на его жену и ребенка, но и на нас, его родственников, на весь род Грумбахов! Клянусь адом! Нет, Тес, этому не бывать!
— Так-то оно так, — тихо отозвался тот, растягивая слова, — только кто же этому может помешать?
— Ты получишь вольную, Тес, — зашептал фон Грумбах почти у самого его уха, — моя честь в том порукой, я наделю тебя землей.
Они буравили друг друга глазами. Потом Тес Ланг проговорил:
— Верьте моему слову, ваша милость, мое единственное желание — услужить своему господину.
— Флориан — мое проклятие! — воскликнул юнкер, тяжело переводя дыхание и, опустившись в кресло у стола, указал на другое кресло, стоявшее напротив. — Помнишь, как он впервые приехал к нам в Римпар несколько лет тому назад? Как он втемяшивал нам с Гансом в головы, что дворяне должны обнажить меч за Франца фон Зиккингена, если не хотят остаться навеки рабами попов и князей? Не будь он, в жизни меня никто не втравил бы в такую историю! Но давай подумаем, как помочь делу.
— Дума думой, а дело делом! — отвечал Ланг, ухмыльнувшись во весь свой широкий рот. И они совещались, пока в окне не забрезжил рассвет.
В саду проснулись птицы и своим пеньем разбудили Флориана Гейера. Но он поднялся не сразу. Ночью он видел прекрасный сон. Крестьяне снова восстали по всей немецкой земле. Но теперь уже они боролись не только за свою деревню, за свой край, а как дети одной матери, как граждане одной страны. Своим единством они создали несокрушимую силу. И он, Флориан Гейер, ведет их от победы к победе над угнетателями народа. Вот вспыхнул последний страшный бой — и мощь врага сломлена навсегда. Неистовые клики войны сменились радостными песнями мира, и они, взявшись за руки, шагают с женой через цветущие поля. Исчезли замки на холмах, сгинули монастыри в долинах, города сбросили свои стены. Повсюду процветает радостный труд. Нет больше ни господ, ни рабов, есть лишь свободные люди.
Не будучи суеверен, он все же подумал, что этот сон к добру. И решил, что, по всей видимости, вюрцбуржцы держатся молодцами. Лишь бы они продержались, пока не подоспеет помощь еще уцелевших отрядов. А это могло случиться с минуты на минуту. Позавтракав вместе с женой, он тотчас в радужном расположении духа отправился поднимать крестьян в лесных деревушках к северу от Верна. Повсюду люди были полны решимости бороться до конца. Фрау Барбара с ребенком на руках вышла на балкон и долго смотрела вслед мужу, пока он не исчез в лесу, За деревьями, кудрявые вершины которых, позлащенные солнцем, колыхались над безбрежным морем зеленой листвы. Необычайное оживление Флориана подействовало на нее и рассеяло тяжелый осадок от сна, от которого он пробудил ее своим поцелуем. Ей снилось, будто она, муж и их дитя окружены врагами, и спастись невозможно. И вот он, ее Флориан, обнажает меч, чтобы убить сначала ее, потом — ребенка и, наконец, самого себя. Блеснул обнаженный меч, направленный острием в ее грудь, и тут она проснулась от его поцелуя. Но она не рассказала ему о своем сне.
Час спустя к ней в комнату пришел брат и спросил о Флориане. Узнав, что тот отправился в Грамшацкий лес, он промычал:
— Гм… Напрасно пошел. Да еще один.
— Но почему? — изумленно спросила она.
— Да мне передавали, что со вчерашнего дня в наших краях появился подозрительный сброд. И даже у нас в деревне. Впрочем, твой муж всегда хорошо вооружен.
И он ушел, оставив сестру в тревоге. Немного погодя она послала няню за Венделандом, чтобы отправить его вслед за мужем.
— Вендель, — сказала она. — Ты, должно быть, слышал, что в деревне и окрестностях вчера появились какие-то подозрительные люди?
Тот покачал седой головой.
— Нет, госпожа, ни о каких подозрительных людях я не слыхал, хотя только что и был в деревне. А прошлой ночью сюда прискакал гонец от рыцаря Ганса фон Грумбаха и чуть свет умчался обратно. Сказывают, Вюрцбург взят.
Фрау Барбара в испуге вскрикнула.
— Да, взят, вчера утром. Неужто юнкер Вильгельм ничего не сказал вашей милости? Так как из наших римпарских кое-кто тоже был в Вюрцбурге, я и пошел в деревню узнать, правда ли это.
— Ну, и что же? — в мучительном ожидании спросила фрау Барбара.
— К сожалению, правда, — подтвердил Венделанд, понурив голову. — А что там было, и сказать страшно. Тех, кто не поплатился головой за участие в восстании, изгнали из города. Им дали по белому посошку, в знак прощения. Но за воротами на них напали ландскнехты. Жадные до крови и поживы, они обобрали их, раздели и почти всех изрубили на куски. Немногим удалось вырваться живыми из их рук. Да и из наших, римпарских, тоже мало кому удалось спастись.
Фрау Барбара уже не слушала его. Вюрцбург в руках Трухзеса — вот какая мысль терзала и жгла ее сердце. Она не могла понять, почему брат не сказал ей ни слова. Не хотел ее огорчать? Но деликатность была не в его обычае. Флориан должен немедленно узнать обо всем, чтобы не потерять времени. Она попросила Венделанда срочно разыскать ее мужа и сообщить ему о падении Вюрцбурга. Он, наверное, в одной из деревень на берегу Верна. Она указала ему, в каком направлении Флориан пошел через Грамшацкий лес. Пусть он возьмет лошадь. Может быть, он еще догонит его в пути. В опасность, о которой говорил ее брат, она больше не верила.
Венделанд обещал ей не мешкать. Она вышла на балкон. Ей хотелось увидеть своими глазами, как он выедет из замка. Наконец он показался за воротами и поскакал по дороге, ведущей в лес. Что будет, когда Флориан узнает все? Узнает, что все пропало, что он боролся напрасно, что он напрасно пожертвовал своим счастьем и жизнью своих друзей? В висках глухо стучало, она стиснула зубы, прижимая руки к сердцу, которое, казалось, вот-вот разорвется. Она в тревоге то металась но комнате, то выглядывала из окна, то выбегала на балкон, но он все не шел. И когда он придет, боже! Какое это будет возвращение! Подумать только, какой бодрый, веселый, полный надежд он был, расставаясь с ней утром! Няня принесла ей сына, просившегося к матери. Она взяла дитя на руки, но ласкать его, играть с ним, занимать его было сейчас свыше ее сил.
Ребенок заплакал, и, вопреки своему обыкновению, она не могла успокоить его ласками. Она передала сына няне и велела ей выйти с ним в сад. Что теперь будет с его отцом? Что будет с ними со всеми? Она пыталась себе это представить, но тщетно. В душе у нее, вокруг нее, всюду был мрак. Она опустилась на стул и застывшими глазами уставилась в одну точку. А Флориана все нет! Прошло много времени. Сколько? Она не знала. Вдруг многоголосый гул донесся до ее ушей. Она подняла голову, прислушиваясь, и выбежала на балкон. Во внутренние ворота замка протискивалась большая толпа. Вернувшись в комнату, она услышала хлопанье дверей и топот множества ног по лестницам и коридорам.
Она открыла дверь своей комнаты, и снизу донесся тот самый гул голосов, который она слышала с балкона. Стрелой помчалась она вниз по витой лестнице. Огромная прихожая внизу была полна крестьян и челяди. При появлении фрау Барбары весь этот жужжащий улей смолк и наступила тишина. Толпа в смущении расступилась, и она увидела перед собой на носилках бледное как воск лицо своего мужа. С душераздирающим криком она упала на его грудь. Он был мертв.
Это было предательское убийство из-за угла. Пуля убийцы настигла его сзади, в спину, и пробила сердце. Лесничий во время объезда своего участка нашел его тело у подножья горы, которой солнце посылает свой первый привет на заре и дарит свой прощальный поцелуй на закате. Тело было найдено наполовину погруженным в болото. Кровавые следы говорили о том, что оно было притащено сюда с места убийства, но убийца, сам боясь провалиться в болото, бросил мертвеца, не решившись тащить его дальше. На это указывали глубокие отпечатки сапог у самого края трясины. Но здесь следы преступника обрывались. Все это сообщил лесничий Вильгельму фон Грумбаху. Его сестра узнала об этом значительно позже.
— Надо будет произвести тщательное расследование, — громко произнес юнкер фон Грумбах. — Я сам отправлюсь на место преступления. Нет сомнения, что преступника следует искать среди того сброда, который появился в наших краях.
— С вашего дозволения, ваша милость, едва ли, — возразил Венделанд. — Будь оно так, они бы ограбили труп. Это сделал подлый негодяй.
Старый слуга, отправившись на розыски своего господина, заблудился в лесу, но встретил лесничего, и когда тот выводил его на дорогу, оба они и наткнулись на тело Флориана Гейера.
Вильгельм фон Грумбах лишь молча пожал плечами и подошел к сестре, которая, услышав последние слова Венделанда, подняла голову и растерянно, невидящими глазами озиралась вокруг. Встретившись с ее сухим, воспаленным взором, юнкер невольно вздрогнул.
— Господь не оставит это убийство без отмщения, — сказал он. — Крепись, сестра. Предоставь мне заботу о погребении усопшего.
И, видя, что она не сводит с него застывшего, пристального взгляда, он тихо добавил:
— Подумай о том, что это печальное событие избавило его от позорной смерти на эшафоте, а тебя и нас всех от постыдного пятна.
Вместо ответа она закричала как безумная:
— Это сделал подлый негодяй! Ты слышал? — и без чувств повалилась на грудь любимого.
Ее крик остался навсегда в памяти всех, кто его слышал, а ее слова заронили подозрение, которое все разрасталось и набросило черную тень на имя Вильгельма фон Грумбаха. А гора в Грамшацком лесу, у подножья которой было найдено тело благороднейшего борца за свободу, получила в народе, за дело которого он сражался и пал, имя Гейерсберга.
Глава десятая
Ранним утром 28 июня дозорный на городской башне поднял тревогу криком: «Идут!»
Вмиг улицы Ротенбурга словно вымерли: торговцы закрыли лавки, жители разбежались по домам и заперли двери на засов. Ибо «шел» не кто иной, как его высочество маркграф Казимир Бранденбургский. Залив кровью и превратив в пепелище епископство Вюрцбургское, Трухзес повернул со своими войсками на Рейн, где крестьянская революция разгоралась с новой силой. Наказать Ротенбург он поручил маркграфу Казимиру и наследственному маршалу Иоахиму фон Паппенгейму. Даже у господ из внутреннего совета при этом известии дрогнули сердца, и ратсгеры поспешили отрядить Конрада Эбергарда, Иеронима Гасселя и еще несколько «именитых» навстречу маркграфу, шедшему из Бамберга, где он свирепствовал, как и в собственных владениях, не хуже самого Трухзеса. Но епископу Бамбергскому все было мало, и этот могущественный князь церкви, окружив себя палачами, предпринял самолично карательную экспедицию по епископству. Маркграф отказался принять делегацию ротенбургского магистрата и продолжал двигаться на Ротенбург. Лишь спустя несколько дней, в Бургбернгейме, он соблаговолил сообщить делегации о своем намерении расположиться со всей своей армией в Ротенбурге. Если его не впустят добром, он войдет силой. Его тайный секретарь, Антон Грабер, показал делегатам грамоту, каковою Георг Трухзес уполномочивал маркграфа Казимира и Иоахима фон Паппенгейма примерно наказать Ротенбург, предоставив им право «казнить смертию, налагать контрибуцию, конфисковать имущество и наказывать виновных, сообразуясь лишь со степенью вины и с обстоятельствами».
Впрочем, в Ротенбурге не было недостатка и в тех, кто ждал маркграфа как избавителя.
Фрау Маргарета фон Менцинген и ее дети надеялись, что он вернет им мужа и отца. Как только Макс Эбергард узнал об аресте рыцаря Стефана, он поспешил предложить его семье свою помощь делом и советом. Заливаясь слезами, Эльза упала к нему на грудь. Ее мать обнаружила поразительную выдержку. Грозная туча, нависшая над ее головой со времени возвращения мужа в Ротенбург, разразилась наконец страшной бурей. Эта буря положила конец мучительному страху, тягостной неизвестности. Но когда буря грянула, белокурые волосы фрау фон Менцинген совершенно поседели. Теперь, зная, какая страшная участь грозит ее мужу, она решила действовать.
— Враги хотят лишить его жизни. Они ведь и обвинители и судьи. Спасти его может лишь тот, кто сильней их всех.
И фрау Маргарета решила отдаться под высокое покровительство маркграфа и вместе с Максом отправилась в богатый город на пяти холмах — Бамберг, в ратуше которого у каменного моста через Регниц расположился его высочество со своим штабом. Его личный секретарь пригласил даму в черном, низко склонившую голову, и сопровождавшего ее Макса Эбергарда войти.
Маркграф Казимир меньше всего походил на героя: это был низенький толстяк с помятым от распутной жизни лицом. Рядом с ним граф фон Паппенгейм казался видным мужчиной; он был не так суров и жесток, как маркграф, который был крайне неразборчив в средствах и никогда не забывал обид.
Он принял фрау фон Менцинген очень милостиво, не позволил ей опуститься перед ним на колени и поспешил ее заверить, что она не напрасно обратилась к нему.
— Как вам это понравится, господа? — обратился он к стоявшим рядом с ним графу фон Паппенгейму и фельдмаршалу фон Визентау. — Эти отцы города осмелились поднять руку на одного из моих верных слуг. Клянусь ранами Христовыми, они раскаются в этом!
Приняв от Макса жалобу, он сказал:
— Я помню и ценю вас, доктор, еще с тех пор, когда вы с таким отменным искусством защищали фон Менцингена в имперском суде.
Фрау фон Менцинген возвращалась домой, окрыленная надеждой. Тем временем маркграф обратился к внутреннему совету с письмом, в котором «покорнейше просил» немедленно освободить из заключения его слугу и вассала, пользующегося его покровительством, или, во всяком случае, предоставить ему возможность оправдаться.
Наконец маркграф собственной персоной пожаловал в Ротенбург. Фельдмаршал Кристоф фон Визентау с авангардом занял Ворота висельников, и вскоре показалось и все войско. Отряд закованных в панцири ландскнехтов, продефилировав по Вюрцбургской улице и улице св. Георгия, остановился на площади. За ним последовали в походном порядке артиллерия и часть ландскнехтской пехоты. Затем, во главе большого отряда рейтаров, появились маркграф и Иоахим фон Паппенгейм в блестящих доспехах, на богато убранных конях. Шествие завершала рота ландскнехтов. На Рыночной площади были установлены пушки, направленные своими жерлами на все сходящиеся там улицы. Площади и улицы города были заняты рейтарами и ландскнехтами. Все же дело обошлось без грабежа; бюргеры отделались страхом. Только городские фуражные амбары были разбиты и все запасы овса, сена, соломы расхищены.
Маркграф со своим штабом расположился в доме Ягтсгеймера, где в свой последний приезд в Ротенбург останавливался император Максимилиан. Это — угловой дом на Дворянской, напротив ратуши. Задней стеной он соприкасается с дворянским танцевальным залом. Выходящий на Рыночную площадь угол его чудесного фасада украшен подвесным балкончиком, под пирамидообразной кровлей которого стоит дева Мария с младенцем на руках.
В этом доме приветствовал маркграфа, как глава внутреннего совета, Эразм фон Муслор и по старинному обычаю поднес ему почетный дар: вино, рыбу и овес. Но нахмуренное чело его высочества не прояснилось. В резких словах он выразил свое неудовольствие магистратом, который оставил без последствий его «покорнейшую просьбу» касательно рыцаря фон Менцингена. Он оборвал пытавшегося возражать ему Эразма фон Муслора и потребовал, чтобы ему были тотчас предъявлены «пытные показания» рыцаря, то есть протокол показаний, данных им под пыткой. Он потребовал также пытные показания доктора Дейчлина и слепого монаха. Затем он приказал составить список зачинщиков бунта в Ротенбурге и его владениях.
Суд и пытки
С гравюры Ганса Буркмайра
— Но помните, господа, что кровь, которую я вынужден ныне пролить, падет на ваши головы. Если бы вы в свое время приняли мою поддержку, которую я предлагал вам неоднократно, мятеж был бы раздавлен в зародыше.
Этими немилостивыми словами он дал понять, что аудиенция окончена.
Его высочество впал в заблуждение, столь обычное для сильных мира сего. Помешать восстанию изнемогавшего под вековым гнетом народа он был так же бессилен, как помешать извержению вулкана. И он забыл, что своей временной победой реакция была обязана не своей силе, но ошибкам своих противников. Немилостивым приемом он не только не смягчил, но еще усилил упорство досточтимых ратсгеров.
Конрад Эбергард поклялся своей честью, что маркграфу не удастся вырвать у них из рук добычу. В своем озлоблении он зашел гораздо дальше своих коллег, ведь его единственный сын был прикован неразрывными цепями к этой опозорившей себя семье. Лишь после тяжелой внутренней борьбы он преодолел искушение внести в проскрипционный список собственного сына, и лишь всеобщему уважению к особе своего отца Макс Эбергард был обязан тому, что не фигурировал в перечне вожаков восстания, представленном городским писцом маркграфу.
Но пером ратсгеров меньше всего водили политические соображения. Они называли имена под влиянием личной вражды и нередко отдавали дань даже россказням и сплетням. И не удивительно, что список, доставленный на следующее утро Томасом Цвейфелем маркграфу, состоял из более чем ста кандидатов на эшафот. Этот длинный перечень открывали имена доктора Дейчлина, командора Христиана, слепого монаха, доктора Карлштадта. Затем следовал Стефан фон Менцинген, члены магистрата Крист Гейнц и Эренфрид Кумпф, а за ними — шестьдесят три горожанина, вся вина которых заключалась в том, что они неодобрительно отзывались об императоре, князьях или магистрате и твердо стояли на стороне крестьян. Из жителей сельских общин было внесено в список тридцать имен — все, какие только пришли в голову досточтимым ратсгерам.
Но рьяные доносчики были вынуждены сплошь и рядом называть своих сограждан не по имени и фамилии, а по кличке или прозвищу. Уж так исстари повелось, что многие из горожан были больше известны по кличке, чем по унаследованным от отцов и нареченным именам. Томас Цвейфель добросовестно скопировал поданные ратсгерами записочки, ничего не изменив, и маркграф читал список вслух, высоко подняв брови: «Ткач при часовне пречистой девы, что живет с Грейсершей. Свояк слепого монаха, каретник. Свояк Иорга Хернера, канатчик. Бородатый ткач, по прозвищу Свистун. Долговязый шапочник, который колотит жену».
Маркграф с раздражением отшвырнул список и потребовал, чтобы всюду были проставлены фамилии и имена. Но Томас Цвейфель, не побоявшийся перечить самому Трухзесу, не склонился и перед маркграфом.
— Ваше княжеское высочество, — отвечал он ему, — я в точности исполнил свой долг, переписав все имена, сообщенные мне господами из магистрата. Наводить справки не входит в круг моих обязанностей.
Он уперся на своем и таким образом спас многих от неминуемой смерти.
В ночь на субботу 30 июня на Рыночной площади, перед Дворянской питейной, вырос зловещий помост. Рано утром через весь город проехал трубач, и сопровождавший его глашатай объявил во всеуслышанье, чтобы все граждане, под страхом смерти, ровно в семь часов явились на Рыночную площадь. Пришел и Макс Эбергард. Он был готов к худшему. Ему казалось невероятным, чтобы мстительный враг пощадил защитника фон Менцингена и члена комиссии по составлению конституции. Ему только было больно, что он не смог проститься с любимой. Он поднял глаза на ее окна. Они были закрыты ставнями. Зато из других окон и с крыш любопытные женщины, затаив страх, глядели на бледные лица выстроившихся внизу горожан, окруженных кольцом пеших ландскнехтов с пиками наперевес. Появились именитые господа и рыцари. Ганс фон Зиккинген от имени маркграфа обратился к гражданам Ротенбурга с бичующей речью и потребовал, чтобы они вновь присягнули на верность Швабскому союзу.
Многие вздохнули с облегчением, думая, что худшее миновало. Но фон Зиккинген вынул из кармана список осужденных на смерть и приказал, чтобы те, кого он назовет, отошли в сторону. Но так как каждый из граждан считал себя обязанным откликаться только на свое настоящее имя, а многие уже успели бежать, то в сетях осталось всего девятнадцать человек. Среди них вышли из толпы и мастера Фриц Дальк, Иос Шад, Мельхиор Мадер, Лоренц Дим и Ганс Мак — неразлучные друзья как при жизни, так и в смертный час. Другие четверо мастеров, также выданные палачу, не проявили такого мужества. Бросившись на колени перед маркграфом, они молили пощадить их и дать им возможность оправдаться.
Средневековые пытки
С гравюры Ганса Буркмайра
В то время как всеобщее внимание было отвлечено этим происшествием, мясник Фриц Дальк растолкал своими геркулесовыми кулачищами окружавших его ландскнехтов и, увлекая за собой друзей, бросился в образовавшийся проход. Прежде чем наемники успели (а может быть, захотели) опомниться, мастера уже мчались что было духу по Кузнечной улице и, добежав до Кобольцельских ворот, очутились за пределами города. Тех четырех мастеров, что молили о пощаде, маркграф приказал запереть пока что в башню. Таким образом, на площади осталось всего десять жертв, в том числе престарелый ректор латинской школы Вильгельм Бессенмейер и священник Ганс Кумпф, которого притащили из дому больным. Он приходился двоюродным братом почетному бургомистру. Обоим тут же отрубили головы. Их трупы были оставлены на площади до вечера, а потом брошены в общую могилу на бывшем еврейском кладбище.
После этого первого акта кровавой трагедии маркграф отправился в замок. Это было в тот самый день, который магистрат назначил, еще до прихода маркграфа, сельским общинам. Они должны были явиться в замок сдать оружие и присягнуть на верность городу. Крестьяне расположились на переднем дворе замка возле часовни. С виду они казались очень смиренными, но за этим внешним смирением скрывалось озлобление. Об этом говорили взгляды, которые они бросали на ландскнехтов и рейтаров, рывшихся в груде оружия и выбиравших себе что получше. А выбирать было из чего. Но господ ожидало большое разочарование. Когда фон Зиккинген начал читать список зачинщиков бунта и коноводов, оказалось, что все перечисленные сочли за благо не подставлять свою голову под топор. Возиться с единственным из них, у которого не хватило ума скрыться, с неким Гансом Гольмпахом, не было никакого смысла. Его бросили в башню, а остальных привели к присяге и отпустили по домам. На горожан наложили контрибуцию по двадцати гульденов и взыскали ее безо всякого снисхождения.
Перед вечером фрейлейн фон Бадель отправилась навестить свою несчастную приятельницу, которой магистрат отказал даже в скудном утешении — свидании с мужем в тюрьме. Излишне говорить, что добрая старая дева теперь почти ежедневно навещала фрау фон Менцинген, чтобы хоть немного отвлечь ее от тяжелых дум. События последних дней ожесточили ее прямую и резкую натуру. Сегодня она пришла по особому поводу. Доктор Макс Эбергард предложил еще раз обратиться за помощью к маркграфу, отправившись для этого к нему с несколькими видными и уважаемыми гражданами Ротенбурга. Фрейлейн фон Бадель одобрила это предложение, посоветовав, однако, чтобы переговоры с горожанами были поручены ей.
— Если вы пойдете к ним сами, — сказала она, — они вам просто откажут, и вы не посмеете сказать им в лицо, что они трусы. Предоставьте это мне. Уж я за них так возьмусь, что они не отвертятся.
Она пришла сообщить, что ее старания увенчались успехом и что завтра поутру госпожа фон Менцинген будет принята маркграфом.
— Не повредит делу, милая, если вы возьмете с собой Эльзу, — прибавила она.
Маркграф принял ее еще милостивей, чем в Бамберге, возможно потому, что фрау Маргарета втихомолку предложила его высочеству, через его тайного секретаря, две тысячи гульденов в качестве выкупа за мужа. Красота Эльзы тоже не могла не оказать свое действие на князя — большого знатока и ценителя женских прелестей. Он отпустил фрау фон Менцинген с утешительными заверениями в том, что враги ее мужа получат по заслугам.
— А вы, почтеннейшие господа, — сказал он, обращаясь к сопровождавшим просительницу горожанам, — передайте своим согражданам, что хотя я буду беспощаден к этой шайке негодяев и не успокоюсь, пока не вырву крамолу с корнем, но что благонамеренные граждане могут положиться на меня, как на каменную гору.
Эти слова не были брошены на ветер. Он затребовал доклад о следствии над Стефаном фон Менцингеном и двумя проповедниками и вынес убеждение, что ему будет нетрудно привести дело к благополучному концу. С этой целью, по окончании богослужения, он вызвал к себе членов внутреннего совета. Это было в воскресенье.
— Я крайне удивлен, досточтимые господа, — обратился он, держа документы в руках, к ратсгерам, явившимся точно в назначенный час, — скажите, что важного в этих показаниях? Что фон Менцинген поддерживал Карлштадта и вопреки запрету впустил его в город? Что он посоветовал гражданам избрать комитет и, будучи назначен сборщиком податей, вычеркнул свое имя из списка плательщиков? Это, конечно, противозаконно, но все это не такие преступления, которые караются смертью. И то, что показали под пыткой слепой монах и Дейчлин, ни в коем случае не заслуживает смертной казни. Оба они в один голос признают, что имели связь с Карлштадтом, одобряли его учение о святых таинствах, проповедовали против мессы и хулили власти за то, что те препятствуют распространению чистого евангельского слова. И это все! Клянусь язвами господними, если я стану подходить к людям с такой меркой, мало у кого уцелеет голова на плечах! Наложите на них штраф, но освободите, и я не оставлю город своими милостями.
Ослепленные ненавистью ратсгеры больше жаждали гибели своих врагов, чем милости маркграфа. Они упорно отказывались исполнить его требование и даже угрожали пожаловаться на него Швабскому союзу.
От имени всех выступил Конрад Эбергард:
— Внутренний совет лишен возможности удовлетворить желание вашего княжеского высочества. Если мы не покараем Менцингена и обоих проповедников, это будет означать, что ваше высочество допустит величайшую несправедливость по отношению к десяти казненным вчера. Ибо эти трое являются подлинными зачинщиками и коноводами всего бунта.
— Ведь Дейчлин и слепой монах открыто призывали не платить ни десятины, ни питейного, ни копытного сборов, — прибавил Иероним Гассель. — Что же это такое, если не бунт?
У маркграфа вздулась жила на лбу и, отпуская ратсгеров, он сказал:
— Подумайте хорошенько. Скорей у меня отсохнет язык, чем я соглашусь на то, чего вы так добиваетесь!
Когда все ушли, фон Паппенгейм сказал маркграфу:
— Стоит ли так долго возиться с этими чурбанами? Таким путем ваше высочество от них никогда не добьется толку. Пошлите отряд ландскнехтов, чтобы выпустить заключенных из башни, и дело с концом.
Маркграф Казимир затаил против Ротенбурга еще одну горькую обиду. Не удивительно, что, когда через несколько часов он отправился на банкет, который устраивал за счет города магистрат в большом зале ратуши, настроение его высочества было столь же блеклым, как тускло-серый атлас его камзола. Он и не считал нужным скрывать свое неудовольствие, и те из «именитых», кто удостоился чести беседовать с ним, имели полную возможность в ртом убедиться. Сопровождавший его Эразм фон Муслор называл ему каждого, кого он пожелал осчастливить своим немилостивым вниманием. Но каким огнем загорелись глаза сиятельного гостя, когда он, окидывая взглядом завоевателя пеструю толпу дам и девиц, заметил среди них прекрасную Габриэлу. На ней было синее платье из венецианского атласа с прорезами, сквозь которые виднелось нижнее желтое шелковой платье. Короткая синяя пелерина, тоже подбитая желтым шелком, слегка прикрывая ее мраморные обнаженные плечи, оставляла открытой нескромным взорам ее божественную грудь. Две толстые черные косы, перевитые жемчугом, были уложены на лбу в виде диадемы, и она так высоко и гордо держала свою красивую головку, как будто и впрямь ее украшала королевская корона. Из ее больших черных глаз глядел не прежний бес высокомерия, а какой-то новый злой гений.
Заметив Габриэлу, маркграф тотчас направился к ней, и в то время как она приседала, низко склонившись в придворном реверансе, совсем как ее учила мать Ламперта, он говорил Эразму фон Муслору:
— Вам можно позавидовать, бургомистр. Вы скрываете в своем доме такое сокровище!
Габриэла потупила осененные длинными шелковистыми ресницами глаза, но лишь на мгновенье, чтобы тут же, подняв их, блеснуть огнем, и его высочество стал рассыпаться перед ней в несколько вольных комплиментах. Эразм фон Муслор поспешил украдкой подать сигнал музыкантам, расположившимся на скамьях для шеффенов и судей, чтобы они заиграли приглашение к столу. Ибо гости уже проголодались, да и кушанья могли перестояться.
Маркграф, ведший к столу фрау фон Муслор, одарял ее лишь бледным отблеском того сияния, которым наполнила его Габриэла. Сабина, под предлогом недомоганья, не пришла на банкет. Их дружба с Габриэлой потерпела крушение. Отвергнутая Флорианом Гейером страсть вызвала в душе Габриэлы безграничное озлобление, и она с трудом могла скрыть, как ненавистна ей стала обстановка, среди которой ей приходилось жить. Нет, лучше смерть, чем такая жизнь! Вечно копаясь в своем прошлом и тысячу раз передумывая одно и то же, она пришла к выводу, что главным виновником всех ее бед является Макс Эбергард.
Да, его увлечение Эльзой — вот первопричина всех зол. Она не забыла, что поклялась отомстить молодой чете. Теперь настало время сдержать клятву. Пролитая в Ротенбурге кровь опьяняла, воодушевляла Габриэлу. Казалось, это опьянение пропитало все ее существо и еще больше притягивало к ней маркграфа. После первого блюда он прислал к ней пажа, чтобы испросить ее разрешения провозгласить тост за ее здоровье. Поднимая кубок, он с признательностью склонился перед нею, и она поблагодарила его улыбкой, при виде которой он долго и самодовольно разглаживал свои закрученные кверху усы. После второго блюда он подошел к ней поболтать. Сидевший рядом с нею ее старый поклонник юнкер фон Горнбург, которого она продолжала держать в черном теле, хотел уступить его высочеству свое место, но маркграф предпочел стоять за ее креслом, чтобы вдыхать аромат ее волос и запускать нескромный взгляд в разрез ее корсажа, когда она забывала прикрывать грудь веером. Потом он прислал ей тарелку лакомств, после чего, без всяких церемоний, уселся рядом с нею и уже больше не отходил до конца пиршества.
Из того, что они говорили, то смеясь и шутя, то серьезно, их соседи не могли уловить почти ни слова, но всем было ясно, что маркграф потрясен красотой Габриэлы и нисколько этого не скрывает. Конрад Эбергард пристально следил за своей подопечной, но когда их глаза встречались, он не мог прочитать в ее взгляде того, что так искал. Она вела большую игру, но вела ее для себя одной, совершенно не думая о своем опекуне, который был преувеличенного мнения о своем влиянии на нее. Наконец маркграф встал.
— Итак, помните наш уговор. Завтра перед прогулкой я заезжаю за вами, прекрасная Габриэла, — громко сказал он на прощанье.
Она безмолвно склонила голову и раскрыла веер, чтобы охладить разгоревшиеся щеки. Покидая ратушу, маркграф отвел в сторону Эразма фон Муслора и имел с ним краткую конфиденциальную беседу.
На следующее утро его высочество подъехал верхом к дому первого бургомистра, и вскоре после того можно было видеть, как прекрасная Габриэла на своем вороном коне прогарцевала рядом с ним по городу до Родерских ворот, где их ожидал эскорт из шести всадников.
Было раннее утро. Успокоенные обещаниями маркграфа, фрау фон Менцинген и Эльза еще спали, вознаграждая себя за много бессонных ночей, проведенных в слезах и отчаянье. Окна их спальни выходили во двор, и они не слышали глухой барабанной дроби, созывавшей горожан на новое кровавое зрелище на городской площади. Стефан фон Менцинген, доктор Дейчлин и слепой монах один за другим взошли на эшафот. Они отказались от напутствий священника. Только слепой монах обратился к толпе и поднял свой голос, раскаты которого ротенбуржцы привыкли слышать на улицах и площадях:
— Братья, не падайте духом. Мы умираем за свободу, но свобода не умрет вместе с нами!
Стоя он принял смертельный удар.
Затем упали головы еще четырех горожан и бедняги Ганса Гольмпаха, дожидавшегося своей очереди, сидя в башне, а также трех крестьянских военачальников, случайно попавших в руки ландскнехтов. Все они, по свидетельству очевидцев, встретили смерть с поразительным мужеством. Чтобы получше использовать палача, заодно казнили и осужденного за убийство кузнеца, и перебежавшего к крестьянам ландскнехта, и двух беглых крепостных. Первого — по заявлению магистрата, второго — по приказу маркграфа, а двух последних — по просьбе их помещика. Кровь струилась по площади и стекала вниз по крутой Кузнечной улице. Трупы были оставлены на месте казни до вечернего благовеста; в сумерки их отвезли на еврейское кладбище и бросили в общую могилу, вместе с казненными ранее.
Когда маркграф Казимир Бранденбургский возвратился из своей прогулки, кровавое дело уже было сделано. Кто опишет скорбь и оцепенение фрау фон Менцинген и ее детей, когда они узнали страшную весть? Маркграф вернулся в Ротенбург один. Прекрасная Иродиада[134] продолжала свой путь, эскортируемая шестью всадниками, и благополучно достигла Онольцбахского замка. Она больше не вернулась в Ротенбург и порвала все связи с родным городом. В тот же день маркграф выступил во главе своих войск из Ротенбурга, чтобы продолжать свою палаческую работу в другом месте.
Еще на другой день после вступления в Ротенбург он отправил в Бретгейм и Оренбах по отряду пехоты и по сто пятьдесят рейтаров, чтобы уничтожить эти два главных очага крестьянского восстания. Бретгеймцы отважно взялись за оружие, и многие из них пали в бою. Сложил свою голову и Иорг Мецлер. Так искупил он свое малодушие под Кёнигсгофеном, где бретгеймцы бежали с поля еще до начала сражения. Войска маркграфа увели из подожженной со всех концов деревин шестьсот голов скота и вывезли тридцать телег со всяким добром.
Оренбах был единственной деревней в ротенбургских владениях, которая на приказ магистрата сдаться на милость ответила упорным молчанием. Между тем Оренбах лишился почти всех своих мужчин, способных носить оружие, во время злосчастного ночного штурма Мариенберга и в сражении под Ингольштадтом. Печальная весть о разгроме крестьян и о геройской смерти Симона Нейфера достигла Оренбаха и Рейхардсроде через спасшихся ратников Черного отряда, пробившихся вместе с Флорианом Гейером сквозь вражеские ряды.
Казнь восставших крестьян
С гравюры XVI в.
В тот самый день, когда Трухзес фон Вальдбург вступил в Вюрцбург, в Оренбахе появилась Черная Гофманша. Только что отзвонили к вечерне, поселяне вышли посидеть у крыльца, многие собрались под старой липой. Вдруг на дороге показалась страшного вида старуха. В лохмотьях, с развевающимися седыми волосами, ниспадавшими на почерневшее морщинистое лицо, она шла, опустив непокрытую голову, все время разговаривая сама с собой и не обращая внимания на кучу любопытных, бежавших вслед за ней по улице. Поравнявшись с липой, она остановилась, подняла голову и огляделась, точно пробудившись от сна. Встретившись с ее зловещим горящим взглядом, все притихли. Она отбросила седую прядь со лба, тяжело оперлась на белый посох и, снова оглянувшись по сторонам, сказала:
— Где же литавры? Где крики торжества? Ликуйте, веселитесь! Наступает конец света! Имеющие уши, да слышат. Я видела смерть, скачущую на бледном коне в епископском облачении. То был епископ Вюрцбургский, а следом за ним скакал сам сатана. И епископу дана власть умерщвлять — умерщвлять мечом, голодом и волчьими клыками! И я видела, как лилась кровь, там, в епископском граде!
Выпрямившись во весь рост и возвысив голос, она в исступлении описала дикие, чудовищные картины кровавой расправы, свидетельницей которой она была утром в Ротенбурге. У слушавших ее застыла в жилах кровь.
— Вы стонете, вы вздыхаете? — продолжала она, — но такова ведь божья справедливость и его милосердие к нам, беднякам!
И она пронзительно расхохоталась.
— Но кто же ты? — спросил ее, поборов страх, сидевший под липой старик Нейфер. Черная Гофманша посмотрела на него и сказала:
— А разве ты сам еще знаешь, кто ты такой, старик? Мое имя давно вытравили огонь, слезы и кровь.
— Да ведь это Черная Гофманша! — крикнул один из бывших соратников Большого Лингарта.
Тогда старый Нейфер назвал себя и предложил ей остаться на ночлег в его доме. Она встрепенулась, должно быть, воспоминанье о Симоне и привело ее в Оренбах. Задумчиво поглядев на него, она покачала головой и сказала со вздохом:
— Ах нет, я все запамятовала.
— Ничего, ничего, — ободряюще сказал старик. — Пойдем со мной. Ведь я знавал тебя еще совсем молодой, в Никласгаузене, и Ганса Бегейма, и твоего внука знал.
— Убиты! Сожжены! А епископ живет! — диким голосом вскричала она.
Старик Нейфер взял ее за руку и хотел увести.
— Тебе нужно поесть и выспаться, — соболезнующе проговорил он, но она вырвалась и закричала:
— Кто может спать, когда народ истекает кровью! Его вопли не дают мне покоя. Я слышу их день и ночь. Они наполняют собой весь мир! Слушайте! Слушайте! Настал день Страшного суда. Я должна быть там. О, горе, горе!
Она стремительно бросилась прочь и скрылась во тьме.
Рухнула ее несокрушимая вера в возмездие там, где некогда был сожжен ее Ганс Бегейм, и несчастная лишилась рассудка. Еще около года ее видели на дорогах, а потом она исчезла бесследно.
Когда старик Нейфер, придя домой, рассказал о Черной Гофманше своей невестке, та заметила, что следует удивляться, как она сама еще не сошла с ума. Она все еще не могла прийти в себя после гибели Симона и не хотела слышать никаких утешений. Добро им говорить, упрямо повторяла она, имея в виду старика и Кэте, разве их потеря может сравниться с ее потерей? Ведь она потеряла не только мужа, но и отца своих детей! Что теперь будет с нею и с малышами! А ведь она с самого начала предупреждала, что восстание до добра не доведет, что крестьянину никогда не одолеть господ! При ее склонности делать черное еще более черным, ее горе превратилось в граничащую с ненавистью озлобленность против погибшего, который навлек на нее и ее детей такую напасть. Работа валилась у нее из рук, и Кэте приходилось трудиться за двоих не только в поле, но и дома.
— Чего ради надрываться, — говорила Урсула. — Лучше бы нам всем погибнуть.
Старик Нейфер безропотно нес свой крест, и его немая скорбь по сыну разрывала сердце Кэте. А тут еще в комнате наверху лежал человек, который нуждался не столько в утешении, как в уходе и заботах. Это был ее двоюродный брат, Каспар Эчлих, чуть не умерший от горячки после ранения.
Окровавленный и почерневший, в горячечном жару, едва держась на ногах, приплелся он однажды к воротам нейферовской усадьбы, пролепетал заплетающимся языком имя Кэте и упал без сознания у ее ног. К счастью, деревенский кузнец Виланд кое-что понимал в ранах. Пока Каспара переносили в дом, Кэте послала за кузнецом. Нельзя сказать, что у мейстера Виланда была легкая рука. От боли, которую ему причинил врачеватель, исследуя рану, Каспар даже на несколько минут пришел в себя. У него оказалось серьезное ранение головы; слипшиеся от крови и грязи волосы образовали плотную корку; пришлось отмочить ее и срезать.
Теперь Кэте с лихвой вознаградила Каспара за те заботы, которые он когда-то оказывал раненому Лаутнеру. Она ухаживала за ним, и у нее становилось тепло на душе при мысли, что только из любви к ней Каспар променял стригальню на опасности войны. Благодаря ее заботливому уходу здоровье Каспара быстро улучшалось, но прошло еще немало времени, прежде чем он смог рассказать о том, что случилось с ним после кровопролитного боя под Ингольштадтом.
Благополучно выбравшись из лесу, он получил страшный удар по голове от одного из преследователей, но все же продолжал бежать вместе с другими, пока не упал на землю среди цветущего поля, засеянного льном. Ландскнехты не преследовали беглецов; это было делом рейтаров, которые, как кровожадные псы, устремлялись по крестьянскому следу. Каспар пришел в себя от утренней прохлады. Осторожно приподняв голову, он огляделся по сторонам и пополз. Нужно было торопиться: беглецы оставляли среди льна слишком заметные следы. Некоторое время вокруг царила тишина, только ласточки проносились с щебетаньем над притихшим полем. Вдруг Каспар услышал глухой топот множества ног и лязг оружия. Сердце бешено заколотилось в его груди, но он не шелохнулся. Шум все приближался к краю поля, и вдруг раздались неистовые крики, вопли ужаса, все учащавшиеся выстрелы. Он с трудом поднялся на колени; волосы у него зашевелились от ужаса. Лесок был окружен рейтарами. Он видел, как они вылетали из-за деревьев, видел по движеньям их рук, как они кололи и рубили, слышал выстрелы, которыми они сбивали крестьян с деревьев, как птиц, слышал дикий хохот охотников и вопли этой беспощадно истребляемой дичи. Несмотря на весь ужас, у него хватило присутствия духа, чтобы не вскочить и не пытаться бежать. Он двинулся ползком в противоположную доносившимся крикам сторону и полз до тех пор, пока не выбился из сил. Нестерпимая жажда терзала его; острая боль сверлила мозг; солнце, поднимаясь все выше и выше, обжигало его своими лучами. В лесу было тихо, как в могиле. Лишь когда стемнело, он решился выползти из травы. Он очутился на проселочной дороге и увидел позади себя еще дымящиеся развалины деревни. Это был Гибельштадт. Как он дотащился до Оренбаха — этого он припомнить не мог.
Казнь главарей мятежных ландскнехтов
С гравюры XVI в.
Между тем в Оренбахе был получен приказ магистрата, чтобы все поголовно мужское население деревни явилось утром 30 июня в Ротенбург сдать оружие и вновь принести присягу. Уклонившимся грозила смертная казнь. Вендель Гайм созвал сход на площади. Пришли и женщины, а вместе с ними и Кэте. Когда он прочитал послание магистрата, среди наступившей тишины раздался голос жены кузнеца:
— Староста, ведь дело касается нас, женщин, не меньше, чем мужчин. Мы требуем, чтоб и нас допустили на сход.
— Но ведь женщины не имеют права участвовать в сходе, — возразил Вендель Гайм, а тележник Рулин громко крикнул:
— Раз ты баба, знай помалкивай!
Женщины не остались в долгу и задали ему жару. Виландша, подбоченясь, крикнула:
— Коли муж дурак, жене счастье, если ему отрубят голову!
В ответ ей раздались смех и брань. Кэте подошла к Гайму и сказала:
— Староста, дай мне сказать словечко. А решать можете без нас.
— Тише! — крикнула жена кузнеца. — Пусть Кэте говорит.
Вендель Гайм уступил. Когда девушка встала на скамью, сразу водворилась тишина. Ее крепкая стройная фигура словно выросла со времени смерти Лаутнера. Как гибкая молодая елочка лишь крепнет от бурь и глубже пускает корни, так и она закалилась и окрепла душой и телом страданиях и жизненной борьбе. Глядя на нее, встречаясь с глубоким и серьезным взглядом ее темно-карих глаз, люди вспоминали о том, что она сестра Симона Нейфера, и невольно умолкали. Почувствовав на себе столько глаз, она смутилась и покраснела, но тотчас овладела собой и смело начала:
— Сдается мне, что господская милость для нас еще горше немилости. Все мы знаем ей цену.
И она напомнила о кровавой расправе, учиненной Трухзесом в Вюрцбурге, Трухзесом, который всюду водит за собой палача, Бертольда Айхелина, и величает его любезным куманьком. Она напомнила о зверской жестокости маркграфа Казимира, который приказал выколоть глаза пятидесяти семи кицингенским горожанам за то, что они якобы поклялись никогда больше его не видеть. «Не могу же я допустить, чтобы они оказались клятвопреступниками», — заявил он. Она напомнила о том, что маркграф вешает на деревьях вдоль дороги всех попавших ему в руки крестьян.
— Нет, мы не так глупы, чтобы сунуться в Ротенбург! — раздались голоса.
— Так они пожалуют за нами сюда! — крикнула Виландша.
— А мы примем их как следует! Нешто у нас нет ружей? — был ответ.
Спокойным звонким голосом Кэте возразила, что, хотя у них и есть оружие, их все-таки так мало, что об успешном сопротивлении господам нечего и думать. И когда все молча согласились с этим, она продолжала:
— Вот что я хотела сказать. Если вы не пойдете в Ротенбург, они придут сюда. Но пусть они найдут здесь одни голые стены. Мы должны забрать с собой скот и все пожитки и уйти в леса. Туда они не посмеют сунуться. Конц Гарт знает там каждую тропинку как свою ладонь и укажет нам надежное убежище. Конечно, войска сожгут нашу деревню и не оставят в ней камня на камне. Но дома всегда можно отстроить, а жизнь не вернешь. Свой скарб мы спасем, а дома восстановим, когда все успокоится в стране. Долго такое продолжаться не может. Знать, прогневили мы бога, раз всюду мы, бедняки, оказались биты. Но глупо самим идти на убой. От этого никому легче не станет. Поверьте, если бы все было по-иному, я бы скорей умерла, чем стала удерживать вас от борьбы. Словом, терять время не приходится. Каждый должен взяться за дело, коли вам неохота сложа руки ждать погибели.
Казалось, ее слова вдохнули в каждого новые силы. Когда Вендель Гайм влез на скамью и спросил, желают ли они принять предложение Кэте Нейфер, все как один, к стар и млад, отвечали единодушным «Да!» Женщины бросились целовать ее, мужчины жали ей руку. Позже она сказала Каспару: «Душа болит, как подумаю, что мне пришлось им посоветовать».
С тяжелым сердцем каждый принялся готовиться к бегству. На следующее утро началось великое переселение. Впереди гнали рогатый скот, свиней, коз. Потом потянулись длинной вереницей телеги с сельскими орудиями и домашним скарбом, с зерном, припасами, вином. Даже верховые лошади были навьючены, и у каждого, шедшего пешком. За обозами, были в руках тюки и узлы. Никому не хотелось оставлять даже безделицу.
Мычал и ржал, блеял и хрюкал скот, как будто чувствуя, что не видать ему больше своих конюшен и хлевок. Скрипели и стонали тяжелые колеса телег. Женщины плакали и причитали, мужчины шагали в мрачном молчании. Только ребятишки радовались необычному развлечению. Больных, которых взяла под свое попечение Кэте, положили на телеги, настлав им побольше соломы. Каспар, хотя и был еще очень слаб, наотрез отказался ехать с Урсулой и детьми на телеге.
В лесной чаще, к западу от Таубера, Конц Гарт знал укромное местечко, и там было разбито становище. Вмиг выросло целое селение. Шалаши из валежника, палатки из холста и старых мешков, хижины из снятых с петель и вывезенных из деревни дверей, даже телеги с парусиновым верхом были приспособлены под жилье.
Оренбахцы бежали вовремя. Через день в покинутую деревню нагрянули войска и, не найдя в ней чем поживиться, с яростью разорили все, что только могли. Конц Гарт, выйдя на разведку, увидел, что вся деревня, не исключая церкви и дома священника, превращена в развалины. Вандалы не пощадили даже старой липы. Решив, что рубить ее отнимет слишком много времени и сил, они разложили вокруг нее костер и сожгли.
Лесной воздух скоро исцелил рану Каспара. Блаженное состояние выздоравливающего, близость Кэте придали особую прелесть его жизни в лесу. Омрачало его настроение лишь отсутствие сведений об отце и невозможность дать ему знать о себе. Однажды он объявил Кэте, что намерен отправиться в Ротенбург.
— Старик должен узнать, что его любезный сынок утер нос смерти — в точности, как предсказывал мне тогда в Ингольштадте господин Флориан.
Кэте воспротивилась. Он еще слишком слаб, чтобы пускаться в далекий путь; к тому же, как бывший «черный», он рискует головой. Лучше послать кого-нибудь. Он вынужден был согласиться, заметив, однако, что, прогулявшись в Ротенбург, любой оренбахец может проститься с головой. Подумав немного, Кэте вызвалась идти сама. Каспар испугался и обрадовался одновременно.
— Ты хочешь это сделать для меня? — воскликнул он, залившись густым румянцем.
— А что? Ведь он мне дядя. Да и станет магистрат связываться с бабой!
— Не забудь, что и ты на особой заметке у тамошних господ. Нет, я никогда не приму от тебя такой жертвы. Все же спасибо тебе от всего сердца за твою доброту.
— Вот бы глупо вышло, если б меня опять запрятали в башню. Откровенно говоря, там было прескверно. И на этот раз ты б уже не смог вызволить меня оттуда.
Ее смех напомнил ему о прежних временах. Проходившая мимо жена кузнеца остановилась и изумленно уставилась на молодых людей, сидевших на дышле телеги, под брезентом которой приютилась Урсула с детьми.
— Веселитесь? — спросила Виландша. — Приятно слышать смех среди такого беспросветного горя. Что же вас так развеселило?
Кэте рассказала ей.
— Да, было бы неплохо узнать, что творится в Ротенбурге и нельзя ли нам податься назад, в родные места. Только Эчлих прав, тебе туда нельзя показывать и носа.
Она задумчиво провела рукой по лицу и прибавила:
— Вот что — пойду я, и делу конец.
Уклонившись от выражений благодарности, она крупными шагами удалилась.
— Кэте, милая! — пробормотал Каспар. Сердце его было переполнено, но он поборол себя, встал и ушел. Девушка еще долго сидела в раздумье.
На следующий день фрау Виланд положила для отвода глаз несколько кур в корзину, набрала кучу поручений к лавочникам и отправилась в путь. К полудню над лесом разразилась гроза, которая быстро пронеслась, но дождь зарядил всерьез. Под старыми буками, елями и дубами недолго можно было укрываться. Дождь начал просачиваться в хижины, палатки и шалаши. Каждый старался укрыться как мог, и скоро в лагере все стихло. Слышен был лишь шум и журчанье быстрых потоков дождя. То тут, то там разводили огонь, чтоб обсушиться, но он давал больше дыму, чем тепла. У одного из таких костров сидел и старик Нейфер, поместившийся вместе с Каспаром в одном шалаше. Каспар лежал на подстилке из моха и листьев, накрывшись попоной. Он думал о Кэте, о Гансе Лаутнере, о Флориане Гейере. Монотонный стук дожди о парусину навевал печальные мысли. Вдруг чья-то тень затемнила вход, и кто-то спросил:
— Ты не спишь?
Это была Кэте. Голова и плечи у нее были закутаны в платок. Каспар вскочил на ноги.
— Ну и погодка, — сказала она, входя в шалаш. — А что будет осенью?
— До тех пор вы уже вернетесь обратно в Оренбах, — попытался он ее утешить и пододвинул соломенный стул.
— Я не уверена, — возразила она, снимая платок. — Маркграф уже убрался, но теперь и магистрат хочет отвести на нас душу. Фрица Мелькнера уже казнили.
— Стало быть, Виландша уже вернулась из Ротенбурга? — весь насторожившись, спросил Каспар.
Кэте кивнула головой:
— Страшные дела творятся в Ротенбурге. Она видела, как нейзицкий священник Штекляйн…
— Я его знаю, — перебил ее Каспар. — Я был в его доме, пил и ел у него. Он не пожелал уйти вместе со всеми. Решил, что должен остаться проповедовать своим прихожанам евангелие свободы.
— Виландша видела его у позорного столба. Они наложили ему клеймо на обе щеки, зверски высекли и выгнали из города на голодную смерть.
— Боже правый! — в ужасе вскричал Каспар. — А мой отец? Кэте, мой отец?
Она посмотрела на него полными жалости глазами. Казалось, у нее не хватало духу передать ему эту весть, хотя она и перехватила ее у Виландши, чтобы подготовить Каспара. С трудом выдавливая слова, она проговорила:
— Жена кузнеца нашла пустырь, где прежде стоял ваш дом. За то, что там тайно собирались горожане, магистрат велел сровнять дом с землей и это место посыпать солью, чтобы ему быть навечно пусту.
Каспар расхохотался как безумный. Кэте поднялась и взяла его за руку, но он вскричал:
— Они убили его! — и повалился на койку, закрыв лицо руками. Кэте заплакала, подсела к нему и, обняв его за шею, тихо прошептала:
— Бедный Каспар.
Так они сидели некоторое время не шевелясь. Потом, уронив руки, он сказал с горькой усмешкой:
— Право должно оставаться правом — это были его любимые слова. Но знатным господам он всегда колол глаза; слишком высоко поднимал голову. Теперь они отрубили ее, и все в порядке.
— О Каспар, как ты можешь так говорить! Ведь я тоже любила дядю! — взмолилась она.
Он повернулся к ней и, увидев слезы на ее глазах, тяжко вздохнул. Потом отвернулся и, глядя на землю, сказал:
— Теперь я остался без крова. Бездомный бродяга.
— Нет, нет, Каспар, — горячо запротестовала она, — ты останешься у нас. И увидишь, еще настанут лучшие времена.
— Едва ли. Теперь мне придется опять бродить по свету, — отвечал он, покачав головой.
— Нет, это ни к чему. Нынче ты нигде не найдешь работы. И потом, я не пущу тебя, Каспар! — И, прижавшись щекой к его щеке, тихо прибавила: — Ведь я люблю тебя всей душой.
Он вскочил, уставился на нее широко раскрытыми, безумными глазами и, запинаясь, проговорил:
— Ты это серьезно?
Она кивнула головой и, покраснев до корней полос, обняла его обеими руками за шею и поцеловала в губы. Он прижал ее к себе и не мог оторваться. В его душе поднялся такой вихрь, что он онемел.
Тем временем дождь перестал, и только под деревьями еще продолжало капать. Когда они, взявшись за руки, вышли из шалаша, над западным краем леса зажглась вечерняя заря. Весть о том, что маркграф Казимир покинул ротенбургские владения, всколыхнула весь лагерь. И в тот же вечер было принято решение вернуться в Оренбах. Беглецы были убеждены, что городским стражникам, в случае нужды, они сумеют дать отпор.
Вскоре произошло обратное переселение оренбахцев на старое пепелище, и началось восстановление разрушенного гнезда. Магистрат смотрел на это сквозь пальцы. Он был умнее дворян, которые в своем ослеплении бесчеловечным истреблением своих крепостных и ленных крестьян подрывали основы собственного благополучия. Они продолжали вешать и обезглавливать крестьян, бросать их в темницы и давить непомерными штрафами. Ротенбургские именитые граждане вовремя спохватились, смекнув, что если они дадут продолжаться разгулу этого так называемого «правосудия», то нанесут немалый ущерб собственному карману.
Было еще одно обстоятельство, побуждавшее магистрат закрывать глаза на самовольное возрождение Оренбаха. Адам фон Тюнген заявил, что во время осады Фрауенберга ротенбуржцы похитили из дома его матери ценности на крупную сумму, и потребовал возмещения от магистрата. Когда Ротенбург отказался платить, рыцарь, набрав шайку благородных головорезов (само собой, дело не обошлось без юнкеров Цейзольфа фон Розенберга и Филиппа фон Финстерлора), напал на ротенбургские владения, вытоптал посевы, сжег несколько деревень и угнал крестьян и скот. Дележ добычи происходил в замке Тюнгенов. В довершение наглости он появился на высоком берегу Таубера, против Ротенбурга, и обстрелял город. Но ядра его пушек не долетали до города. Зато, когда Альбрехт фон Адельсгейм открыл огонь из ротенбургских дальнобойных орудий, установленных в замке, знатные разбойники едва унесли ноги.
Когда опасность еще угрожала городу, магистрат вернул оружие горожанам и начал усиленную вербовку рекрутов. Но ландскнехты, видимо не желая даром получать жалованье, после окончания юнкерского разбойного карнавала пустились на грабежи, а безоружные крестьяне были не в силах оказать им сопротивление. Одна из ландскнехтских банд предприняла налет и на Оренбах.
Однажды в полдень загудел набатный колокол. Не доверяя миролюбию Ротенбурга, оренбахцы, с тех пор как вернулись из лесу, держали дозорного на колокольне. Почти вся деревня была в поле. Шла уборка ржи или, вернее, того, что уцелело от нее после свирепого опустошения, произведенного наемниками маркграфа Казимира. Вмиг мужчины с косами и вилами бросились в деревню. Хищная банда пыталась ворваться со стороны Ротенбурга, где еще не были восстановлены сожженные ворота и частокол. Нападавшие натолкнулись на упорное сопротивление. Остававшиеся в деревне, даже старики, подростки и женщины, при первом же ударе набата сорвали со стен оружие и бросились навстречу ландскнехтам. Прибежала и Кэте с отцовским копьем. Конц Гарт, который только что подавал с телеги Каспару и Кэте привезенные с гумна снопы, теперь, вооруженный вилами, дрался в первых рядах. Рядом с ним Кэте орудовала своим копьем не хуже любого парня, а Каспар все время прикрывал ее своим длинным мечом. Вендель Гайм и несколько стрелков, засев за колючей изгородью, открыли огонь из самопалов. Рассвирепевшие ландскнехты с дикими криками устремились в пролом частокола, и, несмотря на всю бдительность Каспара, Кэте была на волосок от гибели, если бы Конц своими вилами не отразил направленное ей в грудь копье. В тот же миг, к величайшему счастью для оборонявшихся, прибежали с поля крестьяне с косами и вилами и ударили в тыл ландскнехтам, и те пустились наутек, потеряв несколько человек убитыми. Но и оренбахцы не обошлись без потерь. Широкий меч рассек голову Концу Гарту, когда он спас жизнь Кэте. Могила в родной деревне, откуда его выгнали господа, — вот все, что завоевал себе несчастный крепостной. Только взглядом Кэте успела отблагодарить умирающего.
Что епископ Конрад дал денег своему кузену на организацию разбойного набега в отместку Ротенбургу, не было тайной ни для кого. Теперь, когда победители стали сводить друг с другом счеты, зловещие тени грядущего омрачили их торжество, как омрачили и семейное торжество первого бургомистра, свадьбу Сабины фон Муслор с Альбрехтом фон Адельсгеймом, которую отпраздновал с таким блеском Эразм фон Муслор. На стене свадебного зала стояло, словно грозные слова «Мене, текел, фарес», кровавыми буквами начертанное Стефаном фон Менцингеном имя маркграфа Казимира Бранденбургского. Хотя он и отдал головы рыцаря Стефана и двух проповедников их злейшим врагам в обмен на благосклонность прекрасной Габриэлы, но этим не расквитался за нанесенные ему городом обиды. Ротенбургу пришлось уступить ему деревни, расположенные в Айшгрунде, отрезать семь хороших кусков в двух местах для округления владений его высочества и возместить издержки его похода на Ротенбург.
Кэте и Каспар — он тоже в крестьянской одежде — стояли у могилы Ганса Лаутнера, когда из собора св. Иакова вышел свадебный кортеж. Грянула веселая музыка, и шествие засверкало шелками, атласом, парчой и бархатом всех цветов радуги, пестрыми развевающимися перьями и золотом украшений. Но на лицах гостей, а особенно на лице невесты не видно было радости. С застывшим взглядом шла она под длинной фатой и брачным венцом в белом атласном платье с длинным шлейфом. Шла точно неживая, словно все происходящее вокруг вовсе не касается ее. Душа погасла в ней, и она не чувствовала больше ни радости, ни горя. Она знала, что Флориан Гейер предательски убит и что ее бывшая подруга царит, на положении фаворитки, в Ансбахе.
Кэте стало жаль новобрачной. Каспар, мрачно насупившись, ждал, пока пройдет кортеж. Случайно они с Кэте оказались на его пути, возвращаясь с преданного проклятию пустыря, где когда-то стоял его родной дом. Когда шествие, в сопровождении толпы зевак, скрылось из виду, Кэте взяла Каспара за руку, и они направились на Вюрцбургскую улицу и вошли в дом доктора Макса Эбергарда. У него теперь была большая практика. Очень многие подавали жалобы на крестьян, выдавая себя за жертвы восстания, и крестьяне шли к Максу в поисках защиты. Каспар тоже пришел в город, чтобы прибегнуть к его помощи. Он хотел жаловаться на магистрат и требовать возмещения за уничтожение отцовского имущества. Макс Эбергард узнал его, несмотря на крестьянское платье, и выказал живейшее участие к молодой чете, вспомнив, что хорошенькая спутница Каспара та самая покушавшаяся на Габриэлу девушка, которую он собирался защищать. Он высказал Каспару свое мнение: магистрат опирается на закон, пусть варварский, но все же закон, в силу которого все имущество государственных преступников подлежит конфискации. Каспару остается лишь просить о милости.
— Мне просить о милости у магистрата? Да скорей я положу голову на плаху!
— Да и вряд ли ваша просьба была бы уважена. Ведь вы сами принадлежите к числу черных козлищ, — отвечал Макс. — Эренфрид Кумпф, как мне передавали, умолял магистрат разрешить ему вернуться к семье, но ему было в этом отказано, хотя он лишь выполнял инструкции магистрата. Боюсь, что ему не видать больше Ротенбурга.
Это опасение оправдалось. Эренфрид Кумпф умер вдали от Ротенбурга и своих близких. Счастливей отделался Ганс Флукс, на которого гейльбронцы свалили всю вину за свое трусливое заигрывание с крестьянской революцией. Он пожаловался на отцов города в имперский суд и добился разрешения вернуться в Гейльброн и возвращения ему конфискованного имущества, поплатившись лишь легким штрафом.
Три крестьянина
С гравюры Альбрехта Дюрера
Печальней всего была судьба Венделя Гиплера. После кёнигсгорфенского поражения, когда Иорг Мецлер пропал без вести, Гиплер возобновил процесс против графов Гогенлоэ, которые теперь объявили, что государственному преступнику они ничего не должны. Желая продвинуть свое дело, он смело явился в Шпейер, на сейм, переодетый, с приклеенным носом, но был опознан, схвачен, подвергнут пытке и умер в тюрьме, снедаемый горькой мыслью о том, что дело, которому он отдал все силы своего широкого, прозорливого ума, дело освобождения его страны, потеряно безвозвратно.
Отнюдь не разделяя этой мысли, Макс Эбергард все же посоветовал Каспару и Кэте как можно скорее убраться из Ротенбурга. Не таков был обычай магистрата, чтобы великодушно выпускать на свободу попавших к нему в силки птиц. Но прежде чем уйти, гости должны откушать у него. Веселья при нынешних обстоятельствах от этого маленького пиршества, конечно, нельзя было ждать. На прощанье Макс Эбергард сказал Каспару:
— Да, мы живем в тяжелое время, но неисчислимые жертвы принесены не напрасно. Чего не добились мы, добьются наши дети.
— Да, и, на мой взгляд, господа поторопились праздновать победу, — сказал Каспар. — Прижать-то бедняка они прижали, до самой земли, но сломить — не сломили.
И в самом деле, потоки народной крови, пролитые господами, лишь приглушили огонь, но потушить его не смогли. Искры тлели еще долгие годы, и нередко то здесь, то там вспыхивало яркое пламя. Бесчисленные толпы бежавших от преследований — их называли бандитами, — скрывавшиеся в горах Швейцарии, в лесах, среди развалин замков, неустанно раздували это пламя, и кровавое зарево, пылавшее в небе от горевших господских домов и амбаров, напоминало о непримиримой ненависти побежденных к победителям. Эта ненависть была обоюдной.
Макс Эбергард не примирился с отцом, и когда через год, по окончании траура, он ввел Эльзу — дочь государственного преступника — в свой дом, между ним и патрициатом произошел окончательный разрыв. Но это нисколько его не смутило: он остался защитником бедняков.
Когда осенью Оренбах вновь возродился из пепла, Каспар женился на своей желанной Кэте. Ее брат Андреас, приехавший из Тауберцеля, благословил их союз. И точно свадебный факел в их честь, в ту же ночь запылал Гальтенбергштеттен — замок юнкера Цейзольфа фон Розенберга.
Под влиянием своей умницы жены Каспар скоро стал домовитым крестьянином. Зажатому в тиски народу было запрещено, под угрозой тяжких наказаний, вспоминать о событиях 1525 года. Но в каждой крестьянской хижине продолжали втихомолку говорить о них, и Каспар Эчлих меньше чем кто-либо позволял заткнуть себе рот. В долгие зимние вечера, когда соседи собирались вместе и под монотонное жужжание веретена предавались воспоминаниям о крестьянской революции, Каспар рассказывал о Флориане Гейере и доставал спасенное им под Ингольштадтом черное знамя с золотым восходящим солнцем. И в сердцах крестьян с новой силой возрождалась надежда, и они верили, что настанет день, когда взойдет солнце свободы и озарит своим сияньем закабаленный и порабощенный народ.
1898
Примечания
1
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, Изд. второе, т. 7, стр. 345.
(обратно)2
Георг Веерт (1822–1856) — немецкий поэт. Энгельс назвал его «первым и самым значительным поэтом немецкого пролетариата» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI. ч. I, стр. 155).
(обратно)3
Меринг Ф., Литературно-критические статьи, М.—Л. 1934, т. II, стр. 222.
(обратно)4
Там же, стр. 223.
(обратно)5
Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии, М. 1952, стр. 4.
(обратно)6
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, Изд. второе, т. 7, стр. 345.
(обратно)7
Фогт — в средневековой Германии полновластный представитель феодального владыки: в городе — наместник, в деревне — управляющий поместьем.
(обратно)8
Шультгейс. — Этим термином в романе Швейхеля одинаково обозначаются: 1) в феодальной чиновной иерархии — окружной податной начальник (в данном случае — граф фон Верницер), 2) в деревне — выборный староста, посредник между крестьянами и феодалом и 3) в войсках — войсковой старшина, выборный начальник отдельного отряда.
(обратно)9
К липе! — По старинному германскому обычаю, общинный суд и мирские сходы собирались под сенью развесистого дерева, чаще всего — липы.
(обратно)10
В Цвиккау — промышленном центре Саксонии мелкие ремесленники, большей частью ткачи, образовали религиозное братство, проповедовавшее наступление тысячелетнего царства божьего на земле и установление социального равенства. В 1521 г. эти ткачи примкнули к Томасу Мюнцеру, проповедовавшему одно время в Цвиккау.
(обратно)11
Намек на популярный в те времена летучий листок о жадном попе, который вместо положенного к пасхе приношения — курицы — вымогает у своих прихожан каплунов, свиней и даже телят. Так называемая «чиншевая курица» служила символом оброчной зависимости крестьянина от феодала.
(обратно)12
Казимир Ансбах-Байрейтский (1481–1527) — представитель франконской ветви Гогенцоллернов, правившем в Бранденбурге (Пруссия); вместе со своим братом Георгом разделял власть над графствами Ансбахским и Байрейтским. В начале крестьянского восстания лавировал и, заигрывая с крестьянскими вождями, пытался использовать восстание в своих интересах. После поражения крестьян со зверской жестокостью обрушился на восставших, действуя, по словам Энгельса, «в чисто гогенцоллерновском стиле».
(обратно)13
Намек на грозную эмблему крестьянского восстания. Впервые крестьянский башмак с перекрещивающимися ремнями появился в 1440 г. под призывами отказаться от уплаты феодальных поборов, а в 1493 г. был поднят на шест вместо знамени восставшими крестьянами в Эльзасе. В начале XVI в. стал наиболее широко распространенной эмблемой крестьянской революции в Юго-Западной Германии.
(обратно)14
Гуситы — последователи чешского реформатора Яна Гуса, сожженного на костре в 1415 г.
(обратно)15
Церковный суд — суд при архиепископе или епископе в средневековой Германии. Ведая делами о нарушении предписаний религиозного культа, в то же время служил добавочным источником доходов для духовенства.
(обратно)16
«Новый Карстганс» (1521) — популярная в ту пору брошюра; содержит диалог Франца фон Зиккингена с крестьянином, а также знаменитые тридцать статей революционного направления. Карстганс («Ганс-мотыга») — популярная в народной литературе эпохи Реформации фигура немецкого крестьянина, призывавшего к освобождению от пут католической церкви и феодального государства.
(обратно)17
Фарамунд — легендарный франкский король, предшественник Хлодвига (V в.).
(обратно)18
Намек на известный эпизод из германского героического эпоса «Песнь о Нибелунгах». По просьбе своего шурина Гунтера Зигфрид, обладавший шапкой-невидимкой, помогает ему одержать победу над воинственной девой — царицей Брунгильдой, обещавшей отдать свою руку рыцарю, который одолеет ее в единоборстве.
(обратно)19
Вормский земский мир — запрещение междоусобных войн среди феодалов, а также имперских вольных городов, объявленное на общегерманском сейме в Вормсе (1495) перед опасностью участившихся восстаний крестьян и городских низов.
(обратно)20
Тевтонский (Немецкий) орден — духовно-рыцарский орден, один из крупнейших феодальных владетелей в средневековой Германии; основан в 1128 г. немецкими крестоносцами в Палестине. В XII в. завоевал Пруссию, вытеснив оттуда литовские племена, и колонизовал ее немцами. В 1242 г. немецкие псы-рыцари были наголову разбиты Александром Невским на Чудском озере.
(обратно)21
Почетный бургомистр. — Хотя члены советов и бургомистры переизбирались ежегодно (в некоторых городах дважды в год), допускалось переизбрание, и многие из них состояли в магистрате по нескольку лет. Так, Эренфрид Кумпф, которого Р. Швейхель называет «почетным бургомистром», занимал эту должность с 1514 по 1525 г.
(обратно)22
Десятина — наиболее тяжкий из налогов, обременявших крестьян в средние века. Большая десятина — с валового урожая зерновых и малая — с поголовья скота или с плодов и фруктов, взимавшиеся в пользу католической церкви, всегда составляли значительно больше одной десятой чистого сбора, так как никакие потери и издержки в расчет не принимались. Так, эрингенские крестьяне (во владениях графов Гогенлоэ) и жители города Мергентгейма писали в своих жалобах накануне Крестьянской войны, что у них отбирают в виде десятины четыре пятых чистого сбора.
(обратно)23
Мартин Лютер (1483–1546) — глава церковной Реформации в Германии, основатель протестантской церкви (лютеранство). Своими страстными проповедями против римско-католической церкви снискал широкую известность, но во время Крестьянской войны проявил себя как злейший враг восставших крестьян и призывал князей к беспощадной расправе с ними.
(обратно)24
Копытный сбор — налог на рабочий скот, вводимый местными властями.
(обратно)25
Питейный сбор — налог на вино при оптовой продаже; введен в 1522 г.
(обратно)26
Черная Гофманша — прозвище вдовы гофмана (дворового крестьянина) подворья Тевтонского ордена в Мергентгейме Маргареты Реннер; участвовала в восстании «Бедного Конрада» и была сподвижницей Еклейна Рорбаха во Франконском ополчении во время Крестьянской войны. Пользовалась большой популярностью среди крестьянства.
(обратно)27
«За дело!» (Dran!) — боевой клич атакующих ландскнехтов.
(обратно)28
Варфоломей Цейтблом — живописец и резчик XV в., работал большей частью в Ульме.
(обратно)29
В средневековых вольных городах, пользовавшихся самоуправлением, внутренний совет являлся высшим исполнительным и законодательным органом. В Ротенбурге внутренний совет состоял из тринадцати именитых граждан. В 1455 г. после восстания ремесленников и городских низов в Ротенбурге, в соответствии с новым городским уставом, был образован широкий, так называемый «внешний» совет из сорока двух человек, куда были допущены их представители. Однако с течением времени ремесленники были вытеснены из внешнего совета, и он превратился в орган патрицианского управления. Должность ратсгера (городского советника) оплачивалась так низко (с 1523 г. восемь гульденов в год), что занимать ее могли только состоятельные люди.
(обратно)30
Томас Цвейфель — «городской писец», управляющий делами магистрата имперского вольного города Ротенбурга; оставил подробную хронику событий Крестьянской войны во Франконии.
(обратно)31
Ринг — негласное объединение (тайная монополия) крупных купцов с целью повышения цен на товары.
(обратно)32
Конц Вирт из Гальдена — глава отряда беглых крепостных в Швабии, нападавшего на торговые караваны богачей. В период Крестьянской войны с исключительной отвагой и ловкостью помогал восставшим.
(обратно)33
«Корабль дураков» — знаменитая сатира в стихах, бичевавшая пороки и предрассудки различных слоев средневекового общества; написана в 1494 г. гуманистом Себастианом Брантом (1457–1521), имела широкое распространение в народе благодаря исключительно простому и доступному изложению и великолепным гравюрам, украшавшим ее первое издание.
(обратно)34
Летучие листки — листовки с прозаическим или стихотворным текстом и лубочными рисунками, большей часть антифеодальной и антицерковной направленности; широко распространялись в Германии начала XVI в. В ротенбургском архиве хранится свыше шестисот листовок той поры, отражающих различные этапы общественной борьбы эпохи Реформации и Крестьянской войны.
(обратно)35
Франц фон Зиккинген (1481–1523) — руководитель рыцарского восстания 1522–1523 гг. Под влиянием Ульриха фон Гуттена примкнул к Реформации, стремился свергнуть власть князей и создать империю, в которой ведущая роль принадлежала бы мелкому дворянству во главе с императором. В своем замке Эбербурге Зиккинген давал убежище многим преследуемым деятелям Реформации, в том числе Ульриху фон Гуттену и Меланхтону.
(обратно)36
Флориан Гейер фон Гейерсберг — один из немногих представителей титулованного дворянства, перешедших на сторону восставших крестьян и остававшихся верными крестьянскому делу до конца. Потомок знатного франконского рода, он стал во главе «Черной рати», состоявшей из ротенбургских и эрингенских крестьян, и был членом крестьянского военного совета.
(обратно)37
Целомудренный Иосиф — Иосиф Прекрасный, проданный братьями в рабство в Египет, стал приближенным вельможи Потифара, жена которого тщетно пыталась соблазнить юношу (Ветхий завет, Книга бытия).
(обратно)38
Имперский верховный суд — высший судебный орган в Германской империи; крестьянских дел не разбирал.
(обратно)39
Катон Марк Порций-старший — древнеримский политический деятель (234–149 гг. до и. э.). Выходец из низов, Катон добился поста цензора, одного из высших постов в республике; прославился исключительной строгостью в борьбе с распущенностью нравов.
(обратно)40
Имеется в виду император Карл V (с 1519 г.), бывший с 1517 г. испанским королем.
(обратно)41
Орден иоаннитов (госпитальеров) — духовно-рыцарский орден; основан в 1099 г., незадолго до первого крестового похода. Впоследствии создал суверенное государство в Палестине, просуществовавшее недолго. В 1530 г. император Карл V отдал ордену остров Мальту. Обосновался в Ротенбурге в 1280 г.
(обратно)42
Фуггеры — известная в XVI в. аугсбургская фирма банкиров, купцов и промышленников; финансировала императоров и князей.
(обратно)43
Жребий брошен! Слова Юлия Цезаря, перешедшего со своими войсками Рубикон и начавшего тем самым гражданскую войну. Ульрих фон Гуттен избрал их своим девизом, переведя: «Ich hab’s gewagt!» — «Я отважился!»
(обратно)44
Стефан фон Менцинген — отпрыск древнего разорившегося дворянского рода; примкнул к революционной партии в Ротенбурге и возглавил выборный комитет, сменивший патрицианское правительство в городе. Выступая на стороне восставших, он в то же время вел переговоры с князьями, чтобы обеспечить себе путь к отступлению на случай поражения крестьянского восстания. Его подлинное лицо, авантюриста и проходимца, несколько затушевано в романе Швейхеля.
(обратно)45
Оберамтман — во Франконии и Швабии в позднее средневековье — высший представитель власти феодала на местах.
(обратно)46
Вендель Гиплер — один из виднейших деятелей Крестьянской войны, канцлер (начальник походной канцелярии) сводного отряда Оденвальда и Неккарталя. Представитель умеренного течения, он был вдохновителем пересмотра «Двенадцати статей» и урезывания революционных требований крестьян, что нашло отражение в составленном под его руководством «Объяснении Двенадцати статей». После разгрома крестьян бежал в Швейцарию, но был схвачен и казнен.
(обратно)47
Намек на евангельскую притчу: «Если твой враг алчет, накорми его, если он жаждет, напои его, и тогда ты возложишь горящие уголья на его голову» (Послание к римлянам, 12, 20), что означает: и тогда ты отплатишь ему добром за зло.
(обратно)48
Ганс Бегейм, Дударь из Никласгаузена — проповедник конца XV в., выступавший во Франконии, Швабии, Саксонии и Эльзасе; призывал к свержению власти князей и феодалов и установлению социального равенства, пользовался огромным успехом среди крестьян и подмастерий. На его последнюю проповедь и Никласгаузене собралось свыше 30 000 человек.
(обратно)49
По старинному поверью, император Фридрих I Барбаросса, погибший во время III крестового похода в 1190 г., спит в глубине горы Кифгейзер в Северной Тюрингии. Раз в сто лет он просыпается и спрашивает, кружит ли еще воронье над горой. Когда вороны перестанут виться над Кифгейзером, император вернется на престол и освободит немецких крестьян.
(обратно)50
Ленники — вассалы, получившие от своего сюзерена землю в наследственное владение под обязательство нести военную службу и другие повинности.
(обратно)51
«Двенадцать статей» — социально-политическая платформа, принятая подавляющим большинством крестьянских отрядов и присоединившихся к ним бюргеров и феодалов. Основное содержание статей: право общин выбирать приходского священника, отмена крепостного права, отмена большой и малой десятины, облегчение налогового гнета, восстановление права охоты и рыбной ловли для крестьян, возвращение феодалами незаконно отобранных у крестьян общинных угодий и лугов.
(обратно)52
Цех золотых дел — самый благородный из цехов — считался в своем роде аристократическим. Доступ в него был закрыт не только для незаконнорожденных, как в другие цехи, но и для сыновей ткачей, цирюльников и музыкантов.
(обратно)53
Мейстерштюк — образцовая работа, которую должен был изготовить подмастерье для получения звания мастера.
(обратно)54
Династия Гогенштауфенов — занимала престол Священной Римской империи германской нации с 1138 по 1234 г.
(обратно)55
Ульрих фон Гуттен (1488–1523) — гуманист и крупнейший публицист эпохи Реформации в Германии, сторонник Реформации; активно боролся с римско-католической церковью («Письма темных людей», 1515–1517), решительно выступал против всевластия и произвола духовных и светских князей. Ратуя за объединение Германии под властью императора, опирающегося на дворянство, принял участие в рыцарском восстании (1522–1523), которое возглавил Зиккинген. После его поражения бежал в Швейцарию, где вскоре умер.
(обратно)56
Таус — городок в западной Чехии, где в 1431 г. гуситы разбили немецких крестоносцев во главе с Фридрихом I Бранденбургским
(обратно)57
Швабский союз — был основан в 1488 г. для поддержания всеобщего мира в Германии, то есть для защиты жизни и собственности его членов и охраны торговых путей. В Швабский союз вошли двадцать два имперских вольных города Швабии, крупнейшие феодалы и много рыцарей. С течением времени состав союза значительно расширился. В 1525 г. этот союз, содержавший огромную по тому времени армию наемников, явился основной ударной силой против восставших крестьян.
(обратно)58
Гец фон Берлихинген (1480–1562) — типичный рыцарь-разбойник позднего средневековья. С девятнадцатилетнего возраста участвовал в походах и вооруженных налетах на города и купеческие караваны. В 1525 г., спасаясь от разорения, примкнул к крестьянам, но в решающий момент перешел на сторону князей, дезорганизовал отряд, которым командовал, и выдал Трухзесу военные тайны восставших. Оставил свое жизнеописание.
(обратно)59
Вассал духовного лица, именующего себя герцогом Франконским. — Фактическими правителями Франконии были крупные духовные владетели, с XV в. герцогами Франконскими именовали себя епископы Вюрцбургские.
(обратно)60
Фридрих Вейганд из Мильтенберга — питейный старшина курфюрста Майнцского, представитель правого крыла в крестьянском движении, стремившегося к компромиссу с дворянством и крупным бюргерством. Вместе с Венделем Гиплером участвовал в составлении «Объяснения Двенадцати статей» и Гейльбронского проекта конституции.
(обратно)61
Убийство Ганса фон Гуттена — 7 мая 1517 г. на охоте герцог Ульрих Вюртембергский заколол кинжалом своего вассала Ганса фон Гуттена, двоюродного брата Ульриха фон Гуттена. Герцог убил его, стремясь отделаться от мужа своей любовницы, но в объяснении своего поступка императору заявил, что покарал непокорного слугу по приговору тайного средневекового судилища — фемы, главой которого он был. На гравюре анонимный художник изобразил традиционные атрибуты убийства по приговору фемы — петлю и кинжал.
(обратно)62
Георг фон Фрундсберг — один из соратников Трухзеса, командир ландскнехтов Швабского союза; принимал деятельное участие в карательных экспедициях против восставших крестьян во Франконии и Швабии.
(обратно)63
Старая драка между Германией и Францией — так называемые «Итальянские войны»; велись между Германией и Францией с конца XV до середины XVI в., в основном за обладание торговыми путями.
(обратно)64
Ульрих Цвингли (1484–1531) — реформатор церкви в Швейцарии
(обратно)65
Последний аргумент (лат.).
(обратно)66
Андреас Боденштейн, он же Карлштадт (1480–1541) — ученый-богослов, реформатор и проповедник. В 1519 г. участвовал на стороне Лютера в диспуте с Экком; впоследствии разошелся с Лютером и примкнул к крестьянскому движению, однако был противником вооруженной борьбы. После разгрома восстания в Ротенбурге бежал за границу.
(обратно)67
«Божий человек» — прозвище Лютера.
(обратно)68
Вормский сейм — собрание чинов Германской империи — совета курфюрстов, князей и представителей имперских городов в 1521 г., на котором обсуждалась ересь Лютера. На Вормском сейме Лютер выступал не только как основатель новой церкви, но и как борец за свободу совести и прав человеческой личности. Он мужественно отказался отречься от своих «еретических» сочинений и был подвергнут вместе со своими сторонниками государственной опале. Папа Лев X предал Лютера анафеме и осудил его сочинения на сожжение.
(обратно)69
Причащение под двумя видами (вином и хлебом) — католической церковью допускается только для священников. Миряне причащаются одним хлебом (облаткой). Допущение мирян к причащению «чашей» являлось одним из требований гуситов, а вслед за ними — и протестантской церкви.
(обратно)70
Серые сестры — монахини кармелитской обители, носили серые сутаны.
(обратно)71
Голубой понедельник. — В XV в. подмастерья добились предоставления им, кроме воскресенья, еще одного свободного дня для проведения общественных собраний. С этой целью был выделен один понедельник в месяц. «Голубым» он назывался потому, что в эти дни церковные алтари украшались голубыми покровами.
(обратно)72
Эрцгерцог Фердинанд — брат императора Карла V, ярый поборник католической реакции. С 1521 по 1526 г., когда Карл V был занят войной с Францией, управлял Германией. После отречения Карла V от престола стал императором Фердинандом I (1556–1564).
(обратно)73
Вельзеры — крупнейшие аугсгбургские купцы и промышленники XVI в.
(обратно)74
Мене, текел, фарес (библ.) — «взвешено, измерено и признано недостаточным» — надпись, начертанная невидимой рукой на стене во время пира царя Вавилонского Валтасара, предсказывала близкую гибель Валтасара и его царства.
(обратно)75
Картауна — пушка крупного калибра (XVI–XVII ее.). Кулеврина — старинная пушка с длинным стволом. Фальконет — пушка малого калибра.
(обратно)76
Праздник дураков — день шутливых обманов, первое апреля.
(обратно)77
Трухзес фон Вальдбург (1480–1531) — главнокомандующий войсками Швабского союза, лютый враг крестьян, главное орудие в руках князей, стремившихся подорвать крестьянское движение изнутри; подкупал отдельных вождей крестьян и втягивал их в переговоры, желая выиграть время для сосредоточения своих сил, неоднократно нарушал заключенное с крестьянскими отрядами перемирие и сеял рознь между ними с помощью своих эмиссаров и предателей. После поражения восставших зверски расправился с ними.
(обратно)78
Граф Людвиг фон Гельфенштейн — зять императора Максимилиана I; был оберфогтом австрийского правительства в Вюртемберге после изгнания герцога Ульриха Вюртембергского. Заключив с крестьянами перемирие, чтобы выиграть время в ожидании военной помощи, он отдал приказ посланным им из Вейнсберга отрядам хватать и вешать всех попадавшихся на пути крестьян.
(обратно)79
Георг Мецлер из Балленберга — трактирщик, видный деятель Крестьянской войны 1525 г. Был избран одним из военных руководителей Светлой рати Оденвальда и Неккарталя. Принадлежал к умеренному течению, поддерживал избрание Геца фон Берлихингена на пост командующего. После поражения под Кёнигсгофеном бежал из Германии.
(обратно)80
Судное воскресенье — воскресенье на пятой неделе великого поста приходилось в 1525 г. не на 4 апреля, как у Швейхеля, а на 2.
(обратно)81
Михаэль Гайсмайр — вождь крестьянского восстания в Тироле в 1525 г., талантливый политический и военный руководитель крестьян; сын рудокопа. Программа Гайсмайра предусматривала установление полного социального равенства, срытие замков и городских стен, передачу горного дела и ремесел в ведение народного правительства.
(обратно)82
Томас Мюнцер (ок. 1490–1525) — «самая величественная фигура Крестьянской войны» (Энгельс), вождь крайнего революционного течения в эпоху Крестьянской войны 1525 г., талантливый организатор восстания крестьян и городских низов в Тюрингии. Будучи выходцем из зажиточной бюргерской семьи и получив высшее богословское образование, порвал с католической церковью и примкнул к Лютеру, с которым вскоре разошелся. Лютер стремился ограничить «свободу христианина» только духовной областью, Мюнцер же считал сущностью христианства осуществление социальных требований народных масс и еще в 1515 г. создал тайный союз, подготовлявший восстание против князей, феодалов и высшего духовенства. По словам Энгельса, Мюнцер обладал широким политическим кругозором и был способен предвосхищать далекое будущее. После разгрома его ополчения войсками князей под Франкенгаузеном был схвачен и 27 мая 1525 г. казнен.
(обратно)83
По библейскому преданию, Корей и несколько десятков его единомышленников пытались поднять восстание против Моисея в пустыне, после исхода из Египта. По божьему повелению, восставшие вместе с их шатрами и имуществом были пожраны огнем, вышедшим из разверзшейся земли (Числа, 16).
(обратно)84
Белый посошок. — В средневековье, изгоняя жителей из завоеванных местностей, неприятель обычно давал каждому из них белый посох, в знак дарованной жизни. Так поступали феодалы и с ограбленными ими и превращенными в бездомных бродяг крестьянами.
(обратно)85
Томас Мурнер (1475–1536) — немецкий сатирик XVI в.
(обратно)86
Ганс-Вурст (Ганс-колбаса) — народное прозвище немецких шутов.
(обратно)87
«Timeo Danaos et dona ferentes» — «Боюсь и дары приносящих данайцев» — цитата из «Энеиды» Вергилия. Имеется в виду деревянный конь, наполненный воинами, который греки оставили под стонами Трои при мнимом отступлении.
(обратно)88
Шеффены — судебные заседатели.
(обратно)89
Начальник небольшого округа в Германии, и вообще должностное лицо.
(обратно)90
Посмертное отобрание, или посмертный побор (todfall) — право феодала на часть имущества умершего крепостного, обычно на лучшую голову скота, лучшее платье и оружие.
(обратно)91
Непереводимая игра слов: Umgekehrt wird Shuh daraus! — Буквально: «А наоборот получится башмак»; в данном случае — намек на грозный символ крестьянской революции.
(обратно)92
Бог лишает разума тех, кого хочет погубить! (лат.)
(обратно)93
По библейскому преданию, войско израильское, вступив в «землю обетованную», было остановлено у неприступных стен Иерихона, однако при звуках семи священных труб стены крепости обрушились (Книга Иисуса Навина, 6, 19).
(обратно)94
Отлучение от воды и огня (лат.).
(обратно)95
Вагенбург — легкое прикрытие лагеря кольцом из повозок, своего рода крепость на колесах. Тактика борьбы против рыцарской кавалерии с помощью Вагенбурга была заимствована немецкими крестьянами у гуситской армии таборитов.
(обратно)96
Гедеон — пятый из судей Израиля, прославившийся своими победами над угрожавшими его народу медианитянами. Мюнцер обычно подписывал свои воззвания: «Томас Мюнцер, препоясанный мечом Гедеона».
(обратно)97
Вильгельм фон Грумбах (1504–1567) — вассал архиепископа Вюрцбургского; впоследствии возглавил восстание немецкого мелкопоместного дворянства против князей и городов (так называемое «Грумбахское дело»). После разгрома восстания был предан суду, обвинен в убийстве епископа Вюрцбургского и в 1567 г. четвертован.
(обратно)98
Фудер — мера емкости, около 1200 литров.
(обратно)99
Еклейн (Якоб) Рорбах (1500–1525) — крепостной из Бекингена, близ Гейльброна, наиболее радикальный из предводителей крестьянских войск; организовал несколько революционных отрядов в деревнях гейльбронского округа, где открыто выступал против дворян и католического духовенства и приобрел огромную популярность в народе; резко возражал против гибельного для крестьянского дела правила, в силу которого ополченцы поочередно уходили из рядов войск на полевые работы, и не останавливался перед мерами принуждения для поддержания дисциплины и вербовки в свой отряд. Казнен в 1525 г.
(обратно)100
Светлая рать Оденвальда и Неккарталя — наиболее многочисленный из отрядов франконского крестьянства, вначале придерживавшийся декларации «Двенадцати статей», под влиянием своих вождей Венделя Гиплера, Георга Мецлера, а впоследствии и Геца фон Берлихингена постепенно перешел на более умеренные позиции «Объяснения двенадцати статей» и отказался от немедленного удовлетворения требований антифеодального характера.
(обратно)101
Авраамово лоно — загробное местопребывание праведных по Талмуду и Новому Завету.
(обратно)102
Брандмейстер — в войсках ландскнехтов и крестьян собирал контрибуцию с завоеванных местностей и подвергал репрессиям, вплоть до сожжения всей недвижимости (Brandmeister — буквально: «ведающий пожарами»).
(обратно)103
Вейбертрей (Weibertreu — Женская верность). — По легенде, в 1140 г. император Конрад III Гогенштауфен, осадив Вюрцбургский замок, разрешил всем находившимся в нем женщинам покинуть его, вынеся на себе то, что им всего дороже. Те вынесли на своих плечах мужей и братьев.
(обратно)104
Гвельфы — приверженцы католического Рима в период борьбы германских императоров с папой в XII–XIII ее.
(обратно)105
Яков Вее — пастор из Лейпгейма (Верхняя Швабия), последователь Томаса Мюнцера, проповедник Лейпгеймского крестьянского отряда. Казнен Трухзесом после разгрома отряда.
(обратно)106
В средние века существовал налог на каждую дверь и на каждое окно в доме. Эти слова, приписываемые Флориану Гейеру, подвергаются сомнению историками так же, как и его участие при взятии Вейнсберга.
(обратно)107
В Средние века — общее собрание членов монашеского или духовно-рыцарского ордена.
(обратно)108
Крестьянский военный совет — обычно включал по пяти — семи представителей от каждого отряда. Состав его обновлялся каждые две недели.
(обратно)109
Св. Килиан считался покровителем города Вюрцбурга.
(обратно)110
«Правое дело» — так называли сторонники католической реакции борьбу против Реформации.
(обратно)111
После восстания подмастерьев и городских низов в Ротенбурге в 1455 г. была введена новая конституция, согласно которой был образован внешний совет из 42 представителей демократических слоев населения.
(обратно)112
Бенефиция — должность (иногда номинальная), приносившая духовному лицу определенный доход в феодальную эпоху.
(обратно)113
Известная притча об отступничество апостола Петра (Евангелие от Луки, 54–62).
(обратно)114
Проект конституции (так наз. Гейльбронская программа) — программа политического переустройства Германии, выработанная в Гейльброне в 1525 г. Гиплером, Вейгандом и другими идеологами либерального бюргерства, в которой значительно урезывались революционные требования крестьян. В проекте нашли отражение главным образом экономические требования горожан; отмена внутренних пошлин, обеспечение безопасности торговых путей, установление единства мер и весов, Ф. Энгельс говорит об авторах проекта, что «они дошли до предвидения современного буржуазного общества». И действительно, Гейльбронская программа предвосхитила во многом конституцию, которую Германия получила лишь через триста пятьдесят лет.
(обратно)115
Конрад фон Тюнген — епископ Вюрцбургский (1519–1540).
(обратно)116
Профос — полицейский офицер в армии, иногда исполнявший обязанности палача.
(обратно)117
Кола ди Риенци — «последний народный трибун» в Риме, выразитель стремлений демократических масс к объединению Италии. В мае 1347 г. сверг господство аристократии и основал правительство демократической партии. Однако в декабре того же года был свергнут коалицией крупных феодалов и бежал из Италии. Убит в 1354 г. при вторичной попытке совершить переворот.
(обратно)118
Праздник Божьего Милосердия отмечается в первое воскресенье после Пасхи.
(обратно)119
Вальтер фон дер Фогельвейде (1170–1230) — один из наиболее значительных и популярных немецких миннезингеров; потомок обедневшего рыцарского рода; начал с воспевания «высокой» рыцарской любви. Позднейшая его лирика близка народной песенной лирике. Был также выдающимся политическим поэтом своего времени, решительно выступал на стороне императора против папского Рима.
(обратно)120
Тауберское ополчение — одна из трех составных частей франконского войска крестьян (наряду со Светлой ратью Оденвальда и Пеккарталя и Черной ратью Флориана Гейера) было наиболее радикальным по своим целям, так как ядро в этом отряде составляло революционно настроенное крестьянство. Программа ополчения носила ярко антифеодальный характер и требовала полного уничтожения всех привилегий дворянства и духовенства, немедленной отмены всех феодальных повинностей и беспощадного подавления сопротивления господ.
(обратно)121
Стентор — в «Илиаде» Гомера глашатай греческого войска под стенами Трои, обладавший необычайно сильным голосом.
(обратно)122
Рим сказал свое слово, и дело решено (лат.).
(обратно)123
Бомбарда — пушка XIV–XVI вв., один из первых образцов артиллерийского орудия крупного калибра; заряжалась каменными ядрами.
(обратно)124
В политике (лат.).
(обратно)125
Автор имеет в виду разгром войска Томаса Мюнцера 21 мая 1525 г. (в воскресенье, а не в понедельник) под Франкенгаузеном, где войска князей, вероломно напавшие на крестьян до истечения срока перемирия, перебили свыше пяти тысяч человек.
(обратно)126
Гейер (нем. Geier) — коршун.
(обратно)127
Вюрцбургский городской писец — магистр Лоренц Фриз; оставил подробную «Историю Крестьянской войны в Восточной Франконии», был ненавистником крестьян и старался всячески очернить деятелей революции. Однако из его летописи следует, что ни Флориан Гейер, ни Черная Гофманша не принимали участия в Вейнбергской расправе.
(обратно)128
«Из идущею вышло ядомое, и из сильного — сладкое» — загадка, которую предложил разгадать филистимлянам древнееврейский мифический герой Самсон, нашедший мед в трупе убитого им льва (Книга судей, 14, 14).
(обратно)129
Томас Мор (1478–1535) — английский государственный деятель и автор знаменитого социального памфлета «Утопия», в котором он с гуманистических позиций подвергает резкой критике современное общество, основанное на частной собственности и эксплуатации, и рисует идеальный общественный строй на вымышленном острове Утопия.
(обратно)130
Дело было под Кёнигсгофеном. — Поражение четырехтысячной армии крестьян (Светлой рати и Франконского ополчения) 2 июня 1525 г. под Кёнигсгофеном сыграло решающую роль в разгроме крестьянской революции во Франконии.
(обратно)131
Петух, Соловей — названия двух больших пушек ландграфа Гессенского, доставшихся ему после взятия замка Эбербург Франца фон Зиккингена.
(обратно)132
Имеется в виду книга Левитов, третья книга Пятикнижия Моисея; содержит мелкие предписания культового и бытового характера. Здесь — читать мораль.
(обратно)133
В лето от рождества Христова (лат.).
(обратно)134
Иродиада (библ.) — дочь Ирода I, любовница правителя Галилеи Ирода-Антипы (I в.), добившаяся у него казни Иоанна Крестителя.
(обратно)


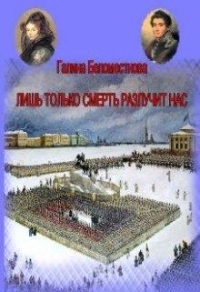

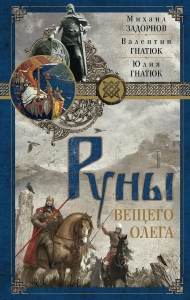
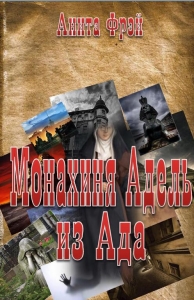

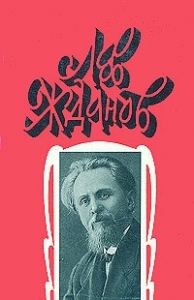

Комментарии к книге «За свободу», Роберт Швейхель
Всего 0 комментариев