Кальман Миксат Рассказы
Георгий Гулиа Кальман Миксат смеется
Пока не требует поэта…
Вот именно: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», — он рождается, как все, и живет, как все. То же самое было и с Кальманом Миксатом.
Если скажу, что он родился в местечке Склабоня, будет ли удовлетворено ваше любопытство? Наверное, только отчасти. Ибо вы хорошо представляете себе, где Венгрия и где Будапешт. Но не сомневаюсь — вы и догадаться не сможете, где это самое местечко, которое дало великого писателя! Склабоня на картах не отмечено. Даже на крупномасштабных.
Должен сказать, что я с большим уважением отношусь ко всякой провинции, особенно к венгерской. Что бы делала столица, если бы не очаровательная провинция, вместилище милых традиций, хорошего здоровья и всякой всячины, без сосуществования с которой быстро хиреет любой главный город?
Обычно кровообращение идет от провинции к столице. Обратно кровь эта течет редко и, во всяком случае, медленно. Это не только у нас. Но почти в любой стране. А также и в Венгрии.
Итак, Миксат родился в Склабоне, чтобы состариться в Будапеште. Европейские столицы вобрали в себя слишком многое на протяжении веков, чтобы не быть сильнейшим магнитом. Растиньяк ехал в Париж, обуреваемый честолюбивыми помыслами низкого пошиба. Но тысячи молодых очень часто прославляют свои столицы, которые сначала неохотно принимают их в свои объятия, но позже ставят непрошеным пришельцам гранитные памятники, рассчитанные на века.
Склабоня находится на севере от Будапешта. Здесь — плавно очерченные горы, мягкие пейзажи. Для их воспроизведения более всего подходят пастель или акварель. Масло, на мой взгляд, внесло бы — хотя и едва заметный — элемент сочной фламандской живописи. Впрочем, это дело вкуса. Есть у меня друг-живописец, он пишет порою так, что ее сразу поймешь, масло это, гуашь или пастель.
Комитат Ноград примыкает к Словакии. Здесь среди венгерской и словацкой речи вырос и получил начальное образование Кальман Миксат. А родился он в 1847 году, за два года до смерти неукротимого Шандора Петефи. Я напомню: Петефи погиб с оружием в руках в революции 1848—1849 годов.
Когда Кальман займет свое место в гимназии города Римасомбат, он постоянно будет слышать имя Петефи. Ибо многие преподаватели гимназии были участниками революции. И не они ли вместе с другими борцами разносили молву о героической гибели Петефи? Народ утверждал, что поэт, павший на поле брани, и после смерти своей продолжал проклинать врагов и слова его доносились из-под земли.
В Будапеште
Каким был К. Миксат в юношеские годы? Наверное, был живой и веселый. Но несомненно тоньше в талии, чем на склоне лет.
Он умер в шестьдесят три года, то есть в 1910-м.
Да, годы сделали свое. Писатель отяжелел. Но его ум, по свидетельству современников, неутомимо сверкал: Миксат словно юноша нанизывал одну остроту на другую, вспоминал разные смешные истории и по-прежнему, на ходу, придумывал анекдоты.
Между прочим, мы мало занимаемся психологией писательского творчества. Мало исследуем годы детства, отрочества и юности, А ведь именно в это время формируется и выявляется многое из того, без чего писатель не писатель.
Именно в этот период жизни человек особенно много читает и многое запоминает из прочитанного. Глаз научается видеть то, что подчас ускользает от взгляда других. Ум все больше приспосабливается к образному и абстрактному мышлению. В эти годы закаляется воля, обостряется гражданское чувство. Сердце начинает реагировать на те незаметные толчки, которые постоянно ощущаются в развивающемся обществе. Ну, и первая любовь.»
Да, и первая любовь. Она приносит многое, требуя и от тебя самого многого. Если тебя действительно приметил Аполлон, то и любовь даст тебе нечто такое, что всю жизнь будет служить тебе, даже независимо от твоей воли. Многие народы и до сих пор прилежно исполняют обряд посвящения мальчика в мужчину, прокалывая ноздри стрелою. И эта стрела не забывается никогда. Первая любовь пробуждает не только новые чувства, но и заставляет по-иному относиться к миру. И тоже не забывается, как та стрела…
Будапешт, куда приехал продолжать учение молодой Миксат, я думаю, произвел большое впечатление на будущего писателя. Юридический факультет университета был избран неспроста. Многие мелкопоместные дворяне шли в юриспруденцию. Это был верный заработок. Все богатство Кальмана Миксата, пожалуй, заключалось в его дворянской грамоте. Но, возможно, был тут и еще один мотив. На мой взгляд, не следует его исключать полностью, тем более что им руководствовались некоторые молодые люди того времени.
Как, например, лучше помочь народу, терпящему столько бедствий от привилегированных классов? Разумеется, изучив юриспруденцию, хорошенько познакомившись с законами, овладев мастерством адвоката. Не правда ли; немного наивно? Разве Петефи и его друзья были адвокатами? Разве знание законов привело их на баррикады?
Но не будем несправедливы к наивным, но искренним побуждениям юной души. И не будем гадать об этом. Очень важно отметить бесспорное. А именно: юриспруденция бросила Миксата в самую гущу народа, способствовала встречам с различными людьми различных сословий, помогла поближе познакомиться с обездоленными и обиженными. Доброе сердце будущего писателя раскрывалось навстречу простому человеку, в поте лица своего добывающему кусок хлеба.
О литераторе надо судить не по тому, чего он не сделал или что мог бы совершить. Книги писателя — неопровержимые документы-первоисточники. Они говорят. И очень часто комментарии к ним излишни. При этом уже не имеют особого значения ни частная жизнь писателя, ни его происхождение, ни его намерения. Ибо время стирает многое, почти все, и на поверку остаются книги, и только книги!
Проба пера
Нет, Аполлон все еще не звал Миксата к священной жертве. Он только лишь приметил молодого студента, по ночам кропавшего небольшие рассказы. Приметить — еще не значит призвать. О ком бы ни шла речь: о поэте или прозаике, драматурге или критике. Ибо все они служат Музе, все они — единоутробные ее сыновья.
В будапештских изданиях появляются первые рассказы Миксата. Говорят, что они произвели впечатления не больше, чем заметки посредственного хроникера. Нельзя сказать, чтобы молодой студент испытывал недостаток в прилежании или трудолюбии. Или же в дозволенном карманом эпикурействе. Нет, все это было. Но дело в ином. Можно много писать. Можно много печататься. И все же быть далеким от того, что мы называем Литературой.
Я уверен, что и в то время Миксату нельзя было отказать в некоторой наблюдательности, необходимых обобщениях, добрых намерениях. И все-таки его рассказы не приносили ему успеха. Это мы должны заметить ради объективности. Миксату перевалило за четверть века. Но никто еще не мог сказать — будет Миксат литератором или нет? Нечто подобное, если припомните, произошло и с Бальзаком. До «Шуанов», которые он написал в двадцать девять лет, все его творения ничем особенно примечательны не были. Прозаик, как правило, всегда поздно зреет. (Я имею в виду настоящего.)
Но кто сказал, что проба пера — независимо от результатов — является ошибкой? Так может показаться только со стороны. Только человеку, незнакомому с писательским творчеством.
Если у тебя в душе теплится, что называется, искра божья, то время на опыты — даже малоуспешные — вовсе не потеряно. А неудачи порой еще более распаляют тебя, придают силу. Если, разумеется, суждено тебе стать настоящим писателем. Все же прочие, образумившись; начинают заниматься другими, может быть, не менее полезными делами.
Для Кальмана Миксата будапештские неудачи не прошли даром. Он вкусил от ядовитого плода творчества и как избранник Музы не мог уже жить без пера, без газеты. Надо полагать, неудачи не только не обескуражили, но, напротив, влили в него новую энергию.
Но, несомненно, были огорчения. И немалые. Как ни говори, но когда рассказы твои — а их не один, и не два — почти никого не трогают, кроме ближайших друзей, это не очень хорошо. Для личного самочувствия совсем нехорошо.
Я полагаю, в один прекрасный день или в одну прекрасную ночь где-нибудь над Дунаем был брошен жребий: Миксат решил продолжить усеянный терниями путь журналистики, литературы.
Будапешт с его разительными контрастами — роскошью и бедностью, дворцами и трущобами — давал большую пищу для размышлений. Огромный торговый Пешт — средоточие деловой жизни всей Венгрии, — несомненно, возбуждал в молодом человеке множество мыслей. Нельзя было не задуматься, например, о судьбе обездоленного люда. Особенно, если имеешь доброе сердце. Ведь этот самый люд чувствовал на своей спине не только гнет собственных, венгерских вельмож, но и австрийских. На каждого честного венгерца давил не только властный официальный Будапешт, но давила и не менее властная Вена. Такова логика двойного пресса.
Венгрия тех дней
Революция 1848—1849 годов основательно встряхнула не только Венгрию. А и всю австро-венгерскую монархию. Монархия Габсбургов была многонациональной. А главенствовала в ней австрийская знать. Королевский двор в Вене придумывал всевозможные хитроумные уловки, чтобы покрепче держать в руках всю эту «лоскутную монархию». Как правило, сговаривались привилегированные сословия различных национальностей. Они находили между собою общий язык. Особенно в отношении к народу — тому самому народу, который везет весь государственный воз и движет жизнь вперед, — австрийская и венгерская буржуазия была единой. Народ всегда пугает тех, кто сидит на его шее.
Однако с некоторых пор венгерской буржуазии стало тесно в австрийских объятиях. Она жаждала самостоятельности и сама не прочь была подмять своих соседей.
Габсбургский двор проводил в Венгрии жесткую политику. Генералы-австрияки хозяйничали, как у себя дома. Революция 1848—1849 годов стала выражением энергичного протеста и национальной буржуазии, и широких слоев народа против австрийского засилья. Лайош Кошут повел венгерский народ в бой против австрийских угнетателей. Польский эмигрант Юзеф Бем стал генералом венгерской национально-освободительной армии. В его войсках служил Шандор Петефи.
Революцию, как известно, подавили. Но она уже сделала хорошее дело: крепостному строю в Венгрии был нанесен смертельный удар, буржуазия получила возможность шире развивать национальную промышленность.
Понемногу в Венгрии стало увеличиваться число рабочих. Возникали первые рабочие организации. Иными словами, Венгрия сдвинулась с той мертвой точки, на которой ее удерживал австрийский двор. Началось развитие капитализма.
В 1865 году был избран новый венгерский парламент. В результате длительных переговоров, а прежде всего благодаря военным и внешнеполитическим неудачам Австрии, Венгрия получила собственное правительство. Правда, подлинной самостоятельности у него не было. В смысле внешней политики и военной, например, оно всецело подчинялось венскому двору.
Кальману Миксату довелось заседать в венгерском парламенте, участвовать в парламентских выборах. Говорят, он был очень веселым депутатом. В кулуарах смешил своих коллег. Рассказывал анекдоты и различные истории, приключившиеся с депутатами и их избирателями. Не знаю, сколь плодотворной была его депутатская деятельность, но могу уверенно сказать: Миксат хорошо использовал свое пребывание в парламенте. Он увидел и высмеял то, что не всякому удавалось видеть. Как ни говорите, автор «Выборов в Венгрии» видел венгерских парламентариев насквозь. Ему ли было не знать всей нелепости и гнилости того парламентаризма, который оформился в Венгрии во второй половине прошлого века?
Господин депутат
Кальман Миксат оставил нам великолепный портрет одного из своих коллег. Как всякий литературный тип — это лицо и вымышленное и невымышленное. Речь идет о Меньхерте (уменьшительное — Менюш) Катанги. Это главный герой романа «Выборы в Венгрии».
Кальман Миксат беспощаден. Он не жалеет красок для того, чтобы точнее изобразить своего «героя». По иронии и глубине раскрытия образа этого парламентского деятеля роман буквально не имеет себе равных. Прочтите «Выборы в Венгрии» и скажите: много ли книг, столь ироничных, пронизанных юмором и желчью, правдивых к тому же, доводилось вам читать? Я бы назвал этот роман фельетоном, отличным памфлетом на буржуазный парламентаризм, всю подлость которого с такой, казалось бы, невинной усмешкой на устах вскрыл Кальман Миксат. Это — свидетельство из первых рук.
Книга «Выборы в Венгрии» сложилась из зарисовок, которые делал Миксат по ходу работы парламента и публиковал в разное время. Впоследствии писателю пришла мысль соединить зарисовки в единое целое. Книга получилась как бы сама собой. И это наложило на нее отпечаток некоторой фрагментарности. Что не умаляет ни социальной значимости романа, ни его сюжетной остроты и занимательности.
Хотел этого Миксат или нет — он всадил нож той, с виду благонамеренной, а на поверку лживой демократии, которую являл собой венгерский парламент под сенью трона Габсбургов. И вся фальшь этой демократии живо воплотилась в центральном образе Катанги.
«Что тут еще сказать? — спрашивает Миксат в заключении. — Все и так ясно… что здесь больше делать? Предвыборные маневры окончились. В депутаты через три дня изберут Катанги…»
Вот именно: все и так ясно!
Сегед
Я не собираюсь писать биографию замечательного венгерского классика Кальмана Миксата. Но поскольку говорил в свое время о пробе пера молодого студента юридического факультета, я хочу немножко продолжить эту мысль, точнее, закончить ее.
Чудесный яд журналистики и неутолимая жажда писания толкали Миксата все время вперед. Очевидно, судьба его все-таки решилась в то время, когда рассказы печатались, хотя и без успеха. Поскольку мы имеем дело с настоящим литератором, неудачи не сломили Миксата.
В 1878 году он переезжает в Сегед — прелестный город на юге Венгрии — и яростно берется за журналистику. Он сотрудничает в газете «Сегеди Напло». По-видимому, хочет взять реванш за огорчения, пережитые в столице.
Будапештский университет находится около моста Эржебет, в сердце неуемного Пешта. Сегед после столичной кипучей жизни выглядел более спокойным. Во всяком случае, Миксату здесь повезло. Его печатают, его читают, и за ним утверждается слава способного литератора, наблюдательного и чуткого к самым заурядным внешне явлениям жизни. Кажется, Аполлон все-таки призвал его к священной жертве. Во всяком случае, писатель в нем определился.
Хочу заметить, что — если говорить по большому счету — и наблюдательность, и умение схватить живые черты окружающих — это еще не все. Писатель только тогда становится писателем, когда в нем зреет настоящий муж, общественный деятель, человек с собственным взглядом на жизнь. Писатель должен знать, чего он хочет, к чему стремится в жизни и куда зовет людей. Без этого даже самые симпатичные детали и самые точные штрихи не станут явлениями большой литературы. Даже те писатели, которые демонстративно заявляют, что далеки от общественной жизни, тоже являются общественными деятелями. Только деятелями особого рода.
В Миксате билось горячее сердце. Душа его живо реагировала на все радости и горести человеческие. Он был прирожденным гуманистом, человеком честным в высоком понимании этого слова. Эти качества сделали его настоящим писателем. Вольно или невольно Миксат касался больших социальных тем, хотя и не ставил перед собой задачу освещать путь своей родины в будущее.
В Будапеште я видел тридцатитомное собрание сочинений Миксата. Первыми зрелыми произведениями писателя по справедливости считаются новеллы, вошедшие в сборник «Земляки-словаки». Именно после выхода этого сборника он стал признанным литератором. Это вовсе не означает, что он создал уже подлинно миксатовские произведения. Но это было хорошее начало. Не сумев покорить Будапешт прямо с ходу, со студенческой скамьи, он это сделал иначе — через провинцию.
Вот вам наглядный пример того, как может родиться писатель в провинциальном городе! Бог знает кем бы мог сделаться Миксат, если бы не уехал из Будапешта. Может быть, столичным адвокатом, пусть даже известным? Теперь уже нет смысла гадать: Миксат родился Миксатом!
«Странный брак»
Роман «Странный брак» в собрании сочинений Кальмана Миксата занимает особое место. Я бы сказал, первое место. Должен заметить мимоходом, что те произведения, которые напечатаны в настоящем шеститомном издании, лучшие из его наследия. (Таково не только мое мнение, но и мнение людей, более сведущих в этом вопросе.) Ведь нет писателя, чьи бы строки во всех его книгах были совершенно равноценны по своей силе. А значит, у каждого литератора есть что-то более выдающееся. И по этим сильным вещам мы и судим о его творчестве.
«Странный брак» — это роман номер один Кальмана Миксата. Самое примечательное произведение. Он высмеивает в нем дворянство. Высмеивает — это не самое точное слово: Миксат обнажил духовное убожество дворян, не брезгующих ничем ради достижения своих целей, он показал, что моральные устои столпов феодализма расшатаны. Но это роман не только антифеодальный. Он еще и убийственно антиклерикальный. Сатира Миксата обретает чудовищную силу, когда речь заходит о духовенстве. Ее стрелы разят беспощадно. И жалкого корыстолюбивого попика, и облаченного в пурпурные рясы фарисея. Красноречив конец «Странного брака»:
«И только лягушки квакают иногда в ближних болотах:
«Прравят попы! Прравят попы!»
Мне кажется, что этот роман ни в каких комментариях не нуждается. Он силен как в художественном, так и социальном отношении. Силен тем, что вскрывает все тайники нечистой совести. Обнажает их на осмеяние и презрение. В общем, это та самая задача-максимум, которую может поставить перед собой писатель — поборник правды. Человек, который говорит откровенно и прямо, словно стреляет из пистолета.
Осажденное зло
После «Странного брака» по блеску замысла и исполнения я бы поставил «Осаду Бестерце». Это произведение бесконечно веселое по форме и необычайно едкое по существу. Оно населено странными людьми, позабывшими, в какое время живут. Мир — подчас фантасмагорический — чудаков-феодалов, преисполненных амбициозности, невольно поражает тебя и одновременно заставляет насторожиться и задать вопрос: позвольте, что же это происходит и когда это все происходит?
Представляю себе, какое впечатление произвел роман в свое время. И не знаю, есть ли иной способ, чтобы так беспощадно и до основания вскрыть моральную деградацию венгерского дворянства. Показать, что за этими людьми, которых мы видим, словно живых, нет и не может быть ничего разумного, а тем более полезного, — дело воистину замечательное.
Миксат пишет:
«Иногда Пограцу попросту были противны люди, разумеется ныне живущие».
Речь идет о главном герое романа. Но можно быть уверенным, что и другим поборникам феодального правопорядка тоже были противны «ныне живущие». Писатель не скупится на краски, рисуя гнезда этих графов и баронов.
Сатирическая обостренность в «Осаде Бестерце» подчас доведена до предела. Писатель бьет наверняка и нещадно. Его перо пылает скрытым гневом, на его страницах бушует негодование, сдерживаемое внешне улыбчивым повествованием.
Та же самая линия на разрушение потомственных укладов дворянства, этого фактически мертвого, но все еще прожорливого класса, неуклонно проводится в романах «Черный город», «Дело Ности-младшего и Марии Тот», во многих повестях и рассказах.
Другим объектом сатиры Миксата — мы видели это по «Странному браку», который, на мой взгляд, может быть поставлен в один ряд с антиклерикальными произведениями Анатоля Франса — становится духовенство. Еще раньше им был написан роман «Зонт св. Петра». В этом романе Миксат поворачивается к нам еще одной гранью — смесью добродушия, иронии и юмора.
Словом, тот, кто прочитает эти шесть томов, — а чтение их доставит немалое наслаждение, — в образе благодушного старика рассказчика, каким выглядит на фотографии последних лет Миксат, увидит борца против несправедливости, мелкой лжи и большого бессовестного обмана, против всего отжившего и мертвого.
Такова логика творчества большого писателя — действовать честно! Подчеркнем еще раз: писателя-гуманиста, каким был Миксат.
Рассказы, рассказы, рассказы.»
Но Миксат-сатирик, Миксат-обличитель — это только часть Миксата. Он становится совсем иным, когда пишет о крестьянах. А писал он о них много. Создал целую галерею крестьянских образов. К ним, к этим «маленьким» людям, Миксат питал особую любовь. И уважение. Этого нельзя не заметить, читая рассказы Миксата.
По-моему, нет ничего приятней, чем писать рассказы. Особенно небольшие. Особенно, когда они почерпнуты из жизни. Не придуманы.
И приятно, и трудоемко.
В романе или повести страницы как бы нанизываются на страницы. И если происходят поворот в ходе событий, к твоим услугам десятки, а то и добрая сотня страниц. А в рассказе?
Здесь все должно быть точно рассчитано, соразмерено. Рассказ ограничен во времени. Его нельзя размусоливать. Главное правило: говори о самом важном, говори коротко. Разумеется, ясно. Разумеется, не в ущерб художественному образу.
Многие романисты не умеют писать рассказов.
Миксат одинаково хороша писал и романы, и повести, и рассказы. Он начинал с рассказов. Еще в Сегеде. Он всю жизнь писал рассказы. Мне кажется, что он «отдыхал», когда писал рассказы. Они выливаются у него свободно, остроумно. И не затянуты, если объем соразмерять с их темой, с общественным их звучанием.
Романы и повести Миксата «текут» плавно. Такова милая проза прошлого века. Эта плавность не имеет ничего общего с многословием посредственных романов. Миксат достаточно экономен. Это особенно относится к его рассказам, где динамизм особенно ясно дает себя знать. И проявляется, в частности, в диалоге. Вот подобного рода пример из прекрасного рассказа «Эскулап на Алфёльде»:
«— Что у вас болит?
— Все, — прошептал Коти, тяжело дыша.
— То есть как все? Нос болит?
— Нет, нос не болит.
— А глаза?
— И глаза не болят.
— Ну вот видите! Так, по крайней мере, признайтесь, что вы ерунду говорите!»
Рассказы, как и другие произведения Миксата, написаны с гуманистических позиций, они полны участливости к судьбе простого человека. Писатель сочувствует своим героям, он явно болеет за них душой. Характерен для него рассказ «Крестьянин, покупающий косу». Дотошный Гергей Чомак покупает косу. Он очень, очень придирчив, ибо платит денежки из собственного кармана. Его привередливость становится смешной. И тем не менее вы сочувствуете этому крестьянину: не от большого достатка эта его дотошность! И вы понимаете, вовсе не скупердяй этот Гергей Чомак. Просто такова его психология, рожденная нелегким крестьянским житьем-бытьем.
Красной нитью через рассказы Миксата проходят воспоминания о революции 1848—1849 годов. Писатель как бы гордится тем, что в его стране случилась такая революция. Правда, она приобретает порою в его произведениях несколько идиллический характер. Миксат, вспоминая о революции, разумеется, и не пытается делать каких-либо обобщений на будущее. Он вообще не охотник заглядывать в будущее.
Много творческих сил отдал Миксат, так сказать, обработке народных легенд и преданий. Он любовно собирал их, переплавляя в художественные произведения.
Но что бы ни писал Миксат, его не покидала улыбка — улыбка человека, ценящего острое слово. Но как всякое доброе и острое слово, слово писателя было направлено служению всему гуманному. И о Миксате безо всяких обиняков мы можем сказать: у него была добрая душа! Эта душа щедро присутствует во всех рассказах писателя.
Самое главное оружие
Долг писателя писать чистую правду. Не кривить душой. Не угождать никому. Это очень трудно. Это не всем литераторам удается. Кроме «бойкого» пера, надо иметь еще и бесстрашное сердце. Крепкий характер. Несгибаемую волю.
Вы скажете: это же качества бойца! Да, именно бойца. Не умеющего отступать. Идущего только вперед. Притом, с поднятым забралом. Писатель, пишущий в тиши кабинета, и человек, со знаменем подымающийся на баррикаду, — казалось бы, что между ними общего?
Пусть никого не обманет кажущаяся безмятежность литератора. Пусть не введет кого-либо в заблуждение улыбка писателя, мирно склонившегося над своей рукописью. Поверьте мне: это сидит боец с пером в руке, и сердце его изнашивается за письменным столом так же, как в самых тяжелых боевых подвигах.
Один для своих произведений выбирает слова гневные, прямые, как стрелы. Другой берет себе на вооружение… смех. Или даже просто улыбку. Я говорю «берет», «выбирает»… На самом деле все происходит гораздо сложнее. Человек рождается со своим характером, у него вырабатывается свой взгляд на вещи. Если это можно определить словами «берет», «выбирает», — значит, я выразился правильно.
Слово «борец» не подходит к Миксату. По-видимому, он шел ощупью, целиком полагаясь на свое доброе сердце. И вовсе не ставил целью преобразование венгерского общества на других началах. Объективно же Миксат помогал — и даже очень — тем борцам, которые ставили перед собою ясные социальные цели.
Главное оружие Миксата — смех, улыбка, ирония, юмор, сатира. Это сильное, надо сказать, оружие.
Миксат не может без улыбки. Лучшие его вещи написаны именно с улыбкой. Нет буквально фразы, которая бы не искрилась остроумием, которая не была бы рождена улыбкой. И вы, читая его, будете постоянно улыбаться. Или же смеяться. Или хохотать во всеуслышание.
Поражаешься этому бездонному колодцу острот и метких, смешных выражений. Вы невольно закрываете глаза и видите перед собой немолодого, неторопливого рассказчика. Он улыбается и заражает тебя своим смехом. А между тем смех Кальмана Миксата особого свойства. Он обнажает факты до предела и выставляет напоказ всех соучастников тех или иных событий.
Улыбка Миксата обошлась феодально-буржуазной Венгрии, я бы сказал, дорого. Эту улыбку — свое главное оружие, — свое перо писатель употребил во зло несправедливости и во славу добрым делам.
Да будет так всегда!
Георгий ГУЛИА
РАССКАЗЫ
ЧЕРНОЕ ПЯТНО…
Перевод О. Громова
Нигде нет другого такого загона, как Брезинский… Стены побелены известью, крыша выложена красной черепицей, на воротах поблескивают шляпки свинцовых клепок. А кругом цветут тюльпаны. Высокие вековые деревья отбрасывают на загон густую тень и заботливо укрывают его от посторонних взоров; только высокая труба торчит кверху, равнодушно покуривает в конце загона, там, где под одной крышей со своими овцами живет старый овчар.
И пусть смело рассказывает трубе вьющийся по ней к небу дымок, что Тамаш Олей, всем известный в округе старший чабан из Брезины, варит сейчас у себя дома в чугуне никем не взвешенное мясо, — ему от этого все равно ни тепло, ни холодно. От вершин древних Матр и до самой Копаницкой долины он — единственный хозяин. И задумчивая свирелька на тридевять земель разносит незамысловатую песенку:
У овец Олея Шелковы луга, Серебро на шее, Злато в бубенцах…А когда вся тысячеголовая отара, возглавляемая девятью здоровенными вожаками, бредет по сверкающей от росы траве (ягнята — нестройно толкаясь, матки — покорно, а сотня мериносовых баранов с бархатистой шерстью — степенно, с достоинством), когда вся отара собрана вместе и овчарка Меркуй резво обегает ее, чтобы овцы держались кучно, тогда сердце у Тамаша Олея так и распирает от гордости и восторга, как у властелинов, принимающих парад своих войск.
Справа отару сопровождает подпасок в красиво расшитом сюре *, а слева шагает сам овчар, ласково оглядывая своих любимцев, которых он всех знает наперечет. Помнит даже историю каждого.
…Вот тот неуклюжий, годовалый ягненок однажды запутался в хворосте, да так и застрял среди колючих веток и ломоносов. Там его и нашел Меркуй. Пес с честью вызволил ягненка и полуживого дотащил до стада. Умная собака Меркуй; она заслужила честь — не родиться человеком.
А у того круторогого барана, что шагает рядом с черной маткой, три года назад была сломана задняя левая нога: ее защемило в воротах загона. Олей туго-натуго прикрутил к ноге три плоских деревяшки и до тех пор возился с бараном, пока все четыре ноги не стали совершенно здоровыми, так что сломанную и не отличить.
Или вон та старая беззубая овца, которая сейчас так бодро разгребает копытцами хворост, чтобы полакомиться пробивающейся под ним травкой, — какой же квелой животиной была она когда-то! Она появилась на свет преждевременно, промозглой холодной ночью. Когда овчар, ближе к полуночи, заглянул в загон, бедняжка почти замерзла. Ее мать сама болела (она тогда была уже при последнем издыхании) и не могла согреть свою малютку-овечку. Олей подхватил чуть живого ягненка, притащил его в комнату, а так как там тоже было холодно, пробы ради положил его в кроватку к маленькой Анике, под перину. Так они и спали вместе — ребенок и ягненок, — ничего не зная друг о дружке. Утром, когда они проснулись, девочка улыбнулась ожившей овечке, а та затрясла хвостиком. Обе были рады. Хотя ни у смеющегося ребенка, ни у веселой овечки уже не было матери.
У Аники мать тоже умерла, родив дочку. Господу было угодно, дав Тамашу Олею дочь, отнять у него жену: ведь и господь бог редко дает что-нибудь даром. Конечно, поначалу для брезинского овчара такой «обмен» был весьма тягостным, но потом он смирился, ибо принадлежал к числу людей, которые знают, почем фунт лиха.
Такова была воля божья — воля самого могущественного из трех его повелителей, того, с кем нельзя ссориться, у кого руки ничем не связаны, кому подвластен весь мир и кто может карать, как захочет. Ну, а если больно, что ж, от этого нет иного лекарства, кроме терпения…
Своим господином Олей признавал и его сиятельство герцога Талари, которого он почитал и перед которым был в ответе, как старший чабан; герцогу принадлежало здесь все: и Брезинский загон с его постройками, и необозримые земли, что простирались за ним без конца, без края. Таларский герцог — могущественный вельможа, и, пока он жив, в девяти комитатах * ломают перед ним шапки. Тамаш служит ему верой и правдой, ибо глупец тот, кто срезает ветви с того дерева, под сенью которого сам укрылся от солнца. Что же касается прочего люда, то никто не волен приказывать брезинскому овчару. Почтенный Олей твердо стоит на ногах. Сам он никого не обижает, но пусть уж и его никто не трогает. А его слабость к приблудным барашкам, которые нет-нет да и попадают к нему в котел, — так разве можно его за это винить! Ведь это испокон веков в крови у всякого настоящего чабана и известно каждому, у кого голова на плечах, за исключением почтенных господ из комитатской управы, не имеющих ни малейшего понятия о том, что такое чабанская честь.
Вот почему с третьим своим господином, мнившим себя хозяином над людьми, Тамаш Олей имел немало мелких трений. Ну, да большой беды в том не было. Один-другой барашек, поднесенный исправнику, не мог разорить Олея. Зато блеянье такого барашка тут же запирало на замок уста правосудия.
Олей не относился к числу людей сентиментальных — да и у кого бы ему было научиться чувствительности? Он ведь и с людьми-то не соприкасался — только с овцами. А эти терпеливые животные не страдают подобным недостатком; они всем довольны. И все же наш герой обладал неким инстинктом и той врожденной силой, которой бог, наверное, для того и наделяет самые дикие и примитивные натуры, чтобы порой заставить их все же обращать лицо свое к небу.
Анику он любил, пожалуй, ненамного больше, чем своего любимца-барана, но коль скоро богу угодно было взвалить на его плечи заботу о младенце, то не мог же он выбросить девочку на съедение волкам, — а потому нанял кормилицу, которая и вырастила ее. Ныне Аника — уже взрослая девушка; она сама готовит тминный суп и «демику» *, сама кроит и шьет Олею и его подпаску белье.
…Аника уже научилась всему, что знала ее матушка.
Конечно, Олей очень жалел свою Бориш, когда она умерла. Хорошая, добрая была женщина, упокой господи душу ее. Она вполне заслужила достойные похороны с троекратным колокольным звоном; два часа над ее гробом читались поминальные псалмы. Люди, что живут внизу, в деревне, и вечно колют чем-нибудь глаза друг дружке, придя на похороны, поставили Олею в вину, что «дикий лесной зверь» даже и не плакал по Бориш, ни одной слезы не проронил.
Но ведь Олей не был знаком с деревенскими обычаями. Не плакал — потому что не плакалось. Откуда ему было знать, что этого требуют приличия! Молчаливые деревья Брезины не научили его фальшивить.
Умерла его Бориш, нет ее и никогда уж не будет. Молча, с непокрытой головой, проводил он ее к месту вечного упокоения; после похорон расплатился со священником и кантором *, потом горестно нахлобучил на глаза широкополую шляпу и зашагал к своему загону, крытому красной черепицей.
О чем же, интересно, мог он думать по дороге?
Перед ним вилась старая, сотни раз исхоженная тропинка, но Олей все же не узнавал ее. Ему казалось, что бредет он по чужим местам. И куда подевалось брезинское хозяйство? Все стояло на том же месте, что и раньше: впереди поднимались вершины гор, у их подножья лежал шелковистый луг, рассекаемый быстрым ручейком, во дворе был колодец с колесом, а позади загона — большая колода. Все, все на месте, все, все такое же, как и прежде, и тем не менее — все не то и все не так… Чего-то не хватает, какая-то пустота образовалась в доме, и безлюдно стало вокруг.
Волшебную Брезину словно подменили — и насколько же она стала печальнее!
А знал ли он почему?
Впрочем, и теперь еще, спустя шестнадцать лет, когда он лежит на будничном своем сюре подле стада, пасущегося по склону горы, и шаловливый ветерок доносит до его слуха из долины мечтательные песни Аники, — в воздухе, в мириадах его частиц, вдруг нет-нет да и зазвенит трепетным таинственным шепотом чей-то голос:
«Тамаш!..»
Этот голос прилетает откуда-то из леса, из-за деревьев, и потом снова пропадает в лесу, волной пробегает по траве, по кустарникам, а затем во всей Брезине воцаряется глубокая тишина. Сердце у овчара начинает сильно колотиться, он быстро вскидывает поникшую голову. Прозвучит ли еще раз это «Тамаш», произнесенное таким родным, давно знакомым голосом и подхваченное, наверно, эхом шестнадцать лет назад с тех прелестных алых губ, что за эти годы в сырой земле уже превратились в пепельно-серый прах.
И брезинское эхо на протяжении шестнадцати лет все дальше и дальше разносит этот голос; лес — лесу, ручей — ручью, и вот, совершив огромный круг, голос снова вернулся сюда, достиг слуха Олея и проник ему прямо в сердце… А может быть, тут совсем не то?
Может быть, тень его покойной жены бродит меж деревьев и это она позвала его своим ласковым, кротким голосом? А может, голос этот еще в те давние времена запечатлелся у него глубоко в сердце и теперь снова как будто обрел крылья?
Овчар вскакивает и хватается за голову. Большой желтый гребень, которым были заколоты его длинные, до пояса, волосы, упал наземь, и волосы рассыпались по мускулистым плечам. Одна прядь запуталась в медной пряжке.
Но Олей ничего не замечает. Он напряженно вслушивается и пристально всматривается в обступающую его со всех сторон зелень.
О, да ведь мало ли что приходит на ум тому, кто сорок лет подряд беседует с лесом, со скалами, с облаками!
А вдруг ему только приснилось, что Бориш умерла?.. Ведь это же был ее голос! Действительно, ее голос!.. Овчар потрясает в воздухе кулаками.
Кто осмелился подражать ее голосу?!
Помрачневшим взором озирает он окрестность. Книзу опустились голубые озерца глаз, словно придавленные сверху белками.
Но ничего он не увидел, ничего не услышал. На лугу мирно пасутся овцы; баран с колокольчиком тупо, в упор смотрит на него; подпасок сладко спит, растянувшись на траве; листва на деревьях не шелохнется; даже птицы и те молчат.
Кто же тогда звал Олея? Кто знает?
Может быть, сама эта немая тишина, меланхоличную, полную таинственности гармонию которой нарушает лишь однотонное жужжание пчел?
Если бы хоть кто-нибудь мог сказать, о чем жужжат пчелы в Брезинской долине!
Известно ли им что-нибудь о том, как долго скитаются тут, в горах, души мертвецов, уже обратившихся в прах?
Овчар снова ложится на траву и, подперев рукой голову, задумывается. Странные это мысли!
У того, кто заимствует думы свои у лесных деревьев и крутых скал, у горного потока и кочующих облаков, думы эти никогда не оскудевают.
Та великая таинственная загадка, что окутывает величественный лик природы, наполняет и эту дикую душу, говорит ей что-то свое, и душа откликается на ее речи.
Не верьте тому, что Олей не способен мыслить.
Он мыслит, но это все же еще не мысли, ибо они растекаются, как расплавленный свинец.
Это хаос, смутный и неясный, не обретший формы; это — черная ночь, самый мрак которой и есть свет. И свет этот — извечная поэзия.
Олей размышляет обо всем, но своими мыслями не делится ни с кем. Он раздумывает развлечения ради, и это — отнюдь не плохое развлечение. Разве что иногда печальное.
Редкий день, чтобы ему, как и сегодня, не вспомнилась жена и чтобы не задумался он над бренностью бытия, над тем, что однажды наступит и его черед расстаться с жизнью — он превратится в тихого недвижного покойника, его отвезут на кладбище, и никогда больше не увидит он ни Брезину, ни загон с красной крышей, ни девять вожаков-баранов, ни сотню бархатистых тонкорунных овец, подобных которым нет во всем мире. А солнце все так же будет сиять, как и сейчас, и лес будет все так же таинственно шептаться, как и сегодня, и по весне будет вырастать трава, и вода в ручье разливаться, а потом замерзать, и опять молоденькие барашки весело будут резвиться по знакомым окрестным кустам, — и только его уже никогда здесь не будет…
Но как бы в ответ на его печальные думы в долине звучат песенки Аники, и душа его вдруг наполняется приятным сознанием, что жизнь все же продолжается.
— Жаль, что не мальчик родился, — вздохнул Олей и резким движением швырнул свой посох в середину стада, отчего овцы испуганно шарахнулись в стороны и сбились в кучки.
Пусть и они чувствуют, что их хозяин во гневе, — так он сообщает им свои угрюмые мысли.
А тем временем внизу, у загона, льются все новые и новые песни, грустные и печальные словацкие песни…
Вот въезжает Гарибальди в ближнее село, Вместе с ним и Клапка * едет, пасмурно его чело. А за ними — Захонь *, Граца *, всадников отряд…И как это политика пробралась в Брезинскую долину, где щебечут только птицы? Кто занес сюда эти щемящие сердце воспоминания о минувших боях и связанных с ними надеждах? Воздух? Да, это он принес их тайком, облекши в поэтические одеяния. В таком виде они — желанные гости. Сегодня их поет Аника. А лесные птицы притаились и слушают. Уже завтра их будет пересвистывать дрозд.
В памяти Олея ожили старые воспоминания, гул боев великой войны, когда Граца и Захонь совершали из Брезины свои набеги. Это были доблестные витязи… А может быть, они и поныне еще здравствуют, ибо добрые словаки до сих пор поджидают их, хотя давно всем известно, что оба героя погибли при попытке к бегству от рук предателей в Вадкерте.
Олей не участвовал в войне — нельзя же было ему овец покинуть; однако и он признает, что это было замечательное время; ведь если даже два добрых молодца вступают в единоборство, то и это чего-нибудь да стоит, а уж когда два государства…
…Эх, если б не было у него и тогда на руках этого стада, колокольчики которого так сладко и призывно звучат, словно голос сказочной феи!..
Часами раздумывает он обо всем этом, пока потихоньку не наступит вечер. Теперь время стаду идти на покой. Животные сбиваются в кучу — а это значит, что все сыты и сейчас хотят только одного: спокойно переварить жвачку.
Подпасок первый раз за весь день решается обратиться к овчару:
— Слышите, хозяин, в Таларе уже прозвонили к вечерне!
— Слышу. Не болтай попусту. Отыщи-ка лучше мой посох, да и пойдем. Я швырнул его туда, в середину стада.
Олей еще раз оглядывает овец: все ли они насытились и не затерялась ли какая-нибудь из них? Наверное, если бы даже хоть одной недоставало, то его наметанный глаз, привыкший к тысяче, сразу заметил бы, что налицо — только девятьсот девяносто девять.
Но, слава богу, все в порядке. Овчар степенно накидывает на плечи свой сюр, и они не спеша спускаются в долину.
Колокольчики девяти вожаков-баранов гармонично позванивают, а затем к ним присоединяется и свирель подпаска. Анике издали слышно, что стадо возвращается, и, значит, пора ставить на огонь «демику», излюбленное кушанье чабанов, чтобы она закипела как раз вовремя, к их приходу домой.
Как только они подходят к загону, подпасок вешает свирель за спину и шарит взглядом по двору, — может, удастся увидеть стройную тонкую фигурку той, которая и так все время у него перед глазами, даже когда он закрывает их. Ни за что не упустит он возможности лишний раз украдкой взглянуть на нее.
Аника уже ждет их у дома, что очень приятно Мати. Впрочем, кто знает, почему она вышла сюда? Может быть, просто со скуки, а может, захотелось ей посмотреть на стадо.
Чудесное создание Аника — вот такая, какая она стоит сейчас у загона, изогнув свой тонкий стан; ее глаза мечтательно устремлены вдаль, нежные от природы маленькие ручки опущены, чтобы старая знакомая — овца, та самая, что, будучи маленькой овечкой, спала вместе с ней, — подбежав, могла их коснуться. Из благодарности ли, от любви ли тычется ей в руки старая овца или просто по привычке? Вспоминает ли она о том, как спали они когда-то вместе, или просто любит лизать вкусные руки молоденькой хозяйки?
Кто может до конца постичь овечью философию?
— Добрый вечер, Аника, — ласково поздоровался с девушкой Мати. — Ну, чем ты развлекалась сегодня?
— Сегодня лучше, чем вчера, — ответила она, улыбаясь. — А как у вас дела, люди добрые?
— Неплохо, ласточка ты моя маленькая, — сказал овчар, снимая с плеч сермягу, — а вот скажи-ка, готов ли у тебя ужин?
— Пёркёльт * уже готов, отец.
При слове «пёркёльт» лицо у овчара просияло, ведь для него это праздничная трапеза.
— Иди-ка, сынок Мати, помешай его, пока оно на огне. В таких вещах я человек суеверный… по моему разумению, пёркёльт только тогда вкусен, если и чабан к нему руку приложил.
— Я даже не знаю, хозяин, где плита. Да и не смыслю я ничего в поварских делах.
— Не хитри, мошенник, а делай, что я говорю… И разве не над плитой лили вы с Аникой свинец в ночь на святого Андраша, когда Аника увидела твою физиономию, загадав на своего суженого?
— Ну, не совсем так… — смутившись, проговорил Мати, — Просто фигура такая вылилась, со свирелью за спиной…
— И вовсе то была не свирель, — возразила Аника, — а…
— А что же? — сразу охрипшим голосом спросил Мати.
— Ружье, если ты непременно хочешь знать.
Мати показалось, будто его ножом поразили в самое сердце.
Что это значит? Почему Анике кажется сейчас ружьем то, что до этого считала она свирелью? Какое-то мрачное предчувствие закралось ему в сердце.
Машинально он поспешил запереть за стадом ворота загона.
А мысли Олея тотчас же вернулись к пёркёльту… Впрочем, возможно, они вовсе и не удалялись от него.
— Так пёркёльт, говоришь, будет? Вот это дело, Аника. Можно подумать, что у нас гости.
— А так и есть. Сейчас гость будет здесь.
— Кто же он?
— Да уж одно верно — очень даже особенный человек, — ответила Аника.
— Я его знаю?
— Нет, нет. Из господ он, какой-то охотник… Я никогда раньше не видела его.
— И вовсе он, дочка, не охотник — небось писака какой-нибудь из комитатской управы. Вот уж, право, не могут оставить человека в покое…
— Совсем и не комитатский чиновник! Слишком молод он для этого. Лицо у него белое, как крыло у лебедя; должно быть, его и ветерок не касался.
— И он с ружьем?
— Да еще с каким!
Мати тут совсем низко нахлобучил шляпу, на самые глаза надвинул и прислонился к стволу высокого тополя, потому что на душе у него вдруг стало так горько, словно ад перед ним разверзся; ох, как голова закружилась — только бы не упасть.
— Видно, смелый, шельма… — проворчал Тамаш Олей. — Ишь ты, отважился в лесах герцога охотиться! Ну, не пообещай он пожаловать к нам в гости, я бы отобрал у него ружьецо!
— Он пришел сюда уже за полдень, — продолжала щебетать Аника. — Вы только представьте, как я поначалу испугалась, завидев его. Он попросил молока попить. Я принесла ему, а он мне вот эту золотую монетку дал.
— Зачем же ты приняла? — возмутился Олей.
— Я сказала, что мы не берем денег за молоко — у нас его, слава богу, хватает. Но он оставил монету вот здесь, на краю стола.
— Мы вернем ее обратно, — проговорил Олей. — Избави бог! Что только подумают люди о брезинском овчаре, коли узнают, что он забредшего к нему путника молоком за деньги поит!
Он взял монету в руки и вдруг воскликнул с изумлением:
— Не будь я Олей, если это не золотая крона! Знаете ли вы, что я сейчас подумал? — И шепотом добавил: — Это либо Граца, либо Захонь. Я у них видел такие деньги… Тысяча громов и молний! Матей, быть у нас сегодня большому празднику! Не печалься, парень, а лучше зарежь-ка еще одного барашка. А потом — быстро за вином! Я говорю вам, что это либо Граца, либо Захонь. Забрел-таки сюда, к брезинскому овчару!
Аника с улыбкой покачала головой. Но Олей был просто вне себя от возбуждения.
— И он пришел в хорошее место — здесь он будет как у себя дома! Уж я буду так оберегать его, как мать свое родное дитя. Из рук Тамаша Олея его не вырвет и тысяча жандармов. Что? Ведь у него еще и ружье есть? Ну, тогда где им! Пять тысяч жандармов не схватят его! Но только чур, детки, молчок — ведь и у стен есть уши.
Аника по-прежнему недоверчиво качала головой.
— Говорю вам, отец, это молодой человек, и он наболтал мне тут всякой чепухи с три короба…
— Да что ты понимаешь, глупышка!
— Уж как он меня не называл — и «полевым цветком», в «кумиром своего сердца».
— Узнаю эту шельму Захоня; бывало, стоит ему завидеть девку какую-нибудь…
— Но, отец, Захонь должен быть гораздо старше.
— Какие глупости! Да Захонь так ловко умел пыль в глаза пускать, что в один миг весь преображался, как только пожелает. Сегодня посмотришь — восьмидесятилетний старец, лысый, с длинной седой бородой, а завтра — что твой юнец, первый пушок на подбородке пробивается. Именно поэтому я и узнаю его!
— Но он же сказал, что не знает вас.
— А почему бы ему и не сказать этого? Сказал и забыл. А ты услыхала — поверила.
Но Анике очень уж не верилось, чтобы такой стройный красавец и вдруг оказался стариком Захонем.
— Он сказал еще, что я — фея, и очень хотел меня поцеловать.
Мати невольно сжал кулаки.
— Это правда? — хрипло спросил он.
— Он присел рядом со мною на порожек, вот здесь, в сенях, и уж так молил позволить ему хоть раз, хоть один-единственный раз обнять меня… если, мол, не разрешу, так он с ума сойдет.
— И ты разрешила, да?! — вскрикнул, словно ужаленный, Мати.
— Так ведь он все твердил, что иначе сойдет с ума.
— Вылитый Захонь! — одобрительно воскликнул старик.
— Но уж когда он попробовал поцеловать меня, я влепила ему такую пощечину — и не посмотрела, что рука в земле после огорода, — что на его нежном лице след так и отпечатался.
— Ого-го-го! — рассмеялся овчар. — И он не рассердился на тебя?
— Он подставил мне другую щеку. И сказал, что ему это очень понравилось и он теперь больше не будет умываться, чтобы не смыть следа от пощечины. Потом ласково распростился со мной да попросил приготовить хороший ужин — когда, мол, находится по лесу, то на обратном пути зайдет сюда. Ах, да вот и он сам!
Олей и Мати оглянулись; по склону холма спускался стройный охотник в сером камзоле с зелеными отворотами, в высоких по колено сапогах, с дорогим охотничьим ружьем.
— Добрый вечер, пастух! — произнес он, войдя во двор, и даже не притронулся к шляпе. — Ну как, моя голубка, готов ли ужин?
— Бог в помощь, — хмуро отозвался Олей, разочарованный отчасти тем, что гость оказался не Захонем, отчасти же недовольный таким принижением его титула. Если бы это случилось не у него в доме, то такое нарушение формальностей могло бы наверняка привести к весьма неприятным последствиям — ведь недаром он зовется овчаром: как-никак, а овчар возглавляет пастушью иерархию!.. А потом, для того ведь и шляпа человеку, чтобы было что снять с головы, когда в порядочный дом вступаешь. Но, ничего не поделаешь, пришлось проглотить все это — гость как-никак.
— Ужин готов. Мы только вас и ждали, — проговорила Аника и бросилась в дом.
Овчар подошел к гостю и протянул ему свою большую заскорузлую ладонь.
— Пойдемте в дом.
Комната сияла чистотой и опрятностью: три сундука, разрисованных тюльпанами по углам, несколько скамеек, один стул да стол, покрытый нарядной скатертью, составляли ее меблировку. Стену украшало изображение святого Венделя, небесного покровителя пастухов, рядом с которым в стройном порядке примостились и его земные спутники — кувшины и фляжки для палинки; однако самым главным украшением горницы было дымящееся блюдо на столе, дразнившее ноздри запахом пёркёльта с паприкой.
— Прошу откушать, да не стесняйтесь, будьте как дома, — пригласил гостя к столу овчар и подал ему самую большую деревянную ложку, — На троих нам хватит.
— Но нас-то четверо!
— Девица не в счет, барич. Ей если что останется, — и на том спасибо.
Охотник с жадностью принялся за еду и не переставал нахваливать:
— Я такого еще не едал.
— Верю. Такого пёркёльта, как у брезинского овчара, даже таларскому герцогу не готовят.
Гость улыбнулся.
— Каждый бы день есть такое!
У овчара и на это был приличествующий ответ:
— Хорошо, будем есть то же и завтра.
— Спасибо тебе за приглашение. Приду.
Овчар закусил губу. Однако это уже слишком. Такой молокосос, — небось еще сосунком был, когда его, овчара, сам господин нотариус уже почтительно «хозяином» величал, — и обращается к нему на «ты»!
Эх, не будь юнец у него в гостях!
— А зачем завтра приходить — просто оставайтесь тут, да и дело с концом. Здесь вы у добрых людей. Аника постелит себе ужо в чулане. Да и куда сейчас идти, на ночь глядя, сами подумайте!
— Я велел экипаж сюда подать, к вагону.
— А что, барич не из здешних ли краев? Ежели, конечно, не в обиду вам расспросы.
— Да, я здешний.
— Трудно будет добраться сюда экипажу.
— Пустяки. Было сказано — к вагону Олея. Тебя ведь Олеем зовут, не так ли?
— Да, я — Тамаш Олей, и полное мое имя и звание: Тамаш Олей, старший брезинский овчар, а правильней сказать, хозяин Брезины, — гордо отчеканил вышедший из терпения овчар.
Гость рассмеялся.
— Если ты — хозяин Брезины, то что же, старик, останется тогда мне?
Овчар в обиде бросил на смеющегося юнца гневный взгляд, и невольно с губ его сорвался дерзкий вопрос:
— А как, позвольте узнать, ваше честное имя и звание? Потому как мы, простые смертные, привыкли по имени да по званию величать друг друга.
— Я — герцог Пал Талари.
Из рук Олея выпала ложка, он вскочил испуганно и побледнел. Для него это был не пустой звук! С ним за одним столом сидел молодой герцог, по сравнению с которым и сам король, может, только на волосок повыше. И кто бы мог подумать!..
— Ох, ваша светлость… Ох, господин герцог, ваше сиятельство, — бормотал перепуганный Олей, — да кто ж знал…
— Не беда, старина, — весело проговорил герцог. — Если Брезина и не принадлежит тебе, то есть у тебя сокровище, куда более дорогое — прелестная Аника.
У Мати, сидевшего за столом рядом с герцогом, вся кровь застыла в жилах; даже под страхом смерти он не смог бы сейчас ни пошевельнуться, ни слова вымолвить.
— Девица — не сокровище, ваша светлость; скорее заботы да расходы.
В этот момент вошла Аника и поставила на стол вино. С бесхитростным кокетством она наполнила гостю стакан и сказала:
— Вы с вином-то поосторожней, а то как бы голова не закружилась.
— Она уже из-за тебя закружилась.
— Да ведь она у вас небось и всегда-то легко кружится, — ответила девушка, бросив на герцога невинный взгляд, отчего у героя роскошных покоев жарко забилось сердце.
— Ах ты, глупая! — рявкнул на Анику отец. — Да как ты смеешь? Вот несчастье!..
— Ну вот еще, — быстро возразила Аника. — Он ведь не сахарный и не вице-губернатор какой-нибудь. Мы еще днем с ним познакомились. А если осерчает, пусть идет себе несолоно хлебавши.
Герцог никогда еще не испытывал подобного восхищения, как сейчас, когда с этих пухлых розовых губок слетали непочтительные слова. Очарование ее речи запало ему в сердце. Он с радостью слушал бы ее целую вечность.
— Цыц, ты, девчонка! Знай, дерзкая, с кем разговариваешь: перед тобой наш господин и повелитель, его светлость герцог Талари!
Аника рассмеялась. Смех у нее был чистый и звонкий, как звуки волшебного колокольчика.
— Ай-яй-яй! Вы, вижу, хотите меня одурачить. Тетеря поверит! Молодому герцогу Брезина ни к чему. Он и в Талар-то никогда не заглядывает, а живет в городе Вене, во дворце из чистого золота; сотня охотников стреляет ему дичь на ужин — с чего бы ему тут бегать за зайцем по Брезине! И больно нужен ему пёркёльт у старого Олея. Он ужинает сливками с розмариновыми булочками. А потом разве герцог такой же человек, как и все? Будто я и не знаю! Он не для того герцог, чтобы на людей похожим быть.
— Простите, ваша светлость, глупышке! Она ребенок еще.
А его светлость уже не только простил ее, но принялся состязаться с Аникой в смехе, — девушка же, решив, что он смеется над ней, вдруг надулась, рассердилась (все это было ей очень к лицу) и, круто повернувшись, вышла, пробормотав что-то вроде: «Я вам не дурочка далась, чтобы надо мною потешаться».
Однако, когда она уже вышла из комнаты, ее охватило беспокойство: а что, как он в самом деле герцог? Взял да и приехал из Вены. Аника ведь и сама слышала от ночного сторожа Иштока Лапая, что раньше их господином был старый герцог, а теперь, после его смерти, все его бесчисленные угодья достались молодому баричу… Так что все возможно! Господи, какая жалость, если их гость — герцог! А ведь каким видным крестьянским парнем мог бы он быть!
Вконец опечалившись, девушка быстро поднялась по лестнице на чердак загона, чтобы оттуда окинуть взглядом тонущие в вечернем сумраке окрестности.
И вдруг сердце ее словно пронзило стрелой. Да, это на самом деле герцог: над Таларским замком, жестяная крыша которого поблескивает так, что и отсюда видно, плещется флаг. А от Лапая она слышала, что так оповещают округу о прибытии герцога. …Боже милосердный, она ударила по лицу его светлость! Сопротивлялась ему, поддразнивала его, смеялась над ним. О, господи, не сносить ей теперь головы…
В плошке с расплавленным свинцом, когда гадали они вместе в ночь на святого Андраша…
Грустные вопросы, как правило, рождают и грустные ответы.
Вечером, когда он вместе с овчаром вернулся домой, их опять ожидала новость: герцог снова был там.
И на другой и на третий день молодой барич продолжал охотиться в здешних местах и каждый раз заглядывал к Анике выпить стакан молока. Как видно, он очень любил дичь и молоко…
На третий день, услышав, что герцог наведывался вновь, старый Олей нахмурил брови и сказал подпаску:
— Завтра ты один последишь за стадом. Что-то барич зачастил сюда охотиться. Я хочу переговорить с ним.
Аника вздрогнула и за весь вечер не проронила ни слова.
На следующий день Олей остался дома. Пожалуй, за двадцать лет ни разу не было такого случая. Тысячеголовая отара, наверное, недоумевала, куда запропастился их земной «ангел-хранитель» вместе со славным атрибутом своей власти — посохом со свинцовым наконечником — и привычными для овечьего слуха окриками: «А ну, ты!» и «Эй, пошла прочь!» Не по вкусу придется им сегодня даже соль, да и трава покажется скверной! По крайней мере, так представляется это Олею, которому тоже до смерти скучно без своего стада. Анику он сразу же после полудня отослал с весточкой к Иштоку Лапаю, откуда она вернется только поздним вечером, а сам набил трубку тем злосчастным растением, из-за которого и короли и народы то и дело готовы сцепиться друг с другом и которое пастух старается умножить тем же способом, что и шерсть от весенней стрижки: он держит его в сыром месте, где, пропитавшись влагой, оно разбухает вдвое. Олей закурил трубку, растянулся на пестрой от цветов лужайке во дворе и стал разглядывать загон, его красивую красную крышу, ярко-белые стены, выступающие вперед массивные балки… Долго смотрел он на загон и все не мог налюбоваться… Ах ты, боже мой, и до чего же, наверное, толковый был каменщик, что его построил!
Так лежал он и лежал и вдруг заметил тень, двигавшуюся по стене; он обернулся и увидел герцога Пала. Его-то как раз и поджидал Олей.
Герцог направился прямо к двери, ведущей в сени, подергал за веревочку, но, видя, что запор не открывается, недовольный, подошел к окошку и постучал.
С тяжелым сердцем спускалась Аника вниз по лестнице, не зная, куда спрятаться от стыда и, надо признаться, страха перед герцогом, как вдруг перед домом вырос роскошный экипаж. Когда же Аника спустилась на последнюю перекладину, во дворе появился и сам герцог Пал. О, только бы он не увидел ее!
Но герцог, разумеется, ее заметил и — наяву ли это, во сне ли — подскочил к лестнице и, озорно подхватив девушку, легко, как пушинку, снял ее с последней ступеньки и поставил на землю. Аника, казалось, ничего не чувствовала, ничего не понимала, ее сковало какое-то чарующее забытье, мучительный и вместе с тем сладкий полусон.
— Ну, теперь-то ты веришь, что я — герцог?
Сказав это, статный юноша, смеясь, прыгнул в экипаж, помахал на прощанье рукой старому Олею, а Анике шепнул на ухо нежным, вкрадчивым голосом:
— Но пусть для тебя я никогда не буду герцогом, Аника. А ты для меня всегда будешь герцогиней… всегда…
Экипаж умчался, но прощальные слова продолжали звучать в ее ушах. Волшебные слова! Они сотканы из жаркого пламени, длинные языки которого вонзаются прямо в сердце и жгут его, заставляя бешено биться, будто желая его гибели. Сейчас ее сердце — словно стронутый с места колокол: он неумолчно гудит, вызванивая чудесные слова, а затем весь вечер повторяя их снова и снова… Ночью их кричит ночная мгла; утром они звучат в шепоте листвы дерев, и молчаливые горы разносят их эхо; испарения, поднимающиеся с земли, выдыхают их травам; даже кипящая пастушья похлебка весело бурлит на шипящем тагане, повторяя:
«А ты для меня всегда будешь герцогиней… всегда…»
И Анике так приятно вслушиваться в то, о чем твердит ей все вокруг.
Целый день она рассеянна и молчалива. Песни Брезины умолкли. Ныне ни Олей, ни Мати не слышат голоса Аники; умолкла также и свирель Мати. Более совершенная поэзия царит здесь теперь! Прочь, кустарник, на твое место пришел лес!..
И зачем только на свете существуют герцоги, думала девушка. Ведь как прекрасно, что голубь не может сказать своей избраннице: «Я — особая птица, у меня ярче оперение, и мне нельзя любить тебя». Как прекрасно, что все голуби — одинаковы!
А Мати думал: так вот почему превратилась в ружье та свирель, которую Аника увидала на плече своего нареченного.
— Открой дверь, Аника! Ты, наверное, заснула, фея моя прекрасная, овечка моя маленькая…
Но герцог, разумеется, стучал напрасно — «овечка» не впустила его; вместо этого он услышал грубый голос Олея:
— Дверь заперта, ваша светлость. Я дома сегодня, если вашей светлости что-либо приказать угодно.
— Гм-м! Это ты тут, старый Олей? Но где же Аника? Олей резко передвинул свой расшитый пояс, потом большими загорелыми руками погладил лоб и, наконец, ответил;
— Девушка не состоит на службе поместья. К услугам вашей светлости здесь я и подпасок. А девушкой распоряжаюсь только я.
Пал Талари удивленно взглянул на Олея.
— Что ты хочешь этим сказать?
Овчар совсем близко подошел к герцогу и потряс в воздухе кулаками. Рубаха на нем расстегнулась, обнажив его могучие мускулы; прокуренный голос загремел, предвещая бурю:
— А то я хочу сказать, что ежели баричу и впредь будет угодно охотиться здесь, возле загона, то может случиться, что вам, вместо птицы, медведь встретится — даром что вы ружье свое только мелкой дробью заряжаете.
И, будто в пояснение своих слов, он несколько раз ударил себя кулаком в грудь, как бы говоря: «И этим медведем буду я».
Могущественный вельможа — по которому в семидесяти деревнях зазвонят в колокола, когда он умрет, и перед кем в девяти комитатах снимают шляпы, пока он жив, — стал пунцовым, как мак; он стоял и не знал, что ему делать, что ответить. Герцог чувствовал на себе тяжелый взгляд налитых кровью глаз брезинского овчара, и от этого взгляда у него началась дрожь в ногах. Ружье, которое он снял с плеча, чтобы в случае чего направить его на Олея, тоже дрожало в руках.
— Ты позабыл, с кем разговариваешь? — пробормотал он.
— Я знаю, с кем говорю, — со своим господином. Но и ваша светлость пусть не забывает, с кем говорит.
— С кем же это?
Олей высоко вскинул голову, он держался гордо, как истинный герой.
— С отцом этой девушки.
Талари облегченно кивнул. Ему пришла в голову хорошая мысль.
— Ладно, овчар, я буду говорить с тобой, как и полагается с отцом. Мне любой ценой нужна твоя дочь.
— А я не отдам ее ни за какую цену.
— Послушай, овчар. Что бы ты сказал, если бы этот загон вместе со всеми его овцами стал твоим, если бы я подарил его тебе?
Большего пообещать овчару невозможно. Все волшебные сказки тысячи и одной ночи меркнут и блекнут на фоне этой ослепительной действительности! Брезинский загон с красной крышей, девять вожаков-баранов, сто тонкорунных овец и все остальные овцы — все это принадлежало бы ему. Как мало осталось бы тогда прочим людям, также живущим на свете!
Старик заколебался, подобно весам, на одну чашу которых бросили такой тяжелый груз, что она сразу опустилась, хотя минуту спустя, возможно, не она перевесит.
Герцог был в восторге, заметив эти обнадеживающие колебания.
— Вот тогда ты и в самом деле стал бы властелином Брезины.
Овчар сосредоточенно смотрел прямо перед собой. Картины блестящего будущего проносились перед его мысленным взором. Его кожаный пояс украсит золотая пряжка; он каждый божий день станет надевать шелковую рубаху; а когда будет выходить со своим стадом на выпас, слуга понесет за ним флягу, наполненную медовой палинкой, и у слуги этого только и будет дела, что приговаривать: «На доброе здоровьице!» — всякий раз, когда он приложится к фляге; все смертные будут снимать перед ним шапку, все станут ему завидовать: «Смотрите, вон идет брезинский овчар, у него такие несметные богатства, столько сокровищ, что и прусскому королю не стыдно было бы иметь их в своих ларцах».
Олей содрогнулся всем телом.
Но люди и про то узнают, кто дал ему эти несметные сокровища, и за что дал, узнают! Чего стоят все суетные почести, если следом за ним будет ползти большая черная тень? И эта большая черная тень — нечистая совесть.
— Ну, Олей, решай!
— Нет, нет, ваша светлость, оставьте меня в покое, прошу вас. Оставьте, оставьте! Я честно служил вашему батюшке, не позорьте вы мою седую голову.
— Постой, постой, не спеши! Не всегда ты найдешь меня в таком расточительном настроении. На тысячу людей, может, один такой и найдется, кто отверг бы подобное предложение! Я люблю Анику и увезу ее в Вену, ей будет там хорошо, она заживет как графиня. Меня она тоже любит и охотно поедет со мной. Так чего тебе раздумывать, старый Олей? По рукам!
На лице у старого овчара заблестели крупные капли пота; тихим, дрожащим голосом он проговорил:
— Никогда!.. Никогда!..
— Ты глупец, ты просто лишился рассудка. Пойми же, чего я желаю. Только одного: чтобы ты закрыл на все глаза, не скалил зубы и не трезвонил по всему свету. За это я отдаю тебе загон вместе с овцами. Ничто не замарает тогда Анику. Если, например, я похищу ее, так ведь это случится без твоего ведома — ты тут ни при чем. Это будет всего лишь поворот колеса судьбы, остановить которое тебе не под силу.
Олей отвернулся.
— Зачем же вы тогда сказали мне, — проговорил он глухим, хриплым голосом, — могли бы и без этого…
— Хорошо, я так, «без этого», и сделаю, — ответил герцог и, круто повернувшись, бросил: — Бог тебе в помощь!
И он, насвистывая, удалился быстрым шагом.
Олей прислонился к стене. Силы покинули его. Он хотел что-то крикнуть вдогонку уходящему, но только беззвучно пошевелил губами — голос не повиновался ему; дико вращая глазами, овчар следил за герцогом, и в этом не поддающемся описанию взгляде выражались испуг и отвращение…
Припадая к стене и цепляясь за нее, он добрел до комнаты.
Голова у него шла кругом, мучительные мысли громоздились в мозгу; они, словно скалы, скатывающиеся с кручи, медленно наползали на сердце, давили и сжимали его.
— Ой, колет! — хрипло закричал он.
И горы ответили ему эхом: «Ой, ко-лет».
Но Олей хорошо знал, что это — неправда. Человек склонен обманывать себя.
Войдя в комнату, он лег в постель, заставив себя поверить в то, что его мучают колики. Сначала он стонал и ревел, как раненый зверь, потом, спрятав в подушку лицо, ставшее похожим на лик мертвеца, нашел иной способ облегчить свои муки: затянул песню.
Может быть, мысли, заимствованные из песни, вытеснят его собственные черные думы?
Он долго так мучился, пока его обострившийся слух не уловил приближающиеся легкие шаги Аники.
— Она пришла и сейчас увидит меня! — вскричал старик и вскочил, словно одержимый. Против кровати на стене висело зеркало; оно отразило его искаженное страданиями лицо. Олей остановился перед ним и вперил застывший взгляд в свое изображение, потом вдруг издал вопль, поднял кулаки и, ринувшись на зеркало, с такой страшной силой ударил по нему, что оно разлетелось на тысячу осколков.
Когда вошла Аника с весточкой от Лапая, старик в беспамятстве лежал на полу; руки его были в крови, а глаза закатились.
Анике некогда было раздумывать, что же произошло с отцом; она быстро обрызгала ему лицо водой и снова уложила в постель. Всю ночь он бредил, сражался с какими-то фантастическими чудовищами, змеями и драконами, терзавшими его сердце и старавшимися вырвать у него печень.
К утру ему стало лучше; вместе с Мати он выгнал стадо, но не разбудил Анику, как обычно, чтобы она приготовила завтрак: они отправились на голодный желудок.
Было чудесное летнее утро. Природа одаряла все и вся светлой своей улыбкой. Росная трава щедро предлагала себя овцам, и те, вняв призыву, весело жевали ее; птицы тоже радостно щебетали». Словом, было именно такое приветливое утро, какое любят воспевать поэты, хотя их описания все же неизменно уступают действительности, ибо природа — неповторима: никакая фантазия не может ни приукрасить ее, ни преувеличить ее красоту — она может лишь изуродовать ее.
Все дышало весельем, только Олей был мрачен и Мати печален.
Весь день овчар не мог найти себе места. Лежать — не лежалось, следить за стадом или плести корзину — тоже надоело, ходить взад-вперед — утомительно, думать… о, думать было мучительней всего!
И все-таки убежать от дум было невозможно; они нападали на него и преследовали повсюду, гнались за ним, чем бы он ни занимался.
Мысли не имеют совести, им не скажешь: «Убирайтесь прочь отсюда!»
Что будет с Аникой? Он хотел продать свое детище, он, Тамаш Олей, брезинский овчар! Он торговался: ему предлагали сокровища, богатство за его плоть и кровь. Никогда, никогда!
И тот голос, который все эти шестнадцать лет блуждает среди леса, сегодня уже в третий раз с упреком окликнул его: «Тамаш! Тамаш!»
Ужасно! Когда звон бубенцов девяти вожаков сливается воедино, то кажется, и он звучит, как присловье: «Продал честь — купил загон».
— Эй, подпасок, сними-ка эти бубенцы!
Мати повинуется, но он и подумать не смеет, что овчар не в своем уме.
— Эй, подпасок, слышь-ка, оставь ты эти бубенцы — я про другое думал. Надевай свой сюр… Который может быть час?
— Да уж за полдень.
— Пойдешь сейчас в Талар.
— Слушаю, хозяин.
— Придешь в герцогский замок и скажешь, что тебя послал брезинский овчар и что тебе нужно поговорить с самим герцогом.
Мати слушал, затаив дыхание.
— Тебя впустят; проведут к герцогу, и ты скажешь ему вот что, слово в слово: «Ваша светлость, брезинский овчар велел передать вам, что из того самого дела никогда ничего не получится. Откажитесь от него, ваша светлость». Понял ли ты? Ну, быстро!
Мати хотел бы еще лучше понять, что это за «то самое дело», но гордая натура овчара не терпела ни вмешательства в его дела, ни даже расспросов. Инстинктивно Мати чувствовал, что эта весть не будет для его светлости приятной, — поэтому он и торопился сообщить ее герцогу.
Часам к пяти вечера он уже обернулся: побывал в Таларе и, усталый, запыхавшийся, но весело насвистывая, возвратился назад. Откуда у него, черт возьми, такое хорошее настроение?
— Ну, что передал герцог? — спросил овчар глухим голосом.
— А ничего, хозяин, даже и того меньше.
— Так, может, ты и не разговаривал с ним? — с тяжелым сердцем расспрашивал его Олей.
— Ага, не разговаривал, — невозмутимо отвечал подпасок.
— А что я тебе приказал?! — заорал разъяренный овчар.
— Приказывали вы мне или нет… а только герцог сегодня в полдень укатил в Вену. Не побегу же я туда за ним, — проговорил Мати с некоторым даже вызовом в голосе, будучи твердо уверенным в том, что принес хорошую весть.
Овчар ничего не ответил, только глаза у него, казалось, чуть не выскочили из орбит, а лицо стало серым.
Накинув на плечи сюр, он как безумный бегом бросился к загону.
Его предчувствие оправдалось.
Перед домом виднелись свежие следы колес. Комната была пуста.
Будничный наряд Аники валялся на столе: белый платок в горошек, замасленный фартук, зеленая легкая юбочка и поношенная желтая кацавейка, расшитая золотым шнуром. Значит, надела свое праздничное платье. На кацавейке лежала какая-то бумага. То была дарственная грамота на загон и стадо, скрепленная печатью герцога Таларского с его гербом: львом, держащим в зубах меч.
Все увиденное будто острым ножом поразило овчара в самое сердце. Он все разгадал, все понял. Нечистая совесть — хороший подсказчик! Герцог сделал так, как овчар сам его надоумил, — поступил по-своему, и притом с молниеносной быстротой.
Старик потер рукой лоб, растерянно огляделся и в отчаянии начал кричать:
— Аника! Аника!
А ведь знал, что ответа ждать ему неоткуда. Аника сейчас уже далеко. Поезд уносит ее в город Вену!
Накричавшись до хрипоты, Олей вдруг затих; с его бледного лица исчезли печаль и отчаяние, оно помрачнело, стало жестким. Старик вышел за дверь, сел на порожек и, набив трубку, с таким равнодушием стал посасывать ее, выпуская кольца дыма, словно он размышлял всего лишь о том, какая будет завтра погода.
Но вот он порывисто встал и гневно погрозил небу пальцем.
— Слышишь ли ты, боже?! Я еще покажу тебе сегодня кое-что!
Потом снова сел и продолжал курить свою трубку так, будто у него и дела другого не было.
И только тогда снова поднялся, когда стадо под присмотром Мати оказалось во дворе.
— Хорошо, что ты пришел, сынок Мати, — проговорил овчар ласково, как никогда. — На столе в доме лежит срочная бумага, которую ты тотчас же отнесешь господину управляющему в Талар; пусть он отошлет ее вдогонку за господином герцогом. Только отправлял чтоб не сегодня, а подождал до завтра. Завтра у него найдется, что добавить к этому.
— Я сейчас же возьму ее, хозяин.
— Не трудись, я тебе вынесу.
— Позвольте мне попросить у Аники перекусить чего-нибудь горячего.
— Не тревожь ее. Вот тебе деньги: по дороге ты сможешь и поесть и выпить.
Мати покачал головой. Что там могло случиться в доме, что старик даже не впускает его? Наверняка из-за Аники. Может, она спит? Или плачет? А как бы хотелось Мати взглянуть на нее, хоть минутку полюбоваться ею. Ведь он видит ее каждый день, она всегда у него перед глазами, а он даже не разглядел ее толком. Да, странная штука любовь!
Ну да ладно, сегодня уж пусть покручинится из-за того, что герцог уехал, все равно завтра-послезавтра ее любовь снова вернется к нему. И опять на плече избранника, загаданного на расплавленном свинце, появится свирель…
Мати в хорошем настроении отправился в путь с оставленной герцогом бумагой. Олей, скрестив на груди руки, глядел ему вслед, пока тот не скрылся совсем из глаз, и только тогда повернулся и вошел в загон.
Он обошел всех своих любимых овец, останавливаясь то возле одной, то возле другой и бормоча им какие-то непонятные слова. Но вот и это невнятное бормотанье заглушилось прорвавшимися рыданиями.
Брезинский овчар плакал, как ребенок.
Низко надвинув шляпу на глаза, ничего больше не желая видеть, он вышел из загона. Выйдя наружу, дважды повернул ключ в замке, как делал всякий раз, оставляя овец на ночь, но потом поступил так, как не поступал никогда: подошел к колодцу и, вздохнув глубоко, швырнул в него ключ.
Только теперь он приступил к делу, хотя уже начинало смеркаться. Во дворе стоял большой стог сухого камыша. С нечеловеческой быстротой он разметал этот стог и опоясал загон широким слоем сушняка.
Проделав все это, Олей надел свой праздничный сюр и поджег сухой камыш в пяти-шести местах; потом поднялся на лестницу с большим горячим снопом в руках и бросил его на чердак, где был заготовлен корм на зиму.
Ветер жадно подхватил весело взметнувшиеся языки пламени и в несколько мгновений превратил их в один гигантский костер.
А знаменитый брезинский овчар напролом через кустарник бежал куда глаза глядят и ни разу не оглянулся… Да и зачем? Он и так знал, что происходит. Он бежал по лесу, и было в лесу светло, как солнечным днем. Но он бежал все дальше и дальше, туда, куда из-за густой чащобы деревьев уже не проникал свет пожара; и вдруг какие-то сказочные, вроде гусениц, существа стали садиться ему на лицо, они щипались и вызывали зуд… Одно он поймал на бегу, схватил в руку и посмотрел — что это такое?! Но то были не гусеницы, а черные хлопья сажи, которые ветер занес сюда с горящего брезинского загона…
А брезинский овчар все бежал и бежал. Бог знает, где-то он остановится…
Когда Мати на рассвете вернулся домой, он не нашел брезинского загона — только большое черное пятно дымилось на его месте.
Обрушившиеся балки и стены, почерневшие кости…
Кому принадлежала эта кость, человеку или овце?
Сердце у подпаска сжалось, подавленное этой великой, страшной загадкой.
Он стал звать по имени Анику и овчара.
Никто не ответил ему.
«Боже мой, где же они могут быть?»
Огненные искорки, которые то тут, то там мерцали под пеплом, разумеется, не могли дать на это ответа…
* * *
С тех пор тишина царит в Брезинской долине; ее тучные сочные травы не топчет ни человек, ни зверь; один за другим проходят годы; дикая груша приносит плоды, потом они опадают; трава вырастает и высыхает снова, и только большое черное четырехугольное пятно никогда не покрывается муравой. Кто знает, почему оно так? И только грустная песенка бросает на это некоторый свет.
Был когда-то загон в Брезине, Где сейчас пятно лишь чернеет…1877
СТАРЫЙ ДАНКО
Перевод И. Салимона
Приветствую вас, старые простые стены, где я впервые ощутил на своих ладонях удар линейки!
Вы дороги мне тем, что здесь, среди вас, всегда витал дух свободы.
Вот я вспоминаю вас… Вижу мрачную, внушающую почтение старинную крышу, идущие вверх истертые ступеньки, а в левом углу двора — треногу с колокольчиком. О милый колокольчик, ты отбивал часы, отсчитывая наше самое лучшее время! В моей памяти один за другим воскресают знакомые классы, с их черными досками, где столько раз стояло мое имя в числе «озорников», простые парты, среди которых я тотчас нашел бы свое прежнее место, хотя бы по одной-единственной примете — по вырезанным на верхней доске буквам «М. В.», инициалам моей юной любви.
Пожалуй, мне удалось бы даже показать по порядку, где сидели мои приятели. Там, слева, рядом со мной сидел Пали Намути… да, да, теперь припоминаю уже совершенно ясно, что сзади меня занимал место юный поклонник панславизма Милослав Валлах. Это был малый упрямого нрава, но здешние учителя постарались вытравить упрямство из его души. Ныне он где-то в Трансильвании, уважаемый адвокат. Недавно я виделся с ним в Будапеште, куда он приезжал во главе какой-то делегации по делам культурного общества трансильванских венгров.
Но если в душе Милослава Валлаха вытравили все пороки, то и нашим не дали произрасти. Как кстати, между прочим, упомянул я имя Пали Камути. С ним произошел такой случай: когда пришел конец австрийской тирании *, он, как истый венгерец, заявил учителю, господину Серемлеи, что теперь, мол, гусь свинье не товарищ и он, Камути, выбросит немецкий язык из числа наук, подлежащих изучению.
— Ну что ж, прекрасно, друг мой! — улыбаясь, ответил учитель. — Разрешаю тебе не заниматься больше немецким языком.
— Покорно благодарю…
— Не спеши с благодарностью, дружок. Зато тебе придется в нынешнем учебном году выполнить гораздо более трудную задачу.
— С удовольствием, какую угодно…
— До летних каникул ты должен выгнать из страны всех австрияков, тогда, пожалуй, как-нибудь можно будет обойтись и без немецкого языка.
Пали Камути ничего не оставалось, как без всякого сопротивления сложить оружие. Считаю излишним давать по этому поводу объяснения моим любезным читателям. Они и поныне собственными глазами могут видеть немцев в Венгрии.
Не менее интересный случай произошел и со мной. Я всегда питал особое отвращение к математике и довольно пренебрежительно отзывался об этом предмете.
— Видишь ли, мой друг; — сказал мне однажды один из моих учителей, почтенный Иштван Бакшаи, — по сравнению с математикой все в этом бренном мире ерунда и все относительно. Но математика пригодится тебе и на том свете. Еще неизвестно, знают ли что-нибудь жители неба об истории, о Хуняди *, о Тамерлане, не вполне достоверно и то, что они говорят там по-французски или, скажем, по-итальянски. Однако я твердо убежден, что и на небе дважды два — четыре.
Услыхав такие доводы, я, разумеется, покорился своей судьбе, и лишь простая случайность, любезный читатель, что эти несколько лежащих сейчас перед тобой листков не являются какой-нибудь диссертацией о логарифмах, а представляют всего лишь скромное описание старого доброго времени.
Что это были за времена и как они быстро пролетели!.. Как сейчас, слышу взмахи их дивных крыльев. Ведь все происходило как будто только вчера, совсем недавно… И когда я извлекаю из памяти одно за другим разноцветные перья, сохранившиеся в ней от пестрых крыльев времени, я с изумлением замечаю, что они, эти перья, из золота… из чистого золота!
Я связываю их в букет…
Начну же с самого яркого воспоминания — с графа Мора Палфи *.
Кто был граф Мор Палфи, известно всякому порядочному человеку, который пребывал на этом свете между 1863 и 1864 годами. Ибо если даже о нем никто не знает ничего хорошего, то, по крайней мере, все прекрасно запомнили, за что его следует ненавидеть.
Знаменитая личность! В те времена он был нашим «земным божеством».
Это «земное божество» было высоким сухощавым человеком с аристократическим лицом и неимоверно длинными руками и ногами.
Обладателю этих длинных рук и ног в те времена уже ничего иного не оставалось, как душить просвещение в Венгрии. Его высокопревосходительство по очереди объезжал города, посещая гимназии, дабы подготовить и будущее поколение для прославленного режима Габсбургов. Крупный дипломат обязан быть дальновидным. Он должен заранее оседлать будущее, — авось перехитрит и его.
Приезд высокопоставленного вельможи поверг жителей нашего маленького городка в лихорадочное волнение. С необыкновенным рвением поспешно ремонтировалась мостовая, комитатскую управу заново побелили. Бургомистр готовился произнести торжественную речь. Во всем городе с грехом пополам подобрали для встречи графа двенадцать девочек в белых платьицах, а единственную пожарную кишку очистили от вековой грязи. Все порядочные чиновники выкупили из ломбарда черные сюртуки, а кое-кто заказал новые по случаю такого большого события — приезда «земного божества», задумавшего разнюхать, каков здесь местный дух, и в случае нужды подрезать кое-кому крылья.
Наш добрый учитель сообщил нам о счастье, «выпавшем на долю нашего заведения», с явно кислой миной. Затем приказал всем одеться по-праздничному и многозначительно добавил, что, в случае если гость станет задавать нам вопросы, мы «должны быть умными».
Накануне достопамятного дня под грохот пушек генерал прибыл в город и остановился в комитатской управе.
А назавтра, поскольку визит генерала к нам был назначен на десять часов утра, мы собрались в своих классах ровно к девяти, одетые и причесанные подобающим образом, так что даже дядюшка Данко не нашел, к чему придраться.
Уж кто-кто, а дядюшка Данко хорошо знал, что к чему! Ведь он служил когда-то в гусарах, — да еще и гусар-то, как говорят, был весьма бравый, пока наконец судьба и старость не заставили его снизойти до «поприща науки».
Старик, видите ли, служил в «институте», как он обычно называл нашу гимназию, чем-то вроде надзирателя.
Это был честный, преданный человек. Он знал всех нас по имени и пользовался всеобщей любовью учеников, ибо, в отличие от прочих заведений, у нас не существовало системы доносов, и потому дядюшка Данко не порождал в нас ненависти к себе.
Старик никогда не обидел и мухи. В его обязанности входило жить в каморке возле ворот, следить, чтобы не воровали школьных дров, а классы были как следует убраны, да во время уроков всегда находиться поблизости, на случай если кто-нибудь из учителей забудет дома школьный журнал или свои записки и надо сходить за ними.
Нам, детям, этот тихий старик казался вредным или полезным в зависимости от того, раньше или позже давал он звонок с урока. Уж это-то всецело было в его власти. И отнюдь нельзя назвать эту власть пустяковой, особенно для тех, кто, будучи вызван отвечать за минуту до звонка, получал такой «кол», которого не удавалось исправить и за полгода.
Эх, если бы дядюшка Данко позвонил на одну хоть минутку раньше!
По сути дела, дядюшка Данко отлично сознавал силу того влияния, какое роковым образом оказывал на успехи учеников. Он даже любил похвастать этим влиянием, но все же охотнее предавался более высоким духовным наслаждениям: дядюшка Данко обожал рассуждать о политике.
Разрешение важных европейских проблем составляло предмет его постоянных размышлений, невыносимые налоги все больше сгибали его дряхлую спину, хоть сам он не платил ни единого филлера; * разглагольствования о свержении королей доставляли ему истинное наслаждение. Ведь, что ни говорите, для того, кто, как дядюшка Данко, хоть раз познал счастье быть хозяином в своей стране, дела какой-то захудалой гимназии — сущие пустяки.
Но предстоящее посещение графа все-таки вывело старика из равновесия. Генерал — это тебе не фунт изюму! Дядюшка Данко оделся в свое парадное платье и встал в воротах, чтобы первым оповестить собравшихся в верхней аудитории господ учителей, что высокие гости уже вышли из комитатской управы.
На старике был добротный черный сюртук, знакомый нам, ученикам, еще с прошлого года, когда его носил сам господин директор. Такого же цвета брюки дополняли костюм. Если бы не лихо закрученные усы, дядюшку Данко нельзя было б отличить по внешности от почтенных господ учителей.
Но «земное божество» все не показывалось. «Часовому» надоело долгое стоянье на одном месте. Он уже дважды заглядывал в класс, приговаривая;
— Еще не едет, хоть и назначил на десять. Видно, немчура и в шутку не говорит правды.
Изнывающие от нетерпения господа учители по очереди спускались вниз, во двор, и с раздражением спрашивали у дядюшки Данко, не едет ли его высокопревосходительство, будто и в самом деле во всем был виноват старик, ноги которого — что и говорить, старость не радость — и без того устали стоять на посту.
Пробило одиннадцать часов, потом двенадцать, а граф все не появлялся. Теперь уж забеспокоились у себя дома учительские жены. Они начали донимать мужей нежными посланиями, сетуя прежде всего на то, что супу, мол, грозит невероятная опасность, он может перевариться, остыть и т. д.
Право же, подобным доводам желудок порядочного кальвиниста долго противостоять не может. Это уж действительно чересчур, даже сверх всяких человеческих сил. Наш классный наставник, живший ближе всех к гимназии, не долго думая, пригласил остальных коллег к себе «наскоро перекусить». По его уверениям, беды от этого произойти не может, ведь в воротах останется старый Данко. Он-то не пропустит появления гостей и, когда они придут с «высоким визитом», прибежит об этом сообщить.
Нет на свете ничего легче, чем уговорить голодного покушать. Приглашение было принято.
Лишь на лице директора появилось выражение легкого беспокойства.
— Гляди в оба, старик! — предупредил он Данко. — Сейчас честь гимназии в твоих руках.
— Будьте покойны! — ответил старый надзиратель, покручивая ус и горделиво вскидывая густые брови. — Так точно, в моих руках… так точно… именно…
С этими словами, как некогда в годы военной службы, Данко выпятил грудь и стал на страже, выпуская вправо и влево клубы дыма из прокуренной до черноты пенковой трубки, которую якобы получил в подарок ко дню своих именин от самого его величества императора за то, что был «лихой наездник».
Пока дядюшка Данко не сводил глаз с комитатской управы, откуда все еще никто не показывался, душа его наполнилась воспоминаниями о прошлом, о его былой громкой славе.
Старик предавался этим воспоминаниям, а тем временем через заднюю калитку незаметно вошли высокопоставленные гости: граф Палфи в сопровождении вице-губернатора и бургомистра. Так как их никто не встретил, они открыли первую попавшуюся дверь и очутились в нашем классе.
Как раз в этот момент перед кафедрой происходила ужасная драка между второй и третьей партой из-за пресловутого «восточного вопроса» *. В классе стоял невероятный шум и гам. Порой раздавались звонкие пощечины и глухие звуки подзатыльников. Этот галдеж был, наверно, слышен даже на соседних улицах.
В самый разгар боя и появились высокие гости. Спасти положение уже было нельзя: его высокопревосходительство увидел все собственными глазами. Нам оставалось лишь не слишком грациозными прыжками водвориться на свои места.
Наступило гробовое молчание.
Его высокопревосходительство, в щегольской форме генерал-лейтенанта, молча приблизился к пустой кафедре и повернули нам свое строгое холодное лицо.
Несколько минут длилась гнетущая тишина. Лица вице-губернатора и бургомистра выражали неописуемое смущение: они не знали, чем объяснить отсутствие учителей, и не осмеливались произнести ни слова.
Между тем и стоявший на улице дядюшка Данко заподозрил что-то неладное.
Его поразила тишина, внезапно наступившая на первом этаже, где находился один только наш класс. Явление было неслыханное, и старик взволновался. За восемь лет его службы еще ни разу не случалось, чтобы сорок учеников в отсутствие учителя вели себя до такой степени тихо. Невероятно! Не могла же кондрашка хватить всех сорок учеников сразу?
Старик пребольно потянул себя за ухо. Он решил, что, верно, оглох. По-иному и быть не могло! Не иначе как грохот множества никудышных французских орудий через тридцать лет, именно в эту важную минуту, добрался до самого дальнего уголка его уха, где обитает слух, и убил его. Так уж устроен мир; простой солдат глохнет от грохота орудий тут же, на поле брани, а с гусаром этот вражий грохот борется целых тридцать лет!
Почесывая затылок, дядюшка Данко доплелся до дверей нашего класса и, чтоб вполне удостовериться, заглянул в них.
Но то, что он там увидел, не только лишило его слуха, но повергло в настоящий ужас.
— Вы учитель? — спросил генерал у вошедшего старика. Бедный дядюшка Данко ни за какие сокровища на свете не смог бы вымолвить ни единого разумного слова. Он лишь шмыгнул носом и продолжал стоять навытяжку, как вкопанный.
— Кто из вас хочет быть солдатом? — оборачиваясь к нам, спросил генерал-лейтенант.
В ответ не раздалось ни звука.
Тогда его высокопревосходительство запустил руку в карман брюк, где, как нам показалось, зазвенело золото, и снова обратился к нам:
— Те, кто желает стать солдатом, выйдите вперед.
Мы хитро и многозначительно переглянулись. Насколько мне было известно, никто из нас не имел ни малейшего желания служить в армии. Но, услыхав такие слова, мы все, как один, зашевелились и в мгновенье ока очутились возле кафедры, решив, что его высокопревосходительство собирается раздавать деньги.
Только Пали Камути остался сидеть на последней парте.
Высокопоставленный барин с улыбкой взглянул на нас и сказал:
— Вы славные, хорошо воспитанные молодые люди. Я вами доволен. Можете садиться.
И, кажется, бросил строгий, порицающий взгляд на Пали Камути.
Затем, приблизившись к дядюшке Данко, похлопал его по плечу.
— Вы воспитали их в должном духе… Отменно… Отменно.
Бедный старик! Он ничего не мог ответить на эту похвалу и только от страха стучал зубами. Лицо дядюшки Данко покрылось смертельной бледностью, волосы встали дыбом, увы — чего не случалось еще от сотворения мира — повисли.
Какое счастье, что генерал не заметил всего этого! Он привык к перепуганным физиономиям и не находил в этом ничего удивительного.
Потом его высокопревосходительство по-военному повернулся на каблуках и обратился к белобрысому юноше, нашему первому ученику, попросив его рассказать что-нибудь из истории. К примеру, кто такой был Ференц Ракоци II *.
Мишка Каро слыл среди нас, пожалуй, самым умным. Он уже тогда настолько смыслил в политике, что хорошо понял наставления учителя, советовавшего нам «быть умными», если генералу вздумается о чем-нибудь спросить.
— Ференц Ракоци Второй был мятежником… — краснея, ответил Мишка Каро.
— Верно, сынок, — похвалил граф, блеснув на Мишку глазами. — Расскажи-ка мне, что он натворил.
Мишка с жаром принялся рассказывать и без запинки протараторил все, до самого Онодского собрания *. Но тут генерал перебил его:
— Что произошло на Онодском собрании? Ну, над чем ты здесь раздумываешь? Тебе, верно, известно это возмутительное и позорное дело.
Мишка выпучил глаза на вельможу и совершенно стушевался.
— Раковский и Околичани * предали Ракоци…
— Нет, не про то… Совсем иначе…
— Австрию лишили венгерского трона.
— Как бы не так! — насмешливо перебил граф, сверкая глазами. — Хе-хе-хе!.. Тем не менее ты отвечал отлично. Я тобой доволен. Как твоя фамилия?
— Михай Каро.
— Хорошо, очень хорошо. Отменно…
Граф снова подошел к дядюшке Данко и еще более приветливо похлопал его по плечу.
— Вы человек стоящий. Хорошо воспитываете юношество. Весьма хорошо. Не премину упомянуть об этом моем искреннем убеждении в высочайшей инстанции.
Дядюшка Данко теперь уже настолько вошел в роль учителя, что начал потирать руки и раскланиваться.
Его сердце ликовало от радости.
О, вот это так победа! Ему вверили честь гимназии, и как блестяще он ее отстаивает. Кто знает, чем и как все это кончится! Быть может, еще удастся заработать для директора орден! Всё-таки большое дело, если человеку посчастливилось когда-то служить в гусарах. В этом бренном мире он всегда а везде сумеет за себя постоять.
Но вот граф наставительно обратился ко всему классу:
— Видите, что случается с теми, кто грешит против императора и монархии! Ракоци умер в изгнании. Да, умер. Как и Тёкёли *, и все те, кто нарушал спокойствие государства. А теперь перейдем к другому предмету. Пожалуй, хоть к естествознанию. Сын мой, вот ты, который не хочет быть солдатом. Посмотрим, выйдет ли из тебя ученый. Расскажи-ка мне что-нибудь о животных.
— О каких? — смело спросил Пали Камути.
— Расскажи о животном, которое тебе особенно нравится. Какое из них ты любишь больше всех?
— Льва, — ответил Пали Камути.
— Ну, так расскажи мне про льва.
Пали Камути начал рассказывать его высокопревосходительству о льве, другого-то ведь он, пожалуй, ничего и не знал из всего естествознания. О льве он говорил еще более или менее сносно.
Граф прервал его всего лишь раз:
— А чем питается лев?
Этого Пали Камути, по-видимому, уже не знал и ответил, как подобает лютеранину:
— Всякой всячиной.
— Ну все-таки, что ему больше всего по вкусу?
Юноша помолчал, провел пальцем по лбу, затем вызывающе вскинул свою чернокудрую голову и решительно сказал:
— Свобода!
Как сейчас слышу все это… Когда слово «свобода» прозвучало в классе, казалось, задрожали мириады атомов воздуха, оно прозвучало, как звон огромного колокола.
Его высокопревосходительство отвернулся и с выражением ужаса взглянул на своего адъютанта, тот, в свою очередь, уставился на вице-губернатора. Последнему уставиться уже было не на кого, и он попросту закрыл глаза, ожидая, что сейчас вот-вот обрушится потолок.
— Садись! — рявкнул вельможа на Пали Камути и повернулся к Данко, как бы вопрошая: «Что все это значит?»
Лоб его был нахмурен.
— Как? И этот тоже ваш ученик?
— Ваше высокопревосходительство, — сразу осмелев, сказал дядюшка Данко, — разрешите доложить. Как раз он-то и есть мой единственный ученик. Не извольте за этого шалопая винить почтенного господина учителя, который сейчас обедает у себя дома, куда вызвала его досточтимая супруга. На мальчишку все рукой махнули. Он живет у меня, у меня же и столуется. Его уже не исправишь ни добрым словом, ни наукой. Так вот в том, что он такой, клянусь честью, виноват я, а не почтенный господин учитель…
— Но кто же вы?
— Я, видите ли, здешний служитель. Почтенные господа вверили мне честь гимназии на то время, пока они с божьей помощью кушают. Но поскольку вы изволили прибыть через заднюю калитку, я не мог вас заметить и сбегать за господами учителями. К вашим услугам — Габриш Данко, гусар, прослуживший две кампании, постоявший за себя с саблей в руках и во времена отца нашего Кошута *. Так что, как изволите видеть, во мне столько плохого, что и на этого малого хватает. И к нему, бездельнику, скажу я вам, это легко прививается! Уж он только мой ученик, так вы и считайте! Право же, за него нисколько не в ответе почтенный господин учитель.
Положение сложилось донельзя смешное и нелепое. Генералу стало неловко. Он поспешил надеть шинель и подал знак своей свите.
— Да благословит вас бог! — сказал он на прощание и вышел.
Старый дядюшка Данко осмелел окончательно и молодцеватым, бодрым шагом проводил его высокопревосходительство до самых ворот.
Там генерал снова обратился к нему:
— Какие новости в городе?
Дядюшка Данко пожал плечами и, желая еще раз напомнить, что именно он испортил Пали Камути, подчеркнуто небрежно заявил:
— Говорить-то особенно не о чем, ваше высокопревосходительство. Что ни возьми, все плохо. Власти только и знают, что дерут налоги.
Наконец вернулись и почтенные учителя. Они все ахали да дивились тому, что поправить было уже невозможно. Но в еще большее изумление привело их моральное мужество и простой здравый смысл дядюшки Данко, сумевшего понять, что молодому заведению пришлось бы пережить не одну беду, если бы врагам удалось увидеть его в истинном свете.
— А сначала-то у вас все-таки поджилки тряслись, — не раз говорили мы потом дядюшке Данко.
— Э-э! Все потому, что я тогда был лишь учителем, когда мне доверили честь гимназии. Но потом мне снова пришлось стать гусаром, и я, ей-богу, нисколечко не трусил. Это, видите ли, уже совсем другое дело, тут смелые слова приходят сами собой.
1878
БАДЬСКОЕ ЧУДО
Перевод И. Миронец
Мал бадьский ручей. Сузившаяся серебряная лента его обрела широкую песчаную оправу, а поблескивающий песчинками бережок, что весь истоптан крошечными ногами сказочных фей, обрамлен нескончаемым ракитником.
На бадьской мельнице стоит работа. Двор завален мешками, а нетерпеливые мужчины и женщины из Гозона, Чолто так и облепили берег Бадя возле мельницы — сидят, ожидают воду.
Если вода не прибудет, они знают, что предпринять. Вон Дюри Кочипал, работник с мельницы, уже уволок с майорнокского кладбища «коня святого Михая» * — поскольку сожжение его является проверенным способом вымогания дождя у небесных властей.
И надо бы, чтоб помогло! Правда, шлюзы спущены и к ночи у плотины собирается немного воды, которая час-другой покрутит колеса, но что это, когда столько зерна навезли? Пока до последнего мешка очередь дойдет, его уже плесень перемелет.
Все злятся, ворчат, одна только мельничиха, раскрасавица Клара Вер, снует, улыбаясь, меж клиентов, хотя от нынешней засухи она больше всех в убытке.
Коли так будет продолжаться — конец бадьскому мельнику, особенно если он еще подзадержится в солдатах, ибо, что поделаешь, арендная плата высока, а женщина — она женщина и есть, хотя бы и золотым позументом опоясана.
Однако жена Михая Пиллера из Гозона не упустит и свое словечко вставить на этот счет:
— Смотря какая баба. Правду я говорю, а, Жофи Тимар? Хотя, что до мельничихи, то за нее и я бы не поручилась, потому как рыжие волосы… ох, уж мне эти рыжие волосы… Правильно я говорю, а, Жофи, душенька?
— Нет, тетка Жужи, неправильно! Она хорошая женщина, хоть и красивая.
— Много ты там видишь из-под своего черного платка.
— Я тут была, когда она мужа провожала… уж как она убивалась, раз сто, должно быть, обняла его.
— Каждая разумная женщина, сестричка, носит свою вигано * так, чтобы только лицевую сторону видно было. Так-то… значит, говоришь, чувствительно простились?
— Мельник спросил тогда у своей Клары: «Будешь ли ты верна мне?» А Клара Вер так ответила: «Скорей Бадь наш в гору повернет, чем мое сердце от тебя отвернется».
— Бадь да вспять? — захохотала язвительно Пиллер. — Заруби это себе на носу, Янош Гейи.
Засмеялись и остальные. Недоставало еще, чтобы эта струйка да назад повернула… Бадьский горе-ручеек и под гору-то еле тянет! Не нынче-завтра песок поднатужится, да и проглотит его вовсе.
За разговорами о ручье да о мельничихиной клятве все развеселились — все, кроме Яноша Гейи. От слов Пиллер он покраснел и надвинул шляпу на глаза, впрочем не настолько, чтобы потерять из виду плетень, на котором мельничиха развешивала белье.
Высунутые язычки солнечных лучей плясали по плетню: где лизнут мокрый холст, там он и белеет.
Глаза Яноша тоже бросают туда свои лучи, а лицо Клары Вер от них алеет.
Женщины, что съехались молоть, тут же заметили — еще бы! — эти взгляды. И пошли судачить, — еще бы! — а чего их языки коснутся, то сразу почернеет.
Вот и темную тучу поди они же накликали. Заволокла вдруг с запада все небо. Ну, заждавшиеся гозонцы, майорнокцы, все теперь будет в порядке: сегодня тут еще завертятся жернова. Под вечер хлынул ливень, да такой, что даже борозды в поле стали ручьями. Не дурак, видно, Дюри Кочипал, не напрасно сжег «коня святого Михая».
Три дня и три ночи работала мельница. Убывало зерно, убывали желающие молоть. К вечеру третьего дня остались только десять мешков с пшеницей Яноша Гейи.
Может, молодица преднамеренно оставила эти мешки, чтобы подольше задержать у себя их хозяина? А вдруг она только дразнит его? И взгляды ее — всего лишь цветы акации… Роняет их акация на всех, но цветет так высоко, что ветку с нее не сломишь…
С нетерпением ждал Гейи, когда же выйдет красивая мельничиха.
— Послушай, Клара Вер… Вот мы с тобой одни. Хорошо ты сделала, что оставила меня последним…
— Не я тебя оставила. На мельнице всех обслуживают по старшинству, — ответила Клара Вер обиженно и повернулась к Яношу спиной.
Коренастый, крепко сколоченный парень заступил ей дорогу, его красивые большие глаза горели хмельным огнем.
— Постой, не уходи. Я хочу сказать… вот уж четыре дня стою я здесь с возом, корм кончился, мои лошади голодные. Дай мне с чердака охапку отавы.
— Хоть две.
— Ну а я… я уже два года мечтаю о твоем поцелуе, — прошептал он, и взгляд его замер на стройном как лилия стане, который, казалось, сломили эти слова. — Поцелуй хоть разок, Клара!
— Ни полраза, Янош Гейи! Когда мы вместе ходили с тобой, и то я тебя не целовала. А теперь я жена другого.
Из груди Яноша Гейи вырвался вздох.
— Так будь же прокляты твои блестящие рыжие волосы, которые опять смели мой покой!
Женщина бросилась в дом, даже ключ в замке повернула. И не вышла больше, только стала вдруг изнутри с окон стирать осенние слезы.
А Янош и тут увидел ее.
— Эй, хозяйка! Когда же моя пшеница мукой станет, а? — спросил он с глухой насмешкой, подойдя к окну.
— Не мукой, а дертью! — отрезала мельничиха с озорной улыбкой. — Ах, да ты ведь имеешь в виду свои мешки! Их как раз теперь и мелют, половина уже готова.
Янош Гейи прикусил губы и смущенно пробормотал:
— А вторая половина?
— Еще час-два, и ее тоже смелют, и можешь ехать себе с богом.
— Да ты хоть на это время пусти меня к себе, в тепло. Я забыл дома свой полушубок, мне холодно.
Кларе стало жаль его, больно уж печальным, жалобным голосом он просился. Может, и вправду похолодало на дворе… ведь и самой холодно, — вон как она дрожит вся, стоя у окна, когда отвечает ему:
— Ладно, уж так и быть, заходи, только веди себя, как подобает…
Вошел Янош Гейи да так здесь навсегда и остался бы: ну, что за хозяйка видная, что за походка у нее, что за взгляд, голос, улыбка! Хоть бы подольше провозились там с пшеницей!
Подумал он, подумал, да и проскользнул незаметно прямо к работнику. И сразу же нашел его в темноте. Кочипал стоял в подвале, прислонившись к подпоре, и насвистывал.
— Послушай-ка, Дюри Кочипал! Хочешь, подарю тебе мою свирель? Сделай так, чтобы жернова остановились и до утра — ни с места.
— Гм! Как же так, воды-то вон сколько!
— Скажи хозяйке, воды мало, не хватает, поднакопить надо. Закрой шлюзы!
Скрежет постав поглотил его сдавленный голос, но Дюри Кочипал все же понял.
— Ага! Но только ведь эдак вода перемахнет плотину и…
— Ты об этом не думай, если на то пошло, я тебе еще и свой шитый шелком кисет подарю…
— Вместе с ковырялкой? С той, стальною?
— Все как есть.
Закрыл Дюри шлюзы и замер, прислушался. Не заметила ли мельничиха, что колесо остановилось? Не выйдет ли да не велит ли снова запустить его?
Время шло. Никто не появился. Вот и свеча в комнате погасла. И в немой тишине, будто бы далеко, очень далеко, скрипнул ключ в замке.
Дюри растянул в усмешке большегубый рот, оскалив мелкие зубы, и смешливо затряс косматой своей головой, и от этого зубы его показались стайкой вьющихся в черной ночи белых мотыльков.
К полуночи у мельничной плотины сильно поднялась вода, зажатая между скалистыми склонами гор, речка все сильней разбухала, но так как разлиться ей было некуда, она некоторое время билась об плотину, кидалась на крутые берега, а потом покорившись, тихонько повернула назад.
Тут выглянул месяц и провел своими серебристыми волосами по зеркалу бадьского ручья.
Ветер взвыл от удивления: он подул с гор, желая пригладить воду, но вместо этого лишь взъерошил ее! Ивняк, осока и орешник, вздрагивая, склоняли головы и насмешливо перешептывались меж собой: «Эге, а Бадь-то в гору повернул!»
1881
КОНИ НЕСЧАСТНОГО ЯНОША ГЕЙИ
Перевод О. Громова
Сначала Янош украшает покрытую золотистой шерстью шею Бокроша, вплетая ему в гриву сухие кукурузные листья, потом заплетает в косички черную, как смоль, гриву Тюндера, а там очередь доходит и до двух других коней.
Четверка умных животных понимает торжественность момента… Вот и бубенчики подвязаны… Совсем как год назад, когда они примчали в этот дом прекрасную вдову мельника, Клару Вер… И кони горделиво запрокидывают головы, будто они по меньшей мере верховые скакуны вице-губернатора…
Впрочем, принадлежи они хоть самому наместнику, где их кормили бы с золотой решетки розовыми лепестками, а поили из серебряных ведер святой водой Гозонского источника, — и тогда не видать бы им такого житья, как в заботливых руках Яноша Гейи.
Он сам вырастил всю четверку, на его глазах превратились кони в красавцев рысаков. Он поистине выпестовал их: с ревнивой любовью расчесывал им гривы, тщательно промывал для них овес, да еще просеивал его, прежде чем засыпать в торбу. Собираясь дать коням сено или отаву, Янош выбрасывал из торбы все, что могло прийтись им не по вкусу. Зимой он укрывал их теплыми попонами, летом часто купал в реке, а когда его любимцы были еще жеребятами, даже целовал их.
Теперь он их больше не целует, — с тех самых пор, как в доме появилась его молодушка. Видно, женщина эта, давняя его возлюбленная, после того как принадлежала другому, стала для Яноша вдвое желанней. Да, Янош не целует больше своих коней, но тем не менее и сейчас души не чает в четверке и не отдал бы ее даже за шестнадцать чолтойских или бодокских табунов.
А много ли есть такого на свете, что может сравниться со славою и гордостью Чолто и Бодока!
В девяти комитатах их кони известны, в пятидесяти двух рассказывают об удивительных их статях, о тонких ногах, могучих бедрах и великолепных шеях.
Где бы ни жил знатный вельможа, подбирать для себя четверку добрых рысаков он непременно будет в Чолто или в Бодоке, у тамошних крестьян. А уж там как повезет… Вот старый Пал Чиллом, например, так прямо и заявил беледскому графу, когда тот задумал жениться, что до весны со свадьбой придется подождать, потому что его, Чиллома, жеребчик слишком молод, да и у Яноша Пери тоже не подрос еще для упряжки… А подобных лошадей не сыскать нигде в мире…
Теперь-то, конечно, и они не в диковинку. Янош Гейи познал искусство их выращивать. Он так выходил свою четверку, что, когда она проносится через Чолто и Бодок, все выбегают из домов и, бледнея от зависти, смотрят на это чудо…
Заплел Янош коням гривы и стал надевать на них сбрую. Одна вожжа до того запуталась, что он с трудом ее развязал. Четыре горячих жеребца нетерпеливо били хвостами и перебирали красивыми стройными ногами.
Дверь в конюшню была приоткрыта; в ней показалась прелестная румяная молодка. Яноша она не заметила, да его и вправду не видно было за шеей коня Раро и кормушкой с сеном.
Янош тоже не обратил внимания, как она вошла. Вдруг он услышал ее шепот, раздавшийся совсем рядом… отрывистые слова, смысл которых он почти не уловил. Интересно, с кем это она разговаривает?
— Скажи ему, что я тоже поеду на свадьбу. Ну, а потом… Еще сама не знаю, как все получится…
Янош отчетливо слышал — говорила Клара. Отвечал же ей чей-то надтреснутый скрипучий голос, то и дело прерываемый надсадным кашлем, так что слов понять было невозможно. Однако ответный шепот Клары Янош разобрал:
— На груди у меня будут приколоты два цветка мальвы. Пусть он придет туда… к ямам, где вымачивают коноплю.
Янош выпустил из рук поводья Раро. Громко звякнули о дощатый настил пола нанизанные на поводья колечки, но Янош ничего этого не расслышал. Он слушал другое.
— Если я оброню по дороге красную мальву — пусть остается у себя, если белую — пусть приходит.
Янош Гейи кое-как взнуздал четвертую лошадь. Сердце его сжималось, руки не слушались, — все получалось шиворот-навыворот. Мрачное подозрение тяжелым камнем легло ему на душу. Было время, когда и для него так же вкрадчиво звучал этот голос!
Э-эх, чепуха! Ему ли пугаться слов — бесплотных, пустых призраков! И покорно отдать себя во власть черного подозрения?
Он спокойно вывел во двор взнузданных коней, чтобы напоить их. Клара провожала до ворот какую-то сгорбленную старуху.
— Что это за старая карга? — весело спросил жену молодой хозяин.
— Бабка Вёнеки, с Церковной улицы.
— Что понадобилось от тебя этой ведьме?
— Бедняжка попросила у меня немного дрожжей.
— Гм! Так ее милость собирается печь хлеб?.. А теперь поторопись, Клара, собирайся! Мы сейчас выезжаем.
Легкая тележка, уже вывезенная из-под навеса и смазанная, стояла во дворе. Минута — и в нее были впряжены кони. Хозяева уселись. Янош щелкнул кнутом над спинами четырех огневых коней, и они, с раздувающимися ноздрями, храпя и свистя, танцующей иноходью выбежали со двора.
Янош оглядел своих коней, увидел четыре лошадиные морды, то клонившиеся книзу, то гордо запрокинутые кверху, сверкающие медные колечки на сбруе, подпрыгивающие кисточки на крутых конских боках, увидел, как вспыхивают на солнце стальные подковы, словно готовые поджечь саму матушку-землю, — и душа его переполнилась радостью.
Как хорошо, что он никому не уступил своих коней, хоть и многие просили его об этом. Совсем недавно Бодок и Чолто предлагали за них четыре тысячи серебром, намереваясь тут же, на границе комитата, убить их, чтобы сгинуло даже самое семя этой редкостной породы.
Внезапно взгляд Яноша Гейи оторвался от лошадей и упал на красивое, разрумянившееся лицо жены, на ее белую как снег грудь и две приколотые мальвы — красную и белую.
Она сказала… Да, она сказала именно так. Со свистом опустил он кнут, и еще быстрее понеслась знаменитая четверка. Красавица Клара, словно козырьком, прикрыла розовой ручкой свои прекрасные, но лживые глаза и мечтательно глядела вдаль. Она тоже стремилась вперед.
— Я и думать не смела, Янош, что ты возьмешь меня с собой. Ты ведь так неохотно это делаешь!.. Злым языкам еще не наскучило судачить на мой счет… Да и…
Клара Вер выждала, не заговорит ли муж, не спросит ли о чем… Но он молча смотрел по сторонам, на проносившиеся мимо луга, на приближающиеся ямы, где обычно вымачивали коноплю и зеленоватая вода которых поблескивала, словно чьи-то огромные насмешливые и презрительные глаза. Взгляд его убегал еще дальше — туда, к обрывистым горным ущельям, напоминавшим вместительные открытые гробы.
— А потом я подумала, что раз уж ты собрался поехать на завтрашнюю ярмарку, то, верно, отправишься туда прямо со свадьбы, от Чилломов.
Но и тут ничего не ответил Янош Гейи. Пусть еще яснее раскроются козни этой женщины!
— Ой, и набалованный же ты у меня, дружочек! Даже разговаривать не хочешь. Может, скажешь все-таки, как оно будет? У Чилломов ли меня оставишь или с собой возьмешь?
— Оставлю у них, — хмуро ответил Янош. — Все равно свадьба три дня продлится.
Они приблизились к ямам, где вымачивали коноплю. По проселочной дороге прогуливался Шандор Чипке в расшитом тюльпанами сюре и нарядной шляпе. Он прикинулся, будто случайно обернулся на стук телеги, хотя по земле гул идет, когда скачут знаменитые кони Яноша Гейи.
Но до коней ли сейчас Яношу!.. Испытующим взором впивается он в лицо жены. Вы только посмотрите, как горят ее глаза, как томно скользят они по стройной фигуре парня, какой долгий, ласковый взгляд бросает она ему украдкой!
И… Ой, уронила, нет больше белой мальвы на ее груди! Рука Яноша все слабей и слабей натягивает поводья… Как вихрь, что гонит по небу облака, стремительно мчатся рысаки Яноша Гейи. Это уж больше и не кони: в безумной скачке они как бы слились в одно черное крыло, которое летит… летит… Даже не крыло, а будто сама разъяренная смерть!
— Боже милостивый, помогите! Ой, да придержи ты вожжи! — взвизгнула Клара Вер. — Ведь тут пропасть, а там обрыв и пучина!
— А, пропадай все пропадом, с тобой вместе!!
— Держи поводья, держи, мой дорогой, муж мой!..
Янош и впрямь придержал коней, но лишь затем, чтобы развязать на вожжах узел. Сделав это, он прищелкнул языком и гикнул на коней страшным голосом:
— Гей, Тюндер! Раро!
И швырнул отвязанные концы между Бокрошем и Вилламом…
1881
ПРОПАВШИЙ БАРАШЕК
Перевод Г. Лейбутина
Я начну свой рассказ с того дня, когда в Бодоке звонили в колокола, чтобы разогнать грозовые тучи. У бедного звонаря Йошки Чури кровавые волдыри вздулись на ладонях, пока ему удалось, наконец, отвести от села черный гнев господен, что гроза понапрасну старалась украсить узкими алыми ленточками молний.
Все в природе было преисполнено ожидания предстоящего божьего визита. Проснувшиеся в клетках гуси хлопали крыльями, словно собираясь взлететь, и гоготали; гнулись и трещали деревья, ветер взметал пыль на дорогах, злобно подбрасывая ее вверх. Желтый петух тетушки Чеке очутился на крыше дома и принялся оттуда отчаянно кукарекать, в стойлах тревожно ржали лошади, а посреди дворов тесно сгрудились объятые страхом овцы.
Но колоколу, который величаво гудел сквозь громыханье бури, удалось одолеть надвигавшуюся беду. Дело обошлось всего лишь небольшим дождиком, который оказался скорей даже на пользу, чем во вред. Пшеничные нивы и молодая кукуруза, которые только что клонились долу и будто бежали вдаль, гонимые порывами ветра, теперь выпрямились и гордо застыли. Небо понемногу прояснилось. Только бурные воды вздувшегося Бадя, с ревом мчавшиеся вдоль огородов, свидетельствовали о том, что в Майорноке и Чолто — селах, расположенных выше в горах, прошел сильный ливень, может быть, даже с градом.
Ну, если на этот раз речушка не выйдет из берегов и не затопит Бодок, словно сусличью норку, значит, все-таки совсем неплохо принадлежать к католической вере, когда остальные деревни окрест исповедуют лютеранство.
Берег Бадя оживился: повсюду замелькали лопаты, мотыги. Старый Пал Шош даже багор притащил. Крестьяне принялись рыть канавки, чтобы вода стекала по ним с огородов прямо в реку. Только не вздумала бы она вернуться обратно, да еще с подкреплением!
Мутный речной поток подмывал берег, поросший густым лозняком, срывая с деревьев не только листву, но и кору. То и дело с берега обрушивались большие глыбы земли и как будто таяли в волнах. Надо было ожидать, что к утру деревню еще тесней опояшет кружево извилистого берега и зубцы его будут вырезаны заново.
Река несла бревна, двери, соломенные кровли, оконные ставни, корыта и множество всякой домашней утвари. (По-видимому, где-то смыло водой целые дома.) А вон плывет копна сена, за ней пенистые волны мчат какой-то четырехугольный чурбан.
Но вот луна осветила этот странный предмет. Да это же вовсе не чурбан, а разрисованный тюльпанами сундук. А на его крышке — ну и чудеса! — смирнехонько сидит малюсенький барашек!
Так и есть, самый настоящий барашек! Сейчас сундук прибило ветром совсем близко к берегу, и со двора Яноша Тота-Нэрени было хорошо видно, как бедняжка, подогнув под себя задние ножки, передними старается удержаться на крышке сундука. Шерстка у барашка шелковистая, сам он весь беленький, только на спине два черных пятнышка, а на шее — красная лента. Видно, кто-то очень любил этого барашка!
И с таким терпением и спокойствием путешествовал барашек на своем колыхающемся с боку на бок суденышке, будто отправился в плаванье по собственной охоте. Если он и блеял порой, то, верно, лишь оттого, что был голоден. А между тем он мог бы, пожалуй, и закусить, если б только сундуку удалось догнать плывущую впереди копну сена. Ведь она совсем близко» вон огибает овин тетушки Пери! Вперед, старый сундук, догоняй ее!
Люди на берегу все глаза проглядели, ждали, что сундук с барашком снова покажется, стоит ему только доплыть до излучины реки. Да только так ничего и не дождались: то ли темнота его поглотила, то ли на полпути выудил багром Пал Шош. Как бы там ни было, к утру все выяснится.
Однако почтенный Шош уверял, что хоть он и был на берегу, но никакого сундука и в глаза не видел. Что ж, не видел — значит, так оно и есть. Ведь это утверждает богатый, всеми уважаемый человек, который нынче потому только от должности помощника сельского старосты отказался, что рассчитывает в будущем году, коли жив будет, не помощником, а самим старостой стать.
И все-таки… Странно как-то получается: на верхнем конце деревни все видели, а на нижнем конце ни один человек не приметил ни сундука, ни ягненка. И обрываются следы как раз возле огорода Пала Шоша.
Ох, сколько же на свете злых языков, если в одном этом селе их нашлось не меньше сотни! Во время молебна, вместо того чтобы благодарить бога, что пощадил их село, принялись люди обсуждать случай с барашком, перемывать косточки соседу, отрываясь от этого занятия лишь для того, чтобы послюнявить пальцы и перелистнуть страницу молитвенника.
Бросили грязное подозрение на почтенного Шоша. Мол, кроме него, некому было выловить из воды сундук! Ну, да ладно! Бог-то, он все видит и так этого дела не оставит! Сколько веревочке не виться, а кончику быть… Сыщется пропажа, как ни таись!
И каких только слухов не передавали из уст в уста! Ума не приложишь, кто это все выдумывает! Говорили, будто сундук доверху был набит старинными серебряными талерами. Некоторые даже точно называли их количество.
Но как ни говори, а вполне может статься, что и у старого Шоша рыльце в пушку! Недаром же побывавший в Бодоке гозонский скорняк Дёрдь Мочик, который, между прочим, выпить не дурак, все заговаривает про то, что не будь у него рот на замке, мог бы, мол, кое-что порассказать… Вот и пойди тут разберись!
Только насчет серебряных талеров все это, конечно, одна пустая болтовня.
Теперь-то нам уж доподлинно известно, что в сундуке том не было и гроша завалящего. А лежало в нем приданое известной майорнокской красавицы Агнеш Бало: три перкалевых юбки — одна широкая, из четвертного материала, — шесть полушалков, две косынки, безрукавка с серебряными застежками, десять батистовых блузок, да еще ментик, да сапожки на рантах — совсем новые, даже и подковки на них не успели еще набить. Бедняжка Агнеш Бало: все-то ее богатство было в этом сундучке!
Половодье способно порой разрушить не только халупку полевого сторожа, но и чью-нибудь свадьбу. Без хорошего наряда к алтарю не пойдешь, кому хочется выставлять себя на посмешище! У бедняжки Агнеш все давным-давно было приготовлено к свадьбе, хотя зарабатывать ей свое приданое пришлось тяжелым батрацким трудом: по одной вещичке все собирала. Свадьбу намечали на осень, в праздник винограда, так, по крайней мере, заявил в прошлую субботу сам жених. А теперь — если она и будет когда-нибудь, то не скоро.
Представляете, какое горе захлестнуло бы дом Михая Бало, если б сам-то этот дом уцелел. Да только семья Бало именно потому и горевала, что хатенку их захлестнула буйной волной разбушевавшаяся речка и унесла с собой. От горя Агнеш выплакала свои ясные очи, и где уж было ей утешать бедную маленькую Боришку, у которой пропал ее любимый барашек — белый, с двумя черными пятнышками на спине. Девочка любила играть с ягненочком и, не желая расставаться с ним даже на ночь, укладывала его спать рядом с собой. Злая речка Бадь затопила также и луг. Да теперь уже все равно, некому на нем щипать травку, нет больше милого барашка.
А как он прыгал, как резвился на солнышке в последний день, как забавно вертел хвостикам, лизал маленькие ладошки Боришки и смотрел на нее так кротко и ласково, будто чувствовал, что больше ее не увидит.
Но, быть может, отыщется все-таки пропажа и девочке вернут ее любимца?
И в самом деле, через несколько недель до семьи Бало дошли слухи о сундуке, плывшем по реке, и о беленьком ягненке который упорно не желал покидать его, будто сторожил. Барашка и сундук видели в селе Чолто и даже еще ниже, в Бодоке, куда к полуночи их донесли воды разбушевавшейся речки.
Ну, конечно, это и есть сокровища двух дочерей Михая Бало — вот только верны ли слухи?
И Михай Бало не мешкая пустился в путь. Уж он ноги до крови собьет, а отыщет честно нажитое добро своих дочерей.
Тут-то и произошли события, вогнавшие в стыд все село Бодок: в дом самого богатого хозяина пришли с обыском! Но что тут поделаешь, закон всемогущ! Присутствовали при обыске и староста и десятский, потому что Михай Бало, ссылаясь на слухи, обратился с жалобой к властям.
Но обыск ничего не дал: не нашлась пропажа во дворе у Пала Шоша. Опечаленный вернулся Михай Бало домой. Дочери вышли встречать отца к самой околице, ждали его с большим нетерпением, чем когда-то с ярмарки.
— Нашелся барашек? — спросила Агнеш сдавленным голосом.
Про сундук она и заикнуться боялась, еще, чего доброго, в обморок свалится, услышав, что и ее добро отыскалось.
— Нет ни скрыни, ни ягненка, хотя староста перерыл у хозяина, на которого я думал, весь дом.
И отец подробно рассказал, что ему удалось разузнать. Но Агнеш только неодобрительно покачала своей красивой головкой.
— Ты, отец, сильный, потому и зло хотел одолеть силой. Что ж, теперь я, слабая, попробую. Моим оружием будет хитрость, — упрямо заявила она под конец.
Только Боришка ничего не сказала, хоть из всех троих она-то и была самая слабая.
Целую неделю бродила Агнеш вдоль Бадя. Искала, следила, выспрашивала, даже в деревне Гозон побывала, где жила замужем одна из дочерей Шоша, — думала, может, там найдет свое приданое. Но, увы, так ничего и не удалось ей узнать. В довершение всего девушка заболела, и пришлось отцу ехать за ней в Бодок на лошади.
Да, не только Михай Бало ходил понапрасну, но и Агнеш. Не помогли ни сила, ни хитрость. Пересилили их злодеи.
Вот если бы в путь отправилась сама правда! Не переодетая, не окольным путем и без своего традиционного меча, а просто с голыми руками.
А так впору было отказаться от всякой надежды. Не стоило и начинать! Себе же хуже сделали: не только приданое Агнеш потеряли, но еще и здоровье ее в придачу.
Постелил старый Бало на телегу перину, положил подушку и отправился за больной дочерью. Кстати и меньшую с собой прихватил: пусть хоть кусочек белого света увидит. Девочке как-никак уже восемь лет, а она еще нигде, кроме своей деревни, не бывала, прямо, как говорится, маменькина дочка… Только что ж это я говорю! Ведь у бедной Боришки давным-давно не было матери!
Оказалось, не так уж тяжело занедужила Агнеш. Чтоб больную не растрясло на булыжной мостовой, семья Бало решила пройти пешком по широкой сельской улице и лишь возле колокольни подсесть на телегу. Агнеш шагала с такой легкостью, что вполне могла бы пройти на собственных ногах всю дорогу до дому. Ей-богу, напрасно только коня гоняли!
Только повернули они на улицу из переулка, на который выходит двор Гергея Чорбы, а навстречу им, из-за овина Пала Кочи, валит толпа сельских властей и местных богатеев, и среди них почтенный Пал Шош в праздничном одеянии — в новеньком с иголочки сюре, небрежно наброшенном на плечи. Ах да, ведь сегодня в Бодоке церковь новую святили! Оттуда, видно, они и идут.
— Видишь, Боришка, вон того высокого, длинноволосого, — шепнула Агнеш сестренке. — Это он забрал твоего барашка.
Когда почтенная компания поравнялась с сельской управой, господин Ференц Шанта-Радо заметил, что зданию нужна новая крыша, и сельские правители с видом знатоков принялись осматривать ветхую кровлю. Как странно устроен мир: все-все на свете стареет и разрушается, даже сельская управа!
Боришка боязливо уставилась на длинноволосого человека, и большие синие глаза ее наполнились слезами.
— Да не дергай ты меня! — прикрикнула на нее Агнеш, выпуская ручонку девочки.
— Это я просто вздрогнула… Мне почудилось, будто мой барашек по воздуху летит ко мне.
Тем временем семейство Бало также приблизилось к зданию управы. Михай почтительно поздоровался с сельскими властями и прошел мимо, Агнеш тоже. Только маленькая Боришка — ах ты, глупенький ребенок! — подошла совсем близко к всесильному богатею и окликнула его. Ну разве же так можно?!
— Дяденька! — воскликнула она звонким, нежным голоском. — Отдайте моего барашка!
Члены сельской управы переглянулись. Чья это красивая девочка с таким печальным личиком?
— Отдайте моего барашка! — повторил тонкий детский голос, но слова эти прозвучали как грозный свист выпущенного из пращи камня.
Пал Шош посмотрел на нее и неприятно поморщился. Затем поправил длинные седеющие волосы, схваченные сзади гребенкой по обычаю крестьян северной Венгрии, и ласково спросил:
— Какого барашка, доченька?
— Моего. Беленького, с двумя черными пятнышками на спине, с красной лентой на шее. Да вы же сами хорошо знаете какого…
— И в глаза не видал твоего барашка, — отвечал Пал Шош уже совсем по-иному. — Брысь отсюда! Кому я говорю?!
И он снова повернулся к членам сельской управы.
— Да, господин староста, крыша и впрямь старая, протекает…
— Что верно, то верно. Но и твоя крыша, как я посмотрю, с изъяном, почтенный Пал Шош. Тоже протекает.
В ответ на язвительный намек старосты Шош побагровел.
— Клянусь, господин староста, я этого ягненка… Стоявшая рядом девочка растерянно смотрела на богатея.
Он с раздражением откинул полы своего сюра, высвобождая руку, и клятвенно поднял вверх два жирных пальца:
— Клянусь вам, господа, вот тут, под открытым небом, именем всемогущего…
Шнурок, которым был завязан на шее сюр от резкого движения развязался, и тяжелый новехонький сюр медленно пополз с плеч и наконец плюхнулся на землю.
Боришка вскрикнула и одним прыжком очутилась возле упавшей одежды.
Все взгляды устремились на девочку. Слова клятвы замерли на губах Пала Шоша — к его собственному счастью.
— Мой маленький барашек! — с болью в голосе вскричала девочка.
Она упала на колени и прижалась головкой к овчине, которой был подбит сюр: на белом фоне шкурки были ясно видны две черные отметины…
Хороший, видно, скорняк подбирал эту подкладку из добела промытых шкурок. Но самую белую шкурку поставил он на середину — то была шкурка с двумя черными отметинками, шкурка, омытая слезами маленькой Боришки Бало.
1881
ПОДЫСКИВАЕТСЯ МИНИСТР
Перевод И. Салимона
О том, как его милость почтенный Габор Доманди стал депутатом парламента, знает только домандский погребок. Да кое-что мог бы порассказать Муки Цибере, известный кортеш *, который перетаскал сюда немало сотенных банкнот от г-жи Доманди, чтобы убедить общественное мнение в высоком призвании ее мужа.
Одним словом, его избрали, и вот уже два года он восседает на скамье мамелюков *, глядя вокруг полусонными, осоловелыми глазами, а то и вовсе засыпая.
О большой политике он никогда в жизни не думал. Пить, есть и спать — вот все занятия Габора Доманди, привычные с молодости. Ему и во сне не снилось быть «отцом отечества». Столь высокое общественное положение казалось ему недосягаемым. В представлении Доманди «отец отечества» был каким-то необыкновенным существом, которое все свое время отдает государственным делам, на его благородном челе — следы патриотической грусти, а голос дрожит болью за родину.
Нет, благородный и славный Габор, который, кстати, был самым богатым и самым влиятельным отпрыском всего рода Доманди, никогда не мечтал о такой высокой чести, которая пристала лишь тем дворянам, что разъезжают на четверке лошадей.
Итак, все это дело затеяла его благородная супруга. Именно она решила вынести славу рода Доманди за пределы комитата. Ведь маленькая Эржи выросла из коротких платьиц, и ей пора уже появиться на столичных балах. Так что расходы по выборам непременно должны окупиться. К тому же как красиво это будет звучать, когда почтительно склонившийся лакей доложат: «Супруга и дочь депутата Габора Доманди!..» Это совсем не то, что быть женой помещика и вывозить дочь в семейной бричке на бал в Сурдок.
Одним словом, Габор Доманди, который некогда «из-за отсутствия способностей», выражаясь его же словами, не осмелился принять должность уездного начальника в Бойке, по наущению своей супруги два года назад стал депутатом парламента. С этих пор он поселился в квартире на улице Зерге вместо с женой и дочерью, каждый божий вечер играл в клубе в тарокк *, а каждое божье утро читал газету «Элленёр» *, которую выписывал в двух экземплярах, и никогда не пропускал ни одного заседания в парламенте, хотя смертельно скучал там. Благодаря всему этому Доманди наконец понял, что не так уж трудно быть членом парламента.
Но если не трудно, то и не легко. Мания величия подмешала в его рюмку немного горечи. Дело не в том, что хозяйство, отданное в чужие руки, все больше разорялось и разваливалось, и не в том, что иногда его основательно обирали почтенные депутаты-приятели, играя в карты. Не очень-то его огорчали и большие расходы по домашнему хозяйству. Этим занималась его супруга Вильма, а она женщина умная, умнее любого вице-губернатора, и знает, что делает, если разоряется, ведь в доме дочь на выданье… Старый Доманди не находил себе места потому, что оппозиционная газета «Сурдокхази харлап» почти в каждом номере смешивала его с грязью, а иногда нелестные заметки появлялись и в столичной прессе.
Он всю жизнь прожил в почете — и вот теперь его честное имя подвергается нападками Зеленые юнцы всячески издеваются над депутатом из Бойка, называя его «безмолвствующим мамелюком», «немым Ликургом» и бог знает еще как. Что ни говорите, а почтенный Габор Доманди не был лишен самолюбия. Он не требовал высоких постов и славы, но был уверен, что заслужил авторитет и уважение, причитающиеся благородному человеку.
Всякий раз, когда на семью обрушивался очередной удар, госпожа Доманди билась в истерике, а господин Габор, закрывшись в своей комнате, метал громы и молнии. Только мадемуазель Эржи радовалась, потому что… потому что у нее были свои планы.
Но, право же, если мы и не скажем, догадаться нетрудно. Ведь все уже знают — прислуга, родственники, знакомые (только «высокородная» мамаша не хочет видеть!), — что пригожий молодой шатен, родом из одной деревни с господином депутатом, который каждый день является к ним, кротко осведомляясь: «Дома ли почтенный дядюшка?» — вот уже полгода стучится в сердце Эржики, и, по всем признакам, не напрасно. Но боже упаси даже намекнуть на это мамаше! Что же до старого Доманди, то он и не способен ничего заметить. Его ничто не интересует, ничто не волнует. Только бы не отсырел его кошпалагский табак…
Имя молодого человека — доктор Янош Фекете — звучит не слишком романтично и, наверное, не встречается даже в лексиконе Иштвана Надя; тем не менее это славный малый, жаль только, что неудачник.
То ли потому оно так, что юноша незнатен, то ли потому, что прославился своей ученостью. А ведь хорошо известно, что никому не положено знать больше столпов комитатской управы! Получив диплом, молодой юрист стал в уезде помощником исправника, и кто скажет, чего бы он успел добиться с тех пор, если бы знал поменьше.
Однажды комитатские лидеры правительственной партии устроили совещание. Перед ними стоял вопрос: что делать с крайним левым кандидатом в депутаты от Бойка, который имел все основания побить своего соперника и пройти в парламент?
— Арестовать, бросить в тюрьму и не выпускать до тех пор, пока не кончатся выборы. Каждому ясно, что его программные речи полны оскорбительных выпадов против его величества, — говорили заправилы.
— Арестовать! — решило собрание. Арест поручили молодому помощнику исправника доктору Яношу Фекете.
Лицо Фекете залила краска, и, поднявшись со своего места, он красноречиво изложил самый главный, самый священный постулат конституционного государства — право личной свободы.
— Почтенная комитатская комиссия! Палка имеет два конца, а затеянное вами дело имеет две стороны, — сказал он между прочим.
— Возможно, братец, — перебил его один из могущественных олигархов комитата, — но в таком случае из тебя никогда не выйдет вице-губернатор.
И действительно, вице-губернатором Фекете не стал, не стал даже исправником. С этого дня на него обрушились преследования. Как он осмелился усмотреть две стороны там, где благородная комиссия видит только одну? Как осмелился он, ничтожный червь, восстать против колеса, перемалывающего все и вся, колеса, которое вращают владельцы комитатских особняков, обладатели знатных фамилий, старинных традиций и пестрых гербов.
И он поплатился за это: через полгода его выжили из комитата. Пришлось переехать в Будапешт, где с большим трудом он устроился помощником стряпчего в министерстве просвещения.
Правда, интересы у него были иные: Янош Фекете занимался главным образом национальной экономикой, финансами. Но в Венгрии это ровно ничего не значит. Венгр должен постигнуть любую науку, если того требуют его служебные обязанности.
Год за годом он нищенствовал на свои восемьсот форинтов *, но его все еще не повысили в должности. Без протекции влиятельного дяди-депутата, с одним лишь трудолюбием и прилежанием многого не добьешься.
Он пытался заняться литературной деятельностью. Но и тут ему не удалось ухватиться за позолоченные крылья успеха. Он написал объемистую книгу об экономике Венгрии, в которую вложил всю душу, все свои знания, — бесполезно! Ни один издатель не пожелал опубликовать ее.
— Для этого нужно имя, имя, понимаете? — твердили ему.
Янош готов был уже отдать свой труд бесплатно, лишь бы он увидел свет. Но все было напрасно. Не помогло и вмешательство Габора Доманди, который последние дни не расставался с большим свертком — рукописью Яноша. Видно, ей была уготована горькая участь: бороться в шкафу дядюшки Габора с пылью и плесенью, так как автор в отчаянии пообещал выбросить ее в огонь, если она попадет ему в руки.
Но этого никак нельзя было допустить. Вдруг в ней окажется нечто, достойное внимания? Кто знает? Ведь издатели, с тех пор как существует мир, всегда отличались глупостью. Стоит вспомнить хотя бы о «Банк-бане» Йожефа Катоны: * вначале никто из них не хотел верить, что это — жемчужина литературы. Яни Фекете — толковый малый, и эта рукопись еще пригодится ему. Поэтому Габор Доманди не позволит Яни бросить ее в печь. В старости человеку жаль всего, даже тех любовных писем, которые огонь давно превратил в пепел. Он рад видеть любую строчку, написанную им в молодые годы. Что уж говорить о целой книге!
Но сейчас доктор Янош Фекете забыл все: и финансы, и национальную экономику.
Кто пребывает в раю, тот не жаждет попасть даже в Академию наук. Кто плавает в медовом море, тому не страшны несколько капель горечи.
Пусть не продвинулся он на служебном поприще, зато каких успехов добился в отношениях с Эржикой! Еще недавно они говорили о своей любви лишь безмолвными взглядами. От этих взглядов словно мурашки миллиардами разбегались по телу, вызывая сладостный зуд; потом последовали робкие прикосновения, пожатия рук, эти «поэтические узы»… рука держит руку, словно два голубя прижимаются друг к другу… от сердца к сердцу идет электрический ток.
Теперь уже дело дошло до поцелуев. Мать в другой комнате распускает вязаную кофту или выговаривает прислуге, — вот тут-то и совершается преступление. Ведь любовь — это цепь, а тому, кто посажен на цепь, терять нечего, так почему бы не стать ему настоящим вором?!
Но чем благосклоннее становилась Эржика, тем больше росла антипатия к нему у почтенной мамаши. Каждый раз, когда старый Доманди со словами: «Иди-ка, братец, поразвлеки немного мою семью», — отсылал его в гостиную, она встречала Яноша убийственным взглядом и беседовала с нескрываемой холодностью, будто хотела сказать: «Для этого нужно имя, имя, имя!»
А если бы она еще знала о намерениях юноши и о чувствах своей дочери, красивой, обожаемой Эржики!
Самый поэтический заговор против родителей, через который проходит каждая девушка, самое упоительное предательство всплывают наружу. Тайная любовь, даже самая счастливая, всегда ищет способов выйти на свет божий, стать достоянием гласности.
Визиты Фекете все учащались, и мамаша Доманди сочла необходимым положить им конец.
— Слышишь, Габор, — сказала она в один прекрасный день мужу, которого держала под башмаком, — я не могу больше терпеть такое положение.
— Какое положение? — лениво спросил он.
— Я истратила полученное от матери наследство, пятнадцать тысяч форинтов, на твое избрание не для того, чтобы ты стал посмешищем. Я думала возвысить этим род Доманди. А что получается?.. Ты плохой отец семейства, Габор, и к тому же плохой христианин. Ты варвар, настоящий варвар, ты губишь самого себя и всех нас.
— Но чем, дорогая Вильма, чем? Скажи, по крайней мере, в чем я виноват.
— В том, что ты глуп и безволен. Весь свет над тобой смеется, а ты и не замечаешь. Люди на тебя пальцем показывают: «Смотрите, вот старый Доманди, один из парламентских дубов. Он даже рта не смеет открыть». Я умру от стыда, Габор, если это будет продолжаться, и дочь захиреет, сведет себя в могилу… Нет у тебя души, Габор, нет, нет, нет…
Почтенный Габор Доманди, отложив в сторону свою трубку с длинным мундштуком, скрестил руки на груди и с кислой миной пробормотал:
— Ты хоть скажи мне, что я должен делать?
— Посмотри на себя. Кто ты такой? Нуль. Кто к тебе ходит, с кем ты дружишь, какое положение в обществе занимаешь? Никакого. К тебе ходят несколько нищих депутатов без роду-племени, но даже у них ты не пользуешься авторитетом. Они пьют твое вино, обыгрывают тебя в карты. Для дурака и деревянные деньги хороши, а для тебя и это почет. Дальше. Много ли ты сделал для нас, твоей семьи? Ничего. Сумел ли превратить наш дом в светский салон, сумел ли открыть передо мной и своей дочерью двери в те круги, которые соответствуют нашему воспитанию и происхождению? Нет, Габор, ты идешь по ложному пути, ты на краю пропасти!
— Жена, не мучай меня! Мне уже надоело…
— Что тебе надоело? Безделье, игра в карты или вечная эта спячка? Что тебе надоело из этих трех занятий? Ну? Не отвечаешь? Нечего тебе сказать! Ах, Габор, возьми себя в руки и не становись могильщиком своей семьи. У тебя честное, доброе сердце, и ты меня поймешь. Если же нет, тогда пеняй на себя, тогда развод… И чем скорее, тем лучше!
— Вильма, Вильма, успокойся! Ведь я всегда тебя слушаюсь, всегда ценю твои советы.
— Вот это другой разговор. Садись рядом и слушай. Ты должен произнести речь в парламенте!
— Но, дорогая, я не сумею…
— Как я сказала, так и должно быть. Пожалуйста, дорогой старичок! Это необходимо для твоей семьи, для меня.
— Но у меня нет никаких идей.
— Не может этого быть.
— Честное слово.
— Значит, ты отказываешься? — яростно вскричала жена.
— Нет, нет, — простонал Габор Доманди. — Я только прошу: избавь меня от речей, если можно. Ну какая тебе польза от этого?
— Какая польза? Не прикидывайся простофилей. Ты сам отлично знаешь какая. Человек может возвыситься двумя путями: с помощью состояния или благодаря политическому весу. Поверь, дорогой мой, совсем по-иному будет смотреть на тебя свет, если однажды увидит твою речь в газете. Сначала крупными буквами: «Габор Доманди» — а затем: «Уважаемый парламент!» — и так далее. Ох, Габор, как это красиво — быть политическим деятелем. Как это почетно, лестно!
Старик что-то уныло пробормотал.
— Отвечай же! Да или нет? — наседала жена.
— Да, дорогая Вильма! — пролепетал Доманди. — Как-нибудь весной.
— Нет, теперь, завтра или послезавтра! Даю тебе сроку не больше четырех дней. Теперь или никогда!
— Но послушай, мой ангел, сейчас в парламенте ведутся очень трудные, очень сложные дебаты, надо быть семи пядей во лбу, чтобы выступать теперь… Ты ведь знаешь, я не очень-то люблю книги.
— Какие там сложные дебаты! Не пытайся меня обмануть. Я тоже читаю газеты и знаю, что делается в парламенте. Обсуждают финансовый вопрос. Вот ты и выскажешь свои мысли…
— Но если их у меня нет! Потом учти, премьер сейчас попал в критическое положение…
— А тебе какое дело?.. Это даже кстати: министр финансов, уйдя в отставку, не сможет упрекать тебя, что ты не прав. Остальные все равно ничего не смыслят.
Габору Доманди пришлось по вкусу это соображение.
— Конечно, не смыслят… хм, хм… пожалуй, никто ничего не смыслит…
— Разумеется. Если бы смыслили, не отказался бы уже четвертый человек от предложенного премьер-министром портфеля. Итак, записывайся, дорогой друг, но только сегодня же… Раньше, чем через три дня, вряд ли дойдет твоя очередь, а до тех пор ты успеешь придумать, что следует сказать.
— Ты и в самом деле хочешь…
— Не хочу, а требую, Габор.
— Ну, что ж! — сказал, глубоко вздохнув, Доманди, — Пусть! Я пожертвую собой ради вас. Запишусь.
— Только не вздумай в последнюю минуту уйти в кусты. Знаю я вас, безмолвных мамелюков! Смотри же — не то, клянусь, мы больше не будет жить под одной крышей. Хватит с меня унижений.
— Все обещаю, Вильма, не сердись.
— Все — значит, и то, о чем я попрошу тебя сейчас.
— Как? Разве этого мало на сегодня?
— Да, мало, потому что одно связано с другим. Скажи мне, Габор, чего добивается от тебя столько времени молодой Фекете? Впрочем, мне до этого нет дела. Но зачем ты отсылаешь его в салон — навязываешь нам на шею? Может быть, ты заботишься о своей дочке? — добавила она язвительно.
— Из них получилась бы славная пара.
— Не раздражай меня, Габор, не раздражай… Такими речами ты сокращаешь мне жизнь. И без того я всего лишь тень на этом свете, и только любовь к вам удерживает мою душу на нашей бренной земле. Но пока бог не призовет меня к себе, я буду возражать против такого брака. Не хочу, Габор, не допущу! Запомни это твердо. Ты знаешь, я происхожу из рода Сентиллеши, на гербе которого девиз: «Выше!»
— Мне же, признаться, нравится Янош Фекете. Он образован, у него приличные манеры и благородный характер — редкие качества для современного молодого человека согласись сама…
— Из этого ничего не выйдет.
— Ну, как хотите… Я больше не буду посылать его к вам, дорогая, разве уж сам зайдет.
— В таком случае мы будем отсылать его к тебе.
— Пожалуйста. Я во всем уступаю ради мира в доме.
Мир, спокойствие — это единственное, чего желал Габор Доманди. Но как же его взволновало взятое сейчас обязательство! Он словно потерянный бродил по улицам и был так рассеян в клубе, что за вечер раза четыре проиграл в карты.
Адские муки терзали его душу.
Однако семена трагедии были посеяны. Первую ошибку он совершил: записался в число ораторов, и крупные политические газеты не замедлили опубликовать его имя в длинном списке, упомянув как бы вскользь, что это будет первая речь государственного мужа, располагающего пятидесятилетним жизненным опытом.
Ох, как врет, шельмец! Он никогда не хвастался никаким опытом, никогда не зарился на лавровый венок, не жаждал аплодисментов. Ему хотелось провалиться в преисподнюю, лишь бы никогда не настал тот роковой день, тот вторник, когда после какой-нибудь грандиозной речи распорядитель громко назовет его имя: «Габор Доманди!»
И тогда ему придется встать, чувствуя на себе взгляды всего собрания.
О, если бы депутаты удалились в кулуары или оглохли на полчаса — видели бы только движение его губ, но ничего не понимали!..
К сожалению, этого не произошло. Члены парламента не удалились в кулуары и не оглохли, а сам он не оказался в преисподней. Но все-таки с Габором Доманди случилось во вторник нечто необычайное. Он вернулся из парламента на пролетке весь в жару, скрипя зубами от злости, и первым делом закатил такую оплеуху слуге, открывшему дверь, что тот покатился под стол.
— Как ты посмел, злодей?! — яростно прохрипел Доманди. (Это был первый случай, когда его благородие разозлился по-настоящему.) — Закрой ставни, опусти шторы, чтобы никто меня не видел, даже солнечный свет… Я погиб, погиб! — продолжал он, скрипя зубами. — Ох, с каким удивлением смотрел на меня председатель через монокль! Мороз пробирает!.. Мишка! Подложи дров в камин. Чего же хотел от меня председатель?.. Закрой ворота, запри их накрепко, никого не впускай. Мы попали в большую беду, дорогой Мишка. Если кто-нибудь будет спрашивать меня, Скажи, что здесь такой не проживает или что ты меня не знаешь, — словом, что угодно, но только не пускай. Бррр… Я болен… Положи мне под голову подушку, а другую — на живот. Хоть бы согреться! Попробуй, какие у меня холодные руки. Их пожимали министры. Ох, несчастье…
Преданный Мишка суетился вокруг хозяина, который напоминал привидение своим оловянно-серым лицом и замогильным голосом.
— Ваше благородие, может быть сказать кухарке, чтобы она приготовила вам на живот горячий мешочек?
— Не называй меня благородием, какое там благородие! А главное — не впускай ко мне жену и дочь: я не хочу их видеть.
— Хозяйка с дочкой поехали на обед к хромой баронессе, так что вернутся не скоро. А мешочек я принесу. Или, может, лучше горячий блин, завернутый в салфетку? Мне это раз помогло.
— Ты потому так говоришь, злодей, чтобы потом за мое здоровье съесть это лекарство!
В двери постучали.
— Кто там? Нельзя! — прохрипел со злостью Габор Доманди.
— Телеграмма.
— Возьми, Мишка, и прочитай вслух.
Мишка с важным видом развернул бумагу и по слогам прочел:
— «Глубокоуважаемый патриот!..»
— Осел! Посмотри на адрес.
— «Депутату Доманди, улица Зерге». «Глубокоуважаемый патриот! — продолжал Мишка. — Узнав по телеграфу о том грандиозном успехе, который выпал сегодня на долю вашей классической речи в парламенте, мы гордимся, что аплодисменты нации достались представителю нашего округа. Мы приветствуем в вашем лице выдающегося государственного мужа. Вы — новая сияющая звезда, которая своим ярким светом вдохновляет нас». Подпись: «Бойкское казино».
— Порви и брось в огонь! — воскликнул господин Габор, и, хотя зубы его стучали от озноба, лицо вспыхнуло пламенем.
Снова раздался стук в дверь. Новая телеграмма. Интеллигенция Сурдокхазы выражала свое восхищение речью Доманди и уверяла великого уроженца комитата в своем нижайшем почтении.
— Если будут еще, не вскрывай.
А телеграммы несли одну за другой. Их было все больше и больше, — от магнатов, от объединений, от государственных деятелей с громкими именами, которые совсем недавно с холодным презрением взирали на Габора Доманди и в ответ на его приветствие лишь слегка наклоняли голову. Теперь они посылали ему свои визитные карточки с дружескими пожеланиями. Слуги в ливреях один за другим являлись в скромный дом на тихой мещанской улице Зерге. Мишка мучился догадками, не понимая, что могло произойти.
Но вот широко распахнулась дверь, и в комнату ворвалась сама хозяйка. Она бросилась на шею мужу с той неуемной радостью, с какой когда-то, в былые времена…
В руке госпожи Доманди была зажата вечерняя газета, лицо ее сияло торжествующей улыбкой.
— Габор, дорогой мой… Кто бы поверил, кто подумал бы! Я, только я одна знала, что в тебе скрывается талант.
Габор Доманди на этот комплимент ответил хриплым стоном.
— Тебе плохо, дорогой? Ну конечно, большая радость лишила тебя сил. Какой горячий лоб! У тебя жар! Ну ничего, это пройдет. Так всегда бывает после сильных потрясений. Может быть, сварить тебе липового чаю?
— Нет, нет. Оставь меня одного. Я хочу побыть один.
— О, и не подумаю, дорогой. У меня есть лекарство, которое тотчас же исцелит тебя. Посмотри-ка, что здесь написано.
В вечерней газете крупным шрифтом сообщалось, что «на пост министра финансов единственным серьезным претендентом сейчас является Габор Доманди, в сегодняшней речи которого глубоко и верно трактуется экономическое положение страны. Более того, нам стало известно из достоверного источника, что премьер-министр граф Пал Черени намерен сегодня же предложить ему этот пост».
— Это удивительно, сказочно, Габор! Нет, нет, ведь здесь же написано! Хорошо, что ты пришла, Эржи, прочитай и ты, я хочу убедиться, что все это мне не приснилось.
В комнату вошла стройная девушка с прелестными русыми локонами, алыми, как кораллы, губками и самыми красивыми голубыми глазами, какие только можно себе представить. Она напевала какую-то веселую песенку из оперетты, но нескольких газетных строк оказалось достаточно, чтобы ее беззаботное веселье исчезло, а лицо стало бледным.
— Ты тоже бледнеешь от радости, как твой отец. Тебя все приводит в волнение. Надо быть сильной «и в радости и в горе» — таков ведь и девиз моего дяди по отцу: «In prosperis et asperis». Право же, странно иногда проявляется радость.
А между тем прекрасная Эржика отнюдь не была рада. Она очень хорошо знала, что эти почести отдаляют ее от того, кого она так сильно любила. Если ее отец будет сидеть в красном кресле, ей достанется лишь скамья страданий.
В этот момент старый Габор, который до сих пор лежал на диване, сжавшись в комок, встал перед женой в позе, совсем не подобающей министру.
— Жена! — сказал он, пожалуй, первый раз в жизни твердым голосом. — До сих пор ты командовала мной, теперь же я хочу быть хозяином в доме. И я им буду, честное слово. Ясно?
— Будешь, будешь, Габор. Будешь хозяином всей страны, ваше высокопревосходительство.
— Жена! — глухо и зло произнес Габор Доманди. — Если ты скажешь еще хоть одно тщеславное слово, я задушу тебя. Убирайтесь с моих глаз к себе. Я так хочу, я вам приказываю!
— Но, Габор, ради бога, что ты выдумал?.. Мы должны договориться… с минуты на минуту может подъехать министр. Как ты можешь быть таким легкомысленным! Тебя ослепило счастье, а между тем ты всем обязан мне…
Доманди с дикой яростью топнул ногой. На лбу его вздулись вены. Жена еще никогда не видела его таким:
— Ни слова больше! Убирайтесь!
— Ты и на меня сердишься, папа? — кротко спросила девушка.
— И на тебя. Ты причина всех моих бед. Женщины выбежали из комнаты.
— Твой отец сошел с ума! — сказала госпожа Доманди. — Радость оказалась слишком сильна, и сейчас у него какой-то припадок. Но он перебуйствует. Нужно привести все в порядок, ведь может прийти граф. О доченька, какая славная минута! Премьер-министр Венгрии в салоне Доманди!
— Но он может просто написать письмо.
— Нет, нет. У нас, женщин с опытом, огромное чутье. Я верю, знаю, что он будет у нас еще сегодня.
— Ты легковерна, мама. Газетное сообщение может оказаться пустой выдумкой. Я не разбираюсь в политике, но мне все-таки кажется странным, что папа смог произнести такую умную речь.
— Ты ребенок и не понимаешь, что миром правят люди небольшого ума и что счастье любого человека строится на тысяче разных случайностей. Что же касается твоего отца, он человек незаурядный, в нем есть искра божья. Иначе я, дочь Сентиллеши, не пошла бы за него замуж. Да, у твоего отца выдающиеся способности, но беспредельная лень скрывает их.
— Письмо господину депутату, — вошла с докладом горничная.
— Отнеси его благородию в кабинет.
— Никак нельзя, потому что их благородие заперли дверь.
— Надо постучать, он откроет.
— Нельзя, барыня! Их благородие положили перед собой шестизарядный пистолет и клянутся, что убьют первого, кто побеспокоит их. И особенно наказывали молодого барина Яноша, если он вдруг придет, и близко не подпускать к двери.
Хозяйка покачала годовой и сказала:
— Прими письмо и дай его мне.
— Письмо от премьер-министра, лакею приказано вернуться с ответом.
Госпожа Доманди вскочила и сама поспешила в прихожую принять письмо. После долгих просьб ей удалось наконец проникнуть с ним к мужу.
— Что тебе надо? — грубо спросил он.
— Письмо от премьера. Тебе, наверно, предлагают министерский портфель. Ох, Габор, у меня ноги дрожат от радости, и я мысленно читаю строки письма.
— Я не возьму.
— Да ты и в самом деле не сошел ли с ума?
— Клянусь, я не возьму его!
— Не давай ложных клятв и не шути со мной.
Доманди распечатал письмо и стал читать:
«Дорогой мой Габор! После сегодняшнего заседания совета министров, примерно в семь часов вечера, мне необходимо переговорить с тобой конфиденциально. Укажи, где это можно сделать. Уважающий тебя друг
граф Пал Черени».— Черт возьми, — бормотал испуганно Доманди, — дело принимает более серьезный оборот, чем я думал. Ну, Габор, теперь уж ты действительно влип.
Он сел за стол и написал такой ответ:
«Ваше высокопревосходительство! Я плохо себя чувствую и думаю, что не смогу покинуть свою комнату. Но если, чего доброго, вследствие сегодняшней моей речи и по твоей сердечной благосклонности ко мне ты хочешь включить меня в какую-нибудь комбинацию, я должен решительно заявить: не трать на меня своего дорогого времени, столь необходимого отечеству, — я не буду занимать никаких должностей, более того, завтра откажусь и от своего депутатского мандата. Твой преданный слуга
Габор Доманди».Свой ответ он пододвинул жене и со злорадством сказал:
— На, почитай.
Госпожа Доманди испуганно всплеснула руками.
— Боже правый, ты с ума сошел!
— Я тогда сошел с ума, когда тебя послушался. Впредь буду умнее, только бы пережить этот позор.
— У тебя на сердце какая-то тайна. Что происходит? Будь откровенен.
Но господин Габор Доманди мерил комнату своими медвежьими шагами, и никакими силами нельзя было вырвать у него разумного объяснения, почему он не желает стать министром финансов. Так и не добившись ответа, в глубоком раздумье госпожа Доманди вернулась к себе в комнату.
«Он должен понять, что у него нет причин для отказа, — размышляла она. — Есть люди, которые, заняв высокий пост, быстро теряют авторитет, ореол славы и обречены на позор, но Габор не из таких. Он может только выиграть в министерском кресле».
Не прошло и часа, как возле дома остановилась графская карета: из нее вышел премьер-министр Пал Черени и пружинистым шагом направился вверх по лестнице.
— Эржика, подойди ко мне, дай я приглажу тебе волосы, поправь сборки на платье, держись прямо, выше голову… вот так…
Госпожа Доманди слышала приближающиеся шаги графа, и ее сердце сильно билось.
Женщины приняли достойные позы, и лишь только горничная открыла рот для доклада, как в салон вошел Пал Черени, высокий, стройный человек, с седеющими волосами и аристократическим продолговатым лицом; в глазу у него был монокль, говорил он, слегка грассируя. Одним словом, он обладал всеми качествами, необходимыми для премьер-министра.
— Это большое счастье, — сказала, поднимаясь, госпожа Доманди, — по-видимому, выпало на долю моего мужа!
— О, как раз нет, сударыня. Признаюсь вам, я немного политик и стараюсь избегать риска.
— И это, мне кажется, самый верный путь, — сказала госпожа Доманди нежным голосом, пытаясь скрыть свое волнение, и предложила гостю занять почетное место на диване, покрытом желтой шелковой накидкой, которую она купила еще в Доманде, чтобы вызвать зависть у жены почтмейстера. — Господин граф, имею счастье представить вам свою дочь Эржи.
Эржика покраснела под довольно бесцеремонным взглядом графа.
— Действительно, сударыня, — начал разговор Черени, — всякое дело должны подготавливать истинные дипломаты, которым лучше всего заключить союз.
— Я вас понимаю.
— Это очень приятно, потому что именно с вами я и хочу заключить союз, сударыня.
— Как? Со мной? Против кого?
— Разумеется, против вашего мужа, — с улыбкой сказал граф. — Я хочу с вами вместе заставить его принять портфель министра.
— Это дело нелегкое, — ответила госпожа Доманди, с трудом скрывая свою радость.
— Дело нелегкое, но я думаю, что мы с ним все-таки справимся. Для вас, сударыня, нет ничего невозможного.
От этого тонкого комплимента госпожа Доманди покраснела и с тревогой взглянула на распахнувшуюся дверь, в которой показался господин Габор.
— Господин премьер-министр! Ты здесь?
— Душой и телом, друг мой Габор. Если ты сам не пойдешь, я заберу тебя силой. Я получил твое письмо, но не могу всерьез принять отказ.
— Между тем мое решение непреклонно.
— Подумай только, от тебя зависит судьба всего кабинета. Если до завтрашнего вечера я не найду министра финансов, нам придется подать в отставку. Вчера отказался десятый человек. После твоей блестящей речи ты у нас на первом плане, и, если в тебе есть хоть капля патриотизма, ты не станешь подвергать кабинет и всю страну тяжелым испытаниям.
— Я не вправе занять эту должность.
— Да не говори ты глупостей, черт возьми! Своей речью ты продемонстрировал больше опыта, знаний и способностей, чем все мы, вместе взятые. Друг мой, пойми, есть обязанности, священные для нас.
— Да-да, вот именно! — елейным голосом вставила госпожа Доманди.
Сраженный Габор Доманди повалился в кресло и сжал виски ладонями.
— Он уже колеблется, — прошептала госпожа Доманди.
— Невозможно, невозможно, — пролепетал бедняга.
— Ты, мой друг, как ребенок или сфинкс, таинственный и непонятный. «Невозможно!» А есть ли у тебя основательная причина для отказа? Если причины нет, клянусь, я не сделаю отсюда ни шага, пока ты не дашь своего согласия.
— Ну, ладно, — решился наконец Доманди, — ты человек деликатный, господин граф, и я скажу тебе причину, если даже мне придется провалиться сквозь землю от стыда.
— Боже мой! Что я должен узнать?
В этот драматический момент послышался тихий стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел доктор Фекете.
Хозяйка смерила его строгим, леденящим взглядом, Эржика покраснела до корней волос, а премьер-министр посмотрел на него с возмущением.
— Простите! — сказал молодой человек, готовясь ретироваться. — Я не знал… я бы не стал беспокоить…
— Останься, сынок! Я собираюсь сказать нечто, касающееся и тебя. Ты обязательно должен слышать это. Господин премьер-министр, я имею счастье представить тебе моего земляка, младшего стряпчего, доктора Яноша Фекете.
Его превосходительство вставил в глаз монокль и, как разглядывают какое-нибудь крохотное насекомое, уставился на Яноша Фекете.
— Итак, благородный господин граф, выслушай и не осуждай меня, — начал покаяние Доманди. — Потому что если я и не могу похвастаться большим умом, то чести своей окончательно не потерял. Я обязан исправить собственную ошибку. Этот молодой человек несколько недель назад сунул мне в руки толстую рукопись.
— Но, Габор, это не относится к делу!
— Нет, относится. Рукопись я должен был передать какому-нибудь издателю, но никто не соглашался брать ее, так как это не легкий фантастический роман, а серьезный труд о финансовом положении Венгрии.
— Ах, вот как! — удивился его превосходительство. — Ну, и что же дальше?
— Дальше… дальше… я вам расскажу всю правду, — произнес старый Доманди, глубоко вздохнув. — Так вот, из этой рукописи я прочитал в парламенте одну главу. Знаний в области финансов у меня не больше, чем земли под ногтями.
Почтенная дама, тихо вздохнув, поникла в кресле; господин Габор стоял, как покаявшийся преступник, автор покраснел до ушей. Зато Эржика сияла торжеством.
Граф Пал Черени поднялся с дивана и пренебрежительно, выделяя каждый слог, сказал, протянув один палец Доманди:
— Ну, в таком случае с этим делом покончено. Сервус! * Мое почтение, сударыня!
— Ваше высокопревосходительство, — облегченно произнес Доманди, — автором произведения, которое чуть не усадило меня в министерское кресло, является, как я сказал, этот молодой человек, и вот уже пять лет он служит помощником стряпчего» Если бы ты соизволил оказать ему свое покровительство… относительно его повышения…
— К сожалению, это очень трудно, дорогой мой… более того, невозможно: сейчас всюду идут увольнения. Adieu![1]
1881
АХ, ЭТОТ ИЗВЕРГ ФИЛЬЧИК!
Перевод Б. Гейгера
В Челто, в Майорноке и в Бодоке распространился вдруг вздорный слух, будто знаменитая шуба старого Фильчика — не что иное, как плод пустого воображения! Дескать, старик лишь тешит себя мыслью о ней, разглагольствует и бахвалится, хотя никакой шубы у него нет и, вероятно, никогда не было.
А между тем шуба у этого старика все-таки была. Жители Гозона — ибо Фильчик переселился к нам с противоположного берега Бадя — отлично ее помнят, в особенности те, что постарше.
Это было великолепное произведение скорняжного искусства: желтая шуба, длинная, с широким воротником из черной овчины, с обоих концов которой вместо кистей свисали натуральные бараньи ножки с копытцами, скрепленными между собой двумя красивыми серебряными пряжками. А внизу на каждой поле были вышиты блестящим гарусом зеленые тюльпаны. Чуть повыше красовались птички с ярким, преимущественно красным оперением, и на спине расположился целый город Мишкольц, с бесчисленными домами и всеми своими церквами; на одной из колоколен восседал даже кальвинистский петух *.
Словом, шуба эта являлась настоящим шедевром, на создание которого скорняк не пожалел ни труда, ни материала.
Да ведь и делал-то ее не Мочик из Гозона, а самый прославленный скорняк города Мишкольца. И была эта шуба такой длинной, что подверни ее Фильчик хоть на пол-локтя, и тогда это девятое чудо света подметало бы землю. Одним словом, по сравнению с ней даже шуба русского царя — обыкновенная ватная душегрейка.
Но каким бы достопримечательным одеянием ни являлась эта шуба и как бы ни кичился ею Иштван Фильчик, железные клыки неумолимого времени не пощадили и ее. Они обошлись с ней столь же бесцеремонно, как если бы она была лишь зимней бекешей студента-правоведа, сына местного нотариуса. Вышивка выцвела и стерлась, а желтая кожа загрязнилась и засалилась. Да и моль основательно над ней потрудилась, особенно безжалостно расправившись с подкладкой и воротником.
Но Фильчик, подобно влюбленному мужу, который не замечает, как постепенно увядают розы на щеках его жены, хотя своею же рукой срывает один за другим их нежные лепестки, не видел этого печального разрушения. Поношенная шуба неизменно представлялась ему по-прежнему добротной, и его обычная присказка: «Надену-ка я шубу!» — никогда не утрачивала горделивого оттенка.
Зимой и летом шуба висела на большом, начищенном до блеска гвозде, чтобы хозяин, сидя за сапожной колодкой, мог всегда иметь ее перед глазами и на нее поглядывать.
Но, по правде говоря, старый Фильчик не слишком-то много сидел за своей колодкой. Недаром прозвали его в насмешку «божьим сапожником»: собственно, у него и не было других клиентов, кроме господа бога.
Старик был малость с ленцой. Если он порой и тачал кому-то сапоги, то делал это как бы из милости. И люди не слишком беспокоили его заказами, тем более что он частенько бывал попросту груб. «К чему мужику сапоги? Ходили бы босиком!» — говорил он случайным заказчикам.
Человек угрюмый и неприветливый, старый Фильчик не любил никого и ничего, кроме своей шубы.
В самом деле, можно ли вообразить большую жестокость, чем та, которую он проявил к своей единственной дочери Тэрке!
А чем она, в сущности, провинилась? Отец собирался насильно выдать ее замуж за хромого мельника из Чолто, — а уж это было все равно, что посадить в один горшок резеду с крапивой.
Не удивительно, если Тэрка предалась печали, сердечко ее сжалось, головка закружилась, а ножки невольно сделали ложный шаг: ушла она из отчего дома, сбежала с молодым исправником.
Провинность, конечно, немалая. Но молодость всегда опрометчива и склонна к увлечениям. За этот проступок весь род людской, быть может, имел право бросить в нее камень, но, уж во всяком случае, не родной отец.
С той поры старик сделался еще более лютым и мрачным. И когда спустя некоторое время Тэрка с выражением раскаяния на лице наведалась однажды домой, ища примирения с родителем, старый Фильчик отвернулся от нее и хмуро пробурчал:
— Я вас знать не знаю, барышня.
Затем, сняв с гвоздя шубу, он покинул дом и возвратился лишь тогда, когда уехала дочь.
После этого бедняжка Тэрка никогда больше не осмеливалась заглянуть домой. С тех пор она видела своего отца всего только раз, проезжая с исправником в коляске через деревню. Фильчик понуро брел к корчме «Белая рубашка», когда дочь из экипажа крикнула ему вслед:
— Отец, дорогой отец!..
Старик поднял глаза, почтительно и торопливо снял шапку и, не проронив ни слова, зашагал дальше. Что и говорить, в груди у этого человека было не сердце, а камень!
Все жители Майорнока, побывавшие в доме исправника, наперебой рассказывали, как хорошо живется Тэрке Фильчик. Ну прямо настоящая барыня! Все какие ни есть барские привычки усвоила, голубушка! А уж какой почет и уважение оказывают теперь нашей деревне! О чем бы ни спорили окрестные деревни, майорнокцы всегда выйдут правыми. Не преминули сообщить старику и то, что дочь шепотком просила передать ему: навестил бы, мол, ее родимый батюшка, за ним и бричку, дескать, пришлют, на шелковые подушки посадят. Палинку с медом будет он пить хоть днем, хоть ночью, во всем окажут ему почет и всяческое уважение. Сам господин исправник охотно пожмет ему дружески руку… Пусть только отец приедет как можно скорее, Тэрка ведь не смеет больше посетить родной дом.
Но старый Фильчик был неумолим.
А между тем, будь у него побольше ума, старик мог бы не только изменить к лучшему собственную судьбу, но и заложить на веки вечные основы благоденствия благородного селения Майорнок.
Ибо — но пусть уж это останется между нами! — во всей округе нет более захудалой деревеньки, чем Майорнок. Жители его самые что ни на есть жалкие горемыки. А главное, нет здесь ни единой мощеной улицы. Нет и мостика через речку, нет даже домика под сельскую управу.
Да и что тут удивительного! Ведь комитатские господа еще никогда не заводили себе любовниц в Майорноке, а дороги-то они наказывают прокладывать лишь в том направлении, куда сами частенько хаживают. Взять, к примеру, большак, что ведет к селению Чолто — шоссе там ровное, гладкое, как хорошо обструганная доска. Прибадьё может благодарить за это красавицу Эржебет Битро, а Каранчалья должна петь хвалу белому как сливки, личику статной молодицы Вер.
Что ни говорите, уж так устроен мир: прелестное личико женщины может и всей округе придать более привлекательный вид.
А вот Майорноку все не везло!
Говорят, младший комитатский инженер, наносивший на карту селения комитата, вовсе не обозначил на ней Майорнок. Тогда почтенные местные чины и дворянство будто бы обещали целых сто восемьдесят форинтов соседнему комитату Хонт, лишь бы тот признал эту деревеньку своей. Но почтенным соседям она не нужна была даже с приплатой. В самом деле, зачем благородному комитату терпеть из-за этого Майорнока позор и насмешки!
Но стоило бы Фильчику захотеть… и дорога в Майорнок была бы проложена; может, даже сплошь из одного красного мрамора!.. И все чувствовали бы себя счастливыми. Однако башмачник решительно отверг возвышенные порывы господина исправника, хотя не мешало бы старику на склоне лет капельку понежиться в довольстве и достатке. Что до земных благ, то «божий сапожник» жил весьма скудно. И вот уже одна из серебряных пряжек пожелала покинуть шубу, перекочевать в корчму «Белая рубашка». Там и лежит она с тех пор в комоде корчмаря Саля. Впрочем, не для того звался старый Фильчик «божьим сапожником», чтоб этот всемогущий клиент не помог ему в минуту самой большой напасти. Вдруг стали приходить Фильчику по почте анонимные письма, отягощенные то десяткой, то двадцаткой, а то и полсотней форинтов. Обычно в этих письмах сообщалось, будто какой-то неведомый старый должник, внезапно разбогатевший, возвращает ему должок с выражением горячей и глубокой признательности. Немало все же честных людей на белом свете!
Некоторое время старик думал, что кто-то действительно задолжал, — разумеется, не ему, а его отцу, которого тоже звали Иштваном, — и только диву давался, откуда у отца бралась такая уйма денег, что он мог их одалживать.
Но потом в душу Фильчика закралось подозрение, и он сразу смекнул, в чем дело. Пакеты, в которые были вложены ассигнации, старик стал отсылать обратно к исправнику. Как-де он смеет делать подарки самому Иштвану Фильчику? Да известно ли ему, что бабушка Фильчика родом из славной фамилии Бечки, и так далее, и тому подобное…
Ценные письма после этого больше не приходили, зато стали появляться вестники, приносившие старому сапожнику весьма печальные новости.
Красавица Тэрка Фильчик занемогла смертельным недугом. Она стала презирать блеск и роскошь, в которых дотоле находила удовольствие и радость, отталкивала от себя дорогие яства и пузырьки с лекарствами и жаждала лишь одного: повидать родного отца. Все-таки, что ни говорите, бедняжка Тэрка вовсе не была такой уж скверной дочерью.
Это горячее желание настолько завладело Тэркой, что в конце концов исправник был принужден сам отправиться за стариком.
— Хотите не хотите, старина, а я немедленно забираю вас с собой. Не отказывайте больной дочери…
— Нет у меня дочери!
— Вы отправитесь со мной, и все тут.
— Никак нельзя мне, сударь, дело у меня срочное.
— Ну хоть ради меня!.. — увещевал исправник. Фильчик глубоко вздохнул, — быть может, впервые в жизни.
— Так не поедете? Стало быть, отрекаетесь от родного дитяти?
— Точно так-с, ваше благородие.
— Да ведь так поступают последние негодяи!
— Может быть! Право, от такого старого сапожника, как я, всего можно ожидать.
Тогда молодой барин перешел к уговорам и всяческим посулам. Но, увы, и они не тронули холодное, как мрамор, сердце старика. Не возымели никакого действия и угрозы.
— Прикажите меня арестовать, ваше благородие, заковать в кандалы. Ежели уж силком, пойду куда угодно.
Что поделаешь! Пришлось могущественному господину исправнику, повелителю всей округи, возвратиться домой без сапожника.
Но был у исправника хитроумный гайдук * Михай Шушка. Дорогой он выдумал ловкий план, построенный по всем правилам военного искусства.
— Знаю я этого Фильчика, ваше благородие. Он побежит за нами, как поросенок за корзинкой кукурузы, если мы…
А ну выкладывай!..
— Если мы стащим его шубу! Он в ней души не чает в готов умереть за нее. Такой уж странный он человек…
— Тогда попытайся стащить у него шубу. Да поживей! Кого хочешь, того и бери себе в помощь.
Старый отставной служака ничего иного и не желал, как взяться за это поручение. Ведь с самой революции ему не доводилось принимать участия в сколько-нибудь серьезной кампании. В ту пору… Но об этом-то он рассказывать не станет, а то, чего доброго, и не поверят.
Тем временем больная Тэрка беспокойно металась среди шелковых подушек и каждый раз вздрагивала, заслышав стук колес. Она с трудом приподнималась на локте, чтобы лучше слышать, и так замирала надолго, запустив исхудалые пальцы в длинные, черные как смоль волосы, рассыпавшиеся по белоснежному капоту.
Ей было предоставлено все, что только может пожелать душа, и, однако, она чувствовала себя самой бедной и несчастной на белом свете. Бедняжка лишилась здоровья, а не хватало ей только одной малости — родительской любви.
Любовная страсть сжигает людей; сожгла она и Тэрку. А любовь ближних нас согревает, — и никогда еще дочь старика Фильчика так сильно не мерзла!
Все стало для нее ни в честь, ни в ласку. Голос мужчины, которого она прежде любила, стал для нее невыносим. Уж лучше бы он не бодрствовал по ночам у ее постели, лучше оставил бы ее одну! Ложе казалось ей жестким, хотя было оно из шелка да мягкого пуха. И напрасно служанки то и дело поправляли подушки.
Насколько лучше чувствовала бы она себя, лежа под кровом убогой отцовской лачуги, возле печки, слушая через раскрытое окно, как звонят к вечерне майорнокские колокола, а остывающие ноги ее накрывала бы славная отцовская шуба.
Только об этом она и говорила, этим и грезила во сне. И вот под утро судьба услышала ее мольбу. Когда она проснулась, поверх нарядного красного одеяла была разостлана ее старая приятельница — милая отцовская шуба.
Алые розы и тюльпаны, украшавшие воротник, бросали свой отблеск на бледное лицо Тэрки. Последняя радость, дарованная человеку, верно, так же сладостна, как и испытанная им впервые, когда-то давным-давно.
Михай Шутка не замедлил доказать, что он человек дела.
Его расчет оказался правильным. Ночью, возвратившись домой из трактира «Белая рубашка», Фильчик нашел дверь своем квартиры взломанной, а шубы и след простыл. Лишь одинокий гвоздь сиротливо торчал, лишенный привычного украшения. А ведь календарь-то показывал конец октября, зима уже стояла на пороге.
В полном отчаянии, надвинув шляпу на самые глаза, Фильчик с нахмуренным челом бродил взад и вперед по деревне. Он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал. Неожиданный удар окончательно сломил его. Старик не решался глядеть людям в глаза, на всех устах ему чудился один и тот же насмешливый вопрос: «А куда подевалась ваша знаменитая шуба?»
Однако надежда не покидала старого Фильчика. В нем жило нечто вроде предчувствия, что рано или поздно дорогая его сердцу вещь найдется. Не может она пропасть! Как воспользуется ею вор, если всей округе известно, что шуба принадлежит ему, Фильчику!
И старик не обманулся в своих ожиданиях. Вскоре до него дошли слухи, что злоумышленников и в самом деле поймали в пропажа находится у исправника. Говорили, что, мол, владелец должен забрать свое добро в ближайшие три-четыре дня, иначе шуба будет продана с молотка, а выручку-де пожертвуют в пользу местной больницы.
Узнав все это, Фильчик, не мешкая ни минуты, отправился в усадьбу исправника. Ведь он шел туда за своей собственностью, по праву ему принадлежавшей!
Исправник без малейших возражений и околичностей подтвердил, что шуба действительно у него, и молча кивнул Фильчику головой, чтобы тот следовал за ним.
Хозяин вел Фильчика через светлые, устланные коврами комнаты. Старик в своих грязных сапогах робко брел вслед за ним. Наконец они очутились в слабо освещенном помещении.
— Вот ваша шуба! — дрогнувшим голосом произнес исправник, указывая рукой куда-то в угол. — Можете ее забрать!
Глаза старика постепенно освоились с полумраком, но он и без того невольно потянулся туда, откуда раздавался тихий стон.
Исправник подошел к кровати и раздвинул опускавшийся над нею полог. Фильчик отпрянул.
На кровати лежала Тэрка, бледная, поникшая, как сорванная лилия. Ее длинные черные ресницы были опущены, а ноги прикрывала знаменитая вышитая тюльпанами шуба.
Тэрка, и умирая, была прекрасна, словно готовый расстаться с землею ангел. И зачем она так спешит, раз однажды уже спустилась с неба?..
Быть может, никогда больше не откроются ее чарующие глаза, столь лукаво игравшие, не раздвинутся в улыбке милые уста, целовать которые было для кого-то таким наслаждением…
Фильчик с минуту стоял неподвижно и безмолвно, будто о чем-то раздумывал. Потом без колебаний, твердой походкой приблизился он к ложу и снял с умирающей покрывало, по которому так сильно томилась ее душа. Уж наверное, оно ей никогда больше не понадобится!
Умирающая не шелохнулась. А у Фильчика даже рука не дрогнула. Он и взгляда не бросил на бедную женщину, ни единого прощального взгляда. Не проронив ни слова, старик вышел из комнаты, казалось не испытывая никакой душевной боли.
Не обернулся он и тогда, когда исправник, с содроганием наблюдавший эту сцену, прошипел ему вслед:
— Изверг!..
Очутившись во дворе, Фильчик накинул на плечи свою драгоценную шубу и, хотя уже завечерело, отправился домой нехоженой дорогой. У него сейчас не было ни малейшего желания встречаться с людьми. Быть может, в эту минуту старик подумал, что его связывает с ними столь немногое!
Лицо его было непроницаемо, оно выглядело спокойным. На нем будто даже лежала печать какого-то внутреннего удовлетворения: ведь шуба нашлась. Видно, и в самом деле у этого человека на месте сердца был камень.
Дойдя до кустарника, что рос возле майорнокского обрыва, где по ночам, если верить молве, скачет на взбесившихся от страха конях душа погибшей жены Яноша Гейи *, Фильчик споткнулся о какой-то лежавший на земле предмет.
То была нищенская сума, полная черствых хлебных корок. Наверное, усердно молил бога ее обладатель, если в ней и на завтра осталось немного хлеба насущного.
Но что это, взгляните! Там, под деревом, лежит и хозяйка сумы — одетая в лохмотья нищенка, — лежит, прижимая к себе ребенка.
Фильчик положил суму рядом с ними и зажег спичку, чтобы посмотреть — вдруг они уж и померли!
Глубокое дыхание свидетельствовало о том, что мать и дитя забылись сном. В такое глубокое забытье могла погрузить их только смертельная усталость. Ведь ненастье, холодный, пронизывающий ветер и рваные лохмотья — плохие пособники сна. Так крепко уснуть можно, лишь дойдя до крайнего изнурения. Лица их, особенно личико ребенка, посинели от холода. Крохотное детское тельце дрожало мелкой дрожью.
Фильчик достал из кармана своего доломана трубку, не спеша набил ее, закурил и опустился на землю возле спящих.
Старик смотрел на них, долго смотрел. Он хорошо мог их разглядеть: небо было усеяно звездами, которые взирали на Фильчика. Быть может, они мигали именно ему, словно к чему-то призывая.
Он все ниже склонялся над спящими, со лба его струились капли пота, голова поникла, а знаменитая шуба наполовину сползла с плеч. Пусть ее! Ведь ему и без нее жарко! К тому же, признаться, шуба еще никогда не казалась ему такой невыносимо тяжелой.
Когда она совсем сползла, Фильчик подобрал ее и в неожиданном порыве накрыл ею спящих.
Старик поднялся и в глубоком раздумье медленно побрел дальше по тропинке. Потом остановился на мгновение, обернулся: может, все-таки воротиться за шубой?..
Нет, нет! Что сказали бы на это миллионы небесных глаз?.. Фильчик заторопился домой, он почти бежал. Ночь была тихая, но холодная. А старик шел без шубы и все же не мерз.
Там, в груди, где у всех людей бьется сердце и куда провидение, как утверждала молва, положило Фильчику лишь камень, затеплилось какое-то неведомое чувство…
С той поры не стало у старика шубы. Но он по-прежнему упоминал о ней так, словно она у него есть, готов был держать за нее пари и никак не мог нахвалиться ею.
Однако жители всей округи хорошо знали, что шуба исчезла. Если б не страх перед острым языком Фильчика, они вдоволь бы над ним посмеялись. Но… теперь они просто не обращают на него внимания. Бог и люди — все отвернулись от Фильчика, бездушного нечестивца. И если не сегодня-завтра помрет старик где-нибудь под забором, лишь вороны да галки будут оплакивать его, и ров возле погоста станет ему местом вечного отдохновения.
1882
СЛОМАННАЯ ПОВОЗКА
Перевод И. Миронец
Мы ехали по Алфёльду с правительственным комиссаром, и, поскольку дело наше не терпело отлагательств (следовало попасть на именины), мы вынуждены были спешить, — стало быть, в поезд не сели, а наняли повозку в Сёреге.
Впрочем, не стану много разглагольствовать — суть же моего рассказа в том, что в селе Хоргош на одном из ухабов у нашей повозки сломалась ось и мой комиссар начал неистово ругаться.
Зажиточный старик крестьянин, стоя у ворот своего дома, стены которого, по обычаю этих мест, были разукрашены венками красного перца, словно выходной доломан позументом, флегматично наблюдал, как с треском осел задок нашей повозки.
Он и не смеялся над происшедшим и не удивлялся: просто глядел задумчиво, как привык глядеть на облака, когда ему все равно, на восток они тянутся или на запад.
Так как же теперь быть? Для этого случая мой попутчик не располагал никакими инструкциями от высокого правительства. Возчик наш тоже было отчаялся, но все же смекнул, что можно бы подсобить делу подходящей деревяшкой, — вот только где ее взять, запасную ось?
— Послушайте, земляк, — обратился правительственный комиссар к стоявшему у ворот крестьянину, — что бы тут можно было сделать?
Тот не торопясь направился к нам и после долгих размышлений нехотя, сквозь зубы, ответил:
— Да ведь кто ж его знает…
— Вот мой возчик говорит, будто можно бы скрепить ось подходящим поленцем.
— Что ж, оно бы и можно, коли на то пошло…
— Сейчас найти бы только где-нибудь такую деревяшку, — сказал комиссар нервно.
— Оно конечно.
— Может, найдется что-нибудь эдакое?
— Нет, какое там! — отозвался крестьянин, передвинув трубку во рту и снова зажав ее в зубах.
— Да неужели у вас не найдется какой-нибудь деревяшки? Или чего-то в этом роде? — уже раздражаясь, донимал его вопросами правительственный комиссар.
— Найдется, как не найдется? — ответил он лениво и через несколько минут принес годное для скрепления оси поленце.
Но радоваться пока было рано — использовать поленце мы не могли без крепкой веревки, которой надо было его прикрепить к обломкам прежней оси.
— Нам, почтенный, еще веревку бы.
— Ну да, — промолвил крестьянин, почесывая затылок. — Само собой.
— Да вот где ваять ее? Хоргошский мужичок пожал плечами.
— То-то и оно: где взять-то? — произнес он невозмутимо.
— Неужели вы не сыщете какого-нибудь обрезка — поводка или веревки, которой вы скотину привязываете?
— Сыщется… как не сыскаться? — пробормотал он, позевывая, и тотчас же вынес веревку из конюшни, после чего с видимым удовольствием стал следить за сербом-возчиком, чинившим повозку.
— А теперь скажите, сколько мы вам должны? — спросил дружелюбно комиссар, когда мы снова устроились на заднем сиденье.
— Да что там…
— Но ведь вам-то хоть сколько-нибудь да стоили те вещи?
— Ничего не стоили! — обрезал он грубо.
— В таком случае, возчик, трогай? Большое спасибо вам за услугу. Да благослови вас бог!
— Ладно! Чего там! — бросил он нам вслед. — Вы лучше вот что: верните-ка мне на обратном пути мою палку да веревку.
— Стой! Эй, возчик, погоди! Вы что дурака-то валяете? — вспылил правительственный комиссар, обозлившись. — Обратно мы поедем другой дорогой. Какого черта станем трястись на этих ухабах из-за вашего полена да веревки!
— Нет так нет… можно ли так нападать на человека, — примирительно сказал крестьянин. — Ежели не этим путем поедете, то, понятно, вернуть не сможете! Бог в помощь!
…Что правда, то правда, правительственный комиссар с трудом заполучил от него кол и веревку, зато мне легко было схватить подлинный портрет венгерского крестьянина.
1882
ЗАВТРАК МИНИСТРА ФИНАНСОВ (Зарисовка оппозиционера)
Перевод И. Миронец
В буфете только два стола накрыты белой скатертью. На прочих столах скатертей нет — они для демократов. Того же назначения и перченое сало под стеклянным колпаком. Сало под колпаком! Немыслимо!
На одном столе скатерть куда белее, чем на другом. На столе стоит бокал шерри, пустая тарелка, на которой затем появится тонко нарезанная ветчина, и, наконец, блюдечко, полное превосходных продолговатых конфет.
Здесь и стул уже приготовлен, а остальные отодвинуты прочь, чтобы не подсел кто-нибудь посторонний.
Входящие в буфет мамелюки с благоговением косятся на этот стол и, желая подчеркнуть свою осведомленность в государственных делах, почтительно бормочут:
— Министр финансов еще не завтракал!
Входят все новые мамелюки, они указывают на стол:
— Здесь будет завтракать министр финансов. Появляется Вижойи. И садится за тот самый стол. Но едва он касается локтями белой скатерти, как все начинает звенеть — бутылка, бокал, тарелки будто твердят хором:
«Вот сейчас придет министр!»
Вижойи спохватывается и сам у себя просит прощения:
— Пардон! Ведь тут министр финансов будет завтракать.
Он вскакивает с места и подходит к соседнему столику, где не так бела скатерть и где депутаты различных ориентации истребляют красное вино, ветчину или шерри в зависимости от того, какова их политическая позиция.
— Я спутал столы. Ох, уж эта моя проклятая близорукость…
— Не кляни ее, милейший Вижойи, — говорит один из членов правительственной партии, — ведь она-то и сделала тебя нашим лидером.
— Да, но я только что сел туда, где…
— Да, да, где будет завтракать министр.
— Ах, эти конфетки! Отвратительно! Душек * когда-то курил коротенькие сигары, — говорит кто-то из тех, со смешанными взглядами.
— И каждый день устраивался у кого-нибудь завтракать, чтобы не тратить на это государственные денежки.
— Да, то был Душек! Великий Душек. Звезда Душеков закатилась, господа! Теперь настала эпоха конфеток.
— Конфеток? — взвизгнул один из крайних левых. — Эти конфетки надо бы раздать плательщикам налогов, а сборщикам оных — мышьяк.
— В этом заключается твоя программа?
— На этом основании я избран.
Но тут бесшумно входит министр. Настает глубокая тишина. Ковер заглушает шаги министра и мягко шелестит: «Его высокопревосходительство пришли завтракать».
Мухи, привлеченные запахом молока, шаловливо кружат над столом и жужжанием подбадривают друг друга: «А ну-ка, братцы, позавтракаем вместе с министром».
На губах мамелюков появляются приятные, почтительные улыбки, с лиц крайних стирается гримаса недовольства, кругом сплошное благодушие, в окно светит солнышко, синие глаза Гебы за буфетной стойкой сияют чарующим блеском, куски масла тают, сельди и сыры распространяют пикантный аромат — все-все преисполняется торжественностью: министр финансов завтракает!
Его высокопревосходительство усаживается, стул, пискнув под ним, как бы благодарит за оказанную ему великую честь. Перед министром появляется ветчина. Как жаль, что бренные останки покойной свиньи не способны уже почувствовать выпавшее на их долю счастье!
Министр ест мало и изящно. Нож и вилка не без шика задевают порою друг друга.
Первый кусочек сопровождается небольшим глотком вина…
Опять кусочек, еще один… затем глоток… Его высокопревосходительство отсутствием аппетита не страдает.
Меж тем в зале заседаний ускорили темп. Ораторы сокращают свои речи. Да и к чему вся эта говорильня! И так-то результата никакого, а тут даже не обозлишь никого, рассказав, как маются налогоплательщики. Ведь министра финансов нет в зале. Министр финансов завтракает.
Дверь буфета открыта. Туда видно, и оттуда видно. По коридору с убитым видом прохаживаются два депутата из Трансильвании. Они как раз обсуждают массовую эмиграцию секеев *. Ужасное положение… ведь бедные секеи голодают.
— Тсс! Не так громко! Дверь открыта, а там завтракает министр финансов!
1883
ЗАБЫТЫЙ АРЕСТАНТ
Перевод И. Миронец
— Пусть войдет следующий свидетель!
Полицейский втолкнул в дверь долговязого детину, перепоясанного широким ремнем с пятью щегольскими пряжками. На плечи его был наброшен расшитый белый сюр, новенькие постолы с белыми шнурами красовались на ногах.
Ого, да ведь это же словак-сторож господина Иштвана Мачкаши, тот, который сцапал меня в студенческие годы, когда я охотился на их кукурузном поле!
Перед моими глазами поплыли зеленоватые круги. Я забыл, что сижу на судейском стуле. Да оно и не удивительно: ведь мне было всего двадцать три года. Вспомнилось возмущение, которое я почувствовал, когда он отобрал у меня сумку с патронами. Пять лет уже тому, но один взгляд, брошенный в лицо сторожа, сразу развеял золу времени, и жажда мести с прежней силой закипела у меня в жилах. Пять лет назад я был этакий тщедушный паренек, и когда он меня толкнул, голова моя закружилась и я навзничь упал на землю.
— Имя? — спросил я глухо.
— Михай Врана, ваш покорный слуга, — почтительно ответил великан.
— Подойди ближе.
Он приблизился робко, торжественно, ступая, точно в церкви. (Небось дома, на хуторе у себя, ты не трусил, держался грубо и отчаянно, не так ли?)
— Сколько тебе лет?
— Двадцать девять.
— Женат? Дети есть?
— Не женат.
— Судимость имеешь?
— Никак нет.
(Нет — так сейчас получишь. Уж как-нибудь у нас имеются на то свои испытанные методы.)
— Михай Врана, ты вызван в качестве свидетеля по делу Дюрдика против Мачкаши и под присягой ответишь на задаваемые вопросы.
— Слушаюсь, — тихо сказал Врана, пригладив назад длинные соломенные волосы.
— Да ты как будто выпивши?
— Никак нет.
— А мне что-то кажется… Ну-ка, подойди поближе. Дыхни! Это «дыхни» было нашей личной властью, которая уже не входила в компетенцию вице-губернатора и которую исправник также передал нам, присяжным, для потехи.
Врана дыхнул на меня. Дыхание у него было такое чистое, как у новорожденного младенца, водкой и не пахло. Но все одно: погибать Вране!
— Андраш! — позвал я полицейского.
— Что прикажете, господин присяжный?
— Отведите, куда следует, этого пьяного молодчика, пусть проспится до завтрашнего утра.
Врана клялся-божился, что неделю уже в рот не брал хмельного, но кому подашь на обжалование! Королевский апелляционный суд далеко, на него не дыхнешь.
Так и отвели Врану в темницу при малом здании комитатской управы.
— Следующий свидетель!
До самого вечера я был занят делом Дюрдика. Ибо правосудие было вверено нам, молодым, легкомысленным людям.
Нашего почтенного вице-губернатора интересовала только административная сторона комитатской деятельности, но и здесь он, по-видимому, избрал одно: решил оберегать пьяных — и в этом отношении был непревзойденным специалистом.
Если перила мостов оказывались подпорченными, он раздраженно кричал: «Немедленно починить! Ведь, чего доброго, какой-нибудь подвыпивший человек, проходя тут, свалится с моста». Если в сельских местностях из вентиляционных отверстий каретных сараев по старинушке высовывали оглобли повозок, и это ему не давало покоя: «Отпилить оглобли, а то, неровен час, какой-нибудь бедняга пьяный расшибется о них». Если во дворе малого здания управления комитата, где была ваша канцелярия, сдвигалась с места каменная плитка, старик тотчас же замечал это: «Почему не положите туда новый камень, — ну, как оступятся присяжные, когда ночью под хмельком домой будут идти!»
Трезвые люди не занимали его, равно как и правосудие. Трезвый человек пройдет и по плохой дороге, зачем ему новая дорога и новый мост?
Затевающий тяжбу человек тоже не достоин особого внимания. Он сам на беду напрашивается, зачем же его избавлять от нее?
Подобным образом рассуждал и я, и в упомянутый день, швырнув папку с делом Дюрдика на стол, я с моими веселыми приятелями отправился за город на ближайший пляж, решив продолжить работу утром.
Однако кутили мы так славно, что из одного вечера вышло два вечера, ну еще и день между ними.
О деле Дюрдика я и не вспомнил, зато вспомнил — да так и обомлел с перепугу — про Михая Врану.
Несчастного Врану я еще позавчера велел посадить под замок. С тех пор он не ел и не пил, — стало быть, уже умер.
— Эй, кучер, немедля запрягай и во весь дух летим в город! Друзья пытались меня удерживать, не понимая, что это со мной стряслось.
Должно быть, выглядел я устрашающе, с бледным лицом, с остекленевшими глазами, растерянным взглядом.
— Оставьте меня в покое, мне надо в город, любой ценой в город.
Старый архивариус окинул меня взглядом…
— Понятно, domine spectabilis[2], лунный свет, полночь, нетерпение… не сойти мне с этого места, если здесь не замешена молодушка.
— Да нет, вид у него совсем не влюбленного, — заметил младший секретарь Иштван Колонкаи, — он скорее похож сейчас на убийцу.
Я содрогнулся. Это жуткое слово пробежало у меня по всему телу. А что, если это правда, если правда? О!
В отчаянии я бросился в карету. Но как ни быстро летели кони, мне казалось, что мы плетемся.
Деревья по обочинам дорог бросали темные тени, похожий на стоящие рядком гробы. Летучая мышь шлепнулась о мое лицо. Ухх! Я схватил ее и вдруг задрожал, а зубы у меня стали лязгать.
О, господи, не иначе как бедный Врана умер.
По существовавшему правилу судья мог посадить кого-то в свою тюрьму всего на двадцать четыре часа. Если же он приговаривал подсудимого к большему сроку заключения, то должен был передать его комитатскому суду, чтобы там арестованного взяли на учет и довольствие. У нас же не было средств для содержания заключенных.
Но Врана уже мертв, это несомненно, и мне конец навеки.
Было уже часа два ночи, когда я добрался до города и постучал в ворота малого здания комитатской управы.
— Кто там? — спросил сторож.
— Откройте ворота, я хочу пройти в канцелярию.
В канцелярии находится ключ от тюрьмы. Но что толку, если ключ от канцелярии был где-то у полицейского Андраша.
С бьющимся сердцем, вконец обалдев, помчался я на другой конец города, где жил полицейский Андраш.
— Андраш, вставайте, скорее вставайте!
— Что, татарин, что ли, идет? — буркнул он и повернулся на другой бок.
— Встаньте немедленно, беда!
— Ну что там… — полусонно протянул он.
— Помните словака-сторожа, которого я позавчера велел запереть?
— Ага, правда ведь… Помню, как же.
— Да знаете ли, что он мог умереть за это время?
— А конечно, мог. Ну, только дай бог, чтобы большей беды не было в нашем славном комитате.
— Давайте-ка поживее, пошли вызволять его. Ну же, раз-два!
— В такое-то время? — удивился Андраш.
Но все же он поплелся за мной, хмуро толкуя по дороге:
— Напрасный это труд, ваша милость, потому как, ежели он помер, все одно только завтра похоронить его сможем, а ежели жив, то, стало быть, и он спит и не очень-то нам обрадуется…
— Идем, идем скорее!
Он принес из канцелярии ключ, и мы тихонько, со сжимающимся сердцем, побрели на задний двор, где помещалась тюрьма.
Виски у меня горели, ноги подкашивались; мне казалось, что я вот-вот рухну. О, эти ужасные три-четыре минуты стоили целого года страданий.
Заскрежетал в ржавом замке ключ, и дверь открылась…
— Ступайте вперед вы, Андраш, — прошептал я дрожащим голосом, — дайте мне руку, Андраш… мне страшно…
— Холодная у вас, барин, рука…
— Кликните его, Андраш… кликните…
— Эй, Мишо, Мишо Врана! — крикнул Андраш.
— Гопп! — отозвался Врана, подскочив к нам.
От радости я взвизгнул и прислонился в изнеможении к стене:
— Значит, вы еще живы, Михай?
— А то как же? — ответил он.
— А мы-то думали, что вы умерли.
— Еще чего! — насмешливо отвечал он, не обратив даже внимания на мои ребяческие страхи.
— Теперь-то вы свободны, Михай Врана. Сниму с вас допрос по делу Дюрдика и можете отправляться домой…
Он не сказал ничего, только шагнул ко мне раз, другой… Я подумал: вот сейчас схватит меня за горло, чтобы отомстить за мое самодурство, — я, разумеется, стерпел бы все от него.
Но он ничего такого не сделал и подошел ко мне лишь за тем, чтобы «клониться и, шумно дыша, поцеловать мою руку.
— Спасибо, — протянул он, — что изволите меня домой отпустить. Уж вы поверьте, ваша милость, не плохой я человек.
Я вырвал руку и покраснел.
Он надел свою широкополую шляпу и поправил на себе ремень с пятью пряжками.
— Я так и думал, что меня выпустят. Потому как знаю: в нашем благородном комитате все по справедливости.
Это был мой единственный узник. Он нисколько не походил на забытых узников нынешнего дрянного века. Он-то знал честь. Спустя неделю он снова открыл дверь моего кабинета.
— Ну, что случилось, дружище Врана? Он достал из-под сюра плетеную корзинку.
— Да вот, принес немного сладкого винограду, в благодарность вашей милости.
…Я попробовал виноград, но мне он не был сладок.
1884
КРЕСТЬЯНИН, ПОКУПАЮЩИЙ КОСУ
Перевод В. Клепко
Однажды довелось мне быть свидетелем того, как торговался Гергей Чомак.
Вошел он в скобяную лавку, поздоровался;
— День добрый.
— Чего угодно?
— Мне б косу.
Лавочник проворно вскочил, вмиг приволок целую дюжину кос и разложил их на прилавке. Степенный Чомак, лишь искоса взглянув на предложенный товар, отвернулся и попросил:
— Покажите-ка мне, почтенный, косы с клеймом, на котором пушка обозначена.
Лавочник убрал косы с клеймом в виде быка и принес несколько штук с пушкой.
— А больше-то у вас нет, что ли? — заметил пренебрежительно Чомак.
Лавочник терпеливо разложил перед посетителем все косы, какие только были в лавке.
Гергей Чомак окинул косы придирчивым взглядом, однако даже не прикоснулся к ним. Раздумывая, почесал затылок.
— Ну, что-нибудь еще не устраивает?
— Нет, знаете, посмотрю-ка я лучше те, что с быком. Делать нечего, лавочник снова принес только что принятые с прилавка косы.
Кажется, и сам привередливый Гергей Чомак почувствовал теперь себя неловко. Он взял первую попавшуюся под руку косу и, прищурив правый глаз, пробежал по ней взглядом. Затем он прищурил левый глаз и пристально оглядел косу, держа ее уже в вертикальном положении, сперва острием вниз, а затем подняв над головой.
— Почем? — спросил он равнодушным тоном.
— Два форинта.
— Вот эта коса? — И в его голосе зазвучала насмешка. — Не может того быть, чтобы она столько стоила.
Он положил косу на прилавок и взмахнул рукой в воздухе, как будто клинок уже насажен был на косовище. Затем он провел узловатым большим пальцем вдоль острия сперва с одной, а затем с другой стороны. Проделав это, он постучал по ней согнутым указательным пальцем в нескольких местах, а затем, приставив косу к колену, стал сгибать ее.
— Хм… Кхы… Неужто за эту косу два форинта? Лавочник божится, что дешевле отдать не может: ему самому она обошлась не меньше.
— Знаете, почтенный, что-то плохо она закалена.
— Первокласснейшая английская работа.
— Да вы меня за дурачка принимаете! Сразу видать — перекована из старой.
— Отличная сталь. Прослужит до самой смерти…
— Ежели раньше не выкрошится, — съязвил Гергей Чомак.
— Такой косы вам и в руках-то держать не приходилось!
— Как это не приходилось? Что ж вы обо мне думаете?
— А вы посмотрите внимательнее на эту косу.
— Внимательнее? А зачем? Коса как коса, такая же, как остальные. Даже и не подумаю рассматривать. Так, взял первую попавшуюся. Ну ладно, выкладывайте, да поживей, настоящую цену, а то мне некогда. У меня спешные дела на базаре.
— Я, кажется, уже сказал — два форинта!
— Тю… Побойтесь бога! За такую ерунду заломить целых два форинта! Знать бы, по крайней мере, что в ней такого особенного.
Чомак снова принялся разглядывать косу. Раз-другой он взмахнул ею, затем вышел с косою на улицу, чтобы получше рассмотреть на свету.
Обернувшись с порога, он крикнул лавочнику:
— Там у вас моя шляпа осталась!
Выйдя на улицу, он стал наблюдать, как затанцевали, заиграли солнечные зайчики на гладком, отливающем синевой зеркале косы. Он поднес косу к губам, дохнул на нее и замер, благоговейно созерцая быстро тающее на стали туманное пятно. Затем, постучав косой о мостовую, он прислушался.
— Звон у нее какой-то чудной, — пробормотал он себе под нос и, не торопясь, вошел в лавку, где опять принялся за свое: — Не нравится мне чего-то звон ее… Ну, так как же, хозяин, за форинт и восемьдесят крейцеров отдадите?
— Ох, ладно, так уж и быть, уступлю малость. Берите за форинт девяносто.
— Нет, так не пойдет. Она того не стоит. Меня дети родные за это проклянут… Ну, так уступите за цену, что я даю?
— Дешевле не отдам.
— Ну, тогда бог с вами! — развел Чомак руками, как бы прося прощения, и направился к выходу. Однако, не дойдя и до середины улицы, он вновь возвратился в лавку и спросил зычным голосом: — А может, все-таки уступите? Ну, так как же?
— Не отдам.
Крестьянин постоял в замешательстве, повертел головой, теребя в руках засаленную шляпу.
— Отродясь не приходилось мне встречать такого несговорчивого человека. Знаете что, хозяин, отставьте-ка эту косу вот сюда, в угол. Я хочу еще чуток поразмыслить на воле.
Прошло не менее часа. Наконец он снова возвратился, приведя с собой своего земляка.
— Вот я и опять пришел, — проговорил он, тяжело дыша и вытирая со лба пот, — а это вот мой кум, Ишток Камот из Дорожмы. Мы, значит, так порешили, ежели и он возьмет себе косу, — уж коли на то пошло, — стало быть, мы вдвоем купим две косы, а потому, как это водится, с каждого возьмут меньше.
— Я уже сто раз сказал, что уступить не могу.
— А вы подумайте хорошенько, не торопитесь с отказом.
— Бесполезно меня уговаривать.
— Так-таки, значит, и не уступите? — запальчиво спросил Чомак.
— Не уступлю, — твердо ответил лавочник.
— Что ж остается сказать в таком разе? — сказал Чомак примирительным тоном.
— Говорите, что хотите. И разговаривать более с вами не желаю.
— Ну, это вы того… Зачем же так сразу — и в амбицию. Коли вам на меня жаль слов тратить, так ударим по рукам. Дайте вашу руку.
И довольный Гергей Чомак торжествующе пожал руку лавочнику.
— Эх, куда ни шло, сделали дело!
Не торопясь, с довольным видом он начал расстегивать жилет, не спуская глаз с прислоненной к стене косы.
— Погоди-ка! — воскликнул он вдруг.
С быстротой молнии в голове у него пронеслась страшная мысль: «А ведь коса-то стала вроде и кривее и короче!» Он обвел всех подозрительным взглядом, затем взял косу и проверил ее на вес.
— Нет, это не та коса, — проговорил он сердито. — Провалиться мне на этом месте, это не моя коса.
И он стал торопливо застегивать свинцовые застежки на жилете.
— То есть как это не та коса? Не придумывайте, дядя Гергей, не выводите меня из себя!
— Э-хе-хе… И зачем только уносила меня нелегкая отсюда? Знаю, сам виноват. И вот тебе на! Что ж теперь делать?
— Я же говорю вам, что это та самая коса!
— Эта вот?! Так ведь я как-никак не слепой, пока еще обоими хорошо вижу.
Он провел пальцем вдоль острия, попробовал его на сгиб, постукал пальнем по металлу, вынес косу на улицу, стукнул несколько раз ею об мостовую, подышал на нее, взмахнул несколько раз в воздухе и, глубоко опечаленный, медленно вернулся в лавку.
— Нет, не та коса! Этой форинт восемьдесят красная цена.
— Не устраивайте мне тут комедий! Не нравится эта коса, выбирайте любую, перед вами целая куча.
— И не подумаю! Ишь глупость какая — начинать все сначала! Ладно уж, пускай остается эта, только я заплачу за нее столько, сколько она действительно стоит.
— В таком случае и слушать больше ничего не желаю.
— Что? Значит, по-вашему, я один должен терпеть убыток? Добро ж… хотите взять с меня лишнее? И у вас совести на это хватит?
— Вы мне тут проповедей не читайте, а лучше платите, да поскорее!
— Хорошо же! — с горечью воскликнул почтенный Гергей Чомак. — Пусть будет по-вашему… Только уж пополам, чтобы не одному мне быть в накладе. Поделим эти десять крейцеров поровну.
— Я не собираюсь половиниться с вами.
— Ну, в таком разе вот деньги. Держите!
Он снова принялся расстегивать свою жилетку, из внутреннего кармана которой с трудом извлек чулок. Затем с самого дна чулка он достал бумажный форинт и протянул его лавочнику.
— Остальные я вмиг отсчитаю.
Он вытащил из наружного кармана жилетки монету в двадцать крейцеров, а из другого — четыре крейцера.
— Это сколько же будет? Двадцать четыре…
Потом он полез в карман штанов и наскреб там еще тридцать три крейцера.
— Двадцать четыре да тридцать три — это будет пятьдесят семь… Сколько надо еще?
— Еще тридцать три крейцера.
— Столько-то? Ух, трудновато будет! — пробормотал он с наивным выражением лица, исподтишка наблюдая за настроением лавочника. — Стоп, куда же запропастились остальные? Постой-ка, куда ж я их засунул? Куманек, ты случайно не знаешь? Ах, вот тут еще, в платок завязаны.
И действительно, в уголок белой тряпки было завязано еще двадцать крейцеров.
— Вот все, что есть, уважаемый, — проговорил он медовым голосом. — На нет, как говорится, и суда нет!
— Гоните еще тринадцать крейцеров, — неумолимо торопил его лавочник.
— К чему упрямиться, почтенный, зачем? Мне и так завалящая коса досталась… Да к тому же у меня больше ни гроша с собой нет. Все оставил на телеге, в рукаве тулупа. Не захотите ж вы, право, чтоб я пустился бежать из-за каких-то жалких крейцеров в такую даль. Доплачу как-нибудь в другой раз.
— Мне все разом нужно. Что ж, сходите за деньгами, ведь коса от вас никуда не убежит.
Гергея Чомака так и взорвало.
— Что? Значит, мне и на каплю веры нет? Да знаете вы, что и отец и дед мой на селе в почете жили? Слышите, почтенный? Не нуждаюсь я ни в чьей милости. Меня тоже не с навозной кучи подобрали. Кум, швырни-ка ему эти тринадцать крейцеров!
И Чомак с обиженным видом схватил косу.
— Пошли, кум…
Однако, выйдя за порог лавки, он снова заглянул в нее. Его глаза искрились злорадными, насмешливыми огоньками. Он подернул плечом, торжествующе потряс косой и громко крикнул:
— А все-таки, скажу по секрету, это была самая лучшая коса! Остальные-то и дырявой полушки не стоят…
1885
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
Перевод О. Громова
Первый визит в Герей
Я люблю и уважаю всех своих родственников (родственные связи — дело нешуточное), однако охотнее всего я бывал в семье Пала Ковача, на Алфёльде, хотя родство это довольно дальнее. Дом у Ковачей велся прекрасно, и недостатка не было ни в чем — даже девиц там было три, причем одна красивее другой. К тому же они считались «выгодной партией»: за каждой маячили семьдесят — восемьдесят тысяч форинтов приданого. А восемьдесят тысяч — превосходный маяк…
Судьбе было угодно, чтобы жених появился в доме Ковачей как раз в то время, когда я там гостил. Щеголеватый молодой человек со светлыми вьющимися волосами, обладатель двух фамильных титулов — Карой Борот линкейский и боротский, — словом, дворянчик хоть куда: и пил, и на коне гарцевал, и в карты играл, и запросто, по имени, величал всех магнатов.
Четыре-пять дней он увивался около девиц, а потом решительно попросил у Ковача руки его старшей дочери Милики.
— Вижу, вас влечет друг к другу, — проговорил старый Ковач, — ну, а поскольку вы, молодой человек, из хорошей семьи, я против этого брака возражений не имею. Но прежде всего…
— Приказывайте, сударь!
— Мой отцовский долг повелевает мне выяснить, куда вы увезете свою жену? — И поскольку в Венгрии считается неприличным интересоваться материальным положением, разве что вот таким окольным путем, он тотчас же добавил: — Мне не хотелось бы, чтобы дочь моя оказалась вдалеке от меня!
— Однако ж это далековато отсюда… Герейская пустошь, под Кашшой.
— Ай-яй-яй, — сокрушенно покачал головой господин Пал, только для того, чтобы придать словам своим видимость возражения. — Никто из моей родни не бывал там. Да ведь это совсем на краю света. — Он почесал в затылке, будто раздумывая. — Эхе-хе… Ну да ладно, поглядим. Бедная моя пташка! Если она так далеко улетит отсюда, то я, пожалуй, больше и не увижу дочурку в ее гнездышке. Так как же называется это место?
— Герей.
— Это на тот случай, если я когда-нибудь окажусь в тех краях. А мне, между прочим, как раз надо было бы съездить по делу в Кашшу.
— Если бы вы, сударь, навестили нас, то доставили бы мне этим большую радость.
— Что ж, вполне может случиться, если не удержат осенние полевые работы…
Но я не стану пересказывать дальше этот тривиальный диалог, ибо он в точности напоминает исковое прошение, написанное адвокатом: всегда одно и то же, только Милики да Карой меняются. Давно уже так повелось, что выяснение имущественного положения среди джентри * протекает у нас именно в такой завуалированной форме.
Нечего и говорить, что осенние работы не мешали нашей поездке (старик и меня «подбил» съездить); и вот в один прекрасный день мы отправились разыскивать Герейскую пустошь.
До Кашши мы кое-как добрались по железной дороге, однако затем дядюшка Пали стал явно нервничать, так как никто из извозчиков слыхом не слыхал о такой пустоши. Все они в один голос твердили, что вообще нет пустоши под таким названием, а если, паче чаяния, она и есть, то там не может обитать человек благородного сословия.
— Послушай, сынок, что ты думаешь об этом? — спросил старик, бросив на меня мрачный взгляд.
Я пожал плечами, ибо вообще ничего не думал.
— Ты слышал что-нибудь об этаких мошенниках?
— Мы как раз находимся в их провинции, дядюшка Пали.
— Ну и ну! Славная получается история! И все же я не верю, не могу поверить, что он обманул меня. У него ведь такая славная физиономия.
Наконец отыскался один извозчик, вспомнивший, что по усольской дороге видел справа табличку с надписью от руки (это, без сомнения, была рука провидения!): «На Герей».
Разумеется, мы тотчас же наняли эту коляску; извозчика звали Петером Ленделем. Шельма был донельзя болтлив и всю дорогу тараторил без умолку; в деревнях, по которым мы проезжали, он знал каждый дом и всегда мог рассказать о его хозяине какую-нибудь забавную историю.
— В том дворе, что весь травой зарос, живет Лайош Харатноки. Когда-то был он богатый человек. Бывало, на неделе по два раза требовал к себе цыган из Кашши, чтобы, значит, играли ему. А потом вдруг стал твердить всем, что оглох и не может, мол, музыку слушать. Да только какой дурак в это поверил бы! Всякому ясно было, где тут собака зарыта…
— Так, значит, он не оглох?
— Да нет же, какое там! Просто у него не осталось больше ни денег, ни кредита. Но, по нему, лучше полжизни выдавать себя за глухого, нежели признаться цыгану: «Нечем мне заплатить тебе за твои песни…»
За люборцким лесничеством мы увидели красивый сельский домик, увитый диким виноградом.
— А этот принадлежит вдове Яноша Чаподи. Гляньте-ка, во дворе как раз лошадей запрягают! Ишь, как они, бедолаги, опустили уши. Ну да ведь это — всего-навсего армейские коняги… Э-эх, а какие рысаки были тут еще десять лет назад: закусят, бывало, удила, как драконы!.. Н-да, мир меняется, все проходит, все рушится. А, видно, умница наш король, прошу покорно, бо-ольшая, большая умница! Ведь выдумал же давать напрокат этих армейских лошадок. Не будь этого, так у нас уже бедные дворяне пешком ходили бы!
У почтеннейшего Ленделя на все находилось едкое замечание. В Керфалве он, выругавшись, бросил: «И здесь уже хозяином можжевельник стал, а не дворянская грамота!» В Ханчи вздохнул истово: «О, боже милостливый, да когда же ты остановишь эту зряшную утечку земли?!»
Так ехали мы от деревни к деревне и уже представляли себе во всей полноте эту нарисованную мрачными красками картину, когда наконец у склона в Усольскую долину заметили табличку с указателем: «На Герей», — и наша коляска свернула вправо, на проселочную дорогу.
Отец Милики пришел в сильное душевное волнение: что-то нас ожидает в Герее? Лошади по крутой горной дороге могли двигаться только шагом, и нетерпение господина Пали росло на глазах. Между тем природа вокруг была очень живописной: березы с замшелой корой и древние дубы бросали на нас тень; из чащи леса доносились звонкие птичьи трели. («Эти дурные птицы совсем не меняются, — проворчал почтеннейший Лендель, — и сейчас свистят себе точно так же, как и до революции!») Справа от дороги, на голом холме, темнели выщербленные руины старинного замка; вокруг алели дикие розы. Внизу, в горловине долины, одиноко торчала заброшенная мельница; ее колесо уже много лет как остановилось, ибо ушла вода «Что за чертовщина, виданное ли это дело, чтобы поток забросил мельницу?»
Повсюду, куда ни кинешь взгляд, — а отсюда, с вершины скалистой горы, над которой единственный чахлый бук раскинул свою жидкую крону, открывался вид на всю округу, повсюду заметны были следы запустения.
Какой-то шутник, побывавший здесь, наверху, повесил на ветки бука женский передник. Возможно, он сделал это из суеверия, а возможно — с определенным значением, подобно тому как победитель, разрушивший древнюю крепость врага, оставляет на башне «signum»[3] — свое знамя.
— Взгляни-ка сюда! — воскликнул вдруг дядюшка Пали. Проехав площадку для обжига кирпича, мы повернули, и вдруг перед нами открылась широкая долина, на которой, совсем как в сказке, возник замок, крытый красной крышей, с двумя торчащими кверху башнями: девять окон с зелеными жалюзи весело поглядывали на нас. Солнечные лучи позолотили фасад замка, украшенный гербом. Не хватало только «курьей ножки». А вот и человек, которого можно расспросить о замке! То был пастух, стоявший со своими овцами у края дороги.
— Э-эй, что это за замок?
— Боротский замок.
Дядюшка Пали на радостях бросил пастуху пригоршню монет и, довольный, бормотал: «Ну, это уже кое-что, братец! Тысяча чертей в колымаге!» Он поспешно спрыгнул с коляски перед террасой, но никто не вышел нам навстречу.
— Э-эй! Есть кто там, в доме?
Никакого ответа не последовало; в замке стояла гробовая тишина.
— Г-мм! Уж не заколдованный ли это замок, где люди превратились в камни?
Из бокового флигелька выскочил вдруг коренастый старик с короткой шеей и заросшим щетиной лицом, таким пухлым, точно он был стеклодувом; хотя время стояло осеннее, на ногах у него красовались толстые зимние боты; над глазами торчал зеленый козырек.
— Дома господин Карой Борот?
— В этом году нет его, — ответил старик, запинаясь.
— Черт возьми, — огорчился дядюшка Пали, — а где он?
— В битве при Пишки *, — пробормотал тот.
Мы переглянулись, не зная, как следует понимать его ответы; в этот момент сверху послышался женский голос:
— А вы ему погромче кричите, господа!
Я обернулся на голос, желая выяснить, чего ради мы должны кричать. И что же? Посреди двора, в ветвях шелковицы увидел я смазливую крестьянскую девушку; одну ногу она свесила вниз, и та дразняще сверкала наготой, так как бесстыжая ветка подогнула краешек ее юбки. Красивое румяное личико девушки было перепачкано тутовыми ягодами.
— Господин управляющий плохо слышит, — сказала она. — Ему нужно кричать.
— Мы ищем барина.
— Он, должно, на пасеке. Я сейчас сбегаю за ним.
Как дикая кошка, она соскользнула с дерева и побежала за Кароем. Завидев нас, он очень обрадовался, обнял по очереди, провел в дом и уж не знал, куда нас и посадить. Тут и управляющий, почуяв такой поворот событий, пришел извиняться: он, мол, принял нас за скупщиков дубильного орешка, потому и сказал, что «в этом году нет его» (прошу покорно, его, и правда, нет). А потом, дескать, ему показалось, будто мы спрашиваем, где он лишился слуха, на что он и ответил: «В битве при Пишки» (однако он, ей-ей, не замышлял ничего дурного). А Карой тем временем засыпал нас вопросами. Как поживает Милике? Что она просила ему передать? Нашла ли она медальон, который тогда потеряла? Жива ли еще борзая Цоки? (Разумеется, жива.) Болеет ли до сих пор маленькая канарейка? (Нет, сударь мой, она совершенно здорова.) Пока он занимал нас разговором, вымерший замок начал, как в сказке, оживать. Повсюду хлопали двери, гремела посуда, со двора доносилась веселая возня слуг. Изо всех закоулков, словно из-под земли, появлялась челядь в ливреях.
Почтеннейший Ковач был ошеломлен и восхищен. А когда подали роскошный ужин!.. Фамильное серебро, дорогое столовое белье из чистого льна с вышитым гербом Воротов: на золотом полосатом поле — вздыбившийся лев со стрелой в пасти… Н-да, ничего не скажешь, роскошь!
— Очень милая усадьба, друг мой! — с воодушевлением воскликнул дядюшка Пали после ужина.
— Ничего, жить можно, — скромно ответил Карой, — одна только беда: далеко, захолустье.
— Ах, разве это далеко! — бурно возразил старик. — Раз-два, и уже здесь! А какой восхитительный воздух! Вот что нужно моей Милике.
— Воздух, несомненно, прекрасная вещь, но вот общества здесь никакого. Ни одного дворянина поблизости.
— Чепуха! По крайней мере, некому заниматься сплетнями. Проживете и вдвоем. Ну и еще — как зовут господина управляющего?
— Мартон Антош.
— Вот в зимнее время этот почтенный господин и составит вам компанию.
— Благодарю покорно, — расхохотался Карой. — С тех пор как я знаю его, он только и рассказывает об этой битве при Пишки.
Он встал и, подойдя к старику, посапывавшему в конце стола, тупо устремив взгляд в пустоту, озорно крикнул ему над ухом:
— Эге-гей! Дядя Антош! Где вы оставили вчера битву?
— Мы остановились там, прошу покорно, — с готовностью отвечал старик, — когда Бем завидел в подзорную трубу русских…
— Да ведь этот старик — настоящее сокровище, клад для Милики! — весело перебил его дядюшка Пали.
— Ах, когда уж я дождусь того часа, чтобы передать ей добряка Антоша! Но для этого сначала нужна Милике.
— Ну, за этим дело не станет. Вы, сударь мой, сможете привезти ее сюда хоть на следующей неделе.
Второй визит
Итак, через несколько дней сыграли свадьбу.
Карой увез Милике в Герей, а я укатил в Пешт, и даль поглотила их.
Прошел целый год, и вот однажды решил я нагрянуть в герейский замок к молодым. Сказано — сделано. И в одно прекрасное утро я стоял на веранде замка с портпледом и саквояжем в руках.
— Барин дома? — спросил я у праздно стоявшей во дворе служанки.
— Нельзя войти — их милости еще не одеты.
— В такое-то время? В десять часов?
— А когда же им и понежиться, — отвечала она с озорством, — как не сейчас, в медовый месяц?
Доверие за доверие. Я игриво потрепал служанку по щечке с ямочками.
— Ах ты, душечка моя! Должно быть, много у вас меду, если его на четыреста дней хватает. Ведь уж больше года прошло со дня свадьбы.
Красавица в насмешливой улыбочке показала мне свои мелкие белые зубки.
— Ох, да как же вы это знаете! Ну и ну! Да нешто не четыре дня назад это было?
— Не болтай чепухи.
— Да полно вам! Свадьба была в субботу, а сегодня вторник.
— Ну, ладно, ладно, я-то ведь говорю о господине Бороте.
— Так и я говорю о господине Бороте.
— Ну, довольно. Сходи и посмотри, могу ли я войти. Через минуту она крикнула мне:
— Пожалуйте!
У стола сидели за завтраком совсем незнакомые мне люди: две пожилые дамы, молодая женщина в белом кружевном пеньюаре и какой-то господин с темными бакенбардами.
— Что вам угодно? — спросил он, шагнув мне навстречу.
— Я хотел бы видеть хозяина дома.
— Это я, — спокойно ответил тот.
— …господина Борота, — поправился я.
— Да, это я, к вашим услугам.
— Вы? — смущенно пробормотал я. — Как вы изволили сказать?.. Э-э… простите, сударь, но… как бы вам объяснить? Видите ли, мой друг Борот, который женился на Милике…
— О, то наверняка был другой Борот.
— Нет, нет! Этот самый Борот, Борот из Герея. Карой Борот.
— Ах, Карой! Я что-то слышал о нем, но лично не был знаком. Я — Дёрдь Борот. А с кем имею честь?
— Иштван Бибити.
— Бибити?! В таком случае ты — у себя дома, — живо воскликнул он приветливым тоном. — Я знаю твою семью. Вы ведь из Саболча? Гашпар Бибити — мой давний хороший приятель. Ну, это просто замечательно! Подать сюда стул! Ты, конечно, еще не завтракал. Ах да, позволь представить тебе: госпожа Ринг, моя теща… мадам Монфорт, тетушка моей жены, супруга венского банкира. А это — моя жена, Мария-ностра, наша Мария, ибо пока еще она принадлежит всем нам, всю эту неделю.
А когда мама и тетя уедут, она станет только Мария-меа, моя Мария.
И он так мило захохотал над этой плоской шуткой, что его веселость передалась и мне.
— Вот видишь, — продолжал он болтать. — Ты сам не заметишь, как забудешь, что попал к другому Бороту. Так просто ты от меня не отделаешься.
— А мне думается все-таки, что Карой и Милике хотят надо мной подшутить. Я так и жду, что они вот-вот появятся в одной из дверей.
Он прервал меня поспешно, несколько даже раздраженно:
— Ну что за навязчивая идея! Ни слова больше. Ты что пьешь? Чай? Кофе?
— Но, помилуй, все же это весьма странно: куда они подевались?
— Откуда я знаю! Надо думать, что живы-здоровы, если только не померли…
— Ты что, купил усадьбу?
Он нервно подвинул ко мне тарелку с ветчиной.
— Может, ветчинки? A propos[4], ты где живешь? В Пеште? Разумеется, захаживаешь и в казино. Сколько ставят там сейчас обычно на пики?
— Не знаю, — смущенно пробормотал я, — ведь я не читаю биржевого справочника…
Мой ответ невпопад заставил его настороженно взглянуть на меня: уж не сошел ли я с ума? Я же, покраснев, отвел глаза от столовых приборов и салфеток, на которых были те же гербы и тот же цветной узор, что и при Карое. Для того чтобы я окончательно потерял голову, не хватало только старого Антоша, который в этот момент, словно некое привидение, прошел под окнами в своих «бесшумных» ботах.
— Что это, и управляющий на месте?! — воскликнул я.
— Конечно.
— И он ничего не говорил тебе о Карое?
Дюри отрицательно покачал головой, потом с явным неудовольствием скороговоркой сказал:
— Вообще-то я расспрашивал Антоша, но он ведь не того… он только и знает, что твердит об этой несчастной битве при Пишки.
В течение дня я несколько раз еще заговаривал о Карое, но он все время переводил разговор на другую тему, причем лицо у него выражало явную растерянность. Прелестная «Мария-ностра» один раз даже спросила:
— О чем это вы все говорите?
— Ни о чем особенном, моя радость, ни о чем.
А мамаша каждый раз откладывала вязанье и подозрительно смотрела на нас своими рысьими глазками. В конце концов я сам счел за лучшее прекратить расспросы и удовольствоваться одним Боротом вместо другого. Ведь и Дюри оказался славным малым с мягкими манерами и веселым нравом. А дамы вообще были милейшими созданиями.
Словом, приехал я к ним, как чужой человек, а уезжал на следующий день, в их экипаже, с таким ощущением, будто мы сто лет знакомы. Молодая дама махала на прощание платочком из окна, а Дюри кричал мне вслед: «Жду тебя, старина, и как можно скорее!»
Четверка вороных скакунов, храпя, несла меня как на крыльях, а я, закрыв глаза и откинувшись на сиденье, погрузился в думы.
Да и на что было смотреть мне? Ведь все было знакомо еще с прошлого года: дорога, экипаж, лошади и даже конская сбруя.
Бубенчики, как и раньше, весело позванивали, копыта цокали, а колеса лихо постукивали на ухабах.
Третий и последний визит
Вскоре я должен был уехать за границу, и с венгерскими джентри мне уже больше не приходилось встречаться, разве что в «Будапештском вестнике», в разделе объявлений, набранных мелким шрифтом. Я выписываю это любопытное издание. Оно напоминает дворянское казино. Одного за другим ты встречаешь там своих знакомых. И всегда можно увидеть кого-нибудь из «высшего общества».
Сидя за завтраком, ты раскрываешь эту газету и восклицаешь: «Ай-яй-яй, вот и Мишка Камути пожаловал!» Заглянешь в другой номер: «Ого, уже и Фери Четей здесь! Ай-яй-яй, и чего они так торопятся…»
Правда, помимо сообщений о «прибытии» уважаемых господ там порою можно найти и другое. Например, объявления о конкурсах на освободившиеся чиновничьи должности. Что поделаешь, — разумный человек строит аптеку рядом с больницей!
Как-то в газете было помещено объявление об открывшейся вакансии в Кашше, и я сразу же поехал туда, надеясь заполучить ее. «Ну, а коль скоро я буду в Кашше, — думал я про себя, — загляну-ка к вечерку в Герей, посмотрю, что сталось за это время с моим милейшим Дюри. Наверное, дела у него идут хорошо, поскольку я не имел удовольствия встретиться с ним на страницах «Будапештского вестника».
Когда я въехал во двор, в замке со стройными башнями шла полным ходом генеральная уборка. Окна, двери были распахнуты настежь, женщины-поденщицы мыли стекла, задний флигель белили известью, внутри скребли и мыли, вверху же, на крыше, меняли разбитую черепицу. Старый Антош сидел под шелковицей, наблюдая за работой и посасывая свою трубку с длинным мундштуком.
Он обрадовался, увидев меня: наверное, ему было смертельно скучно.
— Что тут происходит? — прокричал я ему на ухо.
— То, что происходит очень часто. Ожидаем прибытия невесты.
— А что, разве у Дюри умерла жена?
— Дюри! — пробормотал он и потер свой морщинистый лоб. — Это который же был Дюри? Блондин? Нет — низенький? Нет, нет, вспомнил: шатен! Э-эх, где он уж теперь! Да ведь черт ли их всех запомнит.
— То есть как это? Разве замок уже не принадлежит Боротам?
Старик вскинул свои косматые брови, так что на лбу образовались полукружия от собравшихся в жгуты морщин, — помотал головой и даже помахал пальцем в знак того, что он не понял моего вопроса. Как больной медведь, он проковылял в боковой флигель, откуда вернулся с какой-то трубкой, которую и сунул мне в руку.
— Я спрашиваю, — повторил я ему вопрос уже через трубку, — с каких пор замок перестал принадлежать Боротам?
— А он и сейчас принадлежит им.
— Которому?
— Никоторому.
— Не понимаю.
— А он принадлежит им всем и никому в отдельности.
— Сейчас еще меньше понимаю.
— Идемте в сад, — прошамкал старик и пошел вперед, осторожно ступая в своих ботах, чтобы не оступиться в яму с известковым раствором.
Сад был вконец запущен; цветочные клумбы поросли лебедой, бором и шалфеем; буйно разрослись терновник и прочий дикий кустарник. Густые кусты, перевитые диким хмелем, преграждали дорожки. Какой-то глупый поросенок заблудился в чащобе из вьющихся стеблей и ломоносов и никак не мог выбраться из нее к своей матке, которая тут же неподалеку развалилась брюхом кверху в грязном иле высохшего пруда и довольно похрюкивала, жадно вдыхая аромат растущей рядом земляники.
Господин Антош, вздохнув, выбил нагар из трубки в венчик белой, как снег, лилии.
— Здесь его найдет какой-нибудь поденщик. Я откладываю для них… Да, так о чем мы говорили? Ага, вспомнил — вы не понимаете, что здесь происходит. Охотно верю… Гм-м! Зато я доподлинно знаю, что тут делается. Это имение, сударь, когда-то принадлежало одному чудаку Бороту, который, за неимением наследников и близких родственников, оставил его фамилии Боротов, — чтобы, значит, род поддержать. Моя подпись тоже стоит там, под завещанием. А Бороты решили не делить имения…
— Как так?
— А очень просто: где-то в комитате Тренчен есть деревня, которая сплошь состоит из Боротов. Целая деревня, сударь! Что бы им досталось, если делить на каждого? А они — шельмы, большие шельмы! Так они выгадывают гораздо больше.
— То есть как это?
— Они все приезжают сюда жениться.
— Ах, вот оно что! Ну, это оригинально придумано!
— Отсюда они делают предложения, найдя выгодную партию, и сюда же привозят своих невест… а через некоторое время исчезают, уступая место следующим Боротам. Ведь их немало. Тренченская деревушка прямо печет их.
— Но что же говорят папаши и мамаши невест, когда узнают об этом?
— Что говорят? — меланхолично воскликнул господин Антош. — Это их дело! А вот что я должен говорить, если у меня каждые три месяца — новый хозяин. Это мне очень огорчительно, сударь мой! Только-только привыкну к одному, как приезжает другой. Правда, ребята они хорошие; я их всех полюбил… Но трудно с ними… невозможно… уезжают, даже не выслушают человека…
Я улыбнулся его жалобе.
— Ай-яй-яй! А ведь вы, наверное, рассказывали им о битве при Пишки?
Он вздрогнул, и его старые глаза сверкнули под зеленым козырьком.
— Я лично был там! — прошамкал он. — Что это был за день! О, боже мой! Вот уже тридцать три года прошло с того дня… Впрочем, погодите, сейчас подсчитаем…
Напрасны были все попытки заставить его еще раз вернуться к разговору о замке.
Он сел на своего конька и пошел, пошел… — остановить его не было уже никакой возможности.
1885
ВЕСЕЛЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
Перевод И. Миронец
Эту историю рассказал мне Бела Грюнвальд. Случилась она с его пандурами * в те времена, когда он был еще вице-губернатором.
Ах да, ведь их уже и нет теперь, пандуров-то. Навеки захлопнулась над ними ржавая дверца склепа. И все прошло, как по маслу. Будто сами благородные комитаты приказали им: «Шагайте, братцы, вперед, а там и мы поплетемся за вами» *. (Будто и это требовалось лишь для парада.)
Ну, как бы там ни было, поздно уже оплакивать комитаты, — так что поищем лучше в их прошлом такое, над чем можно посмеяться.
Как я уже сказал, произошла эта история с пандурами, к тому же, с двумя самыми старшими из них: с усачом Иштваном Оштепкой и знаменитым Мартоном Войником (не извольте возмущаться звучанием фамилий: ведь мы находимся в комитате Зойом *). Ну вот, эти два пандура доставляли как-то из городка Бабасек в Бестерцебаню преступников, и было этих преступников по счету четверо.
В те времена между арестантами и пандурами были довольно сердечные отношения. Блюстители порядка не имели причины ненавидеть нарушителей оного, ибо последние были единственным источником их доходов, преследуемые же, в свои черед, тоже были заинтересованы в том, чтобы ладить с властями.
Уже давно вошло в обычай, что пойманные воры останавливались в пути возле каждого кабака и угощали своих конвойных, разумеется, в том случае, если воры имели при себе деньги. (А иметь их они имели — на то они и воры.) Это были великолепные веселые путешествия. В комитатскую тюрьму вела прямо-таки райская дорожка. Правосудию важно было заполучить свою добычу, а произойдет это днем раньше или двумя позже — не имело значения; что же до полицейских, то им это было на руку, к тому же (надо ведь отдать некоторую дань и гуманности, господа!) провинившиеся бедняги как-никак тоже рождены матерью, им тоже нужна хотя бы маленькая радость.
Почтенные Войник и Оштепка прежде, в молодости, обычно брали с собой в такие походы представительниц прекрасного пола, чтобы можно было и поплясать в деревенских кабачках, если представится случай.
Но теперь они уже состарились. Любовь, как уставший пес, к пятидесяти годкам отстает от человека, а вот вино до самой смерти остается верным и желанным.
Они и пили его по пути, причем столько, что к концу последнего привала почтенный Оштепка уже не мог держаться на ногах, даже Войник и тот пошатывался.
— Эй, понесите-ка мое ружье, — прохрипел Оштепка. Один из преступников снял с его плеча излишний груз и с громкой песней понес его, как знамя перед отрядом, впереди развеселой компании.
— Суккины вы дети! — крикнул с барской спесью Мартов Войник. — Поч-ч-чему вы не несете и мое ружье, а? Чем мой кум Оштепка важней меня, а?
Словак, которого обвиняли во взломе, тотчас же взял ружье у Войника, но под захмелевшими пандурами мать-земля все равно ходила ходуном. Они падали на каждом шагу.
Арестанты стали советоваться меж собой:
— Что нам делать с этими забулдыгами, а?
— Давайте убежим от них! — предложил еврей, обвиненный в укрывательстве.
— Может, лучше их прикончить? — вставил заподозренный во взломе словак.
— А что, если устроить одну развеселую штуку? — перебил их венгр, лихой конокрад. — Давайте отведем их, таких, какие они есть, в город. Пусть удивятся, глядя на нас, господа начальники.
— Вот это да, дружище! — возликовал шваб-фальшивомонетчик. — А может, нас вообще оправдают, если мы покажем себя с такой хорошей стороны.
Одним словом, большинство порешило так, что ни преступникам удирать, ни Оштепку с приятелем на тот свет отправлять не следует вместо этого четверо арестантов подхватили пандуров бережно их поддерживая, средь бела дня, в полдень, доставили в Бестерцебаню.
Люди толпами собирались поглядеть на удивительное шествие, весть о котором молнией облетела площади людного городка.
Впереди высоко подняв ружье, шел одетый в холщовую рубаху и штаны словак; замыкал шествие шваб, который вышагивал с гордо вскинутой головой и тоже с ружьем на плече.
Между ними, заплетаясь ногами и неистово вопя песни, шли два пандура, поддерживаемые двумя злоумышленниками — евреем и венгром.
Город разразился хохотом. Даже крылатые ангелы, что держат лесисто-гористый герб комитата, и те растянули губы в улыбке. Помрачнело одно лишь единственное лицо.
Когда процессия дошла до здания комитатской управы, вице-губернатор как раз стоял у окна и, взглянув на эту картину, почувствовал глубокую печаль. (С тех пор он всегда из этого окна созерцал комитат.)
А ведь и он мог бы посмеяться над всем этим. Белому-то свету ничего не сделалось. И подвластный ему комитат все равно был прекрасен и удивителен. Порядок в нем охранялся и сам собой. Провинился пандур — преступник явит пример добропорядочности.
Словом, честь там понимали всегда. Не приходилось занимать ее у соседей… то есть у властей, хотел я сказать.
1886
СТАТИСТИКА
Перевод И. Миронец
Меня вечно подталкивают высказаться по поводу чего-нибудь научного: а вдруг да выяснится, что я рожден для наук. С венгерским человеком вполне может такое статься.
Уж так и быть, разок выскажусь, — и выскажусь я по поводу статистики.
Замечу, кроме шуток, что меня смолоду тянет к наукам. Я начал с того, что, оказавшись писарем при комитатском управлении, жадно приналег на работу, чтобы «одним махом» овладеть тайнами правописания и администрирования, всеми приемами правления.
Старшим нотариусом был мой дядя, и он обещал моему отцу, что позаботится обо мне, введет в практику администрирования, и, если я буду пока лишь почетным нотариусом, то при ближайшем обновлении аппарата он устроит мое избрание в настоящие.
Я старался что было сил, каждый день заходил к нему в кабинет: дайте, мол, какую-нибудь работу и родственные наставления к ней, — но он всякий раз отвечал, что у него слишком много дел, соответственно чему он не может урвать время, чтобы поделиться ими со мной. Речь моего дяди состояла сплошь из этих «соответственно чему».
— Чем же вы так заняты, дядя Пишта? — спросил я как-то, по обыкновению застав его склонившимся над письменным столом.
— Я делаю деньги, племянничек.
— Надеюсь, вы и этому научите меня, дядюшка, когда у вас будет время? — сказал я шутливо.
— Не беспокойся. Это идет рука об руку с комитатской службой, соответственно чему ты и сам этому научишься.
Только поздней, когда и я почувствовал себя как дома в муниципальной атмосфере, узнал я, что он подписывал тогда векселя.
Прошло каких-нибудь полгода, и я уже вообразил себя законченным чиновником. Оказывается, дело это не такое и трудное! Решение по любому делу должно начинаться со слов: «Ввиду того», — и, нарастая, принимать оборот: «В противном случае». Основой всякого распоряжения являются слова: «Вследствие того», из коих, как из какого-нибудь цветочного горшка, кустятся разнообразнейшие флоскулусы. Прошения начинаются со слов: «В связи с тем», — и, петляя, доходят до «покорнейше прошу». Владея этой терминологией, вы можете дойти хоть до председателя опекунского совета.
— Эх, получить бы мне наконец какое-нибудь дело покрупней, — вздыхал я перед главным нотариусом, — чтобы я мог отличиться.
Мой дядя смеялся.
— Ну и дурень же ты, право слово, дурень!.. Комитатцы — что стеклодувы: из большой массы могут выдуть маленький пузырек, а маленькую массу раздуть в большую бутыль. Комитату это все равно.
Я тогда не понимал этого, — а ведь вскоре и в самом деле получил такую «большую массу». Сам вице-губернатор положил ее мне на стол.
— Пишите в села циркуляр, — сказал он, и моя рука машинально потянулась за пером, чтобы с красивой заглавной буквы начать заветное «Ввиду того…». — В министерстве земледелия спятили, — сказал он раздраженно и, подняв, опять швырнул распоряжение на стол.
Мне почудилось, что и стекла в окне задрожали, и пол содрогнулся у нас под ногами… а на самом деле зашевелились-то всего лишь деловые бумаги на моем столе, когда на них бросили очередного пришельца.
— Где это видано? Составьте, говорит, сведения, сколько тутовых деревьев в комитате! Статистику тутовых деревьев! Неужели у министра другого дела нет? Или шелкопрядов разводить надумал? Ну, кому это нужно? Моя жена в Вене покупает шелковые платья! Да к тому времени, как из этих жучков получится шелк, весь мир будет носить канифас. Я одного только не возьму в толк, как правительству могла прийти в голову такая чепуха! За кого они принимают вице-губернатора! Того и гляди, предложат мне сосчитать травинки на всей территории комитата…
Затем, бросив презрительный взгляд на распоряжение министра, обратился ко мне:
— Сделайте, голубчик, что-нибудь! Запросите села о количестве тутовых деревьев, а затем состряпайте как-нибудь общую сводку, но еще в этом месяце, потому что ее велено выслать в течение тридцати дней.
Я взялся за дело с великим усердием. Сто с лишним суровых: «Предписывается строжайше» полетели в адреса старост. В селах из уст в уста передавались небылицы одна невероятнее другой. Будто бы к королю явился некий английский монах и доказал, что может превратить тутовое дерево в золото. Теперь-то все тутовники, что есть в Венгрии, срубят, погрузят на подводы и отвезут в Англию, ими оплатят долги страны.
Кроме этой, существовало еще три версии, но, так как эта была самая невероятная, в нее-то поверили охотней всего. И если у кого был любимый тутовник, старались всячески скрыть его. Например, супруга Яноша Бутёка из Кишфалу, так как было как раз начало весны, побелила все шесть тутовых деревьев перед домом, чтобы представители закона не распознали их. А почтенный Амбруш Надь в Литке вырубил свои деревья и поленья штабелями сложил на чердаке. Ведь кто знает, когда еще они превратятся в деньги? В Эбецке какой-то горемыка, решив распроститься с жизнью, выбрал самый большой тутовник в деревне (в саду Чаподяка) и на нем повесился. Думал, негодяй, и этим насолить властям…
Неделями работал я с огромным рвением, и днем и ночью, систематизируя огромные кипы прибывающих сведений. Но чем дальше, тем работы становилось больше. Подсчеты кишели ошибками. Иной раз вся работа, сделанная за четыре дня, шла насмарку. Казалось уже, что я так и поседею над этими бумагами, а конца им не будет. Между тем оставалось всего десять дней! За такой срок кончить невозможно… Ну да все равно, попробую!
Мои коллеги, которые то и дело проходили через мою комнату, пока я, согнувшись в три погибели, заполнял графу за графой, переглядывались за моей спиной и посмеивались. Некоторые с издевкой подкалывали меня:
— Собери-ка ты эти кипы в корзину, посади на них квочку, авось да высидит тебе что-нибудь.
Как-то под вечер открывается дверь и заходит мой дядя, старший нотариус. Впервые он оказал мне такую честь.
— Что, малыш, ты еще тут?
— Тут.
— Трудишься?
— Тружусь.
— Ну и правильно. А ты в тарокк умеешь?
— Умею.
— Тогда пошли ко мне, сыграем.
— Не могу, любезный дядюшка!
— Не можешь? — переспросил он недоуменно, будто впервые услыхал такое выражение. — Что, занедужил, что ли?
— Да нет, я здоров, но вот вице-губернатор велел непременно закончить. Министерство требует.
— Может, оно и так, племянничек, но вице-губернатор требует партнера. Он сейчас как раз у меня. Не можем же мы садиться за тарокк без третьего игрока.
— И все же не могу, ибо долг превыше всего…
— Гм… по мне-то, пожалуйста… конечно, есть в том доля правды, соответственно чему долг превыше всего… Но, собственно, над каким таким заморским чудом ты корпишь столько времени?
— Я составляю статистическую сводку о наличии имеющихся в комитате тутовых деревьев.
— Та-та-та! Да я тебе сейчас помогу. Дай-ка мне скорее свои цифири. Ну же, быстрее.
«Цифирей» этих набралось, должно быть, с полцентнера. Старик пробурчал себе что-то под нос, немного порылся в бумагах, пробежал глазами распоряжение министерства, взглянул на сообщение одного из сел, опять что-то буркнул, наконец, проговорил:
— Излишняя детальность приводит ad absurdum[5]. Что ты уставился на меня! Бери свою ковырялку и запиши summa summarum[6], соответственно чему число всех тутовых деревьев в комитате составляет двести семьдесят три тысячи пятьдесят четыре штуки. Punctum[7]. Соответственно чему можем теперь пойти сыграть в тарокк.
Я механически записал цифру и только после этого с восторгом посмотрел на старика:
— Как вам удалось так быстро сосчитать? Я бы еще две недели провозился!
— Тут, братец, — сказал он, смеясь, — практика, практика ведения комитатских дел…
— Я никак не возьму в толк, любезный дядюшка…
— А коли так, то и не получится из тебя никогда хорошего чиновника.
…И действительно, опытность старика выявилась и тут, соответственно чему он и на этот раз оказался прав.
1887
МАЙОРНОКСКИЙ БУНТ
Перевод О. Громова
В нынешние-то времена и господа стали умнее, да и крестьянские девушки тоже.
А вот кто помнит историю с Петки? Что ж, поскольку причиной всего была любовь, стоит об этом рассказать.
Это случилось еще в ту пору, когда палатином в Буде был Иосиф *, а старостой в селе Майорнок — достопочтенный Иштван Котего.
Была у чабана с лесного хутора дочка необыкновенной красоты. Она часто ходила в село Литаву, так как в Майорноке не было ни священника, ни церкви; только жалкая колоколенка славила там господа. В литавской церкви все прихожане пялили глаза на стройную фигурку Эржи, на ее розовое, как яблоневый цвет, личико, на черные, как ночь, очи. Любовались ею все, но три глаза были прикованы к ней неотрывно.
Два из них принадлежали молодому меховщику Михаю Ковачу, а третий составлял собственность помещика Пала Петки — второй-то глаз ему выбили на охоте еще в студенческие годы.
Литавский помещик слыл весьма галантным кавалером, что отнюдь не мешало ему быть деспотом и самодуром. Он и уездным-то начальником стал лишь с единственной целью: расширить свою власть за счет комитата.
Впрочем, власти вполне хватало и у него самого. Когда на дворянском собрании мелкопоместный дворянин Габор Пири, выступавший против Петки, заявил: «Я здесь имею такое же право голоса, как и твоя милость, моя земля не менее глубока, чем твоя», — Петки немедленно отпарировал: «Возможно, земля достойного господина столь же глубока, как моя, однако она далеко не так широка».
Пятнадцать тысяч хольдов, да еще сплошняком! Если бы Петки сохранил даже оба глаза и попытался окинуть взглядом все свои угодья с высоты литавской колокольни, — ему и тогда это не удалось бы, столь обширны были его владения.
И вот этому-то могущественному господину приглянулась Эрже. А Эржике полюбился меховщик.
Петки часто наведывался на лесной хутор. Где бы ему ни доводилось охотиться, он непременно заезжал к пастуху выпить козьего молока и побалагурить с Эржике. Однако добиться чего-либо сладкими речами ему так и не удалось. Тогда Петки послал на хутор своего управляющего, господина Ференца Панкотаи, наказав ему поговорить с отцом девушки и вразумить старика, убедить его отдать дочь в имение, — им-де обоим станет от этого лучше.
Но доводы разума не подействовали — оставалось испробовать хитрость. И вот на хутор была послана ключница Петки — вдова Яноша Демеша: она из благородных и сумеет поговорить с этой мужичкой.
Ключница начала с предложения удочерить Эржике. У нее ведь самой была красавица дочка, — останься она жива, ей сейчас было бы столько же лет, сколько Эржике… Тяжелое это бремя — старость да одиночество!.. Даже не знаешь, кому отказать свои небольшие, по грошику скопленные сбережения… Разумеется, она давно уже подумывает о том, чтобы взять к себе скромную, честную девушку и сделать ее своей наследницей.
Эржике, почуяв, видно, куда клонит старуха, ответила ей:
— В моем возрасте трудно менять родителей. Уж вы, милостивая госпожа, подыщите себе какую-нибудь малютку.
Зато совсем по-иному обстояли дела у меховщика! В троицын день отправился он на хутор, попросил руки девушки и тут же получил согласие. Назначили даже день свадьбы — в праздник винограда; наняли за восемь форинтов музыканта, — если память мне не изменяет, небезызвестного Иштока Ланая. Четыре бочонка вина предстояло выставить для мужской половины гостей, девять горлачей меда, чтобы подсластить пилюльку для женщин. Шесть белых платков уйдет на бантики для конской сбруи. Дорого же обходится свадьба!
Когда слух об этом событии облетел округу, Петки еще раз послал к девушке своего гайдука:
— Эржике, Эржике, ты еще пожалеешь о своем поступке! Дважды на день ты будешь оплакивать свою судьбу: задувая свечку перед отходом ко сну, и утром, натягивая стоптанные, порванные сапожки.
Эржике лишь повела плечами:
— Если мне и придется об этом жалеть, то еще не скоро. А исполнив желание господина уездного начальника, я раскаялась бы тут же.
Петки пришел в ярость. Он приказал позвать к себе меховщика и начал расспрашивать, как далеко зашло у них дело.
— Уже два раза было оглашение, ваша милость!
— Чепуха все это! Подобный цветок не для тебя, и сорвешь его не ты.
А дальше получилось так. С майорнокскими властями сотворили злую шутку: за несколько дней до свадьбы на селе побывал управляющий и заставил старосту подписать донос. Наш почтенный староста Иштван Котего, конечно, исполнил приказание. Впрочем, он всегда любую бумагу подписывал безотказно. И сам говаривал часто, что грамота — не его ума дело, буквы он и в грош не ставит. А ведь как однажды пришлось ему за это поплатиться!.. Когда достойный господин Берчек из-за документа, полученного соперниками в сельской управе, проиграл тяжбу по делу о мельничной плотине, он подал апелляцию, ссылаясь на то, что документы, выдаваемые в Майорноке, не имеют законной силы. И для примера приложил еще одну бумагу, да какую!.. Представленный им документ гласил буквально следующее:
«Мы, нижеподписавшиеся представители местной власти села Майорнок, с достоверностью свидетельствуем, что в выданном нами ранее по делу Берчека документе содержится ложь, а посему просим досточтимое комитатское управление распорядиться наказать каждого из нас двенадцатью палочными ударами».
Большой вышел конфуз! Но местные власти так ничему и не научились. Они и поныне подписывают все, что им подсунут. На сей раз староста подписал донос о том, что, по слухам, меховщик Михай Ковач, стакнувшись с чабаном, шьет шубы из ворованных овечьих шкурок. И вот, когда на лесном хуторе уже собрался народ и невесту наряжали к венцу, туда пожаловали два жандарма, забрали жениха вместе с будущим тестем и в наручниках увели обоих в комитатскую управу.
Конечно, какая-то толика «незаприходованной» баранины, надо думать, отягчает совесть каждого пастуха. Но такого оборота никто не ожидал. Собравшиеся на свадьбу гости в испуге разбежались, бросив на произвол судьбы несчастную невесту.
Впрочем, если бы только на произвол судьбы! А то ведь при ней остались еще два жандарма. Они ожидали уездного начальника, который должен был произвести в доме обыск. Ничего себе историйка разыграется там сегодня вечером!..
С шумом и гамом повалили гости прямо к дому почтеннейшего Иштвана Котего. Что за бумагу выдал он против семьи чабана? Из-за него двух ни в чем не повинных людей упрятали в острог, а беззащитная девушка — об этом все говорили прямо и откровенно — предана в руки уездного начальника Петки.
— Да разве я знаю, что было в той бумаге? — оправдывался Котего. — Голова-то у меня не казенная, чтобы я еще и читать умел.
— В таком случае почему твоя милость не сложит свою палицу? — шумели люди.
— Ну, это уж дело другое, — отвечал староста, гулко ударяя себя в грудь. — Палицей-то я помахивать умею.
И в подтверждение своих слов он с гордым видом помахал ею в воздухе.
— А если умеете, то и пустите ее в ход! Посмотрим, на что вы годитесь.
— Вы, друзья мои, сможете убедиться в этом сами. Так что же, собственно, случилось?
— Двух безвинных людей потащили в тюрьму!..
— Положим, — степенно прервал наш достойный Котего, — если они и впрямь невиновны, их отпустят домой, и все!
Но тут истошно завопил Винце Леташши, которому предстояло быть на свадьбе посаженым отцом:
— Ого-го! Не так-то все просто, господин староста! А что станется с девушкой? Известно ли вашей милости, что господин уездный начальник вот-вот прибудет в остывшее гнездышко, где совсем не для него стелили брачную постель. На чьей совести это подлое кощунство, как не на совести вашей милости?
Честное морщинистое лицо Котего побледнело. Крики обступивших его поселян становились все более угрожающими.
— Старый греховодник, и вам не стыдно! — орала тетка Кёвор, что жила на краю деревни. — Ох, ох! И это наш староста!
— Пусть земля не примет ваших костей! — визжала жена Петера Ковача, невестка арестованного меховщика.
— Кш-ш, гусыни! — рассердился староста. — Поумерьте-ка свои пыл, земляки. Ручаюсь вам, что господин уездный начальник туда не попадет.
— Кто это говорит? — язвительно прервал его Дердь Баркаш, сам когда-то подвизавшийся в роли старосты.
— Это говорю я, — торжественно возгласил Котего, перекрывая шум толпы. — Я, майорнокский староста!
— Твоя милость примет меры!.. Ха-ха-ха!
— Именно так, приму меры!
После таких смелых слов воцарилась глубокая тишина. Потом послышался чей-то робкий смешок. Но тут Дёрдь Коцо, сверкнув глазами, дернул за полу Матяша Тури:
— Куманек, а ведь твердый мужик этот Котего! Лишь Дёрдь Баркаш осмелился возразить:
— А кто же преградит путь всесильному Петки? Может быть, вы сами?
— Я — нет, ни за какие блага! — спокойно ответил Котего.
— Тогда кто же?
— Господь наш Иисус Христос! Тут уж все разразились хохотом.
— Не валяй дурака! — посыпались непочтительные замечания. — Бедняга лишился рассудка!!! Скорей, скорей нужно смочить ему голову!..
Однако почтенный староста даже глазом не моргнул.
— Я-то не лишился рассудка, а вот ваши головы, земляки, варят слишком медленно — где ж вам понять мою мысль. Да, именно Иисус Христос преградит путь господину Петки. Ведь дорога-то к лесному хутору идет через скалы. Сами знаете, местами она так узка, что по ней еле пройдет телега. Так вот, пойдем сейчас все на кладбище, выроем распятие и вкопаем его покрепче посреди горной дороги. Пусть-ка спешащий на любовные утехи господин уездный начальник проедет там!
Поднялся невообразимый гвалт. От радостного возбуждения все топали ногами, хлопали в ладоши, кидали вверх шапки. Сотня глоток взревела: «Ура!» Парни побежали за лопатами и мотыгами, и через два часа распятие, до сего времени сиротливо осенявшее поросшие зеленой травой могильные холмики, грозно высилось за поворотом, посреди узкой дорожки.
Все было сделано как раз вовремя. На литавском тракте показалась четверка лошадей, запряженная в легкие дрожки. На козлах сидели кучер и гайдук.
В горах такая четверка могла двигаться только шагом. По обе стороны дороги густо росли кусты можжевельника. Вечерело, сероватый прозрачный туман окутывал поля. Легкий ветерок слегка колебал запутавшиеся в высокой траве паутинки. Деревья склонялись над узкой дорогой, и сплетенные их ветви угрожали единственному глазу господина помещика. Со стороны леса доносился пугающий крик совы. Из кукурузника, принадлежавшего местному священнику, вынырнул заяц, перебежал дорогу под самыми ногами лошадей и через жнивье кинулся к горе Парайке.
— У, дьявольское наважденье! — выругался гайдук. — Он принесет нам несчастье!
— А ну, подстрели-ка его! — воскликнул уездный начальник и протянул гайдуку ружье, которое всегда держал при себе.
Гайдук прицелился, но не выстрелил и, весь дрожа, опустил ружье.
— Почему не стреляешь? Далеко?
— Нет, но он мне пригрозил…
— Кто?
— Заяц, — прохрипел перепуганный гайдук.
— Не болтай глупостей, Янош!
— Умереть мне на этом месте, ваша милость! Я в него прицелился, а косой обернулся, посмотрел на меня, встал на задние лапы да передней мне и погрозил. Вот так, ей-ей!..
— Рехнулся ты, Янош! Тебе просто почудилось.
В этот момент экипаж подъехал к кресту. Вечерний туман совершенно скрывал распятие. И вдруг передняя пара лошадей резко осадила и попятилась назад.
— Как будто дерево какое-то на пути, — пробормотал кучер.
— Соскочи, Янош, — приказал Петки. — Сруби его! Гайдук отыскал топор и спрыгнул на землю. Однако через секунду он вернулся, бледный как мертвец.
— Ну, срубил?
— Не-ет, — заикаясь, пробормотал гайдук. — Это Христос!
— Христос? Да ты совсем спятил, Янош!
Кучер тоже соскочил с козел, желая посмотреть, что там за препятствие.
— Всемогущий боже! И вправду Христово распятие!..
— А, все равно! Чего оно тут мешается на пути? Срубить!
Но ни гайдук, ни кучер даже не пошевелились. Оба стояли как вкопанные, совершенно беспомощные, с застывшим от ужаса взглядом.
— Это что такое? Вы еще колеблетесь? Выходит, деревяшка для вас важнее, чем я?! Ах, бездельники, негодяи!
И Петки легко спрыгнул с дрожек, выхватил из рук Енота топор и, размахнувшись, всадил в святое распятие.
На звук топора из ближайших кустов внезапно выскочил почтенный Котего, а за ним его десятские. Один из них, Ференц Ач, заорал во все горло:
— Майорнокцы!
Призывный клич далеко разнесся по окрестностям. Тотчас же, как бы в ответ ему, с колокольни торжественно и проникновенно зазвучал медный колокол, грозно взывавший: «Скорей! Скорей!»
Но Петки ничего не слышал и не замечал. За первым ударом топора последовал второй, потом третий… Неудержимая ярость умножала силы помещика… Трах! Распятие затрещало и рухнуло.
Почтеннейший Котего воздел руки к небу.
— О, что вы наделали!!
Петки обернулся. В запальчивости он до сих пор не замечал старосту.
— Ага! Хорошо, что ты здесь, старый плут! Это ты распорядился установить на дороге крест, чтобы я не мог проехать на хутор? А ну, Янош, выпороть его немедленно!
Гайдук уже было кинулся к старосте, но тот кротким жестом остановил его:
— Да я и сам лягу. Пожалуйста! Вам остается лишь распорядиться об остальном. Если осквернено распятие, то уж мой позор ничего не стоит!
И гордый Иштван Котего покорно лег в придорожную пыль, широко по-лягушачьи растопырив ноги и руки, словно распятый на кресте.
— Всыпать ему полсотни!
— Взз! Взз! — засвистели палочные удары — народная музыка сороковых годов *. Но всего только до девятого удара…
Всполошенные набатом люди схватили топоры, косы, вилы и устремились в горы.
— Смерть нечестивцу! Убьем богохульника!
Кто-то поднял камень, — по преданию, это был некий Пал Винце, — и еще издали запустил им в уездного начальника. Камень угодил Петки прямо в висок. Его лицо сразу обагрилось кровью.
— Восемь, девять! — Даже раненный, помещик продолжал считать палочные удары. — Еще, еще!
Но тут к Петки подскочил верный гайдук, силой приподнял его и усадил в дрожки.
— Гей! Надо спасаться!
— Нет, нет! — хрипел разъяренный самодур, которого Янош еле удерживал в экипаже, прикрывая своим телом. — Эх, если бы я мог хоть раз выстрелить в этот сброд!
Камни сыпались градом. Целый лес вил, поблескивая, надвигался все ближе и ближе.
Но кучер щелкнул кнутом, лошади рванулись и вихрем понесли дрожки домой, в Литаву. А может быть, еще дальше. Лишь немного поостыв, сообразил Петки, что он наделал ради прекрасных черных глаз крестьянской девушки, которые к тому же ни разу не взглянули на него ласково…
Переменив дома лошадей, он помчался дальше — прочь из комитата, прочь из Венгрии.
Никто не видел его целых двадцать лет. Только слухи разные о нем ходили. Майорнокцы рассказывали, будто он в Вене, и церковь подала на него жалобу королю за изрубленный крест. А король приказал за каждый палочный удар, доставшийся почтенному Котего, вырезать из тела господина Петки по фунту мяса.
Девять палочных ударов — девять фунтов мяса… Как жаль, черт возьми, что гайдук Янош не всыпал старику Котего все пятьдесят!..
Но лет через двадцать Пал Петки все-таки вернулся. Его назначили вице-губернатором комитата.
Снова водворился он на житье в своем литавском именье. Волосы Петки совсем поседели, и теперь у него были уже оба глаза, — правда, один стеклянный.
Майорнокцы с любопытством разглядывали его. Однако Петки не только не потерял в весе девять фунтов, но скорее даже прибавил с добрый центнер!
1888
ЧИНОВНИЧИЙ СКЛАД УМА
Перевод И. Миронец
Один мой близкий друг, недавно побывавший в России, рассказал мне забавный анекдот, сложенный про русских чиновников, но вполне применимый и к венграм. Вероятно, мой друг услыхал его от кого-то другого, тот другой — от третьего, а третий — от четвертого; нашелся, видно, и такой, кто записал анекдот, затем каждый приплел к нему что-нибудь свое. Если бы раздобыть подлинный текст, я познакомил бы вас с ним, чтобы вы, подсмеиваясь над русскими, думали о своих чиновниках.
Но поскольку такого текста у меня нет, я совершу плагиат и напишу рассказ о венграх. Не объявят же русские за это войну!
Итак, скажем, казначей министерства Ференц Келемен в одно прекрасное воскресенье, пообедав, отправился в Городской парк, где некий мистер Блимс показывал свой зверинец.
Среди различных укрощенных им диких зверей был ужасный крокодил, которого с превеликим интересом разглядывал названный выше венгерский королевский казначей.
И крокодил, в свой черед, с неослабным интересом смотрел на казначея, а так как клетка по оплошности не была заперта, крокодил высунул вдруг свою устрашающую голову и… гам!.. схватил стоявшего совсем рядом чиновника, всеми почитаемого господина Ференца Келемена.
Почувствовав себя в глотке крокодила, господин Келемен в страхе крикнул публике, что толпилась вокруг:
— Ой, конец мне! Доложите, пожалуйста, моему начальнику, что…
Но договорить он не успел, ибо крокодил сделал еще один дополнительный глоток и чиновник окончательно исчез в утробе взбалмошного зверя.
Женщины завизжали, мужчины бросились к мистеру Блимсу за разрешением вспороть утробу крокодила и извлечь оттуда несчастного Ференца Келемена, министерского казначея, который беспрерывно кричал, хотя слова его доносились глухо, точно из недр земли.
Хозяин зверинца мистер Блимс, поняв, в чем дело, состроил удивленную мину:
— Вы что, господа, разума лишились? Убить живого крокодила ради какого-то казначея? Тоже мне ценность — казначей!
— Но помилуйте, сударь, а гуманизм, человеколюбие!
— Черт с ним, с гуманизмом! Государство может получить даром столько казначеев, сколько ему угодно, а мне даже за деньги не так-то легко раздобыть такого крокодила.
— Все это так. Но милосердие! У него же дети, жена.
— Оставьте меня в покое! У меня тоже есть дети. А крокодил от этого происшествия, в сущности, только повысится в цене. Подумать, черт подери, крокодил с джентльменом в брюхе! Это вам не фунт изюму! Чтобы я отдал своего крокодила? Да ни за что на свете!
Тут филантропы начали советоваться.
— Последнее слово бедняги на этом свете было «начальник»… Так, может быть, лучше всего к нему обратиться?
— Правильно! Идемте к начальнику.
Помчались в Буду, к начальнику, и, запыхавшись, доложили про случай с бедным Ференцем Келеменом. Начальник наморщил лоб, затем пожал плечами.
— Гм. Что и говорить, это большое несчастье. Но я ничего не смогу сделать. Ибо Ференц Келемен взял вчера отпуск на шесть недель. А мы не имеем права вмешиваться в вопрос, где проводит свой отпуск тот или иной наш служащий. По крайней мере, такого прецедента до сих пор не было. Но вот что, господа, приходите сюда шестнадцатого октября, когда его отпуск истечет, и тогда мы, возможно, сумеем принять кое-какие меры.
— Но, сударь, ведь бедняга не проживет столько в животе у крокодила!
— Сожалею, но помочь ничем не могу.
Они в отчаянии побежали обратно к зверинцу, где уже застали горько причитавшую жену Ференца Келемена урожденную Иду Сабо, и трех маленьких келеменят.
— Папа, папочка, выйди! — плакали они.
Но до несчастного Келемена не доходили их голоса, он и теперь лишь изредка сообщал свои наблюдения:
— Ух, как чертовски палит здесь! Дали бы крокодилу много мороженого!
И хорошо еще, когда из десяти его слов одно-два было понято.
Но под вечер он сообщил новость уже более повышенным тоном:
— Это ужасно! Желудок крокодила начинает меня переваривать. Он шлифует меня, как рашпиль!
Эта деталь снова расстроила слушателей, и, прихватив с собой жену и детей пострадавшего, они побежали к самому министру, дабы он предпринял что-нибудь.
Министр вызвал непосредственного начальника Ференца Келемена и после того, как тот доложил ему про случай с казначеем, сопроводив доклад собственными доводами, сказал:
— Господин начальник прав. Мы ничего не сможем сделать. Извлечь Ференца Келемена из желудка крокодила я не имею возможности, так как крокодил не входит в мою компетенцию. Это относится к сфере министра внутренних дел. Пошли к министру внутренних дел.
Выяснилось, что разрешение на демонстрацию крокодила мистеру Блимсу выдали столичные власти. Следовательно, так как речь, по сути, идет о крокодиле, этим делом должны заняться столичные власти.
Пошли к столичным властям.
— Да, разрешение мистеру Блимсу на демонстрацию крокодила выдали мы, — сообщил Каммермайер *, — но отдать приказ вспороть брюхо крокодилу мы не можем, ибо крокодил есть частная собственность. А частная собственность священна. В лучшем случае мы можем обратиться к прокурору, чтобы он дал свое заключение по данному делу.
Прокурор составил объемистый меморандум о неприкосновенности частной собственности и, ссылаясь на Вербёци * я всю европейскую юридическую практику, выразил категорический протест против вскрытия крокодила.
Все возможности были исчерпаны. Но оставалось ничего иного, как подать прошение в парламент.
Эдэн Гаяри, референт комиссии по разбору прошении, считает, что так как крокодилы с древнейших времен по самой природе своей едят людей, буде те им попадаются, то и в данном случае крокодил не совершил никакого беззакония, ибо просто последовал издревле принятым у крокодилов привычкам. Посему прошение предлагается сдать в архив.
Геза Полони: Уважаемое Собрание (слушайте, слушайте!). Я не имел намерения выступать по данному вопросу, ибо можно лишь радоваться, если для одного из колес этой проклятой машины государственного аппарата, как бы ни было оно мало, наступает конец. И когда я вижу, что политика господина Кальмана Тисы натравливает на нашу бедную родину две породы диких зверей, одна из коих — финансисты, а другая — исполнители, — дабы они пожирали наших сограждан, то я и не думаю возмущаться случайной выходкой крокодила. (Правильно! Верно! — голоса крайне левых.) И я не стал бы здесь оплакивать того несчастного гражданина, который пребывает теперь в желудке крокодила, ибо, уважаемое Собрание, наша участь не легче, мы с вами тоже перевариваемся, только в желудке двуглавого орла. (Всеобщее одобрение.)
Однако, уважаемое Собрание, когда мне стало известно, что названный казначей Ференц Келемен во время последних выборов в самом фешенебельном районе столицы, верный своим убеждениям и не испугавшись никакого террора, голосовал против правительства, я начал понимать, что речь здесь идет о низменной мести, начал понимать, откуда это подлое равнодушие, — и я требую во имя наиблагороднейших человеческих чувств извлечь несчастного из утробы зверя! (Долго не смолкающие овации слева.)
После получасовой дискуссии прошение при поддержке Собрания было передано правительству.
Через несколько дней правительством был созван совет министров по вопросу о том, как, каким образом достать бедного Келемена из желудка крокодила.
Спорили долго. Было выслушано множество различных замечаний, доводов, предложении и высказываний, но главную помеху — тот факт, что пострадавший находится в отпуске, вследствие чего имеет право пребывать где угодно, вплоть до нутра крокодила, — устранить было почти невозможно. Наконец у одного из министров явилась блестящая идея.
— Я нашел способ, господа.
К нему одновременно повернулись, наверное, шесть голов.
— То есть?
— Давайте мы прибегнем к небольшому подлогу. Допустим, что Ференц Келемен, хоть он и в отпуске, путешествует с научными целями.
— Ну, а дальше?
— Мы смело можем сделать такое допущение, ибо Ференц Келемен, если он выйдет из желудка крокодила живым на самом деле сможет составить интересный доклад на основе собственного опыта.
— Верно. Пока что все приемлемо. Но что мы этим выиграем?
— А то, что, согласно правилам, чиновника, находящегося в научной поездке, можно официально отозвать.
— Все это так, но где же развязка?
— А ежели его можно отозвать, то, стало быть, он получит выписку из решения о прекращении отпуска, ибо ее вручит чиновнику курьер, где бы этот чиновник ни находился.
— Даже в желудке крокодила?
— Минуточку, сейчас все станет ясным. Руководствуясь существующими правилами, курьер, не имея почему-либо возможности передать выписку из решения адресату в собственные руки, должен прибить ее к двери. Но поскольку на крокодиле двери не имеется, курьер обязан проникнуть внутрь крокодила, а это он может сделать только в том случае, если распорет его. Quod erat demonstrandum[8].
— Браво! Браво! — раздалось в совете министров. Все ликовали: наконец-то найдена необходимая официальная форма.
Рассказывать дальше или не рассказывать?
Желудок крокодила был вспорот, но волокита тянулась так долго, что к этому моменту Ференца Келемена там уже не оказалось.
По-видимому, за это время крокодил успел переварить его. А может, он вовсе и не заглатывал нашего почтенного чиновника.
1888
ФОРМАЛЬНОСТИ
Перевод И. Миронец
Открыв собственную адвокатскую контору, я начал с того, что принял на службу конторского слугу — славного, на редкость порядочного малого по имени Дюри; в последовавшие за этим дни полнейшего безделья мы оба с бьющимися сердцами прислушивались к шарканью ног клиентов в коридоре, точнее — прислушивались бы, если бы было к чему: мы только мечтали услышать нечто подобное. Когда же явится первый посетитель? Кто он будет? Может, граф какой? С каким делом он придет: жирный будет куш или только постное взыскание? Впрочем, и то хлеб.
Вот, сверкая чистотой, стоит письменный стол, на нем в тисненном золотом переплете покоится устав гражданского судопроизводства, на стойке — алфавитный указатель, куда будет занесено первое же судебное дело, рядом — печать в синей краске: «Иштван Фаркаш, адвокатура, ведение дел по векселям».
Каждое утро, едва открыв глаза, я справлялся, не приходил ли кто-нибудь, и, возвращаясь после обеда, переступал порог конторы с вопросом:
— Никто меня не спрашивал?
— Никто, — неизменно отвечал мне Дюри Медве с грустным-прегрустным видом.
Так продолжалось недели три. Даже кошка и та не царапнулась в наши двери. Но вот в одно прекрасное утро я проснулся со своим обычным: «Ну как, Дюри, есть кто-нибудь?» — и вдруг слышу:
— Есть, ваша милость.
— Клиент? — спрашиваю я, вспыхнув.
— Клиент, — отвечает он тихо.
— Вот те на. Пускай войдет, Дюри.
— А он тут.
— Где? Я не вижу.
— Это я самый и есть.
— Что же у вас за беда?
— Прошу прощения, но со вчерашнего дня моя судьба обернулась так, что я хочу жениться.
— Вы? Жениться? На ком же?
— Да вот познакомился я с одной очень хорошей девушкой. В горничных она тут, на третьем этаже.
— Уж не та ли стройная блондиночка?
— Она самая.
— Что же, недурна. Мне она тоже нравится. Очень умно делаете.
— Только вот беда. Чтобы жениться, нужна метрика, а у меня ее нет.
— Выписать, значит, надо.
— Но откуда?
— Ведь где-то вы родились?
— Если бы я знал где. Моя мать, когда уже носила меня под сердцем, сошлась с одним бродячим циркачом, что медведя водил. Они кочевали из села в село, с ярмарки на ярмарку, и кто знает, где я увидел свет, в какую метрическую книгу и под каким именем меня записали? Имя-то Дюри Медве, видно, пристало ко мне от отчима, от его занятия.
— Я уже знаю, что надо делать. Первым долгом надо установить вам возраст и добиться у городских властей справки об этом. Но вот как быть с вашим вероисповеданием? Какой вы веры?
— Единой греко-католической.
— Это точно?
— Точно, мать часто говорила мне об этом и учила меня всяким молитвам.
— Сколько вам теперь лет?
— Должно быть, лет тридцать — тридцать пять. Потому как я еще помню немного, когда холера разгулялась.
Я весело принялся одеваться. Радость щекотала мне сердце. Вот и нашлось для меня занятие/ У меня есть дело. Я могу бывать у властей, деловито хлопать дверями…
Но вдруг у меня возникло сомнение.
— Дюри, добрая вы душа, — воскликнул я испуганно, — по-моему, вы надумали жениться, чтобы доставить мне работу. Конечно, я жажду дела, какого-нибудь дела, но такой жертвы от вас принять не могу.
— Нет, нет, сударь. Поверьте, я люблю Марику и хочу взять ее в жены.
— Честное слово?
— Клянусь.
— Ну в таком случае я приступаю немедленно. А вы пока смело можете отпраздновать помолвку.
В тот же день я подал прошение бургомистру по поводу свидетельства о возрасте, упомянув в нем, что некогда подобные свидетельства давались казначеем, а так как теперь казначеев нет, то полномочия эти получил магистрат.
Прошло месяца четыре — никакого ответа. Я начал хлопотать.
— Где прошение моего подзащитного и что сталось с ним? — обратился я в магистрат.
— Передано в прокуратуру на юридическое заключение. Я бросился в прокуратуру.
— Передано для разбора в министерство внутренних дел по инстанции.
На другой день я поехал в Буду, в министерство внутренних дел.
— Поскольку в деле имеется ссылка на казначея, оно передано в министерство финансов.
На третий день я справлялся уже в министерстве финансов.
— Поскольку это дело касается бракосочетания, мы переслали его в министерство по делам культа.
Войдя в раж, я тут же помчался в министерство по делам культа.
— Для выяснения отношения к воинской повинности мы передали бумаги в министерство обороны.
Эти мытарства продолжались года три; мне они порядком надоели, и хотя это было по-прежнему мое единственное дело, я никак не мог с ним справиться.
Возможно, я бросил бы всю эту канитель, не поторопи меня вдруг бедный Дюри.
— Ваша милость, дело-то мое не ждет.
— Что вы хотите этим сказать, Дюри?
— Да ведь люблю я девушку-то, нет у меня ни дня, ни ночи. К тому же к ней тут еще один подъезжает…
— Ага, ревнуем, значит? Ладно. Уж так и быть, займусь. После этого я снова взялся за дело. С тех пор оно, обойдя всех; от Понтия до Пилата, вернулось опять в городской магистрат.
Я поспешил выяснить, есть ли уже решение.
— Есть.
— Какое?
— Дело передано соответствующим властям в целях официального утверждения существования личности, именуемой Дёрдем Медве.
Месяц спустя было точно установлено, что Дюри действительно состоит в числе пребывающих на земле.
— Да, Дюри, — как-то сказал я ему смущенно, — медленно двигается дело, очень медленно. Вы на меня не обижайтесь, ибо я делаю все, что в моих силах, но эти проклятые формальности…
— Ничего, ваша милость, сущие пустяки, — ответил он со спокойной флегматичностью, — успеется.
— Как мне вас понимать, Дюри? Может, вы ее уже разлюбили?
— Разлюбить не разлюбил, но, что греха таить, не могли мы дождаться. Словом, давно уже вместе живем.
— Понимаю, понимаю. Значит, теперь не к спеху?
Спустя несколько недель я и сам увидел красотку Мари, когда она в коридоре поджидала своего Дюри. Ого, до чего же она изменилась; ее стан казался слишком округлым, а прежде белое, как молоко, лицо покрылось пятнами.
— Послушайте, Дюри, черт побери, теперь уж я говорю, что дело срочное!
Дюри беззаботно улыбался и пожимал плечами.
— Вы скверный человек, Дюри. Но есть я, и я не допущу подобных злых проделок. Уж если вы сняли сливки, то извольте выпить молоко до дна.
Я снова начал хлопоты и наконец добился решения, согласно которому Дюри должен был представить свою биографию, указав в ней, где он бывал, что делал, у кого служил в течение всей жизни.
Я сам составил документ, переписал его четко, аккуратно, снабдив заголовками.
«Curriculum vitae»[9] отдали в полицию, чтобы там разобрались и установили, соответствуют ли действительности изложенные в нем факты.
Полиции понадобилось полгода, чтобы дать свое заключение: все данные достоверны. Осталось неустановленным лишь вероисповедание просителя.
Так обстояло дело со свидетельством о возрасте, когда Дюри, явно стесняясь, снова вошел ко мне.
— Ой, спешное, очень спешное мое дело, ваша милость.
— Что так?
— Позавчера у нас родился сынок. Такой славный малыш, кабы видели: посмотрит своими махонькими глазенками — ну прямо весь город, кажется, обнял бы! Не хочется мне записывать его незаконнорожденным.
— Правильно, Дюри. Я бегу в ратушу, узнаю, как наше дело. В ратуше ответили:
— Дело снова пошло в министерство по делам культа для выяснения, как поступить в связи с невозможностью установить вероисповедание просителя.
В министерство по делам культа я пошел через неделю.
— Папку с документами (теперь уже их была целая папка!) направили в Мункач епископу с просьбой высказать свое мнение.
А время не ждало, и акушерка проявляла нетерпение, она грозилась: ребенка надо было крестить, и крестить приходилось незаконным. Сначала мы хотели приобщить его к единой греко-католической вере, но оказалось, что в столице такой церкви нет и что Будапешт является в данном случае лишь филиалом Ясбереня *.
Прошло несколько лет, прошение переходило из рук в руки (меж тем и ребенок умер), и вот наконец в нынешнем году магистрат приказал произвести специальный медицинский осмотр, дабы установить, сколько же Дюри лет, миновал ли он призывной возраст и так далее.
Одним словом, все пошло на лад и через каких-нибудь десять — пятнадцать лет свидетельство о возрасте Дюри было бы все-таки получено, но этот взбалмошный человек потерял вдруг всякое терпение, и когда дело уже находилось в самой обнадеживающей стадии, смеясь, заявил:
— Оставимте-ка это дело, ваша милость! Оно не стоит того, чтобы пальцем ради него шевельнуть. Я же не дурак, чтобы идти к алтарю теперь, с седой головой и беззубой невестой.
— Теперь?! Что вы, Дюри, помилуйте! Ведь мы только на полпути. Вы правы, если бросите все. Я еще понимаю, если бы сын был жив.
— Да, ежели бы сын был жив, — проговорил, вздыхая, Дюри, — он был бы уже взрослым и теперь хлопотал бы сам.
1888
ТЕТУШКА ПРИКЛЕР
Перевод И. Салимона
Похоронное бюро — это общество, занимающееся наипочтеннейшим в мире делом. Пусть оно и не самое привлекательное, но разве не почетно отправлять людей на тот свет по определенной таксе.
Правда, пользоваться его услугами несколько накладно, да ведь человек-то отправляется далеко, а нынешние средства передвижения, что ни говорите, дороги. По крайней мере, тут есть одно преимущество: клиент может быть вполне спокоен — обратно возвращаться ему, во всяком случае, не придется.
В старые добрые времена, когда подобной перевозкой занимался конь святого Михая, все было куда проще. В деревнях и по сей день этот дешевый транспорт доставляет мертвецов и в ад и в рай. Хорошая, неприхотливая лошадка: ни сена не ест, ни овса не просит. И те, кого она обслуживает, тоже не ропщут — значит, довольны.
Но в городах люди уж очень свыкаются с шиком и, даже навеки расставаясь со всем, что было им дорого, — с самой жизнью, — не в силах отказаться от этого закадычного своего приятеля, который в большинстве случаев оказывает на них дурное влияние, как, впрочем, все приятели. Вот почему их обслуживает целое похоронное бюро, причем каждого в соответствии с его общественным положением.
Мы назвали это дело только почетным. Однако встречаются люди, которые находят его даже привлекательным и с огромным удовольствием глазеют на похоронные процессии.
За примером недалеко ходить. Взять хотя бы тетушку Приклер, дворничиху из двухэтажного дома на Керепешском проспекте, состарившуюся в трудах праведных. Похороны для нее наивысшее наслаждение.
Правда, проживя пятьдесят лет на упомянутом проспекте, можно привыкнуть к похоронным псалмам *, как привыкают к тиканью фамильных часов.
Тетушка тоже привыкла к мысли о своей будущей смерти, — больше того, она совершенно сдружилась с ней. К жизни ее уже не привязывало ничто, ничто на свете. Все, кого она знала когда-то, давно уже умерли, а появившиеся вокруг новые люди были ей совсем чужими.
Собственно говоря, она ничем уже больше и не интересовалась. Был у нее изношенный, весь в заплатках, чулок, а в нем скоплено одними только серебряными форинтами и десятикрейцеровыми монетами ровнешенько девяносто пять форинтов и сорок крейцеров. Единственно, чего еще хотелось в жизни тетушке Приклер, это округлить указанную сумму до ста форинтов. Добрейшая тетушка мечтала для себя о похоронах, которые стоили бы сто форинтов.
Девяносто пять форинтов — это уже кое-что! На них тоже можно устроить вполне приличные похороны, но сто форинтов все-таки лучше. Даже безотносительно к их употреблению сто всегда больше девяноста пяти, а тут можно будет пригласить и лишнего факельщика!
Единственной отрадой тетушки Приклер было наблюдать из своих ворот за похоронами. На некоторых она присутствовала собственной персоной и плакала в свое удовольствие, независимо от того, знала погребаемого раба Божия или нет. Похороны интересовали ее также и по другой причине: она мысленно сравнивала их с теми, которые предстояли ей самой. Тетушка безошибочно угадывала, сколько могут стоить те или иные похороны.
— Вот такие будут и у меня, — шептала она, а иной раз с гордостью говорила: — Мои обойдутся на пятнадцать форинтов дороже.
Иногда она возвращалась в свой бедный подвал подавленная, особенно после погребения богатых и знатных господ.
— Вот это уж настоящие похороны! — восклицала она, и глаза у нее блестели: быть может, в ней говорила зависть. — Такие стоят целое состояние. Счастливцы эти богатые и знатные!
Тетушка вздыхала, становилась печальной, но это продолжалось недолго. Обычно она тут же спешила себя утешить:
— Кто знает, верно, у этого неугомонного Кароя Вереша тоже когда-нибудь будут точно такие же похороны… У него-то они будут… да почему бы и нет? Он ведь был умница, большая умница…
Значит, существует все-таки живая душа, которой интересуется тетушка Приклер! Кто же он? Может, какой-нибудь родственник? О нет. Родственников у тетушки Приклер давно не осталось. Карой Вереш всего-навсего ее бывший квартирант. Бедный горемыка-студент, который двадцать лет назад жил в ее затхлой, подвальной комнатушке.
Юноша был некрасив и рыж, никого и ничего не имел на белом свете, кроме разума и старания. А разве этого мало, чтобы преуспеть?
Когда рыжий молодой человек, со своим недюжинным умом, отправился искать в жизни счастья, бедная старушка долгое время не выпускала его из виду, следя из своего жалкого подвала за тем, что же в конце концов станется с этим молодым человеком.
А он изо дня в день поднимался все выше и выше. Его имя как-то появилось даже на страницах газет, и с тех пор бедная старушка не переставала искать его среди других встречавшихся там фамилий. Иногда поиски продолжались целые полгода, пока, наконец, тетушка Приклер не узнавала о местонахождении своего любимца. То он оказывался в Трансильвании, где его избирали секретарем какого-то общества. То его назначали помощником уездного начальника куда-то в северную Венгрию. А потом наступило и такое время, когда тетушка Приклер могла ежедневно встречать в газетах его имя: Карой Вереш был избран депутатом. Он стал большим человеком, знаменитостью: Быть может, при встрече тетушка и не узнала бы Кароя, ведь она его и в лицо-то уже не помнит. Может, он даже живет где-нибудь поблизости… Но что ей, в сущности, за дело до этого важного господина! Ее интересует лишь судьба студента Кароя, как всякого, дочитавшего книгу до середины, интересует дальнейшая судьба героя.
Но по отношению к Карою она испытывала не просто интерес, ее радовали его успехи. Как он продвигается! Как стремительно рвется вверх, на какую вознесся головокружительную высоту! О нем говорят везде и всюду, он произносит речи, участвует в комиссиях, неугомонный человек! Какие же похороны ожидают его, если когда-нибудь ему суждено будет умереть?
Видите ли, по мнению тетушки Приклер, пышность похорон — самое верное мерило человеческого достоинства. Кто чего достиг в жизни, становится всего очевиднее на его похоронах. И тетушка была отчасти права.
О Карое Вереше шла повсеместная молва, как о человеке, который защищает народные права и острым словом бичует власть имущих.
Проходил год за годом; когда их пролетело целых четыре, девяносто пять форинтов выросли до девяноста восьми, хоть и с превеликим трудом: из мизерного дохода дворничихи, право же, редко удавалось отложить даже какие-нибудь десять крейцеров. Старый грязный чулок наполнялся медленно.
А что же сталось за это время с Кароем?
Кто может ответить на этот вопрос? Как-то сразу имя его бесследно испарилось из газет, никто никогда его больше не упоминал. Казалось, он исчез с самого лица земли. Жизнь по-прежнему била ключом, люди продолжали копошиться, словно в муравейнике, за что-то бороться, газеты приносили самые свежие новости, но в них никогда больше не встречалось имя Кароя Вереша. Куда он делся, что с ним стряслось? Может быть, он уехал за границу или переменил фамилию; возможно, стал за это время князем, — кто знает, как его сейчас величают?
Старушка уже почти позабыла об этой столь неожиданно оборвавшейся человеческой судьбе. И вспоминала теперь о Карое, лишь когда хоронили какого-нибудь знатного человека.
Но знатных хоронят редко, — хорошо, если одного за три года. Знатные люди не столь глупы, чтобы часто умирать ради удовольствия зевак. А ведь если хорошенько вдуматься, пышная похоронная процессия стоит того, чтоб они почаще умирали.
Быстро шли годы. Многое множество гробов пронесли за это время по Керепешскому проспекту, целые поколения переселились на погост. А старую тетушку Приклер все еще можно было встретить на похоронах и слышать ее знакомое шамканье:
— Точно такие будут и у меня — девяностовосьмифоринтовые!
Как-то раз, в день поминовения усопших, тетушка возвращалась вечером с кладбища и остановилась перёд витриной посмотреть надгробные венки, разложенные соответственно их стоимости. Мимо нее прошмыгнула какая-то жалкая, дрожащая от холода фигура в сильно поношенном платье.
Тетушка взглянула вслед удалявшемуся человеку, и он показался ей знакомым. Как хорошо, что он остановился перед булочной, там ей, по крайней мере, удастся получше разглядеть несчастного. Человек с жадностью уставился на витрину с булками. На нем было жиденькое рваное пальто, из одного ботинка торчал палец. В этот момент свет ближайшего газового фонаря упал на его лицо. И тетушка Приклер узнала…
— Карой! — тихо окликнула она.
Оборванец вздрогнул, поднял голову и огляделся. Старушка бросилась к нему.
— Вы ли это, Карой?! Неужели вы не узнаете меня? Даже и сейчас не узнаете? Я та самая вдова Приклер, у которой вы когда-то жили. Ну, не смотрите же на меня такими чужими глазами!
Несчастный горемыка продолжал смотреть на нее все тем же взглядом. Затем ноги его подкосились, и, чтобы не упасть, он вынужден был опереться о фонарный столб.
— Вы больны, Карой… Бедный Карой! Идемте со мной. Боже, боже, до чего мы дошли! Я знала, что так будет, зачем вы перечили сильным мира сего?
Мужчина был не в силах произнести ни слова. Он молча позволил себя увести и через полчаса снова находился в своей давнишней комнатушке, откуда двадцать пять лет назад начиналась его карьера. Светлые, лучшие дни — все, все растаяло без следа. Казалось, будто вернулось печальное «вчера». И вот он лежит там же, где прежде, быть может, даже на той же самой кровати.
Добрая старушка всю ночь ухаживала за ним, укутывала потеплее, готовила ему отвары. Однако наутро больному стало хуже, а на третий день, проснувшись еще затемно, тетушка Приклер нашла его мертвым.
Старушка вытерла набежавшую слезу, потом достала из сундука заветный старый чулок. Она высыпала из него свои сбережения и разделила пополам.
— На мои похороны достаточно и сорока девяти форинтов. Для такой старушки хватит и этого… Можно обойтись и без факела, саван тоже заказать подешевле… Для меня и этого будет довольно.
На другие сорок девять форинтов, тетушка Приклер устроила похороны своему бывшему квартиранту и тогда уж доподлинно узнала, какое погребение ожидает ее.
1890
ЭСКУЛАП НА АЛФЁЛЬДЕ
Перевод Г. Лейбутина
Мой бедный дядюшка в семидесятых годах занимался врачебной практикой в одном из городков комитата Хайду (назовем его условно Хайду-Луцасек). Дядюшка стремился дать и мне медицинское образование. «Это наилучшая профессия, братец, — говаривал он, — потому что смерти каждый боится, а между тем редкий человек ее минует».
Сам он, как видно, тоже не относился к числу этих «редких людей» и умер на моих руках лет двенадцать тому назад. За несколько дней до своей кончины он обратился ко мне со следующими словами:
— Чувствую, пробил мой час и жить мне осталось всего дня три-четыре. Мысль о смерти не страшит меня, ибо редкий человек ее минует (это выражение стало у него поговоркой). Жаль только, что оставшиеся мне дни я не могу провести, как мне хотелось бы!
— Почему же, дядюшка? Попытайтесь! Может, и я помог бы вам чем-нибудь!
— Глупыш ты еще! Я хотел бы так распределить эти дни, чтоб через каждые сто лет вставать из могилы — всего на один день — и пролетать, над моей родиной. Хоть и мечтаю о покое, но все же легче было бы уйти в вечное небытие, не сразу, а постепенно. Расстаться с жизнью раз и навсегда — страшно, а вот на время — даже интересно.
— В ваших, словах есть нечто такое…
— Черт побери! Разве не интересно было бы пролететь над нашей Алфёльдской равниной лет эдак через триста? Кечкемет, наверно, разрастется до размеров Версаля, Сегед будет не меньше Парижа, Дебрецен станет походить на Лондон. Какой прогресс! Сколько блеска, какие чудеса!
— На что вам это, дядюшка? Вы бы увидели перед собой совсем чужие, незнакомые вам города!
На пожелтевших губах старика появилась слабая улыбка.
— Не думай так, мой мальчик! Готов побиться об заклад на пять форинтов, что, едва оставив позади Дебрецен, я воскликнул бы: «Смотрите-ка, ведь это города комитата Хайду!» — потому что города эти никогда не изменят своего облика.
В то время я не придал большого значения последнему замечанию моего дядюшки, так как привык считать его человеком язвительным, из уст которого частенько доводилось слышать едкие насмешки. Но теперь я начинаю постигать всю глубину его слов. Именно теперь, когда я угодил в один из городков комитата Хайду.
Впрочем, как раз об этом я и собираюсь рассказать. Случилось так, что вскоре после похорон моего дядюшки бургомистр пригласил меня в ратушу и перед лицом всего собрания сообщил мне, что, «поскольку прежний доктор никого уже вылечить не сможет, ибо сам навеки исцелился от всех и всяческих земных недугов, городские власти, отечески пекущиеся как о больных, так и об оставшемся не у дел аптекаре, наметили меня преемником моего дядюшки».
— Но это невозможно, — пролепетал я в замешательстве.
Бургомистр пропустил мои слова мимо ушей и, обращаясь к отцам города, продолжал в шутливом тоне:
— Для того чтобы наш милейший аптекарь, господин Алайош Хавран, мог жить, прежде всего необходимо, чтобы мы умирали. Гм… Что? Что вы изволили сказать?
— Я сказал, что ваше предложение большая честь для меня, но принять его я, к сожалению, не могу.
— Как, вы отказываетесь? Тридцать тысяч душ населения на одного-единственного врача. Прикиньте-ка, господин доктор!
— Я очень хотел бы принять ваше предложение, но есть одно препятствие…
— Я вас не понимаю! Какие могут быть препятствия, если и вы согласны, и мы хотим? Запомните, Хайду-Луцасек не признает препятствий! — произнес бургомистр, горделиво ударяя себя в грудь.
— Видите ли, вся беда в том, что пока я всего лишь студент-медик четвертого курса. До получения докторского диплома мне остался еще целый год.
— Вот это другой разговор! — воскликнул бургомистр. — Надо было с этого и начинать! Давайте-ка подумаем, как нам быть, — добавил он доброжелательно. — А что скажете на это вы, господа?
Отцы города переглянулись.
— Вас выбрали вожаком, вам и верховодить! — резко бросил Михай Колтаи. — За вами слово!
— На мой взгляд, есть лишь два пути, ежели мы будем настаивать на том, чтобы должность городского врача занял наш уважаемый юный доктор.
— Какие же?
— Или мы подождем, или университет поторопится.
Янош Фараго покрутил длинные густые усы и мудро изрек:
— Нецелесообразен ни первый, ни второй путь. Если грабли за четыре раза не соскребут всего сена, то и на пятый раз оно там же, на лугу, останется. Если наш уважаемый доктор за целых четыре года не постиг всей науки, то и на пятый год он не позаимствует ее у профессоров. Поэтому самым разумным будет закрепить молодого доктора за городом. А чтобы из-за этого недостающего года обучения не понес ущерба и наш всеми уважаемый город, надлежит удерживать из докторского гонорара одну пятую часть. Вот и все. Так или нет?
Доводы господина Фараго показались всем настолько убедительными, что большинство собравшихся уже склонилось к тому, чтобы принять его предложение. Однако я решительно заявил, что приму предлагаемую мне должность лишь в том случае, если город согласен ждать, пока я возвращусь с дипломом.
После короткой перепалки мое условие было принято, и неделю спустя я уезжал из Хайду-Луцасека в качестве выборного городского врача, воспользовавшись предоставленным мне годовым отпуском для завершения университетского образования.
Тот, кто ожидает от меня замысловатого сюжета или каких-нибудь необычайных приключений, пусть себе поищет другого рассказчика. Я всего-навсего описываю свою врачебную практику, с тем чтобы через три столетия мой преемник, врач, практикующий в городе Луцасеке, прочитав эти записки, воскликнул: «Тысяча чертей, оказывается, и триста лет назад дело обстояло точно так же!»
Не для вас пишу я, мои уважаемые пациенты, а для тех нескольких коллег, которым предстоит унаследовать мой пост.
Год спустя, в самом начале зимы, я прибыл в свою резиденцию. За сорок форинтов в год я нанял себе маленький опрятный домик на окраине города. Первые дни прошли в обязательных визитах: я посетил бургомистра, реформатского священника, наиболее зажиточных горожан, — словом, дал всем знать, что я здесь и больные могут приходить.
Бургомистр не поинтересовался, получил ли я диплом, зато спросил, умею ли я играть в калабри *.
— Увы, нет!
— Жаль, а еще такой молодой! — недовольно пробурчал он, словно желая сказать тем самым: «В таком случае, что же вы будете делать всю свою жизнь?»
Святой отец спросил, знаю ли я игру в тарокк. Я ответил, что, увы, и этого не знаю.
— Н-да, конечно, конечно, тому, кто убивает людей, — добродушно пошутил священник, — незачем убивать время!
Да, как бы не так! Прошла целая неделя, а пациенты и не показывались.
Я досадовал и от нечего делать коротал время в аптеке, где после обеда многие собирались поболтать. Оставшись как-то наедине с аптекарем, я не удержался и посетовал на свою судьбу:
— Скажите, господин Хавран, что, здешние люди никогда не болеют?
— Терпение, молодой человек, терпение! Вне всякого сомнения, и они подчиняются общим законам природы, только болеют они стаями, как гуси, причем в определенное время года. Поодиночке наш город не болеет.
— Как прикажете понимать ваши слова?
— Очень просто, болеют два раза в год: зимой — на масленицу, и летом, когда поспевают фрукты, вернее, когда они еще не поспели. На масленицу вам придется чинить пробитые головы и сломанные ребра, а летом врачевать испорченные желудки. В эту пору болен весь город. Успокойтесь, domine spectabilis. Кто-кто, а мы с вами дважды в году пожинаем урожай.
Однако до урожайной поры было пока еще далеко: ведь зима только начиналась. Уже выпал снег, и бесконечная равнина была ослепительно-белой. Лишь вблизи города поле походило на растянутую шкуру огромного леопарда: на белом снегу тут и там виднелись черные пятна — места, где палили свиней.
Все — и небо и земля — было белым; одинаковое одеяние словно делало их братьями и, точно в телескопе астронома, приближало друг к другу. Вечерами порой нельзя было понять — звезда ли это зажглась на небе или какой-нибудь пастух повесил свой фонарь на журавель колодца. Зимою природа покрывает бесконечный стол земли белой скатертью, а летом уставляет его всякой снедью.
Из ослепительной белизны выделялась только вода озера, тоже белая, но со свинцовым отливом. Называется это озеро Ползуном. Из года в год оно становится все больше и больше, захватывая берега. В этом крае только оно и наделено способностью хоть как-то меняться: все остальное в Хайду-Луцасеке неподвижно.
Однако в самом городе снега нет; смешавшись с грязью, он превратился здесь в такое густое месиво, что ходить по нему — дело нелегкое. Улицы только местами вымощены булыжником, но места эти еще хуже немощеных, так как повсюду торчат острые камни, и возница, восседая на телеге, увязшей в этом чертовом месиве до самых втулок, кричит мальчишке с кнутом: — Не зевай, щенок, а то, не дай бог, угодишь на мощенку! Идти всего лучше вдоль завалинок домов да плетней. В юфтевых болотных сапогах, не забывая вовремя хвататься руками за колья изгородей, можно кое-как пробраться в нужном направлении через это чертово болото. Так обстоит дело на Алфёльде, пока не придут холода и не настанет пора, когда, как говорят крестьяне, «и собаку надо на руках выносить на улицу полаять».
В такое время весь город тих и сонлив. Только перед гостиницей «Бык» (в комитате Хайду именно бык, а не лев или, скажем, орел является олицетворением силы, и гостиницы обычно называют в его честь) стоят две-три подводы; в сенной трухе, осыпавшейся на землю, весело копаются хозяйские куры. Внутри, в распивочном зале, несколько человек пьют кислое дешевое вино. Если не ошибаюсь, справляют именины местного парикмахера Яноша Дюрковича. Тост произносит сапожник Андраш Надь:
— Да благословит тебя господь, кум мой, и продлят твою жизнь до…
На этом месте он запинается и подыскивает подходящее выражение, нечто вроде «наивысшего предела человеческого возраста», но, поскольку это мудреное изречение никак не хочет прийти ему на ум, он заменяет его следующим:
— …до тех пор, пока светят солнце, луна и звезды! Остроумный парикмахер тут же прерывает его:
— Брось, кум! Как же сын мой Марци после моей смерти в темноте брить будет?
— Не горюй, шурин, — подбадривает его псаломщик из Нижнего города по прозванию «Соловей», — к тому времени в наших местах газ проведут.
Газ в Хайду-Луцасеке? Ха-xa-xa! Да это такая идея, что стоит немедля выпить и за следующий день рождения парикмахера Яноша.
Кроме «Быка», жизнь теплится еще в трактире «Солнечный диск», где целыми днями сидят горожане, уткнувшись в газеты, да в лавке кондитера, где с утра до поздней ночи бездельничают молодые щелкоперы и борзописцы. Что же касается кузницы, то это клуб более серьезных политиков. Здесь под грохот могучих ударов молота покуривают свои трубки местные Ференцы Деаки *, которые держатся вдали от газетной лжи и все новости черпают из более достоверного источника. Что бы там ни болтали будапештские газеты в простыню величиной, настоящую правду можно узнать лишь в кузнице.
Возчики, прибывшие из дальних мест, останавливаются здесь подковать лошадей или подремонтировать повозку. Ясно, что такого проезжего не отпустят, не расспросив поподробнее.
— Откуда будешь, земляк?
Тот, в свою очередь, отвечает, здешний он или нет, — уж что-нибудь да обязательно ответит. Случается, заедет кто и издалека, из-за Дуная или из Трансильвании.
— А ну, расскажи, что у вас там новенького!
Пока нагревается железо, приезжие обычно становятся разговорчивее, и вскоре пришедшие выкурить трубку горожане уже порядком осведомлены обо всех более или менее значительных новостях. Там-то того-то ограбили, в другом месте совершилось зверское убийство, о чем проезжий, конечно, знает лучше какого-нибудь пештского корреспондента, поскольку едет он с самого места происшествия.
Рассказы об убийствах и примечательных происшествиях заменяют газетный отдел новостей. Затем доходит очередь до раздела экономики: «Ну, как урожай?» После этого следует политический обзор: «Почем у вас овес?» Овес — это Бисмарк среди растений. Один он может сказать: быть войне или нет.
Если овес дешев — это означает мир, если же дорог — приготовление к войне: его скупают для гусарских коней. (А газеты могут болтать все, что им угодно, на них не стоит обращать внимания!)
Кузница еще и потому занятное место, что сюда раньше всего доходят местные сплетни: кто поколотил жену, кто с кем обручился, кто с кем судится, кто вчера вернулся домой пьяным, и тому подобное. Здесь каждый найдет то, что его интересует, в том числе и врач.
Именно здесь однажды после полудня я услышал, что тетушка Сомор уронила на пол своего грудного ребенка. Может быть, бедненький и умрет от этого. Дошли вести и о том, что тяжело заболел почтенный Михай Коти. Последнюю новость сообщил могильщик, принесший сварить свой треснувший заступ. Негодяй улыбался и торопил кузнеца: мне, говорит, срочно нужно, может быть, уже сегодня этот заступ понадобится.
Что ж, отлично, весьма кстати! Вот и подоспел тот долгожданный момент, о котором студент-медик мечтает в течение пяти лет: первый пациент, первый рецепт, первый гонорар…
Сердце мое радостно забилось, и я поспешил домой, предчувствуя, что скоро за мной пришлют. Два больных одновременно! Какое счастье!
Будь провидение моей собственной женой, я и то не мог бы потребовать от него больше двух близнецов сразу.
Но ожидания мои были напрасны: до самого вечера ко мне никто не пришел. В нетерпении я послал своего слугу выяснить обстановку. Дгори возвратился поздно вечером с явно недовольным лицом.
— Ну, как там, у больных?..
— Говорил я с нянькой госпожи Сомор.
— Ну и что? В самом деле упал ребенок?
— Упасть — упал, да нянька говорит, что ребенок не хочет врача.
— Ты осел! Как же он может хотеть или не хотеть, когда еще и говорить-то не умеет?! Ну, а второй?
— Краем уха слышал, что домашние Коти решили подождать, природа, мол, сама поможет старику.
— Какая природа? Чего ж ты не сказал, дурень, что у природы нет диплома, а у меня есть! Как природа осмелилась вмешиваться в мою частную практику? Какая наглость!
Видно, много еще всякой ерунды наговорил я в досаде, потому что Дгори только покорно пожимал плечами, пока я ругмя ругал весь славный город Луцасек и прошлогоднюю «удачу», забросившую меня сюда.
Ночью мне приснился мой бедный дядюшка. Он пролетал надо мной, восседая на облаке.
— Ну, как чувствуешь себя, братец, среди хайдинцев? — крикнул он.
На рассвете меня разбудили. Пришел работник от Коти. Наконец-то!
Я поспешно оделся. Пришлось взять с собою и зонтик — дождь лил как из ведра.
— Пошли, — сказал я батраку Коти, глухому старику маленького роста, с круглым лицом, который ожидал меня во дворе и страшно озяб. — Очень плохо твоему хозяину?
— Думаю, что его милость уж приближается к земляной обители.
— К какой такой земляной обители? — прокричал я старику прямо в ухо.
— К той самой, куда мы все попадем — и я и другие, а может быть, даже и вы, господин доктор.
— Ага, понимаю. Ты считаешь, что хозяин твой при смерти?
— Бьюсь об заклад, в прошлом году кукушка ему всего один раз прокуковала.
— Ну, тогда пойдем побыстрее. Далеко идти-то?
— Если б только можно было поспешать в этакой грязище, так тут рукой подать.
Спешить действительно было нельзя. Мои юфтевые сапоги то и дело сползали с ног, когда я хотел вытащить их из месива, местами по колено глубиной. Грязь становилась густой, как варенье на третий день после варки. Может быть, на мое счастье, к тому времени, когда я побреду назад, проливной дождь хоть немножко разжижит ее. С зонтиком моим усиленно воевал ветер, вырывая его из рук и толкая меня назад.
Мы шли уже около получаса, и я начал терять терпение.
— Ну что, еще не пришли?
— Немного подальше будет, ваша милость.
— Далеко?
— Нет, не далеко.
Мы повернули направо, в какую-то длинную улицу, оттуда у большой акации — налево, в другую, тоже длинную улицу. Все это тянулось довольно долго, идти было очень скучно и утомительно. Платье мое пришло в полную негодность.
— Эй, старик, ты, верно, дурачишь меня? Где же дом?
— Дальше, ваша милость.
— Дальше?! Да ты в своем ли уме! Сам сперва сказал, что рукой подать, а мы уже целый час идем, или, вернее сказать ползем. У меня ноги насквозь промокли, руки закоченели, я уже и за забор цепляться не могу. Ничего себе рукой подать! Какую же руку надо иметь, чтоб до твоего Коти дотянуться?
— Какую? — посасывая свою трубку, задумался старик. — Да, пожалуй, как у тех великанов, которые жили здесь до людей.
— Ну что ты чепуху городишь, — сказал я, досадуя. — У великанов хватило бы ума не селиться в Хайду-Луцасеке. Если ты не скажешь сейчас же, где находится дом Коти, я не сделаю больше ни шага.
— Напротив овина Сабо.
— А где овин Сабо?
— Возле амбара Ковача.
— Да ты мне скажи, на какой улице и который дом. В конце концов я хочу знать. Ну что ты уперся?!
— Нет здесь, барин, у улиц названий, да и дома без номеров. А зовут эту окраину «Собачьим полем».
— Ну, тогда дело другое, ты и вправду не можешь сказать. После долгих злоключений, когда я уже успел разок упасть и оставить отпечаток своих пальцев на лике земли-матушки, мы наконец подошли к маленькой белой мазанке.
— Вот мы и добрались, сударь, — сказал старик.
— Наконец-то!
Но только я открыл калитку, как четыре большие лохматые овчарки набросились на меня и измазали своими грязными лапами все, что еще оставалось на мне чистого. Одна из них при этом, вцепившись в мое новенькое пальто, отхватила полу, а другая устрашающе свалила зубы перед самым моим носом.
— Помогите! — закричал я. — Помогите! Эй, люди, неужели никто не выйдет отогнать собак? А ты, старый плут, почему с места не сдвинешься?
— Ох, и озорники, одно слово, озорники! — изрек глухой старикашка и равнодушно стал набивать пустую трубку.
На оглушительный лай и мои крики о помощи на крыльце появилась краснощекая молодуха.
— Пошли вон! Цыц, говорю я вам! Не троньте господина доктора! Не смейте! Эй, Мохач, Красавка, пошли прочь!
Говоря все это, она и не подумала сойти с крыльца, а только, слегка наклонив свой тонкий стан, махала на собак голубым передником. Собаки по своему усмотрению могли расценить это — и как знак убраться восвояси, и как науськиванье. Однако я ничего не мог возразить против подобного поведения, поскольку слова, которые она при этом выкрикивала, свидетельствовали о том, что она решительно встала на мою сторону.
— Пошли вон, разбойники, чтоб вы угодили в петлю к живодеру! Поглядите только на этих взбесившихся зверей! Да вы не обращайте на них внимания, господин доктор, заходите, голубчик, не бойтесь. Они совсем не злые, только еще не знают вас!
Закончив свою тираду, она убежала на задний двор. С большим трудом удалось мне добраться до крыльца, а оттуда я смелым броском очутился в сенях.
Это был тесный и темный закоулок, куда одной стеной выходила огромная печь, за полуоткрытой дверцей которой чуть мигал огонек. Тут же находилась лестница-стремянка, по которой можно было залезть на чердак, а прямо напротив — закопченная и низенькая дверь, открывавшаяся в комнату.
Однако я согрешил против истины, сказав, что она открывалась в комнату. В том-то и беда, что она никак не хотела открываться, и я безуспешно шарил по ней в поисках щеколды. Да что, в самом деле, уж не заколдованная ли это дверь?
Старику, ковылявшему следом за мной, видно, надоело созерцать мои тщетные попытки, и он, посмеиваясь, подсказал: — Дерните вон за тот крысиный хвостик, ваша милость! И в самом деле! Только теперь я заметил веревочку, которая проходила изнутри через небольшую щель в двери.
Дверь отворилась, и моему взору явилась долгожданная картина: первый пациент и его домочадцы.
Комната была чуть похуже ада, и я тут же принялся икать и чихать. Спертый, затхлый воздух душил меня. Он был до того густ, что, казалось, приобрел грязно-желтый оттенок. Здесь были представлены все виды вони — от тухлой капусты до плесени. Каждый атом здешней атмосферы бил мне в нос быстро сменявшими друг друга запахами тления. Это был не воздух, а варево Вельзевула. Вначале я вдыхал испарения человеческих тел, затем меня оглушила тяжелая, удушающая вонь, исходившая от сушившихся овечьих шкур, и сильнее всего этого — всюду проникающий запах скипидара…
«Да здесь никогда не проветривают!» — подумал я. Окна в конце осени замазываются на зиму так, чтоб даже самая ничтожная толика свежего воздуха не могла проникнуть внутрь.
Больной лежал на застланной пестрым полотнищем кровати и стонал. Вокруг него сидел сонм старух, принесших различные целебные травы.
Обычно медицинский осмотр начинается с того, что больного просят показать язык, затем щупают пульс и так далее… Однако из рассказов моего дяди я знал, что здесь нужно прибегнуть к совершенно иным мерам.
Я так и сделал и, подойдя к окну, выбил стекло костяным набалдашником своей эскулаповой трости. Осколки со звоном разлетелись, и через отверстие в комнату серебристо-белым потоком хлынул чистый воздух.
— Ой-ой-ой, да он же простынет, бедняжка! — запричитали старухи.
— Замолчите сейчас же! — прикрикнул я на них. — Или я тотчас же выгоню всех вас отсюда! Да в этой комнате и здоровому не мудрено умереть, не то что больному. Кто тут хозяйка?
— Я, — сказала сухопарая пожилая женщина, вытирая передником глаза (так требует приличие).
— Давно болен ваш муж?
— Вчера вторая неделя пошла.
Я исследовал своего пациента. Язык его был обложен, частый пульс свидетельствовал о том, что у больного жар.
— Что у вас болит?
— Все, — просипел Коти, тяжело дыша.
— То есть как все? Нос болит?
— Нет, нос не болит.
— А глаза?
— И глаза не болят.
— Ну вот видите! Так, по крайней мере, признайтесь, что вы ерунду говорите!
Мой больной закрыл глаза и отвернулся к стене в знак того, что все признает. Теперь он только стонал и не отвечал больше ни на какие вопросы.
— Как вы думаете, тетушка Коти, отчего он захворал?
— А вот как все случилось, сударь!..
— Только, пожалуйста, покороче.
— В прошлом году на святого Михаила шурин наш Домокош Буга продавал участок земли, засеянный люцерной, что возле проселочной дороги на Беркенеш, — может быть, ваша милость знает, где это? Уж очень хороша там земелька!..
— Не знаю, но прошу вас покороче…
— Так вот, говорю я своему муженьку (мы как раз сидели на скамейке перед домом): «Послушай, Михай (я всегда его зову на «ты», потому что, хоть и стыдно мне в этом признаться, он моложе меня)… давай, Михай, купим у нашего шурина этот участок под клевер». А муж говорит: «Купил бы, если б блохой можно было заплатить; уж она-то у тебя наверняка есть». Ведь он у меня такой шутник, такой озорник, пока здоров. Зря ты там ворочаешься, муженек, уж господину доктору, я всю правду выложу. Не возьму я на душу грех что-нибудь от него утаивать.
— Только ближе к делу, хозяюшка, ближе к делу.
— Так мы с ним и толковали… Денег, правда, у нас не было? но зато были они у нашего кума Тюшкеша, который накануне продал свой хлеб, с двух урожаев сразу, одному дебреценскому еврею. Я и говорю мужу: «Попроси-ка у него взаймы столько, сколько нужно, чтоб заполучить тот участок. Деньги мы выплатили бы по частям, а земелька за нами б осталась. Одевайся-ка, старик, говорю я ему, по-праздничному и отправляйся к куму. Я знаю Тюшкеша — он не откажет, вот увидишь».
— Словом, дал денег…
— Дал, ваша милость, как же не дать! Тотчас же и принес эти деньги мой бедный муженек. Ну так вот, купили мы эту землю у Буги, честно расплатились и тоже посеяли весной люцерну, поскольку старая на ней к тому времени уже не родила: всю задушила сурепка. Да, кстати, господин доктор, вы, голубчик мой, умный, ученый человек, книжек-то сколько прочитали, не знаете ли какого-нибудь средства против сурепки?
— Я уж сказал вам, что не к чему болтать столько о вещах, не относящихся к делу. Меня и без того вот-вот удар хватит от вашей болтовни.
— Не мучила б я вас своими рассказами и муж бы мой ни заболел, не окажись кум наш Тюшкеш во власти греха. Его милость еще с масленицы начал заглядываться на мою внучку, на ту красавицу, что вас встречать выходила. Все бы ничего, если б дело ухаживанием и кончилось. Внучке, конечно, не по нраву был старый холостяк, и она при всяком случае показывала ему это. Да ведь, как говорят, маслом огня не потушишь. Но вот что произошло на днях у Белы на свадьбе! Тюшкеша, видать, разгорячило вино да ясные очи моей внучки, вошел он в раж да как закричит перед всем честным народом: «Поцелуй меня, Жофи! Поцелуй!» Жофи-то наша на это усмехнулась и говорит: «А больше ничего вам не хочется?»
Тут Тюшкеш вскочил, обнял ее за талию и прохрипел: «Ну, не упрямься, за один поцелуй прощу твоему деду все его долги!» Внучка моя — в слезы, а я не на шутку разгневалась. Каков негодяй?! На весь город кричит, что мы у него в долгу! Осталось только с молотка нас продать! Тогда я и говорю своему: «Это уж слишком! (Говоря это, тетушка Коти уперла руки в бока, воинственно растопырила локти, чтобы показать, как велик был гнев, охвативший ее в ту минуту.) Хватит, черт побери! С этим негодяем Тюшкешем пора расплатиться. Собирайся-ка на ярмарку в Дебрецен, да поскорее. Коли на то пошло, продадим все, до последней моей юбки, а с этим разбойником рассчитаемся. Никому не позволю над моими детьми смеяться!» Так и сделали. Вывели мы из стойла корову, бычка, жеребенка и погнали бедняжек на базар. Как стали их из ворот выводить, у меня слезы ручьем. Бедняжки мои милые, никогда-то вы ко мне не вернетесь! И не вернулись. Простояли мы с ними на скотном рынке до самого вечера, не пили, не ели. Правда, Буренку нашу еще до обеда купил какой-то ткач из Пенече, Ференц Буйдошо прозывается. Десять форинтов до сих пор еще не отдал, негодяй! Слышала о нем, что не очень-то честный малый. Жеребенку зато нашелся хороший хозяин — черенский управляющий имением. Под седло купил, сахаром кормить будет лошадку! А бычок наш до самого вечера стоял непроданный. Тут откуда ни возьмись явился большеголовый кривобокий мясник и начинает рядиться. Мы просили пятьдесят, а он давал сорок два. Ну, разрубили пополам восьмерку. «Сорок шесть», — сказал мой муж. «Сорок четыре, и ни гроша больше, — сказал мясник. — По рукам, что ли?»
Я мигнула муженьку, соглашайся, мол, — он и говорит: «Ну уж ладно, только магарыч твой!» — «Так и быть, — отвечает мясник. — А где пить будем?» — «Пойдемте, — предложила я, — в «Золотой серп», неподалеку он, рукой подать!» И тут, видно, черт подсказал этому мяснику, он и говорит: «Вывьем прямо на базаре, у уличной торговки!» Сели мы под навес втроем, а муженек мой к тому времени так проголодался, что съел целую тарелку жаркого, да еще жирного. Оттого и приключилась его болезнь…
— Ну, слава богу, наконец-то! А я уж боялся, что мне еще два часа придется ждать, пока вы доберетесь до того, как у него расстроился желудок. Дайте-ка теперь чернил, да поживей!
— Чернил? Да где же я их возьму, золотце?
— Не писать же мне рецепт пальцем?! Неужели в доме не найдется чернил?
— Найтись-то милый человек, нашлись бы, да Палика в школу унес. У меня, ваша милость, уже двадцати двух зубов нет, внучка замужняя, а младший мой сынок, Палика, еще в школу ходит.
— Ну, тогда пошлите кого-нибудь за чернилами!
Пока ходили за чернилами, мне удалось помыть руки и соскрести грязь с одежды.
Уже звонили к обедне, когда явился Палика с чернильницей. Жофи, которая пошла за мальчишкой; встретила его по дороге. Вид у паренька был довольно необычный. И чернильница, и белобрысая голова Палики были разбиты. Маленькие сорванцы по дороге домой затеяли небольшую драку.
Из головы Палики капала кровь, зато из чернильницы больше не сочилось ни капли: все вытекло во время сражения.
— Ах ты, бедненький мой, — запричитала мать, увидев, что по лицу мальчика течет кровь. — Кто тебя обидел? Ах, подрались? Ну, тогда ничего, обмою, завяжу, до свадьбы заживет! С кем дрался? С ребятишками Иштвана Надя? Ну, представляю, как ты им задал, золотко!.. Что-о?! Тебя взгрели? Ах ты, сукин сын! А ну, где у меня метла? Подай-ка сюда, Жофи!
— Не метлу ищите, а карандаш, потому что из этой чернильницы мне уже ничего не удастся выжать.
— Может быть, у Палики в кармане есть? А ну ищи, паршивец! Если найдешь, не трону!
Мальчику понравилось условие, на котором предлагалось заключить мир, и он до тех пор ощупывал себя, пока не разыскал наконец под подкладкой жилетки небольшой обломок грифеля.
— Подойдет ли? — спросила тетушка Коти.
— Конечно, нет, на бумаге этим ничего не напишешь.
— Жофи, дай-ка метлу.
— В таком случае подойдет, — поспешил я вмешаться, пожалев мальчугана, — напишем рецепт на грифельной доске.
— Вот хорошо, ваша милость, а то кабы и нашелся карандаш, бумаги в доме все равно не сыскать… Не может же человек все иметь.
* * *
Усталый, словно целый день канавы копал, плелся я домой. У ратуши повстречался мне бургомистр, который беседовал в воротах с членом городской управы Фараго.
— Откуда это вы, господин доктор? Промокли, как суслик!
— Был у Коти.
— Далековато в такую непогоду.
— Да еще сколько неприятностей!
— Зато гонорар!
— А сколько? — поинтересовался я. — Уже определен?
— Конечно. За один визит пятьдесят крейцеров.
— Быть того не может, — пролепетал я, побледнев.
— Именно так. Конечно, если больной платежеспособен, — добавил бургомистр.
1891
ЛОШАДКА, ЯГНЕНОК И ЗАЯЦ
Перевод М. Ульрих
Есть два очень грустных времени года, когда я не в силах улыбаться; в такую пору я пишу, но не берите в руки моих произведений, если не любите печального!
Одно время года — это жаркое лето, когда город трогается к лесу. Я тоже иду вместе со своей семьей, но «его» я должен оставить здесь. Другое время года — суровая зима, когда леса трогаются к городу.
В эту пору небольшая, неказистая елочка добирается и до моей квартиры, но там она уже не находит «его». Да, его зовут «он». Называть его иначе не дозволено. И если маленькие братья находят в пустом ящике кнутовище, пуговку от красного жилетика или молоточек, то на мой вопрос: «Дети, чье это?» — испуганно, тихо произносят: «Это его». От упоминания его настоящего имени мое сердце превращается в жернов, а глаза в два высохших колодца.
Но есть в доме одна чашка; на ней написано его имя: «Яношка». Из этой чашки он всегда пил кофе, — он и кошка, потому что он всегда делился с кошкой. Теперь чашка стала моей, и я пью из нее по утрам кофе, а кошка грустно смотрит на меня издали, словно спрашивая: «Где мой маленький хозяин?»
Даже камень, упавший в воду, может сдвинуться с места, то подымет волна, повернет на другой бок, — но моей печали не суждено измениться.
Я бегу от воспоминаний, а они роем устремляются за мною. я бегу от них — и в то же время зову их к себе.
На моем письменном столе стоят его любимые животные, с которыми он играл в последний свой час; их нельзя трогать. Лошадка с седельцем и светло-желтой гривой, заяц с красным бантиком и ягненок с колокольчиком на шее. Когда я пишу, они смотрят на меня пристально, тихо, и стоит мне нечаянно толкнуть книжку или листы своих бумаг, тотчас звенит колокольчик на шее ягнёнка:
«Плим-плим! Плим-плим! Где мои маленький хозяин?
Где наш маленький хозяин, тот, кто кормил и поил нас, кто гладил нас своим крохотными ручонками, кто разрешал нам пастись на зеленом одеяле?»
Что вы спрашиваете, где он? Ведь он оставил вам такое пастбище! Моя душа — широкий луг, где цвело когда-то веселье. Он и в последние часы думал о вас. Слабеньким голоском звал он: «Лошадка моя! Мой ягненок!»
Яношка был хиленьким, худощавым мальчиком. Он никогда не хотел есть. Врачи твердили в один голос: чтобы Яношка стал сильным, крепким, надо давать ему больше мяса.
К каким ухищрениям, к каким выдумкам приходилось мне прибегать, чтобы перебороть его упрямство, — ведь именно мясо он любил меньше всего.
Я обещал ему книжку с картинками, но она пользовалась успехом только один день, пока он ее не перелистывал всю; на другой день Яношка опять переставал есть. Я приносил ему десятки разных игрушек. И что же? Мясо он не полюбил, а игрушки ему прискучили.
И что я ему потом ни обещал, он только качал своей красивой белокурой головкой:
— Не хочу есть, не хочу!
— Через год я куплю тебе настоящую лошадку.
— Все равно не буду я есть мяса.
— Шпоры подберем на твои сапожки.
— Правда?.. Но я не люблю мясо.
Однажды я посадил Яношку на колени и стал говорить с ним, как со взрослым:
— Если ты не будешь есть мяса, увидишь, большая беда случится, — сказал я.
Его блестящие глазенки, ясные милые глазенки, посмотрели на меня с любопытством: какая же, мол, беда? А я продолжал:
— Когда тебе исполнится двадцать лет, я повезу тебя в Вену.
— Туда, где король живет?
— Туда, где король живет, сердечко мое, как раз к нему.
— А мама тоже с нами поедет?
— Мама не поедет. Я повезу тебя одного, потому что ты там должен будешь драться с королевским сыном.
Улыбающееся личико его стало серьезным, на гладком лбу появилась сеточка морщинок, маленькое сердце забилось быстрее. В этом биении были и страх и гордость.
— Это правда, папа?
— Ну конечно, правда, если я говорю! Лишь бы только все хорошо кончилось, потому что если ты окажешься победителем, то страна эта станет твоей; но если окажется победителем королевский сын, то страна останется у него, а тебя бросят в тюрьму.
Глазки его сверкнули, и, чтобы утешить меня, он мягкими своими ручонками стал гладить мое лицо.
— Мне кажется, что я все-таки поборю его.
— А мне кажется иначе, — сказал я с укоризной, — потому что королевский сын, чтобы быть крепким, каждый день съедает фунт мяса, а ты не хочешь есть. Мне это больно. И не возвратишь ты венгерскому народу его государство!
На этот раз мне удалось убедить Яношку.
— Поджарьте же мне два фунта! — воскликнул он решительно.
С этого дня стал Яношка есть мясо каждый день, и, если поддавался минутной слабости, достаточно было за столом сказать ему:
— Ох, Янош, Янош, вот увидишь, победят тебя в Вене! Он жил этой мыслью до последних своих дней. Ради этого он ел, об этом ему нужно было рассказывать по вечерам. Он все время готовился к предстоящей битве. Даже разделил уже завоеванное государство между братьями: Лаци получил всех волов, которые имелись в стране, Альберт всех коров, а мне он передал всех людей. (Только дворника да старую няню Жофи оставил себе.)
Но вот однажды он услышал, как служанка проговорилась на кухне, что королевский сын умер. Бедный мой сын совсем загрустил: — Так с кем же я теперь буду драться?
А чудовище, с которым ему предстояло драться, было уже а дороге. То был дифтерит, самый страшный генерал армии смерти. Двадцать четыре дня боролся с ним Яношка, и если бы меньше ел больше мяса, то, конечно, одержал бы победу!
Ох, какие это были двадцать четыре дня! Если бы у меня хватило сил написать о них…
Уже умирая, он позвал меня к своей кроватке и прошептал на ухо:
— Папа, если я умру, ты береги моих животных, не давай ни Лаци, ни Альберту. А то они сломают…
Ему захотелось последний раз их увидеть.
Мама подала ему в кровать и лошадку, и ягненка, и зайчика.
Яношка смотрел на них, только смотрел, потому что ручки его совсем обессилели и больше не могли держать игрушек.
Потом он поманил меня и с таинственным видом положил мне на ладонь блестящую монетку. (Он получил ее от доктора за то, что принимал лекарство.)
— Ты это мне, Яношка?
— На корм для моих животных, — ответил он совсем слабеньким голосом.
* * *
В комнате у нас снова стоит елка. Зажгите свечи на ней — посмотрим, будут ли они все так же блестеть, сверкать? Пусть придут и дети. Все готово! Все на ней, как и год назад. Неужели орешники и в этом году приносили орехи?
Нет, нет! Уберите отсюда все эти новые, только что купленные вещи. Под елочку нужно поставить желтогривую лошадку, зайчика и ягненка, которых я должен кормить на медную монетку. Они здесь стояли в прошлом году, пусть стоят и теперь. Встряхнись, ягненок мой, хочу слышать я бередящий сердце голосок твоего колокольчика:
«Плим-плим! Плим-плим! Где наш маленький хозяин?»
1893
3ЕЛЕНАЯ МУХА И ЖЕЛТАЯ БЕЛКА
Перевод Е. Тумаркиной
Заболел и слег старый крестьянин, деревенский богач. Бог покарал его в назидание прочим смертным.
«Кто вы такие? Ничтожества! Взять хотя бы Яноша Гала, с которым и окружной начальник за руку здоровается, кого графинюшки молодые дядей Галом величают, ибо богат он и самый набольший среди вас. Но для меня все ничто. Я и Яноша Гала покараю. Коснусь легонько, и падет он, словно зерно из колоса от взмаха руки. Не пошлю я на него голодного волка, чтобы съел его, не обрушу могучий дуб, чтоб пришиб его. Довольно с него и тебя, маленькая мушка! Лети, лети, ужаль его милость!»
Так оно и случилось: ужалила муха господина Яноша Гала в руку, и стала рука пухнуть, краснеть, а потом и чернеть, да все больше, все выше.
Барыня из замка и священник уговаривали его немедленно вызвать врача.
— Ладно, — сказал господин Гал. — Пусть пошлют коляску за летайским лекарем.
Но барыня во что бы то ни стало хотела телеграфировать в столицу университетскому профессору Бирли, визит которого обойдется, правда, в триста форинтов, но уж он-то ремесло свое знает.
— Э, дурь все это, — ворчал крестьянский король. — Да и могла ли эдакая махонькая мушка натворить мне беды на триста форинтов». Но барынька, сельская благодетельница, уговаривала и так и эдак, до тех пор настаивала, — она сама, мол заплатит триста форинтов будапештскому профессору, — пока господин Гал ее не перебил:
— Ну уж этому не бывать! Скорее я приплачу ему еще полсотни.
Телеграмма ушла, и с послеобеденным поездом прибыл известный на все тридевять земель врач Йожеф Бирли, моложавый, сухопарый господин в высоком цилиндре и очках. Весь-то человечишка пяти грошей не стоил. А вот изволь плати такому триста форинтов!
На железнодорожной станции его ожидала коляска господина Гала, а во дворе встретила сама хозяйка.
— Вы и будете пештский доктор? Добро пожаловать! Да проходите, проходите, душа моя. Такой шум поднял мой хозяин, словно его не мушка какая-то ужалила, а бешеная собака искусала.
А ведь не поднимал Янош Гал никакого шума. Он вообще-то молчал, когда его не спрашивали, а когда и спрашивали, говорил мало. Безучастно лежал на скамье. Смятая шуба под головой служила ему подушкой, а трубка весело дымила в зубах.
— Ну, старина, какая с вами беда приключилась? — скороговоркой спросил маленький Бирли. — Я слышал, вас муха укусила.
— Верно, муха, — медленно протянул больной.
— Какая была муха?
— Зеленая, — ответил тот кратко.
— Ну, ну, расспросите-ка его, душа моя, раз уж вы тут, — перебила жена Гала. — А у меня и своих дел полно, девять хлебов в печи.
— Хорошо, хорошо, тетушка, — рассеянно согласился доктор.
Но, услышав эти слова, жена Гала проворно повернулась и одним рывком скинула с головы платок в крапинку, скрывавший ее лицо.
— Кажись, и мы не старше вас, сударь, будем, — бросила она через плечо полуобиженно, полунасмешливо. — Верно, плохо вы видите через окошки, что у вас на глаза навешаны.
И закружилась, как веретено. При каждом ее движения дразняще шуршали и скрипели накрахмаленные юбки.
Ученый профессор с изумлением глядел на нее; хороша она была, дьявольски хороша и действительно молода, намного моложе доктора, а тем паче своего седеющего хозяина. Доктор собрался уж было пробормотать что-то в оправдание, но она захлопнула за собой дверь. Ох, и простофили же эти ученые знаменитости!
— Ну-с, покажите-ка руку.
Молча, нехотя господин Гал протянул больную руку.
— Очень болит?
— Порядком, — сказал господин Гал, выпуская громадный клуб дыма, который, извиваясь кольцами, поднялся к потолочной балке. Больной с удовольствием глядел кольцам вслед, пока они не исчезли.
Врач взглянул на распухшую руку и испуганно воскликнул:
— Плохо дело, очень плохо! Это была трупная муха.
— Может, и так, — флегматично ответил Янош Гал, лишь бы что-то сказать, — может, и так, потому я сразу увидел: не нашего она мушиного семейства.
— Вы меня не поняли, дядюшка. Я сказал, что эта муха до вас на трупе пировала.
— Эдакое святотатство! Ну и пакостница! — вырвалось у Яноша Гала без всякого испуга и досады, а скорее по привычке: точно так же воскликнул бы он, услышав, что где-то совершено богопротивное и непристойное дело.
— Счастье, что я не опоздал! Сейчас еще можно помочь, но завтра было бы поздно. Завтра вы бы уже умерли.
— Неужто? — сказал крестьянский король, уминая в трубке табак.
— Заражение крови идет быстро. Нам надо спешить. Ничего не поделаешь, хозяин, крепитесь! Руку нужно отрезать.
— Мою руку? — изумленно спросил тот, и какая-то тихая, ироническая усмешка показалась на его губах; было в ней и презрение и пренебрежение, смешанные с удивительным фатализмом.
— Вашу, конечно. Иного выхода нет!
Господин Гал не проронил ни слова, лишь потряс головой и продолжал спокойно покуривать трубку.
— Но послушайте, — принялся убеждать его доктор, — ведь вам и больно-то не будет, я вас усыплю, а когда проснетесь, все будет кончено, а вы спасены. Иначе завтра в это время вы умрете, потому что заражение крови распространится дальше. Сам господь вас не сможет спасти!
— Оставьте вы меня в покое, ради бога, — проворчал господин Гал, словно совестился говорить о таких пустяках; до сих пор он лежал на спине, но тут вдруг попросту повернулся лицом к стенке и закрыл глаза.
Врача испугало его упрямство, он вышел в сени, где молодуха вертелась и суетилась у печи, в глубине которой розовели большие пышные хлебы, а в челе краснели и мерцали сложенные горкой угли, постепенно окутывавшиеся пепельно-серым одеянием.
Ну, что там со стариком? — почти равнодушно спросила молодуха, стыдливо одергивая подоткнутую спереди юбку, которая открывала ее стройные белые ноги намного выше щиколотки, — а ведь не каждый мужской глаз заслуживал того, чтобы любоваться ими.
— Да вот, плохи его дела. Затем я и вышел, чтобы просить вас уговорить мужа…
— Уговорить?
— Да, чтобы он позволил отрезать себе руку.
— Господи! Руку?
Молодуха побелела, как стена, зубы ее застучали, и, вся дрожа, она пробормотала:
— А это нужно?
— Да, во что бы то ни стало! Каждая минута дорога. Здесь налицо заражение крови. (Это не я так говорю, а доктор). Если рука не будет немедленно отнята, возможность воспрепятствования наступлению смерти можно считать исключенной.
— Значит, мой хозяин помрет?
— Завтра неизбежно последует смертельный исход. Помочь ничем нельзя.
Лицо молодухи стало багрово-красным, как мальва, глаза сверкали и блестели, словно угли в печи.
— Пойдемте, пойдемте, — торопил Бирли, — скажите ему, уговорите, вас он послушает.
Хозяйка вызывающе положила руку на бедро, а другую руку поднесла ко рту и ногтем большого пальца щелкнула себя по зубам (что у венгерских крестьян служит изысканной формой кукиша).
— Вот вам, видали?! За кого ж это вы меня, господин хороший, принимаете? Или для такой, как я, и калека-муж сойдет?.. Да я со стыда сгорю! Ишь ты, этого только не хватало!
И она вихрем влетела в комнату с отчаянным криком:
— Янош! Не давайте себя кромсать! Не слушайте доктора, Янош!
Старик дружелюбно подмигнул ворвавшейся к нему жене, затем принялся ее успокаивать, словно дитя малое:
— Не бойся. Кришка! Ничего из этого не выйдет! У меня самого голова на плечах, Кришка. Не помру я по кусочкам.
Бирли пришел в отчаяние, но продолжал уговаривать, приводя все новые доводы:
— Не будьте жестоки, добрая женщина. Даю честное слово этот бедный человек завтра умрет, если я не отрежу ему руку. И вам я удивляюсь, господин Гал. Такой умный человек, — я слышал, вы даже старостой были, — как же вы не понимаете ужасных последствии! Что такое одна рука? Вы не раз, должно быть, видали здоровых, веселых одноруких солдат. Не правда ли?
— Правда. — согласился богач-крестьянин.
— И потом (тут Бирли припомнилась одна уловка, на которую попадаются крестьяне), все равно вам придется платить триста форинтов, отрежу я руку или нет. Так что не стоит упрямиться. Вся операция займет пять минут. Как говорится, чихнуть не успеете. Деньги все равно уже уплачены — нужно только ваше согласие. Да и у меня на душе спокойно будет, что спас славного человека, не напрасно у него из кубышки триста форинтов вытянул.
Янош Гал, казалось, задумался, однако размышлял он лишь о том, чем успокоить многоречивого доктора.
— А вы пропишите мне за мои деньги какой-нибудь мази, — сказал он.
Удивительны то равнодушие, тот фатализм, с которым спокойно, без горечи умирает венгерский крестьянин. Скажет себе: «Вот и мой черед настал», — покорится судьбе и кротко продиктует сельскому нотариусу последние распоряжения. Или так скажет: «А что мне теперь здесь делать?» — как Марци Чепи, когда уволили его из ночных сторожей. Спросил у жены: «Осталось у нас что-нибудь пожевать?» Был у них каравай хлеба да капуста на дне бочки. Марци хватило этой еды на два дня. А к вечеру, как проглотил последний кусок хлеба, лег на печь, положил под голову сапоги, закрыл глаза, да и помер, порешив, что нет у него на этом свете никаких дел и нечего ему здесь больше задерживаться.
Старуха с косой для крестьянина не пугало, а скорее эдакое добродушное существо, которое, пожалуй, даже является членом его семьи; она увела с собой деда и бабку — досками (торговать в подземном царстве, она же из рук кумы навсегда ложку взяла. Она справедлива, потому что никого не обходит, она не враг, потому что кого скосит, у того сразу все беды проходят. Вот и зовут ее Смертью-кумой. Ведь она всего лишь кума, не какая-нибудь там власть предержащая; идет-бредет по приказу свыше со своей несуразной косой, дружески, доброжелательно, насколько умишка станет, предупреждает верующие благочестивые души, куда идет и каковы ее намерения.
Конечно, и она не без упрека, да уж как может, так и весть подает, как умеет, так и делает. Есть вон птица кукушка — спросят ее, ответит, кто сколько проживет. Но она не свое говорит. А коли свое скажет, то не в счет. Или вот лопнет вдруг стакан на столе, это значит: «Готовься!» Смерть-кума весть подает. А перед самым концом сыч к окну подлетит. Смерть-кума предупреждает: иду, мол, одной ногой уж тут, время попа звать.
Одним словом, крестьяне не так страшатся смерти, как баре, что перед зеркалами причесываются: там ее лишь тогда любезно принимают, когда она уносит кого-нибудь из близких; здесь же ей часто тот рад, кто сам в путь собирается, а кто и не рад, тот, по крайней мере, спокойно ее встречает.
Нет, напугать господина Яноша Гала доктор не мог, зря только старался. Старик упорно твердил свое:
— Будь что будет. И не невольте!
Между тем прибыла местная знать: его преподобие, сельский нотариус и барыня из замка; они тоже по очереди принялись за больного.
— Жизнь так прекрасна! — яркими красками расписывал святой отец. — Любоваться, как восходит, как заходит красное солнышко, вдыхать аромат деревьев и трав, ощущать себя частицей величавой, кипучей жизни, которую направляет десница Господня! Каждый день — это дар божий. Ни единого дня нельзя лишать себя легкомысленно. Вашу милость господь большим достатком оделил, а добро творить и одной рукой можно.
Барыня из замка завела речь о малолетних детишках (у господина Гала и от первой жены трое оставалось): воспитать их — долг христианина. Грех от этого уклоняться из упрямства и маловерия.
— Так, так, — подхватил нотариус. — Много вы добра для них накопили. А для чего? Чтобы теперь оно в опекунский совет угодило, да чтоб комитат все их добро разбазарил.
Господин Гал пошевелился: возможность разорения принадлежавших ему громадных владении как будто обеспокоила его, но затем он произнес благочестиво:
— Бог не оставит детей, а он посильнее комитата.
— Я, право, этого не замечал, — сорвалось с безбожных уст сельского нотариуса.
(Слуга господа прикрыл глаза, но не вступился за своего хозяина, ни единого слова не сказал против комитата.)
Нет, невозможно сломить это безумное упрямство, стряхнуть это ужасное равнодушие! Врач бросил гневный взгляд на жену Гала, которая часто отрывалась от своих хлебов и то и дело вбегала в комнату.
— Что сказано, то сказано, — неустанно повторяла она. — Не позволю кромсать моего хозяина.
— Замолчите! — прикрикнул на нее возмущенный доктор. — Вы совершаете преступление!
Из глаз жены Гала на доктора так и посыпались зеленые искры.
— Это мне замолчать? — В голосе ее послышались издевательские нотки, она выразительно покачала стройным станом (такого рода кокетство зовется «игрой бедер»). — А еще чего захотите? Других приказаний не будет? Так знайте, господин любезный, всякий кулик на своей кочке велик.
Господин Гал с мудрым хладнокровием поспешил предотвратить готовящееся столкновение.
— Ну-ну, Кришка! Не задирайся, Кришка, не умничай. Сходи-ка лучше ты, лапушка, в погреб да принеси гостям бутылку вина. Господина доктора, верно, жажда истомила. Не пристало эдак, до сих пор ничем не попотчевала! Не сердись на господина доктора, Кришка, ведь и он мне добра желает — по своему разумению.
Молодуху охотно отпустили за вином. По крайней мере, в ее отсутствие можно еще раз попытаться уговорить хозяина. Говорили торопливо, с жаром, перебивая друг друга. Привели все доводы, соблазняли: мол, и вся-то операция не болезненнее укуса пчелы. Пугали: ох, и невесело лежать в сырой земле! Хозяин ничего не говорил, молчал, слушал, покуривал трубку, его голубоватые кроткие глаза скучающе блуждали по комнате, но знакомым предметам, по вещам, подвешенным к балке, по полке с тарелками, по портретам императора Франца-Иосифа и старого Кошута: ведь в домах венгерских крестьян они висят рядышком (хотя в жизни были так далеки друг от друга), и за каждую раму засунута ветка освященной вербы.
Хозяйка быстро вернулась с вином — осаждаемый со всех сторон хозяин не успел возразить гостям, да теперь уж и не дал им отвечать, а обратился к жене;
— Ты из какой бочки брала?
— Из двухмерной.
— Ладно, но на мои поминки откупорь, женушка, ту, что рядом стоит. Я, когда доливал ее, заметил, что вино портиться начинает. Вот его и надо выпить на моих поминках, Кришка.
В этой простой спокойной покорности судьбе была не только осмотрительная забота венгерского хозяина, распространяющаяся и на то, что будет после его смерти, но одновременно заключался и отрицательный ответ на все уговоры.
Бирли это понял и начал натягивать перчатки.
— Все бесполезно.
— У меня есть одна идея, — прошептала барыня. — Подождите!
Она выскользнула во двор, чтобы разыскать детей Гала; через несколько минут они ворвались в дом с ревом и визгом, причем каждый сжимал в пятерне серебряную монету.
— Не умирайте, отец, не умирайте!
Маленькая Боришка, хорошенькое светловолосое существо, умоляюще сложила ручки:
— Позвольте отрезать вам руку, батюшка!
— Позвольте! Позвольте! — требовали мальчишки с чумазыми мордочками, которых барыня сманила с тутового дерева.
Старик улыбнулся, и в этой насильственно выжатой улыбке проглянул его добрый нрав.
— Ишь чего захотели, пострелята. Думаете, я левой рукой не смог бы вас пороть. Смог бы! Не было б вам от этого никакой пользы, — добавил он с кроткой грустью.
Но ребятишки почти и не слышали его ответа, ибо жена Гала проворно отыскала в углу веник, завидев который они врассыпную бросились из комнаты, только пятки засверкали.
Тут уж и барыня отказалась от надежды на операцию.
— Вы правы, Бирли. Все напрасно. Пойдемте.
— А теперь у меня возникла идея, — шепнул Бирли. Он вызвал из комнаты нотариуса.
— Есть здесь в деревне какая-нибудь старая сплетница?
— Э! Да тут других-то и нет.
— Но кто все же самая большая сплетница?
— В бабьем племени все на это мастерицы, — отвечал сельский нотариус, — но, пожалуй, самая знаменитая из них жена Базара Матяша — «Желтая Белка».
— Почему ее зовут Желтой Белкой?
— Лицо у нее такое, словно у белки. И желтое, как утиные лапы… а душа еще желтей — от зависти.
— Далеко она живет? Прошу вас, проводите меня к ней, пока запрягают.
Сельский нотариус засмеялся.
— Охотно. Она живет по соседству, в третьем отсюда доме. Может, господин профессор хочет жениться? Желтая Белка — известная сводня.
— Сводня?
— Ну да. Деревенская сваха.
— Хорошее ремесло! Мне это как раз и нужно. Но сначала я попрошу жену Гала, чтоб запрягали.
— Это она охотно сделает.
— Видимо, так.
Во дворе франтоватый парень в шляпе со страусовым пером поил у колоды лошадей. Бурли узнал его, это был кучер, который привез его со станции. Впрочем, кучера всегда можно узнать по страусовому перу, другие его не носят; пастуху полагается ковыль на шляпу, батраку — роза, леснику — журавлиное перо.
— Как вас зовут? — спросил профессор у парня.
Тот посмотрел на него с недоумением, потом оглянулся, но не увидел никого, к кому относилось бы это «вы».
— Как ваше имя, друг мой?
— Мое? Пали Надь.
— Вы кучер?
— Ясное дело.
— Так вот. Пали Надь, скажите хозяйке, что я хочу уехать, и запрягайте. А вы, дорогой господин нотариус, будьте любезны, отведите меня на минутку к Желтой Белке.
Желтая Белка жила через два дома от Галов. Нотариус потянул привязанную к воротам веревку, похожую на поросячий хвост, и они тотчас же очутились перед Желтой Белкой, которая трепала на дворе коноплю.
— Этот господин из Будапешта хочет с вами потолковать, тетушка Ребек!
Тощая, высокая старуха, лицом действительно напоминавшая белку, послюнявила пальцы и принялась прилеплять свисающие кудерьки к вискам: ей тоже хотелось быть покрасивее. И она была женщина.
— Говорите, слушаю.
— Только с глазу на глаз.
— Так ведь у меня и у самой два глаза имеется.
— Ого! Да у вас, тетушка Ребек, пожалуй, все сто глаз, а не два, — заметил нотариус.
Эта учтивость ей, видимо, польстила, потому что некое подобие улыбки пробежало по ее изрезанному морщинами лицу.
— Что вижу, то вижу, — ответила она с некоторой гордостью, — но многое и от меня скрывает плащ феи Амилены. Бог запрятал великие тайны в травы, деревья и людские сердца. А я их собираю да складываю — вот и вся моя наука.
— Вот я и хотел бы выведать кое-какие тайны, — сказал доктор.
— Идемте за мной!
Ведьма ввела его в дом, в котором была лишь одна комната. У стен в корзинках сидели на яйцах куры и гусыни, встретившие гостя оглушительным кудахтаньем и гоготаньем. На печи булькало в горшках какое-то варево, издававшее удивительный аромат; чуткий нос врача сразу уловил запах шалфея. С потолочной балки свисали большие пучки сухих трав и растений, употребляемых для изготовления различных зелий — и для приворота и для порчи; в стенной нише над сундуком, разрисованным тюльпанами, висели, как паприка, нанизанные на шнурок сушеные ящерицы и скелетный лягушек.
Тетушка Ребек обтерла передником стул и пригласила доктора сесть.
— Так чего же вы хотите? — спросила она.
Доктор вынул из кармана два серебряных форинта и протянул их тетушке Ребек.
— Я пришел за правдивым словом.
— Вот как? — полунасмешливо, полуудивленно произнесла ведьма. — Значит, вам не надо ни шалфея, ни сушеных ящериц, чтоб зашить их в шов рубашки, вам понадобилось правдивое слово. Значит, правдивое слово приходится уже покупать за деньги, так? Ладно. Вы получите правдивое слово.
Гадко ухмыльнувшись, она позвенела в ладони серебряными форинтами.
— Гм. На этот товар пока не находилось покупателя. До сих пор у меня в лавочке только на любовь спрос был. Но ничего, я и правдивое слово продам. Чего вы хотите?
— Приглянулась мне в вашей деревне одна особа, и я хочу, чтобы она меня полюбила.
Старуха всплеснула руками и запричитала:
— Ох ты. Это и впрямь задача! Вас полюбить-то? Ведь вы, голубок, на пугало огородное смахиваете. Хотели правды, вот я правду и сказала!
Бирли улыбнулся:
— Отлично, тетушка Ребек, я доволен: возможно, это и правда, но я не пожалел бы денег, шелков, драгоценностей, — ведь я богат.
Тетушка Ребек задумалась.
— В конце концов каждую розу можно сорвать, — сказала она. — Кто ж эта особа?
— Жена Яноша Гала. Старая ведьма расхохоталась:
— Эту нельзя. Красивая женщина, видная, а все-таки нельзя.
— Но ведь вы сами сказали, что каждую розу можно сорвать.
— Только не ту, что уже к другому в стакан попала. Именно это и хотел знать Бирли, для этого он сюда пришел.
— Кто ж этот другой? — жадно спросил он.
— Красавчик кучер Пали Надь.
— Значит, между ними любовь?
— Она-то наверняка его любит, приходила в мою лавку за любовным зельем.
— Что вы ей дали?
— Вьюнок прошлогодний, растертый в порошок, чтоб в питье намешала.
— А Янош Гал подозревает что-нибудь? Тетушка Ребек пожала плечами.
— Янош Гал — умный человек, но где мужском мудрости с женской хитростью тягаться!
Узнав все Бирли поспешил покинуть ведьму. Да и пора уже было возвращаться: на дворе Гала нетерпеливо переминалась в упряжке пара гнедых. Коляска стояла у сеней, и Пали Надь, озорно посмеиваясь и самодовольно покручивая усы, неторопливо с кем-то разговаривал, то сдвигая на затылок, то нахлобучивая ни самые глаза шляпу со страусовым пером.
— Не угостите ли лепешкой, красавица хозяюшка?
— Проваливай, озорник, пускай тебе их корчмарка Чиллаг печет. Знаю ведь, что ты там останавливаешься коней поить, поддразнивал кучера из сеней свежий, звонкий голос. (Ей-богу, это был голос жены Гала!)
— Если и останавливаюсь, — отвечал парень, — так только коней напоить.
— Ишь ты, а сам не пьешь?
— У нее вино кислое, будто уксус.
— Зато поцелуй, говорят, сладок, как мед.
— Не пробовал.
— Ох, и врешь!
Этот диалог продолжался бы и дольше, по тут доктор и нотариус вошли в сени, где раскрасневшаяся молодуха смазывала лепешки гусиным жиром.
Завидя их, она поставила зеленую эмалированную миску и принялась расстегивать лиф. Один за другим отстегивались крючки… один из них оторвался и упал на землю. (Пали, которому все прекрасно видно было из коляски, весьма игриво козырьком приставил ладонь к глазам.) Доктор с недоумением глядел на эту удивительную сцену: что-то будет? Но, конечно, ничего особенного не произошло, она всего-навсего вынула из-за пазухи три сложенные сотни.
— Пожалуйте за труды, господин доктор!
— Хорошо, — холодно произнес врач, — но на вашей душе грех, красавица, что я это не очень заслужил.
— Ладно, — ответила красавица, — моя душа выдержит.
— Дай-то бог! Прикажите снести мои вещи в коляску, а я зайду проститься с хозяином.
Янош Гал лежал на том месте, где его оставили. Трубка уже погасла, он опустил веки, словно собрался вздремнуть.
Когда отворилась дверь, он приоткрыл один глаз.
— Я пришел проститься, хозяин.
— Уезжаете? — безучастно спросил тот.
— Мне здесь больше нечего делать.
— Отдала вам хозяйка деньги?
— Да, отдала. Ох, и красива ж она.
Услышав это, больной открыл второй глаз и, протянув доктору для прощания здоровую руку, эдак снисходительно и кратко осведомился:
— Правда?
— Какой же у нее маленький прелестный ротик, словно красная земляника, — восторженно произнес доктор.
— Оно так! — Казалось, благодушная улыбка заиграла под седоватыми усами.
— Эх, и повезло этому разбойнику Пали! Такую ягодку доведется отведать!
Старый Гал вздрогнул.
— Какому еще Пали? О чем это вы, доктор, о чем вы говорите?
Доктор шлепнул себя по губам, будто устыдившись, что проговорился.
— Глупости! Какое мне дело! Но в конце концов у человека есть глаза, есть голова на плечах, он смотрит и кое-что замечает. Признаюсь, меня сразу поразило, что она не позволила отрезать вам руку. А вас это не удивило? Теперь-то уж я понимаю. Ясно, ясно.
Янош Гал забыл, что одна рука у него распухла, в запальчивости он потряс в воздухе кулаками и вскрикнул от сильной боли:
— Ох, рука, рука моя! Молчите, доктор, молчите!
— Больше ни слова не скажу.
Из груди больного вырвался мучительный стон, левой рукой он вцепился в Бирли.
— Какой Пали? — глухо прохрипел он. — Кто этот Пали?
— Э, да вы и вправду ничего не знаете? А ведь я о Пали Надь говорю, о том красавце парне, что служит у вас.
Лицо крестьянского короля побелело как мел, губы задрожала, вся кровь прилила к сердцу. Боли в руке он больше не чувствовал.
Вдруг он хлопнул себя по лбу и воскликнул:
— Ну и дурак я… Мне бы уж надо было заметить! Ах, баба… Ах, змея!
— Не ругайте свою молодуху, хозяин, — перебил доктор. — В ней кровь играет. Она молода и пока еще, быть может, ни в чем не виновата, но ведь надо же ей замуж выйти, когда вас не станет… А вас не станет!
Богач с глубоким мучительным вздохом пошевелился на своем ложе.
— Да вашей-то милости какой убыток, если она замуж выйдет? Никакого, правда ведь? Вы об этом и знать не будете в могиле-то… И какая вам забота, что она облюбовала себе и мужья красивого, стройного, лихого парня, этого Пали?
Послышался скрип зубов, казалось, два рашпили терлись друг о друга.
— Не завидуйте, господин Гал! Грех такой замечательной женщине увядать без пользы. Пали не дурак, чтоб не надкусить яблочко, которое само к нему катится. И она правильно делает, что жить хочет. Во всем только вы виноваты, глупец вы, господин Гал…
Господин Гал застонал, со лба его лил пот, душу захлестнула горечь. Ох, сейчас через край перельется!
— Эх, господин Гал, лучше уж одной рукой тонкий стан обнимать, чем не обнимать вовсе.
Это было слишком. Гал вскочил со своего ложа, как разъяренный волкодав, и, с диким рычанием протянув доктору распухшую руку, задыхающимся от гнева голосом прохрипел:
— Режьте, господин доктор!
1895
ДЕМОКРАТЫ
Перевод И. Миронец
I. Здорово, дядя Пали!
Нынче невозможно говорить о демократии. В официальных органах часто пишут о назначении графов и баронов на крупные посты, что, между нами говоря, абсурд. В то время, как по Европе с шумом и громом, можно сказать, шагает социализм, это чудище о миллиардах голов, которое сметает все на своем пути, когда ученые государственные мужи ломают головы над способами равномерного рассасывания крупных капиталов, точно это опасные опухоли, в Венгрии крупный капитал чуть ли не премируется — ибо тому, кто нашел способ (пусть даже самый неблаговидный) раздобыть два-три миллиона, немедленно даруется герб, украшенный семи- или девяти конечной короной, и вручается королевское приглашение участвовать в сотворении законов.
Если бы речь шла только о социализме, можно бы сказать, что он пока далек. Но возьмем настоящее: тяжкую борьбу, которую либералы ведут с аристократией — ну, не глупость ли это, что мы нет-нет да перебрасываем наших наиболее закаленных борцов из своего лагеря в лагерь противника?.. Вероятно, затем, чтобы нашим сыновьям тоже было с кем сражаться.
Ох, не умен этот нынешний мир. Да и вчерашний умом не отличался. И послезавтрашний, вероятно, тоже не будет умнее. В этом есть нечто утешительное.
Прежде, возможно, люди выглядели иначе, но внутри были точно такими же. Знавал я одного настоящего демократа — венгерского демократа — и расскажу вам сейчас его историю.
Поскольку все здесь совершенная правда, я не стану называть его настоящего имени (вдруг да семья сочтет себя опозоренной), но его коллеги-депутаты, если кто-нибудь из них, кроме Пала Сонтага, остался в живых, без сомнения, поймут, о ком идет речь. Итак, назовем его, ну, хоть Палом Молнаром — впрочем, депутаты величали его иначе:
— А, демократ! Ну, как поживаете?
— Где ты был вчера, демократ?
Даже Берталан Семере * сочинял на него едкие эпиграммы, хотя и сам слыл «вольнодумцем».
Родом наш демократ был из бедной дворянской семьи, не имевшей ни кола ни двора, — дед его, кажется, сапожничал, — и даже в родстве не состоял с теми Молнарами Левелекскими, коим посвящено генеалогическое двустишие:
Сие древо указует. Что Молнар — де Левелек *.Он читал Вольтера и Руссо, забил себе голову такими дурными науками, что комитатские власти стали побаиваться его: тем-де этот опасен — и, чтобы не мозолил глаза, отправили его в Пожонь депутатом *. Не будь он дворянского происхождения, запрятали бы его в комитатскую тюрьму, и на этом дело бы окончилось.
Молнар Левелекский слыл красавцем. Вместе с Петером Черновичем властвовали они над сердцами пожоньских девушек. У Черновича были деньги в избытке, у Пала Молнара — остроумие. Что там было да как, трудно сейчас судить — те старушки, которые помнили все до мельчайших подробностей, давно уже умерли, — я же излагаю лишь факты. Итак, на одном из балов персоналиса * Серенчи, где присутствовал даже его светлость наместник и где танцевали менуэт, в Пала Молнара Левелекского влюбилась графиня.
В силу своих демократических убеждений Пал Молнар, разумеется, не придавал никакого значения ее графскому титулу, но поскольку контесса была очень хороша собой, а Пал Молнар был демократом, но отнюдь не ослом, то милое это приключение обернулось настоящей любовью.
К тому же лукавый амур не оставил их без помощи. А ведь ему-то ума не занимать стать. На балу у Серенчи присутствовала знаменитая танцовщица-француженка, некая Мари Вигано, приводившая в экстаз весь тогдашний Пожонь, что отмечено и в летописи Дёрдя Сентивани.
Прекрасная Мари Bиганo, ко всеобщему удовольствию гостей, исполняла сольные танцы в своей соблазнительно короткой юбочке (с тех пор такие короткие юбки и носят название вигано).
Отец контессы, самодур-олигарх, без памяти влюбился в мадемуазель Вигано. Старый конь, говорят, сильней спотыкается. Граф не только любил ее, но и ревновал отчаянно. Он желал во что бы то ни стало жить с ней под одним кровом, но помехой этому была дочь. Остальные три его дочери уже были замужем за людьми именитыми, только контесса Бири, самая хорошенькая, самая обаятельная из всех, жила дома. Графу это было весьма неудобно. Да он и не скрывал этого.
— Явись за ней сам черт, и то отдал бы, — заявил он как-то в курительной комнате парламента.
Черт, как известно, прислушивается к гласу важных особ, и вот он подтолкнул вместо себя Пала Молнара, дабы и тот услышал старика.
Пал Молнар внезапно вырос перед графом и смело выпалил:
— Зачем черт, когда я здесь, ваше превосходительство. Выдайте контессу за меня, я буду любить и почитать ее, да и она охотно согласится.
Граф побледнел, вскочил в бешенстве и крикнул визгливо:
— Я звал черта, amice[10], вы же — всего-навсего Молнар. Что за наглость! Вы спятили, почтенный!
«Почтенный»! В устах графа это обращение, адресуемое обычно к крестьянам, считалось тогда величайшим оскорблением даже для демократа. Такие уж были и те времена демократы!
Пал Молнар побагровел н, как разъяренный бык, ринулся на графа. К счастью, его силой удержали приятели-депутаты Ференц Пульский (от него я и слышал эту историю) и Крупланиц из комитата Эстергом, про которого сочинили такие вирши:
Der Ablegat Kruplanitz Ohne Geisl und ohne Wilz.[11]Рукоприкладству, таким образом, помешали, но дуэль была неизбежна. Она и состоялась на заре следующего дня в городском парке.
Но накануне вечером граф был у Мари Вигано. Они ужинали вдвоем, пили пунш; Мари была очень хороша и игрива, никто на свете не мог так умилительно браниться, а когда она упиралась кулачками в бока, граф был на седьмом небе.
— Я тебе говорю, что ты глупец, мой старенький козлик! (У графа была козлиная бородка, да и лицо также наводило на мысль о козле.) Ну, для чего ты, скажи на милость, обижаешь молодого человека, который нам добра желает? Подумай, как бы мы с тобой зажили, женись он на контессе Бири.
— Нет, Мари, это невозможно. Я не хочу, чтобы мои предки ворочались в могиле.
— Что тебе до тех противных костей, мой серенький козлик, пускай себе ворочаются, ты должен заботиться только обо мне, и прими меры, чтобы мы могли с тобой укатить отсюда, укрыться где-нибудь вдвоем, например в Пеште.
— Да что ты, там мне неловко будет перед Сечени *.
— В таком случае уедем в Вену, папочка миленький. Там ты обставишь нам домик, за домиком будет и садик, там я устрою скамеечку, спрятанную в цветах, а за цветами ухаживать буду я сама. Хорошо, папочка?
Она ласково пошлепала своей магнетической ручкой графа по подбородку.
— Гм, в Вене? — пробурчал он. — Как-то неловко там мне перед императором…
— Ну, значит, в другом месте, только бы уехать. Хоть в Прагу. Но мы должны ехать. Избавься ты от своей дочери!
— Нельзя. Я не могу отдать дочь за какого-то там Молнара.
— Но если они любят друг друга.
— Все равно нельзя.
— Он же такой красивый мальчик!
Граф вскочил с дивана и спросил язвительно:
— Может, он и вам нравится?
Мари покраснела до ушей (она умела краснеть, когда это было ей нужно) и смущенно пролепетала:
— Нет, нет. Клянусь, нет.
Она опустила свои красивые синие глаза и отвернулась с таким видом, словно была разоблачена великая тайна. Старый вельможа опешил.
— Смотри не вздумай изменить мне, Мари. У тебя что-то дурное на уме.
Тут Мари расплакалась и после бесчисленных недомолвок и вздохов призналась, что неравнодушна к Пали Молнару, но что хочет остаться верной графу и поэтому просит, умоляет его уехать, оставить Пожонь как можно скорее.
На графа разговор этот сильно подействовал и — через жиденькую его шевелюру, которой маленькая Вигано непрестанно играла, что было приятно старому козлу — проник в самое сердце; на другой день, когда после дуэли (граф получил царапину в левое плечо, а Молнар — в лоб) противники пожали друг другу руки, граф сказал Молнару:
— Что ж, молодой человек, повидал я и свою и твою кровь. Ей-богу, моя нисколько не голубее твоей. Итак, женись на моей дочери, коли хочешь.
Вот и получилось, что единственный демократ пожоньского парламента стал членом одной из самых аристократических, самых знатных и спесивых фамилий. Немало пришлось ему натерпеться за это от недемократов, зато у него была красивая жена, и ради нее можно было сносить кое-какие колкости.
Обычно романисты строят свое повествование так, что подобные мезальянсы приводят к большим конфликтам. Пожалуйста, не верьте им, уважаемый читатель, — золото растворяется в соляной и в азотной кислотах, серебро — в азотной, а нити великосветских связей — в любви. Только любовь должна быть по-настоящему горячей.
Молнары жили дружно, и о них вообще не стоило бы писать повесть, не умри старый граф.
Но старый граф умер. Не сразу, а лет этак через десять. И не то чтобы при романтических обстоятельствах, вовсе не по вине маленькой Вигано — кто знает, в каких краях и в чьих руках находилась к тому времени маленькая танцовщица! Просто умер от сахарной болезни. Его светлость всегда любил сладкое. После смерти графа началась жаркая дележка. В Северной Венгрии у него были два имения, леса, заводы, на Алфёльде — бескрайние поля пшеницы, богатые рыбой озера, в Трансильвании — романтические охотничьи угодья.
В один прекрасный день дочери и зятья покойного собрались в алфёльдском замке, чтобы ознакомиться с завещанием и разделить богатое наследство. Каждый привез с собой адвоката позубастее. Этого было вполне достаточно, чтобы создать путаницу даже при самом ясном положении дел.
Пал Молнар никогда еще не видел своих именитых свояков, на его свадьбу ни один из них не явился; теперь они встретились впервые.
Графиня Бири по очереди представила каждому мужа.
— Ах, это вы, — расслабленно проныл граф З. и вставил монокль. — Ах да, ну да…
Барон Ф. (муж графини Францишки) снисходительно подал ему два пальца левой руки.
— Тысяча чертей! Скажите, новое свойство завелось! Тысяча чертей! — Он щелкнул пальцами и, отвернувшись, пробормотал: — Ну что ж…
Он думал уже об имении, которое рассчитывал получить по наследству: «Ну что ж…» Потом подумал, что и новому свояку достанется целое имение, и буркнул вполголоса:
— Все-таки это нахальство.
Третий свояк, рыжеволосый расслабленный тип, граф Ливанский, прозвище которого в высших кругах было «Наш милашка», развалившись на софе, играл со своим белым кудрявым мопсом. Собака прыгала у графа на животе, а граф щекотал ее брюшко. Он так увлекся своим занятием, что даже головы не повернул, когда ему представили Молнара, только закрыл глаза и тихонько сквозь зубы произнес:
— Авняв тявав тяв.
«Наш милашка» славился тем, что никто, кроме жены, графини Фанни, не понимал его речи. Окружающие могли лишь догадываться, что он хочет сказать, по его гримасам и движениям рук. Он так далеко зашел в своем зазнайстве, что не признавал никакого употребляемого людьми языка. При этом он стоял во главе одного из комитатов и с должностью справлялся весьма сносно.
У Пала Молнара во время этой церемонии кровь бросилась в голову при виде такого подчеркнутого высокомерия со стороны свояков. Он с трудом сдерживался, кусая в кровь губы; но кроткий умоляющий взгляд его Боришки смирял его.
Свояк-барон, этот неисправимый болтун, хоть снизошел до разговора с Молнаром, но каждое его слово кусало, жалило бедного родственника.
— Итак, делимся, стало быть… Достанется всем вдоволь. Гм. А? У вас будет иметь много деньги, понимайт. Неrr von[12], как сказать — Ковач.
— Моя Фамилия Молнар.
— Ну, все равно. Also[13] Молнар… Что делайт ви, приятель, с теми много деньги? А? Что?
Пал Молнар окончательно вышел из себя.
— Я вам не приятель, слышите?
— Quel diable![14] А почему?
— Потому что обезьянам я не приятель.
Графиня Боришка поняла, что надвигается беда. Она бросилась к мужу.
— Пали, голубчик, не пугай меня, не горячись.
— Я этого не потерплю. Отойди.
Молнар шумно дышал, в висках у него стучало, он весь дрожал. Хотел оттолкнуть от себя жену, но она обвила его шею руками и, краснея, прошептала:
— Не серди маленького, что сейчас в пути. Сделай это ради него, пропусти все мимо ушей. Ты знаешь ведь, что сказал доктор: малышу очень вредно, если я пугаюсь.
Услыхав это, Пал Молнар взял себя в руки. Тот, кого они ждали, был важной персоной; еще не явившись, он уже повелевал ими. Пал Молнар даже улыбнулся, правда с горечью. А свояк-барон так расхохотался, что ноги его стали выделывать польку. Он раскачивался вправо-влево, как пьяный комар.
— Ха-ха-ха! Horst du, наш милашка! Ein Cavalier[15].
«Наш милашка» зевнул, затем послышалось какое-то невнятное клокотание, впрочем, нельзя было понять, кто тявкнул: маленький мопс или он сам.
Но Молнар уже был застрахован от новой вспышки: накопившаяся в нем ярость, которой жена не дала волю, толкнула его к внезапному решению, и он, взяв шляпу, удалился из залы.
Кучер не успел распрячь на дворе лошадей, как вдруг услыхал голос хозяина:
— Марци, запрягай!
— Кони еще не кормлены, ваша честь.
— Все равно запрягай!
На террасе адвокаты покуривали большие пенковые трубки с разукрашенными чашечками (в то время сигар еще почти что и не было) и спорили. То была проба сил перед предстоящим великим сражением, когда прочтут завещание и начнут распределять движимое, а быть может, и недвижимое имущество.
Молнар Левелекский жестом подозвал своего поверенного Петера Мали. Фамилия Мали была весьма удобной для адвоката: когда верховодили венгры, он ударение ставил на «а», на конце же писал «ипсилон», и тогда фамилия звучала по-венгерски: Мали; когда же венграм приходилось худо (а это бывало всего чаще), он переносил ударение на «и», и получалось Мали, что по-словацки значит «маленький».
— У тебя доверенность в порядке? — спросил его Молнар. — А то я уезжаю.
— Теперь? Куда? — недоумевал адвокат. — И не станешь ждать раздела?
— Нет, это ведь может затянуться на несколько дней.
— Скорей всего.
— Ну так вот, а я больше ни часу не намерен находиться под одной кровлей с этими негодяями. Тебя же я оставляю здесь, веди дело по своему усмотрению.
— Что-нибудь случилось?
— Нет. Просто я передумал. Переварить сразу трех магнатов слишком жирно для меня. Я пришлю тебе свои распоряжения, откуда — еще сам не знаю. Во всяком случае, я тебе напишу, и ты поставить меня обо всем в известность.
Мали подумал с минуту, затем начал рассуждать в присущей ему манере:
— Оставаться тебе здесь действительно нецелесообразно, во-первых, потому что погода стоит чудесная и ехать нынче — одно удовольствие; во-вторых, ты мягкосердечен и податлив, и тебя непременно обведут вокруг пальца твои своячки; в-третьих, тебе не под силу общество трех магнатов, с прибытием же исполнителя по завещанию, графа Дешевфи, их будет четыре; в-четвертых, у меня хватит пороху переговорить хоть двадцать графов; в-пятых, ты только мешал бы мне своим присутствием, поскольку, встретясь с известными махинациями, я вынужден буду прибегнуть к таковым сам; в-шестых…
— Брось ты все это к черту! Если бы у тебя не было про запас ни одного довода, я все равно бы уехал.
Но помешать Мали в перечислении хотя бы двадцати доводов было невозможно. При составлении самого простого документа, скажем, иска об уплате долга при наличии расписки, подтверждающей справедливость требования, он исписывал целые страницы, доказывая, что все это правда, ибо деньги на самом деле взяты, что это разъясняет расписка, что ответчик действительно должен, так как он сам признался в этом, что даже если бы не было контракта и ответчик не признал бы сам своего долга, то и в этом случае — и далее следовал перечень порой шестидесяти — семидесяти аргументов. Помощники вечно приставали к своему патрону с расспросами, для чего, мол, вся эта чепуха, когда и долгового обязательства более чем достаточно. «Вам, голубчики, не понять, — отвечал знаменитый адвокат с улыбкой превосходства. — Профессия есть профессия. И переливание из пустого в порожнее есть важнейшая ее составная часть. Умный юрист не должен оперировать одними лишь умными аргументами, он должен подходить к любому вопросу с мыслью о том, что судьи — превеликие ослы».
В коридоре слонялся лакей, преданно служивший покойному графу. Молнар знал его еще со времен Пожоня.
— Войдите, Янош, туда, к ним, и шепните моей жене, чтобы она вышла на минутку, я жду ее в парке.
Молнар пожатием руки простился с адвокатом, который был когда-то его школьным товарищем в Лопюнце.
— Теперь ступай и продолжай диспут со своими коллегами, а я должен переговорить с женой.
— Когда же мы встретимся? — спросил юрист.
— Когда-нибудь, — ответил он с загадочной улыбкой. — Ты обо мне еще услышишь.
С этими словами он направился в парк. Был конец лета. Листья деревьев, пожелтев, вяло обвисли. Листва на алфёльдской низменности умирает несколько иначе, чем растительность горных мест; одну убивает губительное дыхание жары, другую — колючий осенний иней. Ну да растениям-то это все равно. Парк был хорош, он славился на весь комитат. Нельзя было угадать: человек ли посадил его при замке или замок построен в дикорастущем лесу. Кусты, травы и стебельки цветов сплошь оплетала паутина, будто шаловливые феи побывали тут и тонкими шелковыми нитками скрепили, соединили все, что жило и цвело, чтобы дед Мороз мог потом все сразу взвалить на плечи и унести с собой.
На крыше кегельбана громоздилось похожее на казацкую папаху аистово гнездо, откуда колючками торчали во все стороны ветки. Аистиха уже вырастила в нем своих птенцов и как раз теперь спускала их на землю, чтобы научить ходить и летать — а там и в путь. Да, они ведь тоже собираются в дорогу. Молнар вздохнул. Ну вот они-то почему улетают? Так нужно?..
По ветвям пробежал ветер… они зябко вздрогнули, роняя тысячи листьев. Да, и листья улетают, уходят. Аистиха по одному стаскивала в клюве своих малышей, и, чтобы перенесенный вниз не мог убежать, пока она поднималась за следующим, мать укладывала его спинкой на траву. Опрокинутый и неловкий, он барахтался и кувыркался, но перевернуться не мог. Материнская любовь даже в этих узеньких птичьих головах, лишенных мозговых извилин, взращивает хитроумные выдумки.
Пал Молнар задумался. Эти хоть родились тут! Он думал о своем ребенке, о том маленьком странничке, что уже в пути.
Послышались шаги графини Боришки. Тук-тук. Как странно гудит земля. Тсс! Она будто говорит что-то. А ведь у Боришки такие маленькие ножки, что земля, наверное, и не чувствует их. Тук-тук, тук-тук. Земля, казалось, говорила, и Молнар понимал ее. Остаться уговаривала или жаловалась? Все равно: он уедет! Так надо.
— Что прикажет мой властелин?
Она шаловливо, по-девичьи, поклонилась, как учили монашки, у которых она воспитывалась, хоть ей теперь это было нелегко. Зато улыбка в синих глазах осталась прежней.
— Вынеси мантилью, Бири, и все свои вещи, мы едем.
— Прямо так сразу?
— Сразу.
— Ты не шутишь?
— Нет.
— Обиделся?
— Да.
Боришка склонила голову на плечо мужа, пшеничные волосы ее щекотали его шею. В такие минуты, как бы он ни досадовал, тучи на лбу у Молнара обычно рассеивались, и он начинал смеяться: «Брысь, кисанька, брысь!» Но на этот раз его красивое мужественное лицо еще больше потемнело.
Боришка приуныла, потом ласково упрекнула:
— Значит, я уже не кисанька? Я для тебя больше ничего не значу?
— Если ты хорошая жена, — ответил он серьезно и печально, — ты не станешь ни рассуждать, ни расспрашивать меня и сейчас же сюда вернешься.
Этого было достаточно графине: она тотчас побежала за шляпой и плащом, велела вынести чемоданы, и они, ни с кем не простившись, оставили замок. Через несколько минут их коляска покатила со двора.
В дороге графиня также ни о чем не спрашивала мужа, они говорили о всякой всячине, только не о своем стремительном отъезде.
К вечеру они прибыли в Пешт и переночевали в «Золотом орле». Утром Молнар сказал жене:
— Надень, милая, дорожное платье, мы едем в Гамбург.
— Хорошо.
На протяжении всего пути их разделяла какая-то странная отчужденность. Жена ждала объяснения, а муж явно избегал говорить на эту тему. Было трудно лавировать, чтобы не заговорить невзначай о будущем. С уст мужа порою слетал какой-то намек. Молодая женщина скорее инстинктом угадывала эти междометия, и сердце ее было охвачено мучительным беспокойством. Постепенно они стали избегать даже взглядов друг друга и были рады, если в купе входили посторонние, а ведь меж ними всего один пункт оставался невыясненным. На небе сверкающий шар, с виду не больше человеческой головы, согревает целый мир, а в браке одна самая крохотная темная точечка может затмить всю радость жизни.
Но, на счастье, к ним то и дело подсаживались пассажиры, с которыми в те времена было еще очень забавно потолковать, расспросить — теперь-то все уже изложено в путеводителях. Нынче и путешествовать не стоит — мир унифицирован. Вокзалы повсюду одинаковы, и здесь, и на другом краю света, и пассажиры такие же, и те же у них шапки и пледы. Венгров тогда особенно любили. Как же, сыновья экзотичной страны. Каких только чудес не рассказывают они о своей родине! Пал Молнар Левелекский записал в своем дневнике (который я держу сейчас в руках): «Все, что ни говорилось мной во время моих скитаний, принималось с доверием, кроме того, что овец у нас доят и что доходы Колочайского архиепископа составляют триста тысяч форинтов в год».
Но бывало и так, что супруги оставались в купе одни. Тогда жена делала вид, будто спит. Из груди ее то и дело вырывались тяжелые вздохи.
— Что с тобой, Боришка?
— Нет, нет, ничего.
Молнар придвинулся к жене и заключил ее мягкие руки в свои большие ладони, как это делал прежде.
— Может быть, тебе хочется что-то сказать мне? Почему ты такой недоверчивый? — спросила она кротко.
— Потом, в Гамбурге. В Гамбурге ты все узнаешь.
Боришка отняла руки и — чтобы заснуть — повернулась лицом к боковой подушке… скоро казенная подушка промокла в том месте, которое касалось ее лица (на другой день там окажется поблекшее пятно).
Когда же наконец прибыли в Гамбург, Пал Молнар Левелекский подвел жену к каналу и с пафосом, свойственным в те времена всем без исключения, произнес:
— Милая моя жена, мы подошли к решающему моменту. Теперь уже слово за тобой. Продолжишь ли ты путь со мной или повернешь назад?
— О чем ты? — прошептала графиня, дрожа.
— Мне опротивела та страна, Бири, и я покидаю ее.
— Свою родину?
— Да, мне опротивела моя родина. Ее воздух. Твои свояки, сестры и все остальные. Я демократ до мозга костей и не смогу там жить, там я задохнусь, сойду с ума! Я еду в Америку.
— Когда?
— Сегодня же!
— И на сколько?
— Навсегда.
— Тебе не жаль? Это ужасно!
— Ужасно или нет — мне все равно, теперь только вопрос: поедешь ли ты со мной или вернешься?
— И ты отпустил бы меня домой?
Жена Молнара утерла платочком льющиеся ручьем слезы и подняла голову; лицо ее пылало, как будто его накалили.
— Отпущу ли? — переспросил Пал Молнар, и его голос дрогнул. — Не знаю. Не знаю, имею ли я право удерживать тебя, отрывать навсегда от родины, от родных. Ведь как тут решить? Действительна ли супружеская клятва только в этом мире или в другом тоже? Ибо я убываю в другой мир. Если клятва действительна до смерти, то не наступила ли она для меня по сю сторону этого безбрежного моря?
Боришка печально склонила голову. Море сердито билось о берег, над бескрайним лесом мачт пестрыми бабочками порхали, вились на ветру флаги, флаги всех стран мира. Осеннее солнце стелило желтые полотнища на серебряное поле моря. Все шло своим чередом, величавая, бесстрастная природа и не заметила этой мучительной сцены.
— Послушай, Боришка, и постарайся понять меня хорошенько. Я мужчина, и мне легче решиться. Сказано — сделано, и точка. Но и для меня это очень серьезный и трудный шаг, и потому там, дома, я не смел сказать тебе обо всем, чтобы ты не отговорила меня как-нибудь. Кто измерил власть, какую имеет над нами любимая женщина?! Я боялся сказать тебе, пока ноги мои стояли на родной земле. Ты и она. Она, земля! Вас там было двое. И вы обе заодно. Кто знает, не удалось ли бы вам вместе взять верх надо мной. И я молчал. Но здесь, у моря, я уже не боюсь никого. Море — мой союзник. Берег, что чудится мне за ним, — мой друг. Меня всегда тянуло туда. Мое сердце всегда сильнее билось при упоминании Америки, страны, где равенство и свобода. Если ты станешь удерживать меня — зов того берега поможет мне. Теперь-то я уже осмеливаюсь и говорить и прощаться. Для того я и привел тебя сюда, моя Бири, стольким-то ты была мне обязана, а что до дальнейшего — решай сама. Ты слабая женщина, быть может, тебе даже не выжить в чужом мире, дома у тебя титул, имение, а там ты будешь просто миссис Молнар.
— А маленький «странник», что спешит к нам, Пали? — заметила молодая женщина с бесконечной грустью. — Как же он?
Пал Молнар Левелекский содрогнулся, из груди его вырвался хрип раненого животного, и он грубо, бесцеремонно схватил жену за руку.
— Все, едешь со мной! — прохрипел он упрямо. — Ты должна.
Глаза графини Бири зажглись.
— Вот таким я тебя люблю, Пал! Да, да! — И добавила тихо, торжественно: — Я еду с тобой, Пал.
— И ты никогда не вернешься домой? Скажи! — страстно торопил он жену с ответом, все еще судорожно сжимая ее руку.
— Это как ты захочешь. — И на виду у всех, в толпе прохожих, сновавших вокруг матросов и юнг, она склонила голову на его плечо.
Пал Молнар улыбнулся. Впервые за много дней. И ущипнул ее за украшенный ямочкой подбородок, и, как дома, сказал: «Ну же, брысь, кисанька!»
Эмиграция Молнаров подняла целую бурю различных толков. Демократ, которому опротивело чванство родственников-аристократов, покинул их всех, хлопнув дверью, и не переводя дыхания добрался до самой Америки. Кремень, этот Пал Молнар. Вот где характер. Жаль, что утратили такого человека.
Благородные комитатские власти, к которым он обратился в изысканных строках прямо из Нью-Йорка, отказываясь от чести быть их представителем в парламенте, поскольку господствующие в родной стране аристократические тенденции противоречат его личным склонностям, приняли это к сведению и решили заказать его портрет, писанный маслом, для зала заседаний. Пусть-де вице-нотариус пошлет письмо Барабашу *. Во всяком случае, это была сенсация, — и даже «Венгерский курьер» помянул Молнара на своих страницах, недоумевая, как это дворянин, не убийца и не вор, уезжает вдруг на чужбину, дабы смешаться там с американской чернью, в то время как дома мог бы стать даже губернатором.
Молнары некоторое время оставались в Нью-Йорке; туда и выслал им адвокат Мали доставшиеся на их долю наличные деньги, семьдесят тысяч форинтов — кроме того, им принадлежало теперь и алфёльдское имение старого графа.
Молнар только и ждал этих денег, чтобы начать какое-нибудь дело. В штате Айова, на берегу Миссисипи, он купил участок земли. Здесь поселенцы уже начали строиться. Несколько домов было готово, но теперь иноземцы хлынули в эти великолепные места буквально потоком. И Молнар решил поставить здесь кирпичный завод, который удовлетворял бы нужды переселенцев. Дела у него пошли великолепно. Дома вырастали с невообразимой быстротой. Миссис Молнар однажды, кормя грудью маленького Михая Молнара, заметила в шутку, что в этих краях дома растут как грибы. Мистер Пал довольно засмеялся.
Действительно, город Давенпорт рос, как по волшебству, и кирпичный: завод процветал.
Однако носы у янки тоже не для того только годились, чтобы очки поддерживать: они живо вынюхали, что кирпич — дело выгодное, и вокруг начали один за другим возникать новые кирпичные заводы. Цены на кирпич резко падали.
Огромные плакаты на стенах каждый день оповещали, у кого дешевле всего можно купить тысячу штук кирпича.
Мистер Молнар, рассердившись, с истинно венгерским азартом бросил вызов конкурентам: на огромных плакатах, каких здесь не видывали, он объявил, что у него кирпич выдается бесплатно. (Пока что его капиталец выдерживал подобные трюки.) В ответ на это переселенцы, разумеется, избрали его первым мэром нового городка, а хозяева остальных кирпичных заводов сбежали без оглядки.
Теперь дорога для мистера Молнара была открыта. Оставшись один на своем поприще, он стал взвинчивать цены на кирпич, насколько его душе было угодно.
Словом, все сложилось так, что Пал Молнар стал богатеть американскими темпами. В штате Огайо он купил прекрасную ферму. В Нью-Йорке приобрел дом, в Чикаго — участки, на которых порядком заработал, так что не нуждался более в доходах от венгерского имения. Мали посылал ему ежегодно лишь отчеты: годовая прибыль — столько-то форинтов. Молнар же каждый раз указывал ему, на какие цели расходовать указанные средства: там построить школу, здесь — церковь, больнице» предоставить такую-то сумму, академии — такую-то (ибо помогать следует не только телесно, но и духовно-убогим).
Его распоряжения точно выполнялись совместно управляющим и адвокатом имения; они высылали чертежи запроектированной церкви вместе со сметой и, если Молнар одобрял их, приступили к строительству. Говорят, церкви эти на чертежах выглядели как миланский собор, а в натуре получались не лучше валахских часовенок — но ведь не все правда, что говорят.
К тому же, что за дело до этих мелочей миллионеру? Удовольствие, получаемое им от писем управляющего имением, и коих содержались дифирамбы, вроде: «Вашу милость благословляют, поминают добром во всех уголках родной страны», — стоило любых денег.
На самом же деле о нем не помнила ни одна собака. Не до него было. Вся нация взялась за оружие; однако надежда часто сменялась отчаянием, когда за выигранной битвой следовало поражение. Как и в Америке, здесь царили равенство и свобода. Гербы и титулы были развеяны свежей струей ветра. Прежние коллеги Молнара — депутаты стали именоваться «гражданами представителями», как и грезилось ему когда-то. Те из них, что остались еще в живых, заседали теперь в дебреценском парламенте *, провозглашая республику.
— Боюсь, что это ненадолго! — воскликнул как-то Антал Шомоди.
На это ответил Ференц Майерчик, которого «граждане представители» называли меж собой «словацким Робеспьером»:
— Если продержится хоть тысячу — две тысячи лег, так и то не пустяк!
Потом… ах, потом! Боже мой, да как же и рассказать-то об этом? Последовало пресловутое двенадцатилетние *. Страна оделась в черное, умы погрузились в серые мысли. Не осталось ничего яркого, блестящего, кроме жандармских касок.
А Пал Молнар Левелекский по-прежнему строил и строил школы да церкви. Нелепица! Кто помянул бы его за это добром? Кому нужны были теперь храмы божьи, когда и сам-то господь покинул злосчастную эту страну?!
Приходили и уходили годы, и притомилась левая рука короля, и тогда он правой стал понемногу возвращать отнятое. Вошли в моду всякие странности. Всем полюбился вдруг запах пыли, что ссыльные приносили домой на своих сапогах. Прежде жалели тех, кто жил дома, на родине, теперь же сочувствие обернулось к тем, кто был за ее пределами.
В Пеште, на площади Ланцхид, принося отовсюду землицу, строили королевский холм к коронованию *. Только той земли и недоставало, что осела в странствиях на сандалиях изгнанников. Об этом пел поэт, и король внял его гласу *.
Округа спешила избрать депутатами скитавшихся на чужбине. Тем округам, на долю которых не выпадало подлинных изгнанников, пришлось довольствоваться мнимыми. Так избиратели одного из округов комитата, где прежде жил Пал Молнар Левелекский, назвали его своим депутатом — от партии умеренно-левых. Все взоры обратились к Молнару. О его сказочном богатстве ходили легенды. Двадцать четыре года жил он уже на чужбине. Вернется ли?
И вот что ответил набоб из Давенпорта на полученный мандат:
«Я дал себе обет больше не возвращаться. Нет той власти на свете, которая вернет меня домой».
Спустя несколько лет власти действительно попытались вернуть его. Тогдашний министр внутренних дел в поисках богачей на должность губернаторов вспомнил своего давнишнего однокашника Пали Молнара и предложил ему сей высокий сан. Но Молнар лишь поблагодарил его за оказанную честь и ответил опять же отказом: «Я хочу жить здесь, на родине демократии, хочу, чтоб и кости мои истлели в ее земле. Удивляюсь, — писал он далее министру, — что ты обо мне вспомнил. Неужели в вашей стране совсем перевелись графы и бароны?»
Тем не менее он думал о родине. Он написал объемистый труд о демократии и направил его в академию. Был ли хорош этот труд? Не знаю. Никто его не читал. Но, видно, не так уж хорош, ибо академия удостоила его первой премии. Академия-то знала, что к чему, и не сомневалась, что за эту премию Молнар воздаст ей сторицей.
Благодаря множеству содеянных им добрых дел, Молнару улыбнулась, наконец, и высочайшая милость; в один прекрасный день, как раз перед выборами депутатов (это ведь самый сезон для выборов), ему прислали орден железной короны.
Почтенный старик, — ибо герой наш был уже сед (много воды утекло за это время на Миссисипи) упаковал безделушку и вернул ее премьер-министру:
«Что вы из меня, старого демократа, шута горохового строите?!»
Все это вместе взятое — его исключительная выдержка и твердость — создали вокруг Молнара известный ореол.
— У старика железная воля, — говорили о нем.
— Не видать нам его больше.
— Такого и шестеркой волов не сдвинешь с места.
Даже те, что никогда не видели Молнара, принимали к сведению его существование и говорили о нем так, будто он был тут с нами. Великие путешественники (ведь в то время Америка была гораздо дальше от Липтосентмиклоша *, чем теперь), те, кто побывал в штате Айова, в Скот-Каунти, и, перейдя чудесный мост, попал из Рок-Айленда в давенпортскую усадьбу Молнара, привозили с собой целые легенды о молодом мистере Михае, только что окончившем университет в Нью-Йорке, о графине Боришке, которая готовит такое жаркое из баранины, что и шомодьский пастух пальчики бы облизал, и, наконец, о самом старике, который целый день напролет рассказывал анекдоты о пожоньском парламенте, и так восторженно проповедовал учение о равенстве и демократии, словно был его апостолом.
Только плоть Пала Молнара Левелекского находилась вдалеке, за морями, духовный же его облик оставался дома и вырастал буквально на наших глазах. Молнара начали вдруг прочить министром торговли. Тот, мол. кто так хорошо ведет собственные дела, справится и с делами страны.
Решено было подослать к нему какого-нибудь политического болтуна, для воздействия. Выбор пал как раз на барона Ф. Самая подходящая фигура, решил глава правительства, они ведь свояки (вот оно, «прямое попадание», ставшее уже традицией в высших кругах).
Теперь-то уж Пал Молнар Левелекский всколыхнется, если в жилах его течет венгерская кровь. Кресло алого бархата! Да покойнички и те верно, повскакивали бы с венгерских кладбищ, скомандуй вдруг кладбищенский сторож: «Кто хочет быть министром— встать!» На этот раз Молнар Левелекский вернется. И вот свояк-барон отправился в Давенпорт (хватило ведь нахальства!), где был принят очень любезно. Хозяин был человек воспитанный, угощал по-королевски, даже простил его за старое, но возвратиться посланцу пришлось с таким рапортом:
— Das ist em dummer Kerl![16]
— Отказ?
— Ja, Exzellenz[17]. Упрямая голова… Eiserner Kopf… Никогда не вернется.
Никогда не вернется! Газеты обсуждали на целых полосах, почему да отчего не вернется, воскрешали множество эпизодов из его прошлого, причем и десятая часть их не отвечала действительности. Начитавшись этих излияний, Мали с управляющим стали чертить на бумаге храмы еще величественней, а ставить совсем мизерные.
Как и водится, к щедрому американскому миллионеру обращалось за помощью, за милостыней много бедных людей, ибо протянутая рука терзаемого нуждой человека также достает далеко: с каждым пароходом на имя Молнара кипами прибывали письма. И вдруг среди множества серых писем добралось до него и письмо почтенной старушки Фараго со странным адресом:
«Это письмо надобно передать ее сиятельству графинюшке, что замужем за достопочтенным и отважным дворянином господином Палом Молнаром
в Америке,
в городе Давенпорте».
Долго скиталось письмо, пока набрело на адресата, все проштемпелеванное, так что живого места на нем не было — и, должно быть, складно написал его господин нотариус (благослови господь его золотую руку!), потому что глаза графинюшки, когда она прочла послание, наполнились слезами.
Да и как иначе. Письмо ведь от старой Фараго, от ее кормилицы. Значит, жива еще Верона Фараго! Кто мог бы подумать! Стара, наверное, стала. И пишет, бедняжка, что очень нуждается, сыновья ее поумирали, некому ей помочь: либо берись за нищенский посох, либо с голоду помирай, и вот не утерпела, излила душу своей родной графинюшке.
Миссис Молнар так растрогали воспоминания, что она тут же вложила в конверт крупный банкнот и написала кормилице чтобы та, если чувствует, что у нее еще хватит сил на такую долгую дорогу, пустилась с этими деньгами в путь, ибо хочет графинюшка еще хоть раз повидать ее и до самой смерти будет о ней заботиться.
Заторопилась, заспешила старая Верона. Запихивала впопыхах и выходное платье и потрепанное в свой сундук. И только одна забота не давала ей покою перед дорогой ни днем, ни ночью: «Что бы повезти моей касатушке? Нельзя же так, с пустыми руками…»
Перебирала старая в уме то одно, то другое, но ничто не подходило, да и не было у нее ни яичка крашеного, ни корзиночки с виноградом… И вдруг в голове сверкнуло: «Прихвачу-ка я с собой мяту. Ей-богу, что лучше моей мяты кудрявой?» Во дворе у нее, у самого забора, кустилась старая мята. Верона вырыла куст вместе с землей и пересадила в большой горшок. «Подарочек будет в самый раз, то-то обрадуется ему моя графинюшка».
После-то старушка и понять не могла, зачем столько голову ломала, почему сразу не догадалась: ведь, кроме мяты, у нее ничегошеньки не было.
Бедная Фараго до самого Давенпорта ни на суше, ни на воде не выпускала из рук цветочного горшка с никчемной мятой, поливала ее, землю рыхлила, сдувала пылинки с мясистых пушистых листиков. Попутчики улыбались, глядя на сморщенную старуху: воображает, глупая, что сокровище какое везет!
А ведь так оно и оказалось. Ничем кормилица не обрадовала бы графиню больше, чем мятой, которая выросла в ее родной деревне. Раза четыре кряду обняла миссис Молнар старушку.
— Ой, какой чудесный подарок ты мне привезла, нянюшка моя дорогая!
И поставила кустик мяты в спальню своего мужа — все, чем дорожила, она перетаскала сюда.
Вечером Пал Молнар пришел домой, разделся, погасил свет и вдруг почувствовал какой-то странный аромат… он был такой знакомый, такой давно-давно знакомый… что ж это? И он погрузился в воспоминания. Дома, в Уйфалу, когда открывал он окошко в сад летними ночами, оттуда шел точно такой запах. Он ощутил вдруг на щеках, на лбу прохладное дуновение уйфалушского сада, той липы… да, да, большой липы… душистый, как бальзам, воздух приятно ласкает его, и этот упоительный аромат… А издалека как будто доносится звон… это звон хидвегского колокола!
Что за глупые галлюцинации! В ушах гудит… Он одолел дремоту. Но и комната эта так походит сейчас на ту, маленькую, унфалушскую. Какой-то шаловливый джинн вписал ее контуры сюда, в темноту: вон дверь, с этой стороны окно, за ним сад, в окно склоняется древняя липа, чуть поодаль — куст мяты, что мать посадила.
Он потянулся за свечой. «Кш-ш, подите прочь, искусительницы-грезы, что опередили нынче мой сон. Кш-ш, опасными дорогами вы ходите. Нельзя врываться к не уснувшему еще человеку».
Зажглась свеча. Волшебник, не будь промах, взвалил уйфалутскую комнатку на спину и был таков. Осталась роскошная давенпортская спальня с мебелью из красного дерева, со статуэтками, дорогими безделушками — только запах мяты не исчезал. Мята — это действительность.
Мистер Пал огляделся и тут только заметил на инкрустированном столике цветочный горшок из простой желтой глины и в нем — излюбленное растение венгерского народа, цветок без цветов, который девушки воскресными утрами, идя в церковь, прикалывают к своим нарядным душегрейкам, а старухи закладывают в молитвенник.
Его глаза не могли расстаться с мятой, он то гасил, то снова зажигал свечу. Впрочем, теперь он видел цветочный горшок и в темноте.
Он встал с кровати, надел шлепанцы и открыл дверь в смежную комнату.
— Ты спишь, Борбала?
— Не сплю. Случилось что-нибудь?
— Нет, нет. Я только хотел узнать, откуда у тебя мята?
— Старая Фараго привезла с собой, добрая душа.
— Спокойной ночи, Борбала!
— Спокойной ночи, Пали, милый!
Итак, ее привезла Фараго. Из дому. Сколько думалось над этими двумя словами! Молнар Левелекский смотрел на мяту не отрываясь. Потом взял горшочек в руки, провел пальцем по милому волосатому блекло-зеленому листу и почувствовал, как кровь быстрее заструилась в жилах. И эта рассыпчатая черная земля в горшке, она тоже из дому! Он не утерпел, взял щепотку на ладонь, понюхал. Какой особенный аромат, какой пьянящий, какой волнующий. Казалось, этот земляной запах пронизал все его существо, встряхнув его душу…
Он метался без сна до самой полуночи, наконец решил оторвать один листик мяты и положить под подушку. И после этого уснул сладко и всю ночь бродил по полям и лесам, слышал дребезжание колокольчиков возвращающегося стада, слышал пение жниц, побывал на пожоньском собрании, беседовал со старыми друзьями, сидел за скромным семейным столом в столовой уйфалушского родового дома, и мать ласково и кротко выговаривала ему: «Ой, сыночек, где ж ты столько времени пропадал?» …Обернулся тот мятый листок под подушкой волшебным конем и понес его быстрее мысли над морями и городами, через годы, в знакомый край, где колышутся золотые колосья. И кланялись ему колосья, и качали его, баюкали…
Когда Молнар проснулся и сон рассеялся, он вдруг почувствовал себя разбитым, разочарованным. Будто вместе со сном его покинули и физические силы, и душевная устойчивость. Будто не он остался лежать тут, а сломленный жизнью старец. Его настоящее «я» ушло вместе с ночными видениями. Целый день он был грустный, задумчивый. Если жена обращалась к нему, вздрагивал.
Он вышел на свою привычную ежедневную прогулку. Но каким же чуждым, каким бесконечно пустынным, необжитым показался ему город — тот самый город, что был выстроен из его кирпичей! Да и собственный дом почудился ему суровым и угрюмым, комнаты — неуютными; давно примелькавшуюся мебель он увидел словно впервые, и только глиняный горшок улыбался ему приветливо, как добрый старый знакомый. Молнар сам поливал, сам ухаживал за кустиком, глядел на него часами и думал о своем. Как-то он перочинным ножиком взрыл в горшке всю землю до самого дна. Жена застала его за этим занятием.
— Что ты делаешь, Пал?
Мистер Молнар выглядел смущенным.
— Ищу, понимаешь, какого-нибудь муравья или червячка.
— Для чего же, милый? Старик пожал плечами.
— Сам не знаю. Просто так.
Хандра его затянулась надолго. Он перестал спать ночами. Часто звал к себе старую Фараго, разговаривал с ней, расспрашивал. Он мог часами беседовать с этим ограниченным существом, а затем становился еще более удрученным, грустным.
Наконец и графиня обратила внимание на состояние мужа, стала к нему более ласкова, не жалела нежных слов.
— С тобой что-то неладно, сударь мой!
Мистер Молнар вздрогнул, растерялся, как пойманный проказник.
— Со мной? Вечно ты что-нибудь выдумаешь, Борбала.
— Не хитри, старинушка, меня не проведешь, вижу я, с тобой что-то творится, и выглядишь неважно. Не позвать ли мистера Тидди? (Это был их домашний врач.)
Мистер Молнар пренебрежительно махнул рукой и невольно выдал себя следующими словами:
— Моей беде никакой мистер Тидди не поможет.
— Ага! Я поймала тебя, злодей. Словом, ты все-таки таишь от меня что-то? Ай-ай-ай-ай, мистер Молнар, как тебе не совестно?
Он ничего не ответил, только опустил свою косматую, уже с проседью, большую голову и вздохнул.
— Ну, старый мальчишка, считаю до двух, скажешь или нет? — И она топнула ногой, как это делают сердитые мамы, когда ребенок не дает заглянуть в свое горло.
— Оставь меня, Борбала… оставь в покое.
— Не подумаю, муженек. Пока не признаешься.
— Но мне неловко… об этом… Все этот горшок, Борбала… Этот глупый горшок… Мята, что старуха привезла…
Миссис Молнар испуганно смотрела ему в глаза, подумав, что муж лишился рассудка.
Но глаза эти были чисты и ясны, только на нижних ресницах дрожало по слезинке.
— Пал! — воскликнула она, все угадав вдруг исконным чутьем женщины. — Тебя снедает тоска по родине.
— Да, Борбала, — проговорил он стыдливо, прерывисто. — Настигла-таки меня. А болезнь эта не из легких. Мне хочется домой. Я должен, Борбала. Понимаешь, должен.
Графиня Борбала молча бросилась к нему на грудь.
— За чем же остановка, Пал?
Давнишний спутник венгров, газета «Пешти напло» жирным шрифтом напечатала новость под заголовком: «Чествование великого демократа». «Позавчера прибыл на родину наш американский соотечественник, прославленный демократ Пал Молнар Левелекский и остановился в унаследованном его женой надьдёнкском замке. Как сообщает наш корреспондент из Надьдёнка, выдающегося деятеля встречала в его замке большая группа почитателей, на границе же комитата к его экипажу присоединилась блестящая делегация, возглавляемая лидером местной оппозиции Йожефом Макуши, одетым в венгерский национальный костюм с традиционным топориком. Наш уважаемый земляк привез с собой и семью свою, состоящую из жены и сына. Имеются сведения, что господин Молнар намеревается продать свое недвижимое имущество в Америке и навсегда остаться в родной стране».
В комитате началось столпотворение в партиях. Каждой из них хотелось заполучить вновь прибывшего себе. Подумать только, в комитате — крез! Вот был бы козырь! А ведь далеко не безразлично, у кого из партнеров козырь на руках. Комитатский начальник дневал и ночевал в надьдёнкском замке, но представители оппозиции тоже не зевали, и выбор Молнара Левелекского пал на них — впрочем, с оговоркой: «За неимением лучшего». (Ему-то хотелось бы чего-нибудь более демократического.)
Эта оговорка и была объяснением тому, что он не принимал личного участия в работе партии, по крайней мере, публично, а ограничивался финансированием отдельных ее нужд. В его доме проводились и собрания, ему докучали обсуждениями планов, ибо право заявить, что «конференция состоялась у Молнара Левелекского» или: «Молнар Левелекский это поддерживает» — имело немалое значение. Словом, для успеха любого замысла было необходимо, чтобы в деле замешан был «великий демократ». Его прославляли, перед ним преклонялись в комитате, ибо его благотворительная деятельность и добропорядочность привлекали к нему все сердца.
Сам же он, однако, политикой занимался только так, в теории, писал в газеты демократические статьи, издал брошюру «Великое учение о равенстве», порою подсказывал кое-какие идеи против комитатской правительственной партии, но от агитации воздерживался, и, можно сказать, вовсе не покидал своего надьдёнкского замка, как папа не покидает Ватикана.
Лишь изредка наезжал он в экипаже в ближнюю Полань, где некий Брон, профессор университета в отставке, приобрел имение у Клобушицких. Брон тоже был демократ, апостол дарвинизма.
Они крепко сдружились, Молнар очень ценил его и часто говаривал:
— Кроме меня, в комитате только он достоин называться демократом.
Временами они проведывали один другого, обменивались мыслями в зимние вечера и восхищались идеями друг друга. Потом вдруг господин Брон перестал появляться. Молнар велел запрячь коляску и поехал в Полань: уж не захворал ли друг?
— Дома его нету, — ответила его жена, толстая и сердитая особа.
— Куда же он уехал?
— Он в Будапеште.
— Странно… а мне он и не сказал об этом! — удивился Молнар. — Что же ваш папа там делает?
Этот вопрос был обращен к барышне Мари, болтливому черноглазому существу.
— Папочка о дворянстве хлопочет.
Госпожа Брон, сердитый откормленный паучок, вся побагровела, как раскаленный утюг, и бросила испепеляющий взгляд на испуганную дочь, давая ей понять, как не ко времени развязался у нее язык.
Разочарованный, возвращался в свой Дёнк Пал Молнар.
— Вот тебе и раз. — печально покачивал он головой, — опять в комитате только один демократ.
С тех пор он еще больше уединился; но одно значительное событие вывело его все же из оцепенения. Умер вице-губернатор Ференц Карамати. Умер не за идею, как без конца обещал в своих выступлениях сей достойный господин, а от водянки легких. Ну да неважно. Оставшийся свободным пост вызвал вереницу стычек. Комитатские партии сплачивались, готовясь к решительному бою.
Соперничали двое: Иштван Тот Эречкейский — кандидат либеральной партии, свояк губернатора (а это значило: будет основательный нажим сверху); впрочем, его противник был тоже не прост — он выдвигался партией независимых и принадлежал к роду Рако. А всем в комитате было известно, что лет эдак девяносто назад, когда на очередном комитатском собрании парламентский депутат Габор Бониш рассказывал о назначении палатина и с пафосом, чуть не нараспев, поведал о том, что собственными глазами видел его высочество в украшенной драгоценными камнями мантии королевского наместника, то достопочтенный дед Миклоша Рако, звякнув своей фринджией *, прервал его вопросом:
— А была ли у него трубка во рту?
Благородное собрание расхохоталось, и с той поры будущность фамилии Рако была обеспечена в этом кишащем потомками куруцев * благородном комитате. Она навечно была занесена в число тех фамилий, кои подходят для занятия комитатских должностей.
Свет этой стародавней блестящей реплики достойным образом озарял еще и теперь кандидата на пост вице-губернатора Миклоша Рако, выдвинув его как обладателя исторического имени, и возжег высокое пламя вдохновения в ратовавших за кандидатуру Рако верных скифских сердцах *.
Кто окажется победителем, предугадать было трудно. Партии располагали примерно равными силами, каждая взяла на учет всех своих сторонников. Однако существовала еще довольно большая группа нейтральных, ни туда, ни сюда не примыкавших членов выборных комитетов (из лютеранских провинций), так что было ясно: к кому они примкнут в конце концов — за тем будет победа.
Но вопрос: к кому они примкнут? Да, конечно же, к тому, на чьей стороне будет великий покровитель приходов Пал Молнар Левелекский. Да, вот это был бы триумф, если бы старик явился и проголосовал за Рако.
Скорее, скорее — в дёнкский замок! Депутация застала Молнара Левелекского в хорошем расположении духа: в ответ на обращенные к нему речи он пообещал самолично прибыть в город.
Будто на крыльях разлетелась повсюду весть, что на выборы прибудет сам хозяин Дёнка. Подумать только, ведь это событие: Молнар впервые переступит порог резиденции комитатского управления!
— Так мы и поверили! — посмеивались правые.
Криштоф Бёр, знаменитый среди крестьян вербовщик голосов, разбивший на своем веку столько голов, что за решеткой комитатской тюрьмы сидел чаще, чем за собственным столом, теперь с пеной у рта доказывал, что собственными ушами слыхал обещание Пала Молнара Левелекского, потому что сам был в составе дёнкской депутации; он призывал на себя громы и молнии — пусть-де поразят его, Криштофа Бёра, столько раз, сколько блесток на его жилете, ежели он врет.
— Что ж, поживем — увидим, — отвечали ему.
И вот настал заветный день. День сражения. Волнение достигло апогея. Ведущие к городу дороги уже на заре были забиты повозками, на которых восседали члены крестьянских комитетов, и бричками дворян.
Дома в городке были украшены флагами, улицы запружены толпами любопытных, которые при появлении каждой новой коляски меняли свои предположения.
Этот отдаст голос за Рако. А этот — за Иштвана Тота.
Знающие грамоту записывали эти голоса, и, в зависимости от их числа, надежда воскресала или гасла. Ну, это еще только цветочки. Ягодки будут впереди, когда мимо Тота и его болельщиков промчится экипаж Молнара Левелекского… вот тогда стоит посмотреть, какую мину они скроят…
— Не приедет он, чего там…
— Нет, приедет.
Тысячи глаз устремлялись к холму Эчке в ожидании, когда же появятся наконец в облаке пыли силуэты четырех гнедых. А ну, у кого вострей взгляд?!
Криштоф Бёр волновался больше всех. И не только из-за священных интересов родины, но еще потому, что заключил уже несколько пари, утверждая, что Пал Молнар непременно приедет, — этим он хотел поддержать бодрость духа в своей партии. И то, что Пал Молнар все еще не показывался, заставляло его лишь громче разглагольствовать.
— Ну, с кем держать пари, кто желает? Ставлю еще пять литров, если Дёнк подкачает! Ну, кто хочет спорить?
Однако в душе он сильно трусил. Ведь господа — народ капризный. А американские и вовсе с зайчиками. Вдруг да появится Молнар? Тогда пиши пропало.
На кирпичной ограде дома Тепейи он заметил двух мальчишек.
— Эй, мальцы! Вот вам крейцер, лезьте скорей на колокольню, и, как заметите на той стороне Эчке экипаж, запряженный четверкой, помашите мне шляпой. Да побыстрее, одна нога здесь, другая там!
Ребятишки с восторгом приняли на себя такую важную роль, спрыгнули с ограды и понеслись к колокольне.
Между прочим, вид у этого Криштофа Бёра был прямо отталкивающий. Старик был одутловат, рыжеволос, а лицо у него было совсем голое (потому и прозвали его «кожаным усом»); зато на лице этом навсегда застыло противное выражение спеси и наглости. Однако перед Бёром приходилось заискивать, так как мужик он был хитроумнейший, почище любого юриста, и члены крестьянских комитетов всего комитата признавали его своим вожаком. Он и вправду умел — этого у него не отнимешь — произносить такие речи на комитатских собраниях, что господа дворяне только переглядывались.
Едва взобрались вихрастые посланцы на колокольню, как тотчас же стали махать Веру, который, мгновенно взбодрившись, крикнул толпе:
— Ставлю шесть моих волов против одною молочного поросенка!
— Согласен! — взвизгнул кто-то, и перед Криштофом Бёром, пробившись сквозь толпу, появился катахазский скорняк Беньямин Кукта. У него как раз появилось на свет несколько поросят, так почему бы ценой одного из них не стать ему хозяином шести волов?
Он уже издали протягивал пятерню для пари.
— А ну, сюда, поближе эту лапу свинячью! — спесиво произнес Криштоф Бёр, и ладони обоих джентльменов ударились друг о дружку.
— Разбейте, господин профессор!
Эти слова относились к господину Йожефу Мразу, выстроившему своих учеников, как на параде, в связи с тем, что Молнар Левелекский только на прошлой неделе пожаловал для нужд гимназии десять тысяч форинтов — а так как он впервые собрался посетить город, гимназии приличествовало быть при этой встрече.
Йожеф Мраз, считавшийся одним из «отцов учебного дела», придавал большое значение своей персоне и составленным этой же персоной учебникам, поэтому его несколько покоробила просьба Криштофа Бёра. Как это он будет при своих питомцах совершать столь прозаическое дело: отделять ладонь Криштофа Бёра от ладони Кукты, — он, который до сих пор отделял только приставки от корней!
Сделав вид, будто не слышал, Йожеф Мраз продолжал объяснять ученикам (ибо он любил позировать при публике) разницу между гекзаметром и пентаметром. Грудь он выпятил колесом, глаза его дико вращались, а морщины над ними носились вверх-вниз на той узенькой полоске, которая в просторечии именовалась лбом господина Мраза.
— Вы должны хорошо усвоить гекзаметр и пентаметр. Это очень легко. Ничего, что мы теперь на улице. Улица не улица перед лицом науки. Место не должно мешать занятиям. (Он говорил с небольшим словацким акцентом, ибо родом был из северной Венгрии.) А Йожеф Мраз все свое время отдает науке. Это факт. А факт есть факт. Итак, внимание! (И он начал скандировать, загибая при этом один за другим пальцы.) Если вы скажете:
«Я, Йожеф Мрáз, ваш учи'тель, читáю вам ли'терату'ру» — это гекзаметр.
«Я, Йожеф Мрáз вас учу', ли'терату'ру читáю» — это пентаметр. Если же вы скажете все вместе:
«Я, Йожеф Мраз, ваш учитель, читаю вам литературу,
Я, Йожеф Мраз, вас учу, литературу читаю», — получится дистих.
Выдающийся «отец учебного дела» повсюду видел лишь собственное «я», во всем из него исходил и обо всем судил с этой точки зрения. Даже для экзаменационной работы он дал следующую тему: «Йожеф Мраз и учебное дело».
Бух-бабах! — загремело вдруг. Поставленный при въезде в город сержант артиллерии пальнул из своих мортир. Толпа взволнованно заколыхалась, все взгляды устремились в сторону холма Эчке…
— Едет! Едет!
Ура! Уже невооруженным глазом можно было различить стремительно приближавшуюся господскую коляску.
Еще две-три минуты — и она будет здесь. Далекий гул, грянувшее на окраине города «ура» уже докатилось до центральной площади. Четверка гнедых грациозно летит-несется вперед, грохочут колеса, гулко вздыхает под ними земля.
— А вдруг в коляске не Молнар Левелекский, а, скажем, его управляющий?
Эта слабая надежда питала еще группу Тота, но напрасно: в коляске сидел сам Молнар Левелекский. Он был совсем стар; когда снял шляпу, благодаря за искренние приветствия, кланяясь во все стороны, все увидели его покрытую снегом голову, зато лицо его было красным, как никогда. Это сладкое волнение разрумянило его.
— Какой красивый старец, какие седины! — переговаривались вокруг.
А он полной грудью вдыхал пьянящий аромат популярности. С каким трудом решился он на этот путь — и вот получил самые счастливые в жизни минуты. Боже, боже, значит, все-таки стоило любить народ! Народ признал его, Молнара Левелекского, и боготворит!
Так волновалось, так билось старое сердце, словно рвалось наружу.
— Ты осторожно, слышишь, Мартон, правь тихонечко, видишь, народ!
Мартон подтянул вожжи, кони вздыбились, грызя удила, пена так и капала с их морд на землю. Из окон то и дело летели в коляску букеты цветов, улыбающиеся женщины махали платками. А вот из-за низенького забора какой-то лачужки упал ему на колени цветок картофеля. Наверное, его кинула, по примеру городских барышень, какая-нибудь бедная крестьянская девушка. Молнар Левелекский среди множества роз и гвоздик выбрал именно этот скромный убогий цветочек — он тоже изгой в среде цветов — и вставил его в петлицу.
Приветствия стали еще громче, гул голосов, крепчая, возрос, когда показался величественный и суровый фасад нового здания комитатского управления и площадь перед ним, где, снедаемые различными чувствами, стояли члены выборных комитетов.
К этому времени, пробивая себе дорогу грозными локтями, подоспел и Криштоф Бёр, злорадно вопя:
— Вице-губернатором — Миклоша Рако, Иштвана Тота — ко всем собакам!
Коляска Молнара как раз подкатила к зданию, но добраться к самому подъезду помешала толпа. Кучер вынужден был остановить лошадей; Молнар Левелекский моложаво поднялся на ноги и, собираясь сойти, уже ступил ногой на подножку.
Несколько человек из его старых товарищей поспешили к коляске, но Криштоф Бёр опередил всех. Увы, брезгливый крез уже издали почувствовал водочный дух, которым несло от этого человека прямо на него потоком воздуха, взбудораженного размахиваемыми шляпами. Он все еще стоял, опустив на подножку ногу, когда, хорохорясь, подскочил Бёр и своей грязной, волосатой ручищей фамильярно стал трясти его нежную белую руку. Громовым, но совсем уже хмельным голосом он выкрикнул так, чтобы услышала вся площадь: — Здорово, дядя Пали!
От этой наглости глаза Молнара Левелекского застлало кровью. Крестьянин, мужик, посмел так обратиться к нему, потомку Молнаров Левелекских!.. Кровь отхлынула от его лица, оно стало белым, как стена, губы затряслись.
Он как будто хотел сказать что-то… пошатнулся, словно человек, постигнутый ударом и теряющий почву под ногами… Несколько секунд простоял он так, в нерешительности, не зная, как поступить…
Затем внезапно поднял ногу с подножки и, упав на обтянутое отменной кожей сиденье, прохрипел:
— Назад, Мартон, — назад, в Дёнк. Погоняй же! Погоняй! Мартон замахнулся, и на глазах окаменевших вокруг господ коляска с великим демократом исчезла в одном из прилегающих переулков, точно сон.
Молнар Левелекский угрюмо надвинул шляпу на глаза. Экипаж несся быстро, стремительно… Кровь старика кипела, горела от оскорбленной гордости… Он пытался урезонить себя. «Это же глупость, форменная глупость. Ну что тут такого, что он назвал меня дядей Пали? Смешно из-за этого злиться. Что скажут люди?» Но коляска все мчалась, а окаймлявшие дорогу деревья, тополя, акации, казалось, смеялись ехидно и, кивая, выкрикивали по очереди: «Здорово, дядя Пали!.. Здорово! Здорово!» И горы тоже… и поле… а те развалины замка там, на холме… Как они смеялись!
— Эх, — пробурчал старый барин и с досадой ударил ладонью по коже сиденья. — Но нельзя же все сносить!
Вот именно, милостивый государь Пал Молнар. Ибо впитанная с молоком матери, исконная ваша натура непременно проявится в одну из серьезнейших минут жизни и единым махом сотрет невидимой губкой все то, что вы добирали к ней из книг в течение пятидесяти лет. Да, дело в этом молоке. В тех божественных флюидах, исходящих из материнской груди, из этих чудеснейших проводников, через которые недостатки и достоинства предков передаются их потомкам.
Пал Молнар Левелекский после этого странного случая (которого он, по-видимому, стыдился) никогда больше не заговаривал о демократии и в общественных делах комитата никак не участвовал, порвав отношения со всеми партиями.
К нему были вхожи лишь очень немногие, но и с ними он редко согревался, а когда это случалось, с увлечением рассказывал эпизоды из своей американской жизни, ибо пристрастие к Америке у него осталось навсегда.
Но и здесь в речах его нет-нет да проскальзывало что-нибудь эдакое… Вот, например, один старый друг как-то спросил его:
— Ну, каково было у тебя там общественное положение?
В глазах старика зажегся столь знакомый надменный огонек:
— О, там относились к нам так, — прорвалось у него вдруг, — будто мы прибыли с первым кораблем.
Вот как! Значит, и Америка туда же? С первым, стало быть, кораблем! Выходит, там тоже подобная дифференциация меж людьми? Разница всего-навсего в выражениях. Мы говорим: «…будто мы пришли вместе с Арпадом» *. Ха-ха-ха — с первым кораблем… Наше вам, почтенная Америка!
II. Иди-ка ты со своим Ракоци!
В роду Малнаи встречались разные люди. Был среди них один, не в меру жестокий, обезглавивший собственную жену, — но нас это, собственно говоря, не касается: жена-то ведь его. А он, между прочим, располагал правом казнить или миловать…
Был и другой, Миклош, которого до конца его дней неизменно избирали вице-губернатором, причем единогласно. Он и гордился этим немало, и в своих предвыборных речах не забывал делать оговорку:
— Ежели среди вас найдется хоть одна душа, которой я нежелателен, прошу выйти вперед — и я тотчас откажусь баллотироваться.
И ни разу ни единая душа не объявилась, ибо все знали: пикни только, и подвыпившие вербовщики голосов живо выколотят эту душу из бренной плоти своими кулачищами.
Был еще и третий Малнаи, хвастливый Криштоф, обладатель кольца с огромным бриллиантом (я сам видал позднее это кольцо); однажды, сидя в ложе венского придворного театра, он начал аплодировать, и вибрирующее сияние камня буквально ослепило сидевшую напротив королеву (супругу Франца I), которая даже передала ему через гофмейстера (конечно, это рассказывал сам Криштоф), что очень, мол, просит его «повернуть кольцо камнем к ладони». Поскольку к дамам Криштоф был всегда снисходителен, он выполнил ее просьбу.
Четвертого Малнаи прозвали «надменным». Случилось, он посадил у себя табак без всякого на то разрешения, а когда был привлечен к ответственности за противозаконное действие, велел записать в протокол, что не признает никаких ограничений, даже основанных на конституции, поскольку конституция дело более позднее *. Земля, мол, еще до конституции ему принадлежала!
И творит же мать-природа чудеса, когда из такой семьи выходит демократ. Демократ Малнаи! Все равно что белая ворона.
Все мы знали Акоша Малнаи, он заседал в парламенте вместе с нами, — вернее, напротив нас, в рядах независимых. Это был кроткий, мечтательного нрава, низенький старичок, который вечно бил себя в грудь, несколько перефразируя немного видоизмененное изречение нашего всемилостивейшего властелина Ференца Ракоци Второго, произнесенное им, по-видимому, в молодости: «Окажись во мне хоть один нерв не демократ, я вырву его из своего тела».
В те времена в парламенте еще царил иной дух. Мы, мамелюки, были в ладу с партией независимых, я, например, только среди них и чувствовал себя хорошо. Они олицетворяли поэзию венгерской политической жизни. Мы взращивали зерно. Они поливали свои цветы. Мое же сердце влеклось к цветам.
Бывало, я подолгу просиживал с ними в кулуарах и очень часто общался с Акошем Малнаи. Он с благоговением слушал рассказы Тали * о Ференце Ракоци II. Глаза Акоша в такие минуты блестели, душа его парила, он нетерпеливо покручивал прихваченные инеем усы и вздыхал:
— Эх, еще бы разок сесть мне на свою сивую! Говорят, будто он всю кампанию сорок восьмого провоевал, не слезая с сивой кобылы.
Тогда он был еще очень богат, но с тех пор большую часть своего состояния истратил на демократические и гуманные цели. Когда я познакомился с ним, у него уже не было его большого имения, зато были большие усы, да такие, что он мог дважды обмотать ими уши. Они привлекали всеобщее внимание парламентских депутатов, среди которых немало бывает озорников и любителей разных проказ; нос крупнее обычного или особенно пышная борода могли сделать обладателя оных знаменитостью не меньше, чем выдающийся ум или обширное поместье.
Точно так же известность старине Акошу принесли усы, поскольку, благодаря усам, на него легко было рисовать шаржи; карикатуристы юмористических журналов то и дело публиковали его портреты, а репортеры, описывая жизнь парламента, не забывали описать «для фона» его колоритную фигуру, — короче говоря, он очень скоро приобрел во всей стране репутацию великого демократа и примерного ракоциста.
И случилось так, что как раз в середине восьмидесятых годов властям благородного комитата Земплен пришло на ум открыть традиционную мраморную доску на стене родного дома Ференца Ракоци II. Поздновато спохватились, ну, да это и не удивительно. Стольких великих людей одного за другим наплодил комитат Земплен, что сам черт не поспел бы снабжать всех мемориальными досками.
Итак, открытие мраморной доски должно было состояться в Ворши, где и поныне стоит отчий дом всемилостивейшего властителя нашего, есть и комната, в которой произвела его на свет героическая мать *.
Акошу Малнаи только этого и надо было. Бросив все дела, он сел на «курилку» (так называл он с великим презрением железную дорогу), дабы совершить паломничество к священному месту. Я, как посланец Общества Кишфалуди *, ехал тем же поездом и вдоволь наслушался о равенстве, о демократии, так что должен был признать (хотя сам я не склонен к таким крайностям), что наконец-то нашел поистине благородно мыслящего человека, который действительно чувствует так, как говорит. Он был сама добродетель, воплощение Христовой кротости. Я так представляю себе Льва Толстого.
Увы, голод не менее серьезный вопрос, чем проблема демократии. Спустя некоторое время, когда Малнаи уже всласть излил свою душу, сетуя на то, как далека еще Венгрия от верного направления, перед нами встал более жгучий вопрос: как далек от нас Серенч? Оказалось, до Серенча еще порядочно.
Но наконец мы прибыли. Поезд в Серенче стоял более часа, и мы могли спокойно пообедать. Мы все сошли (в купе, кроме нас, ехало еще трое делегатов) и, как волки, ринулись к выставленным яствам.
Наскоро насытившись, дядя Акош за черным кофе снова принялся излагать свои демократические идеи, как вдруг в открытую дверь бочком вошли два серенчских крестьянина и остановились перед ним.
— День добрый, ваша милость, — заговорил старший из них. Малнаи обрадовало, что народ умеет распознать своего человека, и он дружески протянул руку обоим крестьянам.
— Вы ко мне?
— Ага, — ответил, кивнув, крестьянин, тот, что помоложе.
— А кто вы такие, дорогие друзья?
— Я — Йожеф Боросло, а это мой кум Михай Варга.
— Ну и чем я могу быть вам полезен, Йожеф Боросло и Михай Варга?
Михай Варга почесывал за ухом, будто подыскивая там нужные слова, чтобы как можно почтительнее изложить дело.
— Дак вот, загвоздка-то в том, значит, как бы это сказать, про усы ваши, то есть…
— Говорите-ка пояснее, хозяин, — подгонял его Малнаи. Тогда Михай Варга толкнул в бок Йожефа Боросло:
— Валяйте вы, кум, все же вы, кум, на год дольше у попа прослужили.
Это был предлог, чтобы передать слово Боросло, который и поведал затем вполне толково, как они с кумом поспорили насчет усов Малнаи: настоящие они или ненастоящие. Теперь уж осталось только поглядеть на них поближе — и вся недолга. Так что, мол, уж позвольте их потрогать!
Малнаи улыбался. Возможно, ему и было немного досадно, по улыбка не покидала его лица. Да и как иначе держать себя другу народа? Он улыбался и подыскивал какой-нибудь компромисс.
— А на что вы поспорили? На много?
— На много, — убежденно ответил Михай Варга.
— На что же?
— На его пять литров, — воскликнул Боросло победоносно.
— А что, если бы я поставил вам эти пять литров, и на том бы делу конец? — приветливо предложил великий демократ.
Оба в один голос запротестовали:
— Никак нельзя. Это уже вопрос чести, кто из нас больше смыслит в усах. Нам, сударь, ваше вино ни к чему.
— Ну что ж, — заметил Малнаи принужденно, — мне нравится в народе проявление чувства собственного достоинства. Итак, Боросло, что утверждаете вы?
— Что усы ненастоящие.
— Вы проиграли спор: они настоящие, — заявил Малнаи. Михай Варга весело гикнул.
— Ну, что я говорил? Что от кофеи они еще не так могут вырасти.
Йожеф Боросло покачал головой.
— Нет, кум, дудки! Ты меня не проведешь! С чего это я должен верить этому барину? Ведь я его даже не знаю. Пускай сперва покажет.
— Извольте, приятель, — согласился Малнаи, с кротостью ягненка склонив голову к крестьянину, чтобы тому легче было подобраться к его усам.
Зрелище начало привлекать внимание окружающих и становилось комичным; в зале ресторана уже многие поглядывали в нашу сторону, даже поднимались с мест, чтобы лучше видеть, мы сами тоже от души смеялись. Малнаи кипел негодованием, по коль скоро ты прославленный демократ, так уж будь им всегда и при всех обстоятельствах.
Йожеф Боросло приступил к осмотру усов с добросовестнейшей обстоятельностью: сначала он их посучил двумя пальцами, как женщины щупают материю, затем то же сделал с бородой: не иначе ли шуршит? Потом снова вернулся к усам, подергал за один беличий хвост (ибо усы Малнаи рыжеватым оттенком и пышностью действительно напоминали беличьи хвосты). Потом подергал другой ус, чтобы убедиться, на самом ли деле он коренится в коже или держится на каком-нибудь клею.
Великий демократ охнул:
— Ссс! Послушайте, земляк, не дергайте так сильно! Потом он сжал губы и стал терпеть.
Боросло теперь уже брал волоски в отдельности, дабы выяснить, не наставлены ли усы чужим волосом, он мусолил пальцы и водил ими вдоль волосков, затем дышал на них, но так ничего подозрительного и не обнаружил.
— Побей же бог эти усищи, — бурчал он недовольно. — Как это они такие вымахали!
Он качал головой и бранился, а мы давились со смеху. Малнаи вертел глазами, губы его дрожали, вены на висках набухли.
Боросло теперь выпустил усы и отступил.
— А ну, станьте-ка, сударь, усами к солнцу!
Он разглядывал их на расстоянии двух-трех шагов, склонив голову набок и прищурив один глаз. Смотрел пристально, не отрываясь, наконец его прорвало:
— Проиграл я. Плачу, кум. Будь оно неладно!
Будто камень свалился с сердца у нашего героя, когда он увидел, что спорщики направились к дверям. Но Боросло, который все не мог смириться со своим проигрышем, в дверях остановился: а что, если в усы хитроумно всучена часть волос с бакенбард?.. Этого-то он и не разглядел как следует!
Тут он повернул обратно, подкрался сзади к уже безмятежно разговаривавшему Малнаи и большой грубой своей ладонью хлопнул его по плечу.
Старый господин вздрогнул и обернулся. Его глаза налились кровью. За спиной у него снова стоял Боросло.
— Что вам? — крикнул Малнаи возмущенно. Боросло глядел на него и усмехался.
— Понял, где тут собака зарыта… Все знаю… Усы-то свиты из бороды…
— Ну, вот что… Убирайтесь-ка отсюда! Надоели!
— Э, нет, коли уж я тут, стало быть, погляжу.
И крестьянин без долгих разговоров вцепился обеими руками в усы и бороду Малнаи, чтобы отделить их друг от друга и произвести осмотр на разделявшей их меже — проверить, сколько волосков приблудилось со щек на верхнюю губу. Однако у Малнаи терпение окончательно лопнуло, лицо стало белым как мел, отхлынула надменная кровь, он вскочил, вытолкнув стул из-под своих старых костей, и, схватив Боросло за шею, начал его душить, приговаривая дрожащим от злобы голосом:
— Ах ты, сукин сын! Мужицкое отродье! Да как ты смеешь? Да знаешь ли ты, кто я? Вот тебе! На тебе! Получай же, хам!
Депутаты повскакали с мест, стыдясь разразившегося скандала, пытались успокоить, уговорить Малнаи:
— Полно тебе, Акош! Брось, Акош! Выпусти человека! Задушишь ведь. Одумайся, Акош, ты же демократ!
Акош бросил на нас уничтожающий взгляд, затем клокочущим яростью голосом прошипел:
— Дьявол вам демократ, а не я. Никогда им не был и не буду. Срази меня гром, если я еще раз произнесу это слово! Ненавижу мужичье. Всыпать бы им всем по двадцать пять палок! По двадцать пять! — рычал он.
К счастью, раздался звонок, нужно было расплачиваться и бежать на поезд. Но и тут Малнаи не сразу еще пришел в себя; он делал вид, будто забыл уже инцидент, однако тот уголок его сердца, что был посвящен демократии, если только был в нем такой уголок, захлопнулся (по крайней мере, на этот день), — зато тем сильнее забил ключ из другого уголка, где обретался культ Ракоци.
Пыхтящий поезд все ближе подвозил нас к священному месту. Земпленские долины и горы наполняли наши сердца воспоминаниями. И там вот была битва, и на той вон поляне…
Вдалеке, внизу, по траве рассыпалось стадо белых овец… Когда-то там белели шатры Ракоци. У подножья холма громыхали, взбираясь на кручу, тяжелые ломовые телеги. Эх, когда-то здесь грохотали пушки Ракоци… Может, этому старому дереву на обочине дороги довелось даже видеть их… Справа, на возвышении — крепость Патак… * Поглядите, будто кто-то стоит на башне, какое-то туманное видение… А вот оно уже и рассеялось при свете выглянувшего солнца… Можно подумать, что это Илона Зрини, если не знать, что это только видимость! что над башней плывет просто белое облако.
Сердце старого господина раскрылось, распахнулось, он стал, как малое дитя, резв, нетерпелив; не в силах усидеть на месте, он подбегал то к одному окну, то к другому, на все у него находилось замечание:
— Вот по этой лесной тропинке волокли в цепях Безередя *, а в Патаке потом обезглавили. Ох, взглянуть бы мне хоть одним глазком на тот эшафот!.. А в этом перелеске дрался на дуэли Берчени *. Боже, боже, почему я не тогда родился! Я отдал бы жизнь за Ракоци… и теперь меня вспоминали бы как куруцкого витязя.
Под эту вдохновенную болтовню прибыли мы в Уйхей, где при выходе из поезда были встречены приветственными речами.
Земпленские господа говорили красиво, мы тоже отвечали как умели, Малнаи же расчувствовался и заплакал.
Чемоданы наши были кем-то сняты с поезда и сложены в фургонах.
— Господин депутат, а ваш чемодан на какой повозке? — спросил кто-то Малнаи.
Он утер слезы.
— Право, не знаю.
Стали искать его вещи, перерыли фургоны, но чемодана ни в одном не оказалось; тут пошли расспросы, но никто из персонала чемодана Малнаи не видел. В суматохе кто-то похитил его на железной дороге.
Малнаи сначала оторопел, потом пришел в ярость: в чемодане лежал предназначенный для торжества национальный костюм, сабля, унаследованная от предков, и прихваченное на четыре дня белье; он прыгал и топал, как рассвирепевший козел, бранил ораторов за то, что они так много болтали, на чем свет стоит ругал комитат, где водятся такие подлые воры, наконец, оставив и нас и встречавших, помчался к начальнику станции узнавать, когда отправляется поезд обратно.
Я догнал его:
— Не дури, дядя Акош, останься.
— Да предложи вы мне хоть весь комитат, я и то не остался бы… Нет, я не желаю его больше видеть. И уезжать-то буду с закрытыми глазами.
— Ну а как же Ракоци?
Старик вскипел, поднял одно плечо, скривил рот и презрительно отмахнулся:
— А поди-ка ты со своим Ракоци! Тоже, видно, не бог весть кто был…
Так и отправился он домой ближайшим поездом и даже не присутствовал на боршской церемонии, которую так ждал и которая отняла у него столько иллюзий; его чемодан навеки пропал, зато явственно обнаружилась истина, доказывающая, что демократизм венгерского человека — всего лишь дело настроения… как, впрочем, и многое другое…
1897—1898
КРАСНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
Перевод Г. Лейбутина
Душераздирающие трагедии разыгрываются не только на морских просторах. Захочет бог, и маленькое болотце возле деревни, где коноплю вымачивают, может превратиться в настоящее море. Не в одних старинных сказках встречаются леса без конца-краю, и не только таинственные, призрачные болотные огоньки заманивают неосторожных путников в губительную трясину…
Велит бог простой, неприметной травке: «Убей!» — и слабая былинка превращается в безжалостного палача.
Ранней осенью привез я своих ребятишек в деревню. Первым же их вопросом было:
— А где Марци?
И правда, на этот раз Марци почему-то не встречал нас! Бывало, он со всех ног летел к нам, спеша получить тех удивительных животных, которых мои сынишки привозили для него из города: лошадок о трех ногах, барашка без головы, но все еще умевшего блеять, однорогую коровку — словом, все игрушки, которые моим ребятам надоели, а маленькому Марци еще могли доставить радость.
Они и теперь лежали передо мной, аккуратно завернутые в большой пакет, перевязанный шпагатом. Но Марци не шел за ними.
Куда же мог запропаститься этот постреленок?
Бабушке жаль было расстраивать маленьких внучат, поэтому она ответила уклончиво:
— Ушел наш Марци. Далеко ушел…
И только много позднее она рассказала о том, как далеко ушел от нас Марци…
А случилось это так. В начале лета родители Марци окучивали в поле картошку. Ведь она, народная кормилица, любит, чтоб ее подушку перетрясли да поправили, — не лежать же ей на жестком до самой осени!
Родители работали, а четырехлетний крошка Марци сидел в борозде, возле кувшина с водой и торбы с хлебом. Тут же положили и грудную девочку, двоюродную или троюродную сестренку Марци. Мать ее изредка приходила покормить дочку грудью и всякий раз просила мальчика:
— Смотри получше за моей крошечкой, Марцика. Вырастет, отдам ее тебе в жены.
И он смотрел. Тихо мурлыкал девочке какую-то песенку, развлекал ее. Малышка сначала смеялась, потом заснула. Теперь стало скучно самому Марци. Но вскоре из глубины пшеничного поля, из густого леса качающихся на ветру колосьев на него глянуло что-то красное. Оно улыбалось ему, дразнило, манило к себе, словно говоря: «Иди ко мне, Марци! Иди!»
Мальчик поднялся и направился к пшеничному полю. Поле было совсем рядом, — нужно было лишь перейти узенькую полоску люцерны, принадлежавшей Яношу Надю, а там уже начинались хлеба, Марци подошел ближе, и неведомое красное, манившее его к себе, улыбнулось ему еще приветливей. Что бы это могло быть?
Мальчуган был не робкого десятка. Он смело вошел в пшеницу, хотя колосья поднимались выше его головы. Это красное, что так притягивало его, светило ему, то появляясь, то прячась вновь, из-за тысяч тонких стеблей. Вот оно совсем близко, — сейчас Марци подойдет к нему и сорвет!
Колосья шуршали, покачиваясь, как на волнах, и, казалось, убегали от него. Но мальчик все-таки добрался до того, за чем гнался. Он в изумлении всплеснул ручонками.
— Ай, какой красивый красный бубенчик!
Он точь-в-точь походил на колокольчик, в который позванивал во время обедни помогавший священнику маленький церковный служка. Но только тот, что Марци держал в руках, был куда красивее. Колокольчик служки — медный, а этот — словно весь из мягкой алой ткани, точно такой же, из какой сшита рубашка служки.
Марци всегда очень завидовал прислуживавшим в церкви мальчикам, то ли из-за красного их одеяния, то ли из-за колокольчика. Ну, вот теперь и у него есть такой же колокольчик. Сорвав цветок, он долго разглядывал его, затем потряс им в воздухе. Увы, бубенчик не звенел.
Малыш еще раз взмахнул цветком — снова ни звука. Ведь это был всего лишь красный полевой мак!
Но четырехлетний крошка не знал этого. Его чрезвычайно огорчило, что колокольчик не хочет звенеть: очевидно, кто-то сломал его, вырвал у бедняжки язык!
Впрочем, окончательно разочароваться он не успел. Чуть подальше, наискосок, виднелся еще один такой же колокольчик. От ветра он покачивался на своем тонком стебельке, и Марци даже послышалось, будто в воздухе что-то звенит.
Марци побежал к нему. Все мысли мальчонки были теперь заняты одним: найти бубенчик, который бы наконец зазвенел. Ему вовсе не было скучно: ведь вокруг столько интересного и забавного! С колючих тонких колосьев свисает синяя бахрома куколя, словно сошедшая с дебреценской трубки сельского старосты. По земле снуют взад-вперед всевозможные букашки, над головой порхают большие золотисто-зеленые бабочки, вокруг со всех сторон прыгают кузнечики. Густой лес пшеницы полон своей жизни. И вдруг откуда ни возьмись — зайчонок. Ой!.. Марци испугался и даже вздрогнул. Но тут же весело рассмеялся: «Ведь это мой прошлогодний зайчик!» Впрочем, едва ли… Того зайца давно зажарили. Марци вместе со всеми ел приготовленное из него жаркое. Но уж очень похож!..
Заяц кинулся прочь. Марци за ним. А колосья бежали им вслед. На мгновение мальчику показалось, будто перед ним уже другое поле, но это его нимало не встревожило. Он нашел еще один красный колокольчик, и ему почудилось, что этот действительно звенел.
Марци остановился, заслушавшись. Вдруг мимо проковыляли два маленьких перепеленка, совсем еще желтеньких, в молодом пушку.
Наверное, озорники удрали из родного гнездышка, не спросись у мамаши. Перепелята еще толком не научились бегать, их глазки-бисеринки выражали лишь страх. Лови их, Марци! И мальчик припустился за беглецами. Но плутишки оказались проворней его и вскоре исчезли из виду. Они затерялись в пшенице, даже шороха потревоженных ими колосьев больше не было слышно.
Наступила глубокая, удивительная тишина. До Марци не долетало ни стука телег, ни человеческих голосов. Над головой малютки виднелось только небо, по которому лениво ползли облака.
Над нивой промчался ветерок. Он словно огромным гребнем прошелся по ее кудрям. До слуха Марци он донес отдаленный, едва слышный детский плач.
«Маленькая Боришка проснулась», — подумал Марци.
Он повернул назад, собираясь вернуться к девочке. Но куда, в какую сторону бежать?
Задыхаясь, Марци изо всех сил бежит напрямик через поле, потом останавливается, прислушивается. Плача уже не слышно. Мальчик снова пускается в путь, только теперь он еле бредет, усталый, запыхавшийся, со взмокшими от пота волосенками. Порой ему кажется, будто он слышит где-то позади голос отца:
— Эй, Марци! Где ты, Марци?
Мальчик пробует идти на голос, но звук его уже исчез, лишь пшеница грустно и загадочно шуршит вокруг. А бедняжка Марци все идет и идет…
Страшному лесу колосьев нет конца; кажется, словно все поле шагает рядом с малышом — и высокие качающиеся стебли, и голубые васильки.
Марци уже выбивается из сил. Его терзает голод, он задыхается от усталости. Страх и боль сжимают ему сердечко, и ребенок начинает горько плакать.
Но безжалостные хлеба, словно чужие, равнодушно кивают колосьями, даже не хотят спросить: «О чем ты плачешь, Марци?» И красные бубенчики уже не звенят больше, а лишь посмеиваются над ним.
Одна только муравьиная куча ласково подбадривает его. Миллионы муравьишек копошатся на ней, выполняя какую-то неведомую, но, очевидно, очень спешную работу. Марци вспомнил, что видел точно такую же кучу на краю пшеничного поля, когда входил в хлеба. Может быть, это она и есть? Муравьи показались ему знакомыми. Всем своим видом они словно говорили малышу: «Это мы, Марци… Узнаешь нас?» Ножки ребенка уже подгибались, но с надеждой в сердце он пробежал еще немного, сначала вправо, потом влево. Напрасно!.. И муравьи обманули его. Это были другие, чужие муравьи.
Выбившись из сил, усталый, голодный, измученный, он свалился наконец возле куста бузины. В глазах у него потемнело, в голове стоял шум. А красные колокольчики в безбрежном море пшеничных колосьев все до единого вдруг зазвенели, зазвенели…
Родители Марци не скоро заметили, что сынишки их нет в той борозде возле хлебной торбы, где они его оставили. Мать и отец долго звали его, аукали, разыскивая по всему полю, но ребенка и след простыл. На все их расспросы работавшие по соседству люди отвечали в один голое: никто не видел мальчика. Непостижимо, куда он только мог деваться!
На следующий день о пропаже ребенка знала вся деревня. Сообщили об этом исправнику, и тот исколесил окрестности, допрашивал бродячих цыган, которые, по слухам, часто воруют чужих детей (будто им мало своих собственных!). Но Марци так и не нашелся. Мать каждый вечер стелила ему постельку — вдруг отыщется, вдруг ночью придет! Заблудился где-нибудь, думала она. Добрые люди найдут его и приведут домой.
Шло лето, а Марци так и не отыскался. Лишь ближе к осени, когда стали косить пшеницу на том поле, где он заблудился, в борозде возле куста бузины нашли крохотный детский скелетик.
1901
ФИЛИ
Зарисовка из прежним времен
Перевод И. Миронец
Еще стоят в деревнях барские усадьбы, те, конечно, которые пока не рухнули. На этих-то уже разве только законченные отверстия уставившихся в небо труб говорят вразумительно, как бы сетуя, что через них вылетало больше, чем завозилось в амбары. Ох, уж эти пиры… пиры горой!
Зато уцелевшие усадьбы теперь привлекательнее прежнего. Комфорт — покоритель, могущественней Наполеона. Всюду постепенно проникает хотя бы частица того целесообразного, красивого и удобного, что придумано человечеством. Нынче и гайдук вон с вилки ест, а король Матяш еще довольствовался собственными пальцами. Деревенский нотариус нежится на такой оттоманке, какая и не снилась наместнику венгерского короля Гаре *. Одним словом, роскошь проникает все дальше и дальше.
И теперь дымят трубы помещичьих усадеб, да и гостей по-прежнему хватает. Сидят они вокруг красиво накрытых столов. В серебряных канделябрах горит в четыре раза больше свечей, чем в прежние времена. Вместо привычной печи теперь излучает тепло камин, облицованный отменной майоликой; и не видать за ужином уже косматых пришельцев в серых полушубках — все чинно, все подобрано одно к одному. Мебель, костюмы, фарфор, хрусталь. Все аристократично и дышит довольством. Мужчины во фраках, — это ведь не какое-нибудь сборище, а званый diner![18] — у дам шея и половина груди оголены, шуршащий шелковый лиф начинается лишь там, где не быть ему уже нельзя. И это единственный признак расчетливости. Но будем рассказывать дальше: стоит ли тратить много слов из-за крохотного местечка — в ладонь, от силы в две шириной.
Запустение? Да где же тут запустение! Напротив. Если бы предки, воскреснув на минуту, огляделись в своих усадьбах, они бы всплеснули руками. «О, что за блеск, — сказали бы они, — какой вкус, сколько чудесных, подымающих настроение предметов! Впрочем, постойте, за столом, кажется, недостает самой прекрасной безделушки».
Да, в самом деле, чего-то недостает. Чего-то такого, чего и замечать не следует. Недостает обедневших родственников.
Прежде их везде хватало. Не было такого барского дома, где бы не ютились и они. И если гостю хотели пояснить, в каком состоятельном доме он побывал, то формулировалось это так:
— Живут там широко. Одних только бедных родственников человек шесть при доме.
Пригретые сироты, бьющие баклуши родичи придавали столу больше блеска, чем эти нынешние серебряные подносы, хрустальные кубки и огромные букеты цветов.
Это была совсем особая каста. Без них любой дом был бы неуютным в непривлекательным. Как ветка можжевельника на корчме означала, что за деньги человек может там поесть и выпить, так присутствие бедных родственников в частном доме означало, что там гостя встретит истинно венгерское радушие. Вот этот-то обычай и исчез. Нет больше в усадьбах бедных родственников. Вымерли, как бизоны.
Может, с венгерской земли исчезла бедность? О нет. Наоборот, она все движется-надвигается, переступая своими страшными лапищами: топ-топ, топ-топ! — а длинные руки ее все сильней стискивают дворянские семьи, так что только кости хрустят… Но обедневших родственников, вопреки этому всему, больше не водится.
Я еще знал, верней, мне казалось, что знал, двоих, но, посетив недавно Криштофа Хеттеши, моего давнего друга и тоже депутата, в его старом родовом доме в Видолье, уже не застал у него этих двух сироток, которые прежде, бывало, скромно сидели в конце стола в своих коротеньких юбочках с повязанными на шее салфетками. Криштоф говорил, что это две бедные дальние его родственницы.
Мне нравилось наблюдать за ними во время еды, потому что все у них во рту казалось таким новеньким: и мелкие, как рисинки, белые зубки, и красные язычки, и розовые десны.
— Где Тинка, Бэшке? — спрашивал я у знакомых.
— О, да они уже выросли и…
— Повыходили замуж? — дополнял я.
— Ну, что вы! — отвечали мне. — Просто Криштофу тоже не под силу уже вести дом на широкую ногу, вот он их и кинул в ту общую ямищу, куда венгерец всегда сбрасывает подобное добро.
— В какую яму, помилуйте?
— Да казне их сбагрил, с рук на руки, чтобы теперь государство их кормило. Одна — телеграфистка, другая — на почте.
— Бедные малютки! — вздохнул я.
— Ты бы лучше государство пожалел, — заметил мой собеседник.
Он, должно быть, имел в виду, что сожаления достойно государство, с которым воюют его граждане. Против которого вечно строят козни и которое все от мала до велика на каждом шагу обманывают без зазрения совести.
После щедрого угощения Криштоф распорядился, чтобы каждого из нас отвезли на станцию к отходу нужного поезда.
Гусар, сидевший на козлах, курил контрабандный табак, я уловил это, так как ветер относил дым ко мне; в рукаве сермяги кучера трепыхалось что-то живое, и он признался, что везет пару цыплят живущей в городе матери, а прячет их, чтобы объегорить таможенников и не платить пошлину. А рядом со мной почтенный старец, какой-то родственник семьи Хеттеши, всю дорогу цитировал Священное писание, подбирая аргументы против устремлений государства. Интересно, чем же провинилось перед ним государство, что он так сердит на него? Да нет, ничем. Оно предоставило ему целый доминиум. Ибо этот сидевший справа от меня старик был епископом, и знакомил он меня с содержанием своего очередного пасторского послания.
— Бедное государство! — вслух пробормотал я и вздохнул. Легкую повозку тащили две понурые черные лошаденки.
Мне показалось странным, что господин Криштоф велел запрячь этих двух не слишком представительных кляч именно в ту бричку, которая везла епископа.
— Не ломовые ли они, часом? — спросил я возницу.
— Нет. Солдатские, — ответил он равнодушно.
— Очень уж худые, — добавил я.
— Они лучшего корма не заслуживают, — пояснил он. — Едва начинается страда, казна, как правило, забирает их; а мы что же, только корми?
— Все-таки это возмутительно, — взорвался вдруг епископ, — что государство так обманывает своих граждан!
Ох-хо-хо, значит, и государство туда же? Война, стало быть, обоюдная. Ну конечно! Борьба идет по всем линиям, и каждый старается свалить тяжесть на другого, каждый умом раскидывает: как бы противной стороне побольше навредить.
— Вы изволили что-то сказать? — спросил епископ с язвительной улыбкой, услыхав мое невнятное бормотание.
— О нет, нет, я ничего…
Я действительно ничего не произнес, но до самой станции только о том и размышлял, что прежний, давний мир все-таки был искренней и лучше.
Тогда венгерский дворянин сам содержал своих обедневших родственников, и государство тоже само кормило своих лошадей.
Наиболее ярким представителем когорты обедневших родственников был у нас Фили Лендел. Помню, когда я был еще мальчонкой, мы так и звали его: «Дубль поляк».
Это был могучий красивый человек, которого природа наделила чудесной силой. Он с такой легкостью раскусывал серебряные монеты, с какой иной — кукурузные зерна, но, поскольку сребреники для этого номера водились у него редко, он к восторгу зрителей разгрызал старые постромки; и еще мог он своими ручищами остановить разъяренного быка: ухватит, бывало, за рога и скажет: «А ну, постой, непутевый!»
Для чего наградила природа этой огромной силой Фюлёпа Лендела — кто знает? Видимо, хотела зарыть ее, как иной раз человек зарывает свое сокровище в укромном местечке, где никто его не найдет… Фили никогда не работал и никогда ничего не подымал, кроме стакана за столом в доме, куда забредал в гости.
А не работал он, вероятно, потому, что ему не хотелось. И это, по-моему, тоже было предопределено самой природой. Захоти мать-природа, чтобы Фили работал, она привила бы ему тягу к труду. Но природа не хотела этого.
Глупые это рассуждения, будто каждого нужно обучить чему-либо и для чего-либо использовать. Разве же из каждого дерева, что растет в лесу, непременно надо выстрогать какое-то орудие?
Это стоит делать лишь из тех стволов, которые уже на корню просятся в дело. Ведь оно, дерево-то, нужно еще и для того, чтобы белочка по нему бегала вверх и вниз. Нужно хоть немного веток и на то, чтобы было где птичке свить гнездо, и на то, чтобы странник молодой котомку, а паучок паутинку свою мог повесить. Словом, всякие нужны деревья. И такое дерево должно быть в лесу, которое даже этой роли не играет. Существует — и все тут. Оно вырастет, будет шептать, шуршать, кланяться век-другой, затем труха его снова смешается с землей. Те силы и соки, что оно вытянуло из нее, возвратит собственным же распадающимся телом. И в конце концов все так получится, будто ничего и не было… И дерево не в убытке, и земля не в убытке.
Я никогда не судил строго бедного Фили. Тем не менее еще ребенком подметил какую-то странность его положения; помнится, я как-то спросил у матери, чем занимается дядя Фили.
Мать моя рассмеялась:
— Дядя Фили просто родственник.
— А это хорошая служба? — не унимался я.
— Как тебя, сынок, понимать?
— Ну, родственник — это какая служба: конная или пешая? (В моем представлении служба имела в то время лишь эти две разновидности.)
— Это зависит, сынок, от того, с кем он состоит в родстве.
— А с кем в родстве дядя Фили?
— Со множеством отличных фамилий: с Редеки, Ласли, Хеттеши, Хайду, Вайда, Лискаи.
— Но с королем-то небось не состоит?
— Оставь, дурачок, у нас и короля-то нет.
— А почему нет?
— Ты еще мал, тебе этого не понять!
Но я все цеплялся за эту тему, как щенок за кость.
— И с нами он тоже состоит в родстве?
— С нами нет.
— А почему нет?
— Потому что он в родстве с более знатными семьями.
— А как можно узнать, мама, которая семья знатней?
— По титулу, ну и по тому, как живут. Кроме того, звучание фамилии говорит о многом.
— Странно! Значит, знатность можно различить ухом?
— Не только. Есть еще и другие признаки. Отец Фили например, был королевским советником, мать — тоже знатная дама. Ты еще немало услышишь о них.
Я, действительно, немало слышал потом о советнике Михае Ленделе-Будетинском, который, будучи человеком бедным, арендовал имение как раз в Видолье у Хеттеши, отца моего друга Криштофа; там он жил-поживал на какую-то годовую ренту вместе со своей женой, дамой с изысканными манерами и пудреной прической, той самой, чья младшая сестра была фрейлиной при дворе герцога ангальтского.
Многочисленные родичи жили меж собой даже дружней обычного, так как совместно вели серьезную тяжбу против герцога Эстерхази из-за одного имения. Дал бы бог выиграть им дело!
У советника и его жены средства были в обрез, но пускать пыль в глаза они умели. Сородичи гордились ими и носили их на руках. Еще бы! Ведь это не кто-нибудь, а советник, имеющий, помимо всего, супругу, которая приходится родной сестрой придворной даме. Шутка сказать! Но, надо отдать справедливость, они тоже были привязаны к своим родственникам и без конца гостили у них. Так и кочевали от одних к другим, таская за собой и своего Фили. У них самих, в Видолье, родственники собирались отобедать лишь один раз в году: в день святого Михая. Зато в этот день семья советника устраивала пир на славу, и родне было о чем толковать потом. Кто да где сидел. Что было на первое, второе и третье — и так далее. Под каким соусом подавалось то или иное блюдо. Как были сложены салфетки.
По этому затем равнялась вся округа, это задавало тон. А распределение мест за столом! Сколько вызывало оно горечи и обид! Ибо место, полученное за столом у советника, имело большое значение. Если, например, госпожа Редеки сидела на одном из главных мест, то целый год она была законодательницей везде, куда бы ни являлась. Таким образом классификация, даваемая советником и его супругой, тотчас же принималась, и с нею все считались. Так что праздник святого Михая был днем чрезвычайно значительным, желанным, заманчивым и в то же время ужасным, ввиду полной неопределенности. Хорошо тому, кто сидел ближе к хозяйской чете, чем в прошлом году, но если кого-то отодвигали дальше — это означало крах для него. Весь комитат шептал ехидно, что семейство таких-то или таких-то пошло на понижение.
Вот почему после diner всегда вдоволь было обиженных и в изобилии начинали поступать жалобы, на которые бывший советник реагировал по определенному шаблону: быстренько собирался и вместе с женой, сыном и лакеем пускался в путь. В семье советника эти вылазки именовались «примирительными путешествиями», и даже оставшаяся стеречь дом челядь, если кто-то справлялся о господах, отвечала:
— Они в примирительном путешествии.
Суть же этих путешествий заключалась в том, что советник навещал родственников в порядке, обратном тому, в котором усаживал их за столом. Родственнику, сидевшему на самом дальнем конце стола, наносился первый визит и гостили у него дольше, чем у других, иногда недели по две-три, ибо на самую большую рану нужен самый большой пластырь, и количество времени, проведенного у оскорбившегося, отчасти выражало глубину нанесенной обиды, но главным образом свидетельствовало о благосклонности советника и его близких. Потом советник перекочевывал к другим родственникам, уже на более короткий срок, потом к следующим — и все в строжайшей очередности, ибо советник и его семья были очень добросердечные люди.
Примирительная поездка затягивалась чуть ли не от одного дня святого Михая до другого. На это не жалелось ни времени, ни трудов, ибо такова отзывчивость этих чувствительных душ. Увы, все было напрасно. Нанесенные самолюбию родичей раны все же полностью не исцелялись. Порядок, в котором сидели они за столом во время обеда в день святого Михая, как незыблемый закон давил на пострадавших, и сетования нет-нет да прорывались.
— Ах, да черт с ним, с этикетом! — не выдерживал его превосходительство. — Кому-то надо ведь сидеть и не на главном месте. Вот и вся причина. Легче, должно быть, изобрести «перпетуум мобиле», чем обеспечить всем место во главе стола.
Однако недовольство в семьях непрестанно росло, и атака одних родственников сменялась атакой других.
— Уж я ли не восстанавливаю согласие! — возмущенно бурчал советник.
— Что толку, ежели мерило для света — обед в день святого Михая.
— Ну, хорошо. Я займусь изучением этого вопроса.
Заручившись таким обещанием, потерпевшие сородичи на время успокаивались. Вот оно, магическое выражение, вошедшее в плоть и кровь советника еще со времен службы при высочайшей канцелярии. «Я займусь изучением этого вопроса». Ох, что за сила в этих словах! Это бальзам для венгров. Национальный кленодиум «Я займусь изучением этого вопроса». Наш господь Христос утолил голод тысячи человек несколькими вялеными уклейками и мизерным количеством хлеба, но то все же были рыба и хлеб, рыбу надо было поджарить, хлеб испечь, а слова: «Я займусь изучением этого вопроса» — они всегда наготове, ими-то у нас и удовлетворяют обычно нужды сотен тысяч людей.
Советник, по крайней мере, выполнял то, что обещал: он действительно стал «изучать вопрос» и пришел к выводу, что испанский этикет в данном случае неприменим, так как родственники-дворяне особых чинов и знаков отличия не имеют. Можно было бы, конечно, исходить из древности происхождения. Но каждый из них считает свой род настолько древним, что предки его теряются в хаосе времен. Взять хотя бы почтенного Ференца Ласли — ведь он утверждает, что один его прадед носил сапоги из кожи коня Калигулы и не мог их сносить, наверное, целых двадцать лет. Бывший советник пытался подразделять родственников по возрасту, но ведь это глупо. Лишь достоинства вин определяются возрастом. И так он ломал свою хитроумную голову до тех пор, пока ему наконец удалось выработать один целесообразный метод, который он aperte[19] изложил родичам.
— В связи с тем, что вы, мои дорогие родственники, соперничаете, кому где сидеть у меня за столом, и все метите во главу стола, обижаясь друг на друга и на меня самого, я решил отныне поступать иначе. Ибо слыханное ли дело, чтобы знатные лица и целые семьи обижались, когда этого можно избежать! Решение этого вопроса я предоставлю теперь немыслящим существам. В дальнейшем будет определяться их вес, а не ваш. Исходя из этого, отныне за моим столом в день святого Михая на главное место сядет тот, кто в течение года пришлет мне самую грузную свинью. Аминь.
Но этим он только еще глубже всадил занозу лихорадочного тщеславия в пятки родственников. Состязание поначалу развивалось мирно, но, как и следовало ожидать, недолго продержалось в этом тихом русле. Семья Хеттеши прислала пока что только одного молочного поросенка; взвесив его, советник отослал расписку с обозначением веса поросенка. Фили же занес эту цифру в книгу поступления «немыслящих существ» (кстати, это был его единственный труд за всю жизнь). Семья Хайду пригнала во двор Ленделов уже солидного подсвинка, Ласли — хряка, а семейство Вайда — откормленную мангалицу; таким образом, в очередной день святого Михая, когда гости впервые были рассажены соответственно новой методе, первое место досталось тетке Вайда, а это, если учесть, что она происходила из семьи богатых будайских мыловаров и третировалась всеми как парвеню, произвело ошеломляющее впечатление на всех родственников.
Однако советник на жалобы и колкие замечания лишь улыбался да пожимал плечами.
— Ничего не поделаешь, мои любезные, я взвесил на весах, а вес есть вес. Весы — штука бессловесная, беседовать с ними может разве что свиная туша. Туша говорит за себя, а весы лишь толкуют по-своему ее разговор.
Уяснив, что последнее слово теперь за свиньями, представители рода рьяно принялись разводить коренастые, с крупным костяком породы, которые способны быстро набирать мясо и сало. Особенно умело подыскивали «фундамент» для откорма господа Редеки и Лискаи и, поскольку на самом деле говорить за них предстояло кабанам, одного назвали Цицероном, другого — Демосфеном. Всеми уважаемый Редеки предназначенную для Цицерона кукурузу велел отваривать на молоке (получится чудо, вот посмотрите!), а госпожа Лискаи каждый божий день в течение двух часов заставляла служанок почесывать спину и лопатки Демосфену, что явно доставляло последнему удовольствие — уж он-то непременно должен отблагодарить хозяев прибавлением в весе, если у него есть хоть капля совести!
Черт побери, дуэль на свиньях! Такого еще не видел свет. Добрая половина комитата лихорадочно ждала исхода; из уст в уста передавались сводки о состоянии здоровья именитых свиней, и повсюду заключались пари, какая же из них перетянет.
Пока Цицерон и Демосфен, как и предписано природой, хорошо набирали и вес и славу, вдруг — sic transit gloria mundi[20] — журнал «Современность» написал в несколько строк весть о том, что в Дебрецене некий колбасник по имени Матяш Буйдошо выкормил свинью в четыре с половиной центнера и уже показывает ее за деньги в загончике на улице Петерфиа. Со времен побега Наполеона с острова Эльбы в этих краях не слыхивали такой сенсационной вести. Свинья весом в четыре с половиной центнера! Да это же превосходит знаменитую английскую Мурфи, которую лондонские колбасники зарезали по случаю коронования прекрасной Виктории.
…Представляю, как блестели глаза тетушек! Зато лоб Редеки собрался в складки, он решил приобрести ту свинью. Он тут же снарядился в путь под предлогом, будто болен и едет в Пешт к знаменитому врачу Штали. Сам же, поднявшись среди ночи, покатил прямехонько в Дебрецен и, если не считать привалов для кормления лошадей, нигде не останавливался до самой гостиницы «Бык», точнее ее ресторана. Зато уж здесь он остановился как вкопанный, застыв на пороге при виде открывшейся ему картины.
Вокруг большого круглого стола сидели Янош Лискаи, Пал Вайда, Дёрдь Хайду, Ференц Ласли, Петер Хеттеши, Мартон Лендел — словом, все «оставшиеся дома» благородные родственники, — и с азартом играли в карты.
Он тотчас же разобрался в ситуации… Ясное дело, все они явились сюда поодиночке, чтобы купить кабана-голиафа, но, наткнувшись друг на друга, испугались последствий. Ведь этак можно безумно взвинтить цену — и вся прибыль исчезнет в кармане колбасника. Тогда они присели вокруг стола и стали держать семейный совет, на котором (господин Габор Редеки словно собственными ушами слышал все это!) обсудили все доводы. «Господа, уважаемые родственники! Поскольку свинья одна, из этого логически следует, что приобрести ее может лишь один из нас, остальные, в лучшем случае, могут только набить цену. Самое разумное, значит, если те деньги, которые ушли бы на бессмысленное наращивание цены, останутся в семье (ибо, как бы там ни было, приверженность семье превыше всего!). Исходя из этого представляется единственно разумный modus vivendi[21]: положась на фатум, мы сядем за карты с привезенными из дому деньгами, и каждый, кто проигрался, уедет домой; так понемногу отбудут все, кроме одного счастливца, который затем вдвоем (то есть со свиньей) сможет засвидетельствовать по пути домой свое почтение семье советника».
Редеки со смехом приблизился к круглому столу:
— Сдавайте и мне, господа!
…Я бы мог продолжить описание сей необыкновенной свиной битвы, которая тянулась еще много лет, но не стану этого делать. Ведь она мне нужна была всего лишь как доказательство того, что дядя Фили Лендел с самого раннего детства рос на такой вот свининке. Вот и набрался силенок.
Смерть родителей, в сущности, мало принесла ему перемен. Родственники остались, и свиньи тоже. Однако для родственников с этим кое-что переменилось, так как кончились обеды в день святого Михая. И для свиней переменилось — так как они теперь уже жили, дома и дома же кончали свое существование.
Старый советник не оставил после себя никакого наследства; умирая, он погладил сына по голове и сказал:
— Оставляю тебе замечательных родственников, Фили. Будь предан им.
И Фили в самом деле унаследовал эту преданность. Он ходил и ездил от одной семьи к другой, и родственники ему никогда не надоедали. Годы шли за годами, но он оставался неизменным. Ни хитроумия отца, ни его высокого положения в свете Фили не досталось; он не катался как сыр в масле, да и не претендовал на это. Он был ведь всего-навсего Фили, Фили, принадлежавший всем, и ему больше всего нравилось оставаться вовсе не замеченным. Он считал себя совсем мизерным человеком, и в этом было что-то трогательное. Он уступал дорогу собаке хозяина, у которого гостил, и не смел согнать кошку, если она садилась к нему на колени. Кроме того, Фили целый день был чем-то занят: он резал табак и клал в него морковку, чтобы тот не высыхал, годами держал мотки ниток, которые тетки сматывали в клубки, годами забавлял подрастающих детей моей младшей сестры, изготовляя мельницы, движимые майскими жуками, строгал своим перочинным ножиком перья, клеймил на пастбище овец, спускался в погреб за вином, кормил канареек коноплей, за обедом вытаскивал пробки из бутылок, — однако для чего-либо более значительного он не годился. Даже на охоту не ходил. Еще чего, таскать ружье, этакую тяжесть!
Он был наделен мягким отзывчивым сердцем, и это сразу же было заметно по его кроткому лицу и мечтательным глазам. Его очень легко было бы обидеть, но кому могло прийти в голову обижать бедного Фили?
Корчить неприятные мины при госте, ранить его стрелами колких замечаний не было тогда в обычае. Помилуйте, какой позор! Ведь гость, чего доброго, подумает, будто хозяевам жаль каких-то крох со своего стола! Боже избави!
Другое дело за его спиной, — тут критики было вдоволь:
— Что он, этот несчастный Фили, думает о жизни? Неужели так и собирается век прожить? Как же ему не стыдно, ведь, того и гляди, состарится, а ни кола у него, ни двора! А какой у него был замечательный отец! Как же это Фили ничего не предпримет? Взял бы да женился на какой-нибудь старой карге, у которой сундуки набиты. Вдов кругом хоть отбавляй. Он ведь хорош собой, добродушный и не дурак какой-нибудь, а все вот без толку!
Какая-то из дам — это была, кажется, красавица Лискаи — не утерпела и вмешалась, когда, собравшись однажды, родственники снова взялись за свои пересуды.
— Что же вы не скажете ему самому? Вы ведь, свояк Редеки, достаточно умный человек, поговорите с ним. Может, добьетесь чего?
— Знаю, душенька, что я достаточно умный человек, но вот беда: я недостаточно смел для того, чтобы сказать правду именно Фили.
— Вы не смелый? Вы?! Тот, кто убил шесть медведей на своем веку?!
— То другое дело, голубушка, то были всего-навсего медведи, которые тоже могли бы убить меня!
Все рассмеялись, и смех развеял тучку, что собралась над головой Фили.
Да что там, и тучки-то никакой не было. Одни разговоры пустые. Сказать Фили подобное? С ума сойти! Богатому-то родственнику все выскажешь, его даже, коли уж на то пошло, и из дому выгнать можно, он в тебе не нуждается, он отпарирует, отомстит тебе в конце концов. Бедный же родственник полностью застрахован. Его обидеть неприлично. Чужой может высказать ему все, но родственник!..
Вот так оно и велось прежде, и это было хорошо. Прежние люди держались с бедными родственниками и беременными женщинами очень обходительно. Во втором случае потому, что речь шла о человеке, имевшем больше других (дитя под сердцем), а в первом — меньше других (котомку нищего под мышкой).
Итак, Фили жил своей привычной жизнью и, когда ему надоедало в одном месте, перебирался в другое. Всюду находилось для него что-то манящее, привлекательное. В Кепчене, у Кароя Лендела, — великолепный кегельбан; в Уйфалу, в семействе Вайда, тетушка Агнеш превосходно готовила капусту: ряд ушей положит, потом ряд пятачков, ряд жирненького, ряд капустки… а ее оладьи и пышки! Пробуя их, Фили всякий раз неизменно восклицал: «Франц Иосиф, ты едал, но такого не едал!» В Коронте, у Чапо, своя бесподобная абрикосовая водка и премилая отдельная комната для Фили окнами в сад. Во время цветения сирени его так и влечет сюда инстинктом бродяги. В Видолье у Хеттешей (ибо они живут теперь в его родном доме) с великим нетерпением ждет дядю Фили многочисленная детвора. С нею он любит играть в кампу, мету, дуплекс. В Жае, в конце сада Ласли, — ручей, где водится форель. Фили знал от пастухов, что ее можно накормить дурманом: когда она сомлеет, ее хоть голыми руками бери. А там совсем близко до Саланца, где живут Лискаи, только Фили с некоторых пор туда не ходит. А ведь какая красавица заправляет тем домом! Ее золотые волосы — вот где дурман, от них и в самом деле сомлеть можно… Но все же Фили там больше не гостит…
Поговаривают, будто красавица Лискаи чем-то его обидела.
А ведь только всего и было, что в Уйфалу у Вайды собралась как-то веселая компания, где каждому пришлось рассказать историю своей жизни.
Стали уговаривать и Фили.
— У меня нет истории жизни. Собственно, все, что со мной происходило, по сути дела, происходило с моими родственниками.
Это было такое грустное признание, такая мрачная картина — но он смеялся, говоря это!
— Разве же у вас никогда не было никакого романа? — не унимались женщины.
Фили пожал плечами; тогда он был еще мужчина хоть куда.
— А к чему мне это?
— Брось ты, не может быть, чтобы у тебя никогда не было никакой любовной связи, — наступали на него мужчины.
— Что вы, откуда?
— Ох, Фили, разбойник ты эдакий! А ну-ка поклянись!
— Да честное слово, никогда никто мной не интересовался, — произнес Фили торжественно. И даже поднял в знак клятвы два пальца.
А ведь честное слово Фили было не хуже честного слова Ланселота. Любезный читатель помнит, наверно, этого рыцаря из бретонских сказаний.
Потом танцевали. Фили держал костяной веер одной из барышень Редеки, пока та кружилась в паре, и вот мимо него промелькнула госпожа Лискаи. На ней было платье яблоневого цвета, и в ее черных глазах горело по звезде.
— Чей это веер? — небрежно бросила она Фили (будто ее интересовала всего лишь эта вещица с красивой резьбой).
— Семейные костяшки, — ответил Фили равнодушно. Она игриво погрозила ему:
— Фили, ты за кем-то ухаживаешь!
— Разве ты не слыхала моей клятвы?
— Ну так то была ложная клятва, мошенник, — бросила госпожа Лискаи, вызывающе покачивая над бедрами осиной своей талией.
— Ты так думаешь? — спросил Фили, все еще принимая ее слова за шутку.
— Я знаю, — ответила она и стыдливо опустила голову.
И тотчас исчезла, растаяла, развеялась, как дым, в море платьев и людских голов.
У Фили кровь бросилась в лицо, какое-то странное чувство вдруг овладело им и погнало следом за красавицей Лискаи.
Он до тех пор не мог успокоиться, пока не набрел на нее в столовой, где она как раз допивала бокал шампанского, от которого на ее щеках вдруг расцвели тысячи красных роз.
— Маришка, ты так и не сказала мне, кого имеешь в виду. Она засмеялась. Ох, эти красивые белые зубы!
— Не сказала, кому ты приглянулся, да? Вот видишь, тебе все-таки интересно узнать! Оказывается, ты не такой уж и святой, каким представляешься. Я только это и хотела узнать, ходячая ты добродетель.
— Да скажи же ты! Не наводи тень на ясный день!
— Уж так и быть, закроешь глаза, и я скажу тебе на ухо. Фили закрыл глаза, как ему велели, затем его пощекотал сладкий голос, какой-то все перекрывающий призыв, заполнивший своим гулом все его существо.
— То была я, Фили. Теперь-то уже все позади. Я жена другого. Потому что ты был великим разиней.
Все тело Фили сомлело, кровь бешено мчалась в жилах, но когда он открыл глаза — в столовой никого уже не было, кроме лакея, вставлявшего новые свечи в подсвечники. А красавица Лискаи исчезла.
Так вышло, что и у Фили появилась своя, хоть и небольшая, но все же история, — впрочем, и та лишь недолгое время тревожила его душу, а потом стала меркнуть, обесцвечиваться; вскоре он даже стал подумывать, что ничего этого с ним не случалось, просто он был пьян и, должно быть, выиграл у сатаны в карты этот сон.
Но с того самого дня он не смел больше появляться в Саланце — а ведь как его влекло туда!
Лискаи сердился на него за это. Чем он ниже других в роду, что Фили избегает его дом?
Да и сама госпожа Лискаи тоже журила Фили, когда встречала где-нибудь у родственников.
— Ох, Фили, попадет тебе от меня, если к нам не придешь.
Фили смущался, краснел, лепетал что-то в свое оправдание, но Саланц по-прежнему обходил. Он инстинктивно чувствовал, что родственная любовь — это хлебная крошка, любовь же — бочка меду, и что крошка в бочку попадать не должна, а то и крошка пропадет, и мед скиснет.
Однако своим поведением он дал повод для толков. Почему это он сердится? На кого обиделся? Оказывается, и Фили умеет нос воротить! Ишь, вы только поглядите на него!
Но, осудив, его тут же оправдывали. Пустяки. Ну, закапризничал раз в жизни. Он ведь и капризов-то никогда не имел, бедняга.
А ведь были и у него капризы, свои коньки были. Кто-то радуется: «У меня четыре дома в Пеште!» Другой хвастает: «У меня двадцать дойных коров!» А Фили посчитает-посчитает, да и скажет: «У меня сто четырнадцать родственников!» И лица у всех троих одинаково сияют от удовольствия.
Десять, пятнадцать поместий — вот дом Фили; какой-нибудь немецкий владетельный князь разве что рубашки свои мог менять так часто, как Фили — место жительства, поваров, погреба и все окружение. Таким образом Фили, по существу, являлся истым вельможей — он был беден лишь теоретически.
Но если ему надоедали иногда люди и он покидал их, то случалось и обратное, когда людям надоедал он. И не раз случалось. Ведь люди и прежде не были совершенны. Я не прикрашиваю их. Им надоедали их жены, иногда, пожалуй, даже голубцы — удивительно ли, что порой надоедал им и их поляк?
Бывало, конечно, что они искусственным образом избавлялись от него. Но в те времена и для этого существовала вполне деликатная форма.
— Ах, вот, кстати, братец Фили! — скажет вдруг Редеки. — Не прогуляться ли тебе завтра, коли у тебя нет другой программы, в Жаю? А я бы передал с тобой письмо сестрице моей, госпоже Ласли, — важное, понимаешь, письмецо, так что я не решаюсь поручить это кому попало.
Фили опытен в вопросах родственнологии и тотчас же улавливает, откуда ветер дует.
— Вот хорошо! Я ведь давно не видел семью Ласли.
— А когда ты думаешь вернуться? — спрашивает хозяин, чтобы подсластить пилюлю.
— Вернуться? — прощупывает почву Фили.
— Да это как тебе будет угодно. Но если случится, что ты сейчас застрянешь там, не забудь осенью принести от них цветочных семян моей жене.
И вот Фили собирается в путь к другому родственнику, словно вексель, пошедший в обращение, и не было случая, чтобы хоть один сказал ему: «Не приму». Каждый оставлял его у себя, затем, в свой черед, переправлял другому лицу в надежде, что Фили вернется позднее, освеженный, новый, желанный, со множеством новостей и сплетен.
Так он жил и никогда не думал, что мог бы жить иначе. Годы бесшумно проплыли над ним, юность ему изменила (но Фили это не было больно, ведь юность — не родственница), в волосах появилась седина (первое принадлежавшее Фила серебро), все меньше оставалось тех, кто звал его просто по имени, для большинства родственников он стал уже дядей Фили.
Из родственников многие поумирали, но и это не смущало его, так как рождались и подрастали новые, которые заставали его тут, как давнишние ходики, тикавшие еще их отцам. Ценность Фили, как принадлежности семьи, все возрастала. И ежели так пошло бы и дальше, то Фили стал бы чем-то вроде семейной реликвии.
Но дальше так не пошло. Последовали кое-какие испытания и соблазны. В Саланце умер Лискаи, и, когда на похоронах собралась вся фамилия, вдова после поминок обратилась к родственникам с просьбой, чтобы кто-нибудь остался в ее доме, пока жизнь войдет в новую колею, не то прислуга даже крышу растащит над ее головой и оставит сирот без крова, почуяв, что нет мужчины в доме.
— Что ж, тут, пожалуй, Фили подойдет, — предложили старшие представители рода. — Ему все равно делать нечего.
Хозяйка молча кивнула, соглашаясь. Фили покраснел как кумач и попытался отговориться.
— От меня Маришке толку будет мало. (Супруга Лискаи в девичестве звалась Марией Тот.)
— Иди ты к черту! — гаркнул на него Криштоф Хеттеши, который в то время был молодым человеком. — Неужто ты не стоишь даже того пугала, что в огороде?
И Фили остался. Сначала ему было непривычно, он не решался заговаривать с хозяйкой, и в нем возникали странные беспокоящие ощущения. Он страшился наступления чего-то значительного. Теперь он частенько бывал недоволен собой и ночи напролет размышлял о своей жизни. А днем дурачился вместе с детьми, они лезли к нему на колени, на спину, дергали за бороду, запрягали в игрушечную коляску и гоняли по комнатам, как старую лошадь.
Фили всем своим существом принадлежал детям, и они были от него без ума. Он исполнял их прихоти. Конечно, только те, что мог исполнить, ибо маленькие деспоты чего-чего только не выдумают!
— Дядя Фили, опрокиньте стол!
Фили опрокидывал стол. Им нравилось, когда ножки стола глядели кверху.
— Опрокиньте блюдо!
Фили опрокидывал блюдо, и сочная черешня рассыпалась во все стороны. А ну, хватайте!.. Кто ловчее? Мать сердилась, журила их.
— Опрокиньте, дядя Фили, теперь и маму!
— Тихо, маленькие проказники. Не видите разве, какая мама грустная?
В самом деле, мать бывала теперь молчалива, иной раз за день и словом не перемолвится с Фили, разве только попросит присмотреть тут или там по хозяйству. Равнодушная, безучастная ко всему, влачила она обузу уходящих чередой дней. Часто плакала тайком ото всех. Ну, да ничего, отойдет потом, станет разговорчивей, на ней ведь еще так нова черная юбка.
Фили между тем совсем прижился в Саланце. Ему казалось, будто весь мир вокруг него изменился, да и солнце светит не переставая. Чувство было такое, что непременно должно произойти что-то значительное. Это значительное витало в воздухе. И сама природа готовилась к чему-то, о чем нашептывала листва в парке, чем дышали цветы, о чем щебетали птицы; даже кошка и та чуяла что-то, иначе с чего бы она то и дело поглядывала испытующе своими желтыми глазами то на Фили, то на грустную хозяйку.
Однако шли недели, месяцы, а печаль молодой вдовы все не таяла, Маришка по-прежнему была холодна и безразлична.
Фили начинал терять терпение. То значительное не хотело произойти. Госпожа Лискаи словно застыла. А ведь она еще хороша, эх, и как еще хороша! Фили теперь уже не боялся наступления того значительного — напротив, он понял вдруг, что ждет его. Пусть оно не сразу явится во всем своем величии (ведь не всякий может и выдержать сразу такое), — но пусть проявится хоть частица его, крошечный побег, предвестник цветения.
Однако сносилось уже и второе черное платье, а побега все не было.
Зато вместо этого явился на троицу сын местного реформатского священника, преподобного Шамуэла Фекете, инженер, строивший какую-то железную дорогу в Силезии. Это был красивый статный молодой человек; по-видимому, давнишний завсегдатай в доме Лискаи, он то и дело наведывался теперь в замок, и ему удалось даже чуть рассеять вдовушку. Он умел остроумно поболтать, как-то раз даже рассмешил Маришку, — а Фили это еще и обрадовало.
— Значит, не совсем застыла, — сообщил он с ликованием нотариусу, которого встретил в июле.
— Змея отходчива, — заметил нотариус.
Меж тем за стенами замка происходили большие дела. Имей представители почтенного дворянского рода фанфары, теперь самое время было бы трубить в них на радостях. Великая тяжба, затеянная семейством против Эстерхази еще при жизни и при поддержке советника, была выиграна, и верховный суд присудил семейству Холянскую пустошь в шесть тысяч хольдов где-то у черта на куличках, в комитате Угоча.
У старого, всеми уважаемого Габора Редеки собрался великий семейный совет, чтобы решить судьбу доставшегося вдруг семье имения.
Некоторые ратовали за его раздел, иные советовали продать, но большинство упивалось видениями будущего величия и сияния семейства. Да будет имение сохранено как общее достояние всего рода! Пусть кто-нибудь из членов семьи возьмется хозяйствовать в нем и, удержав мзду за свои труды, ежегодно будет делить доходы между родственниками, сообразно праву наследования каждого.
Это было принято преобладающим большинством. Теперь вопрос состоял в том, кому ехать туда вести хозяйство.
Слово взял почтенный Пал Вайда.
— Я предлагаю Фюлёпа Лендела. Его отец дал нашему иску должное направление, так что и о благодарности подумать следует; к тому же наш родственник Фили нуждается в этом всех больше: да будет и он на старости лет владельцем имения!
Возражать никто не стал. Правильно, пусть так и будет, Фили как раз подходит. А ведь все знали, что нет, не подходит, знали, что будет он плохим хозяином. Но — пусть и Фили поживет немного господином!
И, как подобает в таких чрезвычайных случаях, господа Редеки, Вайда и еще кто-то третий — я уже не припомню, кто именно, — тотчас же сели в экипаж и торжественно повезли в Саланц документ на право распоряжения имением. Даже ленты не забыли вплести в гривы лошадей.
Когда поздно вечером их коляска въехала на саланцкий двор, хозяйка уже ушла к себе, и гостей встречал только Фили.
— А, добро пожаловать, добро пожаловать!
Седой Редеки, сорвав с себя шляпу, встал перед Фили навытяжку и с веселым пафосом, точно оратор, начал:
— Мы ищем почтенного, благородного, полновластного наместника Холянского владения.
— К сожалению, такого здесь нет.
— Вот именно он тут, — настаивал Пал Вайда.
— Мы, по крайней мере, его не знаем, — ответил Фили серьезно.
— Его зовут Фюлёпом Ленделом-Будетинским.
Для Фили было непривычным слышать свое полное имя, он улыбнулся рассеянно, будто гадая, в чем соль этой шутки.
До сих пор удивлялся один Фили; но когда, уже в комнате, ему подробно рассказали о выпавшем на его долю великом счастье, и он, вместо того, чтобы броситься вестникам счастья на грудь, вдруг побледнел, и физиономия его словно увяла — тут настал черед удивляться гостям.
— За что же вы это? — сказал он испуганно. — Я ведь вам ничего худого не сделал. За какие грехи вы решили избавиться от меня?
Он говорил так искренне, что камень и тот пожалел бы его, только родственники не оценили этого.
— Да ты с ума сошел, Фили? — журил его Редеки. — Мы вознесли тебя превыше всех других членов нашего рода, а ты теперь говоришь не надо.
— Нельзя этого… — глухо, с горечью вырвалось у Фили. — Моя душа возмущается при мысли, что вы отринете меня, что я останусь один, без вас!
— Да мы к тебе приедем, — подбадривали они его. — Ты погоди немного. У тебя всегда будет гостить хоть парочка своих.
— Но ведь к этому-то мне никогда и не привыкнуть, ведь до сих пор всегда я гостил у вас. Мне будет казаться, что я уже умер, что я уже не тот человек. Оставьте вы меня, прошу вас, в моей прежней шкуре.
Он приводил тысячи и тысячи доводов, но родственники наступали, неизменно оказываясь сильней его; они отражали его доводы один за другим и, поставив в безвыходное положение, победили его. Фили наконец сдался, хотя лицо его дышало бесконечной тоской, и он все еще хватался за какие-то соломинки.
— Нет, нет, это невозможно, — простонал он, вдруг, — если как следует подумать…
— Вот так раз! Что тебе опять на ум взбрело?
— А то, что меня и госпожа Лискаи не отпустит. Не думаю я, что она согласится на мой отъезд.
— А почему бы и нет? — рявкнул Редеки, как сердитый медведь, и весь затрясся от гнева.
Фили покраснел, раздумывая, что бы ответить, и наконец, передернув плечами, с трудом произнес:
— Потому…
— Добро, я ее утром спрошу об этом.
— Мне кажется, я ей нужен… ну… в хозяйстве да и при детях.
— Но не можешь же ты до самой смерти быть нянькой, черт подери!
Фили всю ночь не спал, тревожно метался в своей кровати, как узник в тюрьме в последнюю ночь перед казнью. Вся надежда была на взмах белого платочка. На вето Марии Лискаи.
Утром, одевшись, он застал своих родичей с трубками на просторной террасе.
— Маришка уже встала?
— Да, — ответил Редеки, — я рассказал ей все, как есть, сказал, что ты наш pleni potenciarius[22].
— И что она ответила? — спросил Фили тихо, глухим голосом.
Вся его кровь ринулась ему к сердцу, и оно заколотилось с бешеной скоростью — так крутилось бы, вероятно, только мельничное колесо, вращаемое морскими валами.
— Сказала, что детям будет жалко тебя.
— Да? — пролепетал Фили. — Так и сказала?
И он начал что-то насвистывать, хотя был при этом бледен как полотно. Потом вдруг вскочил с места я стал ходить по террасе. У чердачной лестницы лежал старый пес. Фили так пнул его ногой, что бедное животное взвизгнуло и еще долго потом скулило.
— Может, мы тебя сразу же и заберем с собой, а? — предложил господин Вайда.
— Нет, нет, оставьте меня тут еще на денек-два. Голова у меня страшно болит, — он схватился за виски, — я должен еще немного отдохнуть.
Родственники улыбнулись, подумав о том, что Фили вот уже сорок пять лет отдыхает, а все еще просит добавки — хоть два дня. Но именно этим он так мил и трогателен, этот Фили. Не будь он таким, не был бы он Фили. Договорились, что через день пришлют за ним коляску, потом попрощались с красивой, грустной хозяйкой, расцеловав ее в обе щеки, и уехали домой.
А Фили, когда они остались одни, не произнес ни слова.
— Значит, уходишь? — спросила она безразлично.
— Да, — ответил он коротко.
Но в душе его что-то кипело. В голове боролись мысли. Он окунал свое сердце в игру собственного воображения: хлебнет оно горечи раз-другой, потом вдруг так и замлеет от дурманящей мечты… Может быть, она просто горда? Может, он сам должен был заговорить о прошлом, напомнить о том вечере?
За обедом поговорить не удалось — рядом сидели гувернер и дети. Беседовали об общих делах.
А после обеда хозяйка взяла корзинку с вязанием и пошла в парк. Там был похоронен ее муж. Должно быть, ходит туда молиться да плакать и, между прочим, вязать чулки, ибо нет на свете такого траура, ради которого мужчина забросил бы свою трубку, а женщина — спицы.
Фили выждал час — пускай отмолится, — затем тоже пошел в парк. Он и сам дивился собственной храбрости. Толкнул створки садовой калитки, и они жутко заскрежетали.
Он шел по усыпанным гравием дорожкам, среди шепчущихся лип, и в голове у него гудело, гудел и воздух от тысячи насекомых. Мошки, кружась, гонялись друг за другом, муха, звеня, билась в паутине. Бабочки трепетали на цветах и тянули из них мед… Все живое резвилось и радовалось, только Фили был печален, будто шел на эшафот.
Наконец в одной из беседок он услыхал разговор и направился туда. Может быть, хозяйка говорит с садовником?
Оттуда, куда он зашел, не было тропинки к беседке, и он, перескочив через грядку с петрушкой, пробрался сквозь заросли боярышника и остановился прямо у входа в беседку.
И что же? Там сидели вдова и молодой инженер.
Рука инженера обвила прекрасную тонкую талию, обтянутую черной тканью. Да ведь это уже третье черное платье!
Молодой инженер быстро отдернул руку, лицо женщины вспыхнуло огнем, глаза — молниями.
— Что тебе здесь надо, Фили? — воскликнула она испуганно и зло.
— Я хотел с тобой поговорить, — сказал Фили кротко, горько, покорно, потупив взор.
— В другой раз, Фили, милый, — сказала вдова, успокаиваясь и уже любезно. — А теперь ступай, прошу тебя, только что снялся и улетел куда-то самый большой наш пчелиный рой… может быть, к соседям залетел, а может, куда-нибудь в лес, кто знает… бывает ведь, эти глупышки улетают очень далеко. Займись, пожалуйста, ими, сделай это для меня, возврати пчелок!
Фили грустно опустил голову, повернулся и без слов ушел неслышными неверными шагами. Он пересек парк, затем вброд перешел речушку Бокйо и направился к лесу.
Уже вечерело, а он все не возвращался. Дети спрашивали о нем, а мать их успокаивала:
— Дядя Фили ищет рой, душеньки мои.
Он и вечером не пришел, и ночь не ночевал. Все ищет рой! Да что он, с ума, что ли, сошел, этот Фили? Собиравшие хворост старухи, искавшие птичьи гнезда мальчишки видели, как он блуждал по лесу, говорили, что был он очень грустный и просто брел куда глаза глядят, словно что-то разыскивая.
Так он никогда, никогда больше и не вернулся ни в Саланц, ни в другие места, исчез навсегда, и ни одна живая душа ничего о нем с тех пор не слыхала. Никто его никогда больше не видел. Разве пугливым путникам мерещится еще на дорогах странная фигура. А то покажется, будто тень промелькнула совсем близко. И они рассказывают затем в наших селах, что видели скорей всего беднягу Фили Лендела, который и поныне ищет пчел красавицы Марии Лискаи.
Но это маловероятно, ибо Фили теперь уже было бы, по меньшей мере, сто лет.
1902
МЯСО У ТООТОВ ПРОДАЕТСЯ НА ГЛАЗОК
Перевод И. Миронец
У животных интересы тоже различны, так что к ним нельзя подступаться с одной меркой. Даже истина, к которой все приходят благодаря собственному опыту, у каждого своя. Муравей, например, считает хищным зверем соловья, а тигра — безобидным шалопаем. Лошади хотелось бы — коли уж на то пошло — стать собственностью какого-нибудь знатного вельможи, потому что там бы ее щадили, чистили, кормили овсом, накрывали попоной, корова же, наоборот, считает за счастье попасть к бедняку: ибо там она на положении члена семьи, ее холят, кормят свежим клевером, картофелем и берегут как зеницу ока. Только свинье все равно, участь ее везде одна: зарежут и съедят. Путь свиньи короток, тосклив и безысходен.
Но сейчас речь пойдет всего лишь об одной корове, о Барыне, которая принадлежит бедному крестьянину и которая дает восемь литров молока в день. Немного, конечно, но от нее и это радость: породы она простой, венгерской, криворогая, с белой шерстью, вся из бугров и ям, словом, кожа да кости. Предки Барыни никогда не паслись на Зимментале, не знали, что такое альпийские травы, и вообще происхождения она низкого: крестьянская корова.
Палоцы * относятся к корове почтительно, не пашут на ней, как штирийцы, они галантны и уважают в корове слабый пол. Корова дает молоко, корова приносит телят — нельзя ее загонять. Палоц еще и благодарен ей, величает корову Барыней, выражая тем свое к ней уважение. Прочим же животным прозвищ не дается — «ну-у, ты» или «брысь», или «эй ты, ни рыба ни мясо», «пшла», — только корове положен титул: Барыня. Так вот, попала Барыня к Ференцу Тооту, что шил в верхнем конце деревни. Это была бедная крестьянская семья, и коровенку здесь любили. По утрам, выгоняя Барыню, хозяин ласково хлопал ее по лопаткам, а вечером, когда она возвращалась со стадом домой с луга, хозяйка встречала ее каким-нибудь лакомством и при этом журила своих шалунов, швырявших в корову комьями земли:
— Побойтесь бога, кого это вы бить надумали: свою благодетельницу? Вот отсохнут у тебя, Мишка, руки, негодник ты эдакий, тогда узнаешь.
Дети, они что понимают? Эка невидаль, молоко! Они думают, глупышки, что мать черпает его откуда-то из канавы у дома Половских. Гораздо интереснее, если Барыня потрется порой боком о тутовое дерево да тряхнет его, так что на землю посыплются спелые черные ягоды. Тогда Барыня — дорогая подружка.
Но даже в глазах ребятишек выросла Барыня после того, как в одно прекрасное утро принесла пеструю телочку. Телка была очень славная, с такими умными глазами, прямо как у каноника. Во лбу — звездочка, по бокам вразброс розовые пятна. Детворе она понравилась. С этого дня Барыня осталась с телкой в хлеву, и туда началось настоящее паломничество. Один за другим шли родственники, соседи — поглядеть на телочку. Поплевывали, по суеверному обычаю, чтобы не сглазить, говорили: «Расти большая», — или предсказывали, какая из нее выйдет прекрасная корова, жаль-де отдавать мяснику.
— Мяснику? — дивились ребятишки. — А зачем она мяснику? Ведь у мясника нет вымени, чтобы кормить ее молочком.
— Ох, вы мои касатики, не для того нужна она мяснику, а чтобы большущим ножищем — чик! — перерезать теленочку глотку.
Дети, конечно, в слезы. Гадкий мясник! Неужели ему не жалко было бы?
Уж отец и так и эдак их уговаривал, успокаивал.
— Да ничего не будет, ничего, — твердил он день за днем. — Не отдадим мы телку, вырастим — коровой будет. А вот когда маленькая Ката подрастет и придет пора отдавать ее, тогда она получит в приданое эту самую нашу коровушку.
Теперь уже малыши, братишки-сестренки, горевали о том, что придет когда-то пора отдавать Кату и мясник сделает ей «чик» своим большущим ножищем.
Тем временем скотинка росла себе, подрастала. Хозяева — «тятенька с маменькой» — имели на нее большие виды. Еще немного — и две коровы у них будет, много молока, много мяса, много творогу. Все это в их руках превратится в деньги. Из тех денег купят маленькому Пали шитый блестящими пуговками жилет, Мишка получит нарядный сюр, а Ката — большой шелковый платок. И все эти мечты строились на телке. Вот и стала она в семье важной персоной. Ребятишки, что ни день, проведывали ее: насколько она выросла, — и каждый видел в ней близкое исполнение своих желаний. А ведь телочку можно было любить и просто так, она того стоила.
Телка, конечно, ничего этого не знала, жила себе и цвела. Сосала, спала, осматривалась. Глазела на лошадей за перегородкой. Старая Барыня весело пожевывала клевер. Должно быть, это хорошо, когда малыш путается под ногами, то стукнется о колени, то уткнется в живот и приятно щекочет, грызет вымя, хвостом ударяя мать по ляжкам.
Но однажды утром хозяйка вышла из хлева и сообщила, что телка не хочет сосать: все молоко оставила им.
Хозяин пошел посмотреть, в чем дело.
— Телка очень невеселая, — сказал он с тревогой.
— Кто-то сглазил, — всхлипнула хозяйка.
— Гм, может, и так. Не было тут на этих днях Галанданихи?
— Надо бы позвать свояка Марона, может, он знает средство.
— Сбегай за ним, Ката!
К тому времени, как пришел свояк, телка уже улеглась на соломенной подстилке и лишь изредка открывала потускневшие глаза, из которых сочились слезы, оставляя на ровной шерсти темные борозды.
Свояк Марон осмотрел животное и покачал головой.
— Тут одно только спасение: нож.
Домашние в отчаянии ломали руки. Хозяйка побежала за мясником. Как на грех, его не было дома (бедная телочка не вовремя расхворалась): мясник, особа на селе немаловажная, изготовил из бараньей шкуры отличнейший мешок — для пущей красоты даже ножки на нем оставил — и повез его в город, в подарок вице-губернатору.
Как же быть?
Свояк Марон почесал затылок. Впрочем, он был мастер на все руки, во всем разбирался.
— Ладно, бог с ним, я и сам помогу ей испустить дух, коровы из нее все одно уже не выйдет.
Сказано — сделано. Вывели бедную телочку из-под матери.
Петер Марон ожесточил свое сердце (вспомянул, что и он порядком пролил немецкой крови, будучи гусаром) и завел телку в чулан. Та уже не лягалась и не отбивалась — очень ослабла. Избавление ей могла принести только смерть. Так как под руками не было другого подходящего орудия, Петер Марон положил голову телки поперек порога и — рраз! — одним ударом большого острого топора отделил голову телки от туловища.
Собрались соседи: подобные зрелища всегда завлекают много людей. Высокой дугой взлетела струя крови, забрызгав сусек и стены, женщины завизжали от жалости, а дети в ужасе кинулись в сад и там, спрятавшись в орешнике, дрожа, с бьющимися сердечками ждали, что будет.
Только сын сторожа, подросток Дюрка, сказал Марону:
— Видно, дядя Марон, большим вы героем были когда-то! — Довольный похвалой, старик втянул с ладони щепоть табаку, затем взял отрубленную голову и поднял ее.
— Ну, погляди мне в глаза, дружище. Не серчай на меня. Ничего не поделаешь, пришлось.
Он вынес голову, положил ее под стреху, потом не спеша стал разделывать тушу кухонным ножом все в том же чулане, маленьком и тесном.
А собравшиеся перед чуланом соседи, которые наперед уже сговорились с хозяином — кто на огузок, кто на грудинку, кто на печенку (бедному-то человеку выгодно, когда мясо продается не на вес, а на глаз) — разинув рты, глядели, как обдирают тушу, и ждали каждый свой кусок. И отсеченная голова телки тоже обоими широко открытыми остекленевшими глазами заглядывала в чулан.
Все это время Ференц Тоот понуро слонялся по двору, по саду, только чтобы не быть у чулана; он то и дело наведывался в хлев, приглядеть за скотиной.
— Барыня сильно тоскует. О детище своем, — сообщил он, вернувшись из хлева.
Жена сразу заголосила: пропадет теперь и Барыня!
— Да ты не горюй, — увещевал свояченицу Марон. — Нет у животного души. Тем паче у коровы… отвратная это тварь, ни стыда, ни совести, и памяти ни на грош. То же, что у воробья. И теленок чуть подрастет, не признает больше свою матку, забывает. А уж поведение у коров этих вообще никуда не годное: сойдется и с собственным сыном.
Но хозяйка все равно жалела Барыню, нет-нет да и заглядывала к ней.
— В рот ничего не берет… Чего я ей только не подносила: и клевер и репу.
— Наверно, пить хочет, — решила жена Гашпара Надя, околачивавшаяся тут же с пустой, глиняной миской в руках. — И со мной так бывает: порой лучше бы выпила, чем пожрала.
— Но вы же, тетя Панна, не скотина, — перебил ее Дюрка, сын сторожа.
— Заткнись! Нос не дорос еще о старших судить!
Свояк Марон все это время без устали бранил животных. До чего же они хитрые, неверные! Осел только и делает вид, что болен, — работать ему неохота. Кошка вечно прикидывается спящей, хочет провести хозяйку, которая стережет шипящее на противне мясо. И ведь это не какие-нибудь, а культурные домашние животные, избранные, так сказать. Они хоть работают или другую пользу приносят. А уж об остальных-то что и говорить! Легко живут, никакого труда не знают! И как живут! Он, Марон, когда путешествовал по Мексике с его величеством кайзером Микшей *, видывал змей, которые держали в пасти какой-то маленький светящийся камешек — тамошние жители называют его «змеиным камнем». Он не более чечевичного семечка. Проголодается такая змея, положит камень рядом с собой на траву, а сама притаится. А камень тот светится в точности так, как самки одной там породы жуков. Самцы, что летают по воздуху, еще издали видят своих барышень, ну и спускаются к ним, тут змея прыг из засады и — цап! — хватает жука, как собака муху. Не успела проглотить — а уж другой кавалер прямо в рот летит… В общем, обманом живет такая змея, но живет хорошо. Повсюду носит за собой свою кладовую, подлюга…
Хозяева сделали все возможное, чтобы встряхнуть Барыню (велик был у них страх, что Галанданиха, эта слывшая за ведьму безбожница, которая нагнала порчу на телку, не пощадила и матери ее). Барыню окуривали ладаном — не помогло, давали ей нюхать чеснок, но корова только головой дергала.
Тогда Ференц Тоот взялся за веревку и повел Барыню к поилке. Может, правду говорила тетка Надь, что скотина пить хочет.
Барыня и всегда-то была неповоротлива, а тут вообще еле-еле ноги передвигала. То и дело приходилось дергать за веревку и даже бить ее по лопаткам.
— Ну-у, ты, горемычная, иди. Не поддавайся. Водички, матушка, глотни.
Посреди двора, на полпути к колодцу, Барыня вдруг остановилась, и ноздри ее странно задвигались. Словно она принюхивалась к чему-то: голову подняла, задвигала ушами, а шерсть на ней вздыбилась.
Но вот она повернулась налево, к дому, и увидела под навесом отрубленную голову — окровавленную голову ее телочки, со звездочкой во лбу. Ох, что-то теперь будет!
Раздался душераздирающий, неистовый рев.
Барыня вырвала веревку из рук хозяина и, надрывно мыча, опустив к груди голову, как ошалелая, ринулась к чулану, где Марон делал свое кровавое дело.
Овчарка, обычно лаявшая на Барыню, вдруг съежилась и, поджав хвост, отбежала прочь, гуси, куры испуганно шарахнулись в стороны — казалось, все животные прониклись к Барыне каким-то особым почтением, точно чувствовали, что перед ними сейчас не просто корова, а страдалица-мать, в исступлении несущаяся к окровавленному трупу своего дитяти.
Из рук свояка Марона выпал нож. Сбившиеся в кучу люди затаили дыхание. Вот она, мать! Дорогу матери!
Все мгновенно расступились. А Барыня подбежала к окровавленной голове, и тут передние ноги у нее подкосились — она так и рухнула на колени, и опять из груди вырвался хриплый вопль; потом она прихватила губами отрубленную голову и начала лизать, целовать ее, все время издавая скулящие, жалобные звуки-стоны.
Это было потрясающее зрелище. Женщины, зажмурив глаза, кинулись врассыпную.
А корова все держала мертвую голову своего чада во рту и, упав передними ногами на колени, мрачно глядела на распотрошенный в чулане труп; дрожь исподволь охватила ее всю, каждую ее частицу.
— Закройте дверь, да закройте же дверь! — кричали Марону сердобольные. — Хотя бы не видела, бедняжка!
Бывший гусар дверь затворил, но сам остался в чулане.
— Люди, люди! — не выдержал старый Михай Сюч и выступил вперед. — Ежели в вас есть хоть капля христианского милосердия, отнимите у бедной матери эту голову, потому как этого нельзя дольше терпеть: ведь она так казнится, что вот-вот сама испустит дух. А ну-ка сюда, ко мне, держите ее за рога, остальное я сам сделаю!
И пришлось людям вырвать у Барыни голову ее теленка, а саму вести на веревке в хлев, к яслям, в унылое одиночество.
Когда я был еще мальчонкой, крестьяне на селе часто рассказывали эту трагичную историю, рассказывали простыми словами, что порождались простыми чувствами.
Дядька Марон всегда с раздражением слушал эти никчемные россказни и упорно стоял на своем:
— Глупости! Какая может быть у твари душа!
Я же думал: вот старый гусар говорит, что нет у животных души — но откуда же тогда у них эта задушевная тоска?
Впрочем, вряд ли старый Марон сам верил в то, что утверждал: во всяком случае, под вечер, когда возвращалось стадо коров, он всякий раз убегал в дом, а когда путь его лежал через пастбище, старик далеко обходил стадо, — словом, не смел он с той поры попадаться Барыне на глаза.
1902
КУЗНЕЦ-ГЛАЗНИК[23]
Картинка из жизни
Перевод И. Миронец
Милостивый государь! Вы прислали мне свой труд «Теория рассказа», выразив пожелание, чтобы я прочел его и снабдил предисловием.
Письмо Ваше, весьма любезное и лестное для меня, обязывает ко многому, но я тем не менее просьбу Вашу удовлетворить не смогу. Избави меня боже от того, чтобы я когда-нибудь прочел Вашу книгу! Если она плоха, то как бы и мне плохого из нее не набраться, если же хороша, так это для меня и вовсе дело опасное.
Разумеется, я понимаю, что обязан теперь дать Вам соответствующие объяснения. (Кстати, нельзя ли будет использовать их и как предисловие?) Начну с того, что во времена моего детства жил в наших краях некий кузнец по имени Янош Штража; у него была удивительно легкая рука, так что он мог проделывать самые невероятные глазные операции, причем столь искусно, что слава о нем долетела до самой Кашши, до самого Пешта. Особенно хорошо удавалось ему снятие зеленого бельма. Перед ним пасовал даже Липпаи, тогдашняя знаменитость.
Как-то, сидя в «Штадт Франкфурте» с венскими коллегами за кружкой пива, этот самый Гашпар Липпаи, профессор и окулист пештского университета, упомянул о знаменитом кузнеце.
Венские глазники: Артл, Штельваг, Егер — в своем деле как говорится, собаку съели.
— Что невозможно, то невозможно! Вздор! Может ли какой-то кузнец, орудующий от зари до зари кувалдой, проделать такую тонкую операцию, за которую и мы-то не беремся!
Липпаи пожимал плечами.
— И все же это так. Правда, сам я не видел, но зато те, кому я вынужден был отказать в помощи, считая их безнадежно ослепшими в результате этого заболевания, смогли увидеть меня, после того как он их прооперировал.
Жаль, что я не знаю латинского названия этой болезни, ведь когда пишешь о врачебных делах, необходимо ввернуть и нечто такое, чего простые смертные не понимают, — поэтому же не смогу передать и их спор, скажу лишь, что под конец венцы предложили Липпаи:
— Знаете что, коллега, затащите-ка вы как-нибудь этого кузнеца к себе в университет, мы тогда тоже приедем в Пешт, да и посмотрим, как он оперирует.
Ну, что ж, прекрасно. Липпаи дал слово и, дождавшись пациента с соответствующим заболеванием — это был кечкеметский портной, — положил его в клинику и тотчас же, сунув в конверт десять пенгё * на проезд, послал письмо Яношу Штраже с просьбой немедленно приехать снимать бельмо. Одновременно он оповестил и венских докторов.
Дело это натворило тогда много шуму в стране, старики и поныне хорошо его помнят. Достопочтенный мастер Янош Штража оставил вместо себя своего подмастерья подковывать лошадей, надел новенький сюртук, заточил на малом бруске свои режущие-кромсающие орудия, залепив сгоряча оплеуху разине-ученику, вертевшему станок, затем подсел на запряженную волами повозку, что везла из поместья Зичи шерсть в Вац, куда и добрался благополучно под вечер следующего дня; сесть на «пыхтелку» он не решился и потому отправился в Пешт на своих двоих. Прошагал наш старина всю ночку, а к утру честь честью прибыл на улицу Уйвилаг, где находился университет.
На его счастье профессор Липпаи оказался там. Узнав, что он в своей лаборатории, наш путешественник тут же почтительно нажал на ручку двери.
— Слава Иисусу Христу! Вот и я.
— Аминь! Неужто вы и есть Штража?
— Бог свидетель, это так.
Перед профессором стоял маленький, приземистый человечек с юркими, как ящерицы, глазами.
— Когда же вы приехали?
— Сию минуту.
— Но ведь поезда-то сейчас не было.
— А я пешком, — простодушно ответил кузнец.
— Пешком? Ночью?
— Ну да.
— Помилуйте, как же вы возьметесь теперь оперировать глаза? — разочарованно спросил ученый-доктор.
— Да что там, подумаешь! Сниму бельмо, из-за которого вы меня вызвали, — и вся недолга.
— И вы считаете, что ваши руки будут достаточно спокойны?
Почтенный кузнец недоуменно смотрел на профессора:
— Разве они твари, чтобы беспокоиться?
— Но вы же утверждаете, что всю ночь шли пешком, — значит, не спали и устали с дороги. Кузнец улыбнулся.
— Не на руках же я шел. То было давно, ваша милость, когда я на руках ходил. Еще когда несмышленышем был.
— Смотрите сами, но предупреждаю вас, что на операции будут присутствовать венские ученые-доктора, и мне было бы очень неловко, если вы оскандалитесь.
Кузнец его подбадривал: пустяки, мол, не стоит разговора. Немного успокоившись, Липпаи послал в соседнюю гостиницу «У золотого орла», где остановились гости, и венские господа сразу же явились. Тогда он провел их и Штражу в операционную, где уже дожидался портной с больными глазами, человек крупный, дюжий, как библейский Самсон.
(«Вот несуразица-то, — подумал Янош Штража, — где же тут мудрость, ежели провидение допускает, чтобы такой здоровяк был на земле не кузнецом, а портным».)
— Вот, друг мой Штража, ваш больной, — сказал Липпаи. Кузнец доходил этому Голиафу до подмышки и заглянуть ему в глаза, разумеется, не мог. Тогда он усадил пациента на стул и внимательно осмотрел его левый глаз. На роговице перламутровым блеском разлилось бельмо с расходящимися в виде колесных спиц трещинами.
— Да, браток, вечереет тебе, — пробормотал он и занялся правым его глазом.
Правый глаз был хуже, здесь бельмо уже перезрело.
Венские глазники тоже осмотрели бельмо сквозь свои очки.
— Сложная операция, — сказал Артл, имея в виду правый глаз больного. — Она требует такой точности, на какую человеческая рука, можно сказать, не способна.
Почтенный же Штража преспокойно снял сюртук и стал один за другим вынимать из-за голенища сапог и закладывать обратно различные ножи, наконец выбрал один и направил его лезвие на болтавшемся кончике поясного ремня.
— Бог с вами! — испуганно воскликнул Липпаи. — Уж не этой ли железякой собрались вы оперировать?
Кузнец только глазом моргнул — да, именно этой. Липпаи быстро отыскал среди разложенных на столе инструментов нож Граафа и сунул его кузнецу в руку.
— Нет, — сказал презрительно Штража, — это не годится.
Он оттолкнул нож Граафа и решительно подошел к перепуганному портному со своим инструментом; сверкнуло лезвие, и вот оно с игривой легкостью, будто очищая плод от кожуры, скользнуло по глазному яблоку; одно мгновение — и бельмо было снято.
— Что за чертовщина! — ахнул пораженный Артл. Штража вытирал свой нож рукавом рубахи.
— Ну вот, — заметил он, довольный, — одно окошко уже открыто.
Немцы восторженно хватали его за мозолистые узловатые руки, чтобы пожать их, но профессор Липпаи вдруг вспылил:
— Послушайте, Штража, вы все-таки ужасный, отчаянный человек! Да знаете ли вы, чем вы играете? Знаете ли вы, что вы режете? Сознаете, какую ответственность несете перед богом и людьми? Известно ли вам, что такое глазная оболочка, сосудистая оболочка, оболочка зрительного нерва, слезный мешок и все прочее? Какой из нервов откуда и куда ведет? Знаете ли вы, что такое афакия, глаукома и что такое моргагниана? Вы же понятия ни о чем не имеете, правда?
— Так ведь оно нам и ни к чему.
— А знаете ли вы, что стоит вам чикнуть на сотую долю волоска правей или левей, и вы погубите и другой глаз?
Штража насторожился.
— Что же касается бельма, только что снятого вами, — продолжал профессор, — то это удается, согласно статистике, один раз на две тысячи случаев.
— Неужто? — задумчиво перебил его кузнец.
— Потому что если сморщится хрусталик, то во время операции легко могут порваться волокна цинновой связки, и в рану вольется стекловидное тело, или же разжижится его сумка, и тогда легко может получиться полный вывих хрусталика, более того, он может погрузиться в стекловидное тело.
— Ну и ну, — отозвался Штража, у которого весь лоб был покрыт испариной.
— А ну-ка, приблизьтесь, — подозвал его профессор, входя в раж, — я объясню вам на живом глазу пациента, какими путями связаны эти нежные маленькие сосудики со вторым глазом.
Он с увлечением описывал волшебную страну глаза, точно перед ним был глобус, иссеченный руслами рек и ручьев. Штража смотрел не отрываясь, до рези в глазах, и слушал; волосы его встали дыбом. Наконец, совсем отчаявшись, он ударил себя по голенищу и, окончательно пав духом, пробормотал:
— Все, Янош Штража, отныне ты, сударь мой, никто, хуже собаки.
У кузнеца было такое ощущение, будто он свалился с большой высоты, с колокольни или с чего-то в этом роде, и будто это уже вовсе и не он, а только дух прежнего Штражи. Когда же, покончив с объяснениями, профессор попросил его прооперировать, наконец, и второй глаз портного (это было совсем нетрудно в сравнении с уже проделанной только что операцией), то Штража заупрямился, стал отнекиваться и только после горячих уговоров взялся за нож, — но, боже ты мой, что это с ним стряслось? Нож дрожал у него в руке! Он склонился над больным, но тут голова у него закружилась, и он, побледнев, бессильно опустил руку.
— Ох, доктор, — простонал он, — плохо я вижу, нет, не смогу… не посмею я больше…
После того, как он узнал, какой сложный, особый мир представляет собой глаз и какими опасностями чревата малейшая неточность его руки, малейшее ускорение тока его крови, незаметное отклонение его ножа, он больше не брался врачевать даже ячмень, не то что делать операции.
…Эта судьба ожидала бы и меня, милостивый государь, узнай я из Вашей книги, сколько всего требует наука от литературного произведения. И я никогда не посмел бы больше писать рассказы.
При сем остаюсь и т. д.
1903
КОЖИБРОВСКИЙ ЗАКЛЮЧАЕТ СДЕЛКУ
Перевод И. Миронец
Вы, вероятно, знаете графа Кожибровского. Ну, хотя бы из моих же рассказов. Удача иногда сопутствует, иногда изменяет ему, но при всех обстоятельствах он остается джентльменом. Случается, граф исчезает на годы, тогда о нем говорят: все, конец ему, пошел ко дну, втерся приживальщиком к какому-то русскому князю — и тому подобное; затем он вдруг снова во всем своем прежнем блеске появляется в клубах, на местах состязаний, в обществе политических деятелей в Кракове, Вене или Будапеште.
Помнится, года два назад, когда судьба забросила его в Грац, в этот город стариков, доживающих свой век на пенсии, те, что знали его убежище, поговаривали: «А наш неугомонный весельчак Кожибровский угодил-таки на свалку. Стал агентом фирмы по продаже недвижимого имущества и, прежде всего, вилл («Крузе и компаньон, усовершенствователи природы». Гауптштрассе № 11. Агент, да еще в Граце! Страшная участь. На этот раз Кожибровскому не воскреснуть». А вот он взял да воскрес.
Впрочем, чтобы ему воскреснуть, кое-кто должен был прежде умереть.
Эту печальную миссию взяла на себя старая его кормилица, некая Алоизия Шраммель из Львова, нажившая на склоне лет небольшое состояние изготовлением искусственных цветов; почувствовав приближение своей кончины, она, будучи бездетной, вспомнила о маленьком плутишке, коего вскормила когда-то собственной грудью: ему-то и оставила она свои двадцать тысяч форинтов наличными, а также лавчонку, набитую коробками с искусственными цветами.
Узнав о случившемся, Кожибровский не мешкая поехал во Львов и, как собака зазевавшуюся муху, проглотил нежданно привалившее ему наследство. Что с того, что оно мизерное: kleine Fische — gute Fische[24].
Бедная старая Алоизия поступила прекрасно и вполне логично. Когда у нее было молоко, она снабдила Кожибровского-младенца молоком, теперь же оставила ему на булочку, надо же что-то и покрошить в молочко. Правда, между молочком и булочкой зияет пропасть лет, — ну да что с того!
Деньги сиятельный граф взял себе, что же касается лавки, то одной недели, понадобившейся для оформления наследства во Львове, вполне хватило графу, чтобы подыскать прехорошенькую продавщицу, которой можно было с благородством истинного кавалера подарить эту самую лавку.
Ощущая в своем бумажнике свалившуюся с неба кругленькую сумму, Кожибровский так обращался к самому себе, сидя в поезде, мчавшем его в Венгрию:
«Теперь-то уж будь умницей, Кожи! Будь начеку, Кожи! Учти, это последний прутик, протянутый тебе судьбой, чтобы ты сплел из него корзинку своего счастья. Карты, брат, из головы выбрось. Лучше-ка собственным умом да ловкостью верни себе былой блеск. Послушайся меня, Кожи! Ты многому научился у «Крузе и компаньона», обрати же эту науку себе на пользу!»
И что же: он внял собственным предостережениям и без задержки доехал до самого комитата Земплен. Здесь он высадился и за восемьдесят тысяч форинтов купил имение. Причем как раз такое, какое ему было надобно. А надо ему было такое, на какое ни один дурак не польстится.
Чтобы был там обширный лес, к которому нелегко подобраться, да чтобы в лесу том стоял большой охотничий замок, — не повредит и землица в имении, наоборот, поможет, в особенности если на ней произрастает какая-нибудь зелень, и вовсе не обязательно, чтобы то был именно овес. Не следует быть чрезмерно требовательным.
Уж где-где, а в Земплене имеются такие проклятые богом угодья. В неприступных местах высятся старые замки с башнями, выстроенные древними олигархами, чтобы укрываться там от врага. Или изящные охотничьи замки тех времен, когда в лесах еще водились настоящие хищники.
Так вот, тримоцкое имение было одним из них; первоначальный владелец его, какой-то смотритель протестантского храма использовал имение с целью прослыть благотворительным вельможей (затем, собственно, и стал он главным смотрителем): он прямо-таки с нетерпением ждал, чтобы сгорела дотла какая-нибудь деревушка, и тотчас предлагал погорельцам строительный материал из Троцкого леса, причем невзирая на вероисповедание пострадавших. (Эх, какие люди были прежде!) Опять же почему бы ему и не поступать столь благовидно, когда, в сущности, все вершилось на газетных страницах, так сказать, в теории. На деле бедному погорельцу вполне хватало того, что дом его сгорел, и нельзя было требовать, чтобы он вдобавок рисковал случайно уцелевшей скотинкой да собственной жизнью из-за подобного дара. Ибо вынести, вернее, спустить из того леса хотя бы одно-единственное бревно было опасно для жизни и стоило не дешевле, чем если бы его заказали в хоммонанской аптеке.
Это самое тримоцкое поместье после смерти самоотверженного благотворителя, последовавшей три года назад, попало в руки одного неглупого троюродного его племянника. Имение не давало никакого дохода. Кому только не предлагал его новый хозяин — но над ним лишь посмеивались. Он уже собрался было подарить имение СВОПу *, когда к нему явился вдруг Кожибровский (с которым, между прочим, он был на «ты») и предложил за «доминиум» восемьдесят тысяч форинтов.
— Не напал ли ты часом на какую-нибудь золотую жилу, старина?
Кожибровский загадочно улыбался.
— Там будет видно.
Вскоре составили купчую, Кожибровский небрежно бросил в виде задатка двадцать тысячефоринтовых банкнотов: «Остальное за мной», — ударили по рукам и распили магарыч, как это водится и на венгерской, и на польской земле.
— Ну хоть теперь-то уж открой секрет: что ты намерен делать со своей Пафлагонией? *
— Прежде всего удобрю.
— Лес? — недоумевал собеседник.
— И лес, — неуверенно прозвучало в ответ.
— Чем же ты будешь удобрять?
— Чем полагается. Живым и мертвым добром.
— А потом?
— Потом приукрашу замок.
— А дальше?
— Дальше последует все остальное. Словом, сам увидишь. Имение состояло в основном из леса площадью в тысячу восемьсот венгерских хольдов и примерно четырехсот хольдов так называемых прочих земель, весьма подходящих, скажем, для производства самана. Насчет того, чтобы кто-либо находил их пригодными для какой-нибудь иной цели, сведений не имеется. Был там и камень, даже в большом количестве, который мог быть использован для строительства, но об этом упоминать не стоит, коль скоро мы уже упомянули о глине. Ежели имеется глина и камень, то одно из двух — или глина, или камень — оказывается лишним. Для чего, спрашивается, им конкурировать друг с другом? Кроме того, из земли там и сям пробивались роднички с божественной водой. Будь эта водица в Будапеште, она представляла бы большую ценность. Но здесь, в этой глуши, где никто не живет! Здесь разве только птица пьет — а где ей понимать толк в ключевой воде: она вполне довольствуется росой с листьев.
Но есть еще на свете добрые, порядочные люди, которые умеют оценить все по достоинству.
Кожибровский погнал лошадей прямиком в Хоммону, где он сговорился с подрядчиками, взявшимися «приукрасить» замок.
Потом он завернул на рынок, в лавку еврея, торговавшего старым железом. Здесь не знали, куда и посадить шикарного барина.
— Чем могу служить вашей милости?
— Не сумели бы вы, любезный, раздобыть мне старинные оленьи рога?
Еврей удивленно поднял на графа глаза: уж не шутит ли он — но тут же хлопнул себя по лбу.
— Это для украшения комнаты, не так ли? — сказал он, радуясь своей догадливости.
— Н-ну, примерно.
— Чтобы Микша Крамер да не мог! Да он все может. У Микши Крамера целый выводок детей. (Крамер имел привычку говорить о себе в третьем лице.) Бедность — лучший учитель.
— Ну, значит, доставайте, и поскорее.
— А сколько нужно вам приблизительно? — спросил торговец, потирая руки.
— Ну, скажем, возов шесть, — ответил Кожибровский. Микша Крамер оторопел, потом всплеснул руками.
— Ох, крышка ему! (Понимай: крышка Микше Крамеру.) Где же у оленя столько рогов!
— Экий вы чудак, Крамер; у одного, конечно, нет, но ведь оленей-то на свете много, значит, и рогов много. (С этими словами он раскрыл бумажник и положил перед Крамером сотенную.) Вот вам для вдохновения. Я хорошо заплачу, когда все соберете. Рога могут быть старыми, крупными, мелкими, парными, ветвистыми — какими угодно, лишь бы это были рога. В середине марта я приеду за ними с людьми.
Крамер наконец пообещал собрать желаемые рога к сроку, и удовлетворенный Кожибровский отправился в Будапешт.
Отсюда он написал учтивое письмо в Грац «усовершенствователям природы», в котором ставил их в известность, что будет с него развлечений, ибо отныне он берет свою судьбу в собственные руки и лично поведет дела своего владения, расположенного на территории Венгрии.
Он с рвением приступил к этим делам, раздобыл красивый экипаж с четверкой лошадей, на каком-то аукционе приобрел за бесценок кучу негодных сельскохозяйственных машин (таких, которые уже не служили и не поддавались починке) и отвез их в Тримоц; купил, тоже с аукциона, две мушкетные пушки, чтобы установить их перед фасадом — какое великолепие придадут они замку!
Вместе с тем он рьяно посещал казино, что ни вечер — усаживался за спиной старого графа Ваграни и без конца подначивал этого страстного спорщика. У графа каждые три-четыре слова перемежались решительным: «Держу пари!» Кожибровский, улучив как-то удобный момент, выразил сомнение по поводу высказанной графом Ваграни очередной нелепицы (которыми граф славился).
— Что же, давай пари! — по обыкновению запальчиво воскликнул граф.
— Вопрос только: на что? — скромно произнес Кожибровский.
— На что угодно! На что хочешь!
— Ну, хорошо, — согласился Кожибровский, — держим пари на тридцать мешков живых зайцев.
Ваграни улыбнулся, но тем не менее ударил Кожибровского по ладони и проиграл ему тридцать мешков живых зайцев. Когда дело дошло до расплаты, Ваграни изъявил желание заменить зверюшек деньгами, но Кожибровский был непоколебим: нет, денег ему не надо, ему подавай живых зайцев — таким образом, шутки шутками, а проигравшему барину пришлось рассчитываться натурой, то есть косыми, раздобыть которых и доставить в полном здравии он незамедлительно приказал своему управляющему алфёльдским поместьем.
Как только окончилась зима и божьи коровки стали выползать из-под комочков земли, чтобы погреться в первых лучах весеннего солнца, Кожибровский взялся за свое имение.
Сначала он занялся замком. Ночью из Хоммоны были перевезены в Тримоц семь крытых простынями возов с оленьими рогами. На другой день Кожибровский нанял работников, приставил к каждому возу по четыре человека, и возы разъехались по разным уголкам леса.
— Вот что, ребята, — наставлял Кожибровский поденщиков, — беритесь за дело: надо разбросать рога по всему лесу.
Те недоуменно уставились на него.
— А польза-то с этого какая, ваша милость? Кожибровский засмеялся.
— Ежели мы засеем почву рогами, то на ней вырастут олени. — И он лукаво прищурил глаза. — Только вы распределяйте их равномерно, не кидайте в одну кучу. Потом слегка прикроете сухой листвой — сами олени их тоже так закапывают.
До чего же несуразная эта земля! Ничему на свете не радуется, только весне! Да и ей-то всего две недели. Но зато тогда уж она одевается в свой самый великолепный наряд, папоротники сплошь покрывают луг и достают до пояса; расправляясь, тянется кверху чистотел, молодые побеги деревьев, и просвирник, и пышный тысячелистник. Кто оглядит землю в эту пору, да еще не наметанным оком, тому покажется, что здесь самые что ни на есть жирные, богатые почвы. И ведь какое великолепие! Зеленый ковер толщиной в человеческий рост устилает эту никчемную землю. Плохой тот человек, кого такое не очарует. А кого очарует — тот осел. Ведь эта зеленая растительность ни на что другое не пригодна, как только ласкать взор. Тримоцкая земля — словно ленивая лошадь, что и разгуляется, и разыграется, и дает себя холить, а запряги ее для полезного дела — не двинется с места, хоть ты лопни. Так и эта земля: что ты с ней ни делай: улучшай, удобряй, паши ее да борони — она тебе все одно твердит по-своему, по-словацки: «Нэ можэмо».
Но если уж кто умел товар лицом показать, так это Кожибровский. Отправившись в начале весны в Берлин, он среди тамошних аристократов стал искать покупателя на имение. И нашел. Ибо в Германии всего вдоволь, только земли нет. Сам кайзер, первый землевладелец страны, располагает всего лишь восьмьюдесятью тысячами хольдов, на которых громоздятся чуть ли не сорок замков и дворцов. Саксонский король — второй по счету крупный землевладелец — десятью тысячами хольдов, заставленными двадцатью замками; прочим земельным угодьям тоже нечем дышать. Это культивированные под сады, всячески ухоженные и возделанные, иссеченные оросительными каналами участки. Столь высокая культура подчас тоже смешна. Землю только что не просеивают, точно муку. И не осталось там уже никаких следов поэзии. Зверей можно узреть лишь в заповедниках и в зверинцах. Выскочи ненароком откуда-нибудь зайчишка — его небось тут же насмерть зафотографируют немецкие иллюстрированные журналы.
Как раз в это время некий барон Кнопп, богатый банкир и фабрикант, хотел подыскать в какой-нибудь смежной стране изобилующее дичью поместье. Кожибровский познакомился с ним и, когда барон поведал ему о своих намерениях, равнодушно заметил:
— Уж где-где, а у нас такое подыскать можно. Да у меня у самого есть одно имение для продажи. Ценные пашни и великолепный лес. Если лучшего не найдете, барон, то взгляните на мое, когда будете в наших краях.
— Гм, вопрос в том, есть ли там дичь? Видите ли, дорогой граф, у меня большие коммерческие связи с самыми высокопоставленными лицами, которым я не могу выразить свою благодарность иначе, как пригласить их один-два раза в год к себе на охоту. Словом, мне нужен охотничий замок и достаточное количество всякого зверя.
Кожибровский небрежно покачивал правой рукой:
— В таком случае нам с вами вряд ли удастся заключить сделку, милый барон Кнопп, ибо мое имение — не какой-нибудь довесок к зайцам и не убежище для зверей. Это культивированный уголок Европы, земной рай в своем роде, где охота — вещь второстепенная и даже третьестепенная, хотя условия там для этого превосходные.
— Вы так полагаете?
— Извольте убедиться своими собственными глазами. Хотя, как я уже сказал, охота для меня особого интереса не представляет.
— Вы не любите охоту? — удивился барон.
— И никогда не любил. В юности я попал как-то в одного подростка, в загонщика. Не скажу, что по неловкости, нет: преднамеренно. Я был еще мальчиком, отпрыском крупной феодальной семьи, взращенным на глупых средневековых идеалах. Отец впервые взял меня на охоту в литовские леса, и я услыхал, как егерь докладывал ему, что столько-то пристрелено серн и зайцев и ранены двое загонщиков. Ого, подумал я, значит, мы охотимся на загонщиков, и, так как мне было неудобно, что до сих пор ничего не подстрелил, я взял на прицел стоявшего неподалеку от меня парнишку и пустил в него пулю. Рана паренька и его мучительные стоны меня растрогали, и тогда я дал себе слово впредь никогда не охотиться. И я держу слово по сей день.
— У вас, граф Кожибровский, сильный характер, — заключил пруссак. — Так какие же звери водятся в вашем лесу?
— Думается мне, всякие.
— В таком случае я посмотрю имение.
— Когда?
— Да хоть теперь же. Кожибровский задумался.
— Сейчас да и в ближайшие дни я не выберу время, но если у вас будет настроение, наведайтесь к пасхе.
Барон посмотрел в свой карманный календарь.
— Я выеду двадцать четвертого апреля, прибуду двадцать шестого дневным поездом. Вас это устраивает?
— Договорились! Я буду вас ждать на станции.
Ясный весенний день приветствовал Кожибровского, когда он двадцать шестого апреля проснулся в своем проклятом замке, в котором обитало лишь четверо: престарелый сторож, он же мажордом, который заботился еще и о корове; кучер, ведавший четверкой выездных лошадей; служанка, одновременно исполнявшая должность поварихи, и лакей, вернее, секретарь графа по фамилии Штириверский, который сам был польским графом, но, отказавшись на время от титула, значился у Троцкого барина под именем Баптисты.
Кожибровский имел обыкновение завтракать в постели, он пил кипяченое молоко с тартинками, затем выкуривал чубук.
— Баптиста, набей мне трубку и принеси.
— Погоди, пока я состряпаю себе завтрак! (Дело в том, что они частенько менялись ролями, и тогда Кожибровский состоял у Баптисты в лакеях, — ибо счастье в Польше изменчиво.)
Баптиста принес чубук, и Кожибровский, приподнявшись на локте в постели, стал попыхивать им, весело болтая:
— Нынче у нас боевой день, Баптиста. Сегодня решится, что с нами будет. До чего же здесь теперь тихо! А вот увидишь, какое оживление начнется после обеда. — Он взглянул на часы. — Если моя луковица не врет, то у нас еще целый час в запасе. А там — открывается представление! В половине десятого из Пешта прибудет поездом повар с поварятами и провизией. Ты Баптиста, слетаешь в Оклад, где уже собрались загонщики. Ночью должны были прибыть тридцать мешков с зайцами. Ты сам пойди с загонщиками и проследи, чтобы наши ушастые помощники вовремя покинули свои холщовые темницы. Чу, что-то тарахтит под окнами… Так, так, это приехали работники с плугами. Вот остолопы! Чего им надо? Я же говорил, чтобы приступали только после обеда. Ох, Баптиста! Я сильно растратился, Баптиста! Если это дело сорвется, мы погибли.
Вообще суматошным выдался этот день для Тримоца. Пока Кожибровский посасывал свой чубук, двор начал оживать и наполняться людьми. Въезжали телеги, груженные всякой всячиной, все чаще мелькали слуги в ливреях. Собралась уйма порожних экипажей и двуколок.
Баптиста то и дело выбегал и тут же докладывал, кто явился да с чем.
— Коляски-то все взяты напрокат, — пробурчал Кожибровский.
Вслед за экипажами появилась телега, на которой, одна к одной, сидела стайка деревенских красоток; другой воз доставил мужиков, на третьем жались друг к другу цыгане, вооруженные скрипками, контрабасом и цимбалами.
— А эти зачем? — спросил Штириверский.
— Это наши придворные музыканты. Отведи их в сарай, там увидишь наряды, которые я купил с аукциона у потерпевшей крах кашшайской труппы. Словом, приодень их. Да и мне пора подниматься.
Он одевался медленно, осмотрительно. Бреясь, то и дело поглядывал в окно, за которым ежеминутно что-то происходило — словно разыгрывалась пьеса, где хорошо отрепетированные действия следуют одно за другим, точно в назначенное время.
— Так-так, — произнес он, играя от удовольствия пальцами, — вот и министр земледелия.
Тут уж и Штириверский, не вытерпев, подскочил к окну.
Министр в Тримоце — все-таки событие! Было от чего прийти в волнение.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Штириверский. — Да ведь это же адвокат Сламчик из Хоммоны!
Это и в самом деле был адвокат Сламчик; вот он уже входил в дом, стряхивая дорожную пыль и паутину со своей пышной густой бороды. Одет он был торжественно, в выходную черную пару, будто явился в церковь.
— С добрым утром, графушка-душечка, а я точный, как смерть. Ну, бог в помощь!
— Да ты сядь, Леопольд, и выпей немного сливянки. А там — за дело. Жарьте тут, варите, пока я съезжу на станцию за гостем.
— Когда он прибывает?
— В час.
— Кто едет?
— Он сам и его секретарь.
— Знатоки? — Кожибровский пожал плечами.
— Перу барона принадлежит даже руководство для охотников.
— Вот и хорошо, мой дружок, — ликовал Сламчик, — ибо в том, в чем немец считает себя знатоком, он ничегошеньки не смыслит. А сколько же ему примерно лет?
— Пожалуй, под семьдесят. Сламчик от восторга потирал руки.
— Это наилучшие годы. Я имею в виду, для нас. Для него — нет. В этом возрасте человек как обезьяна. Ну а секретарю сколько лет?
— Лет двадцать пять. Это Ханк, его молодой родственник.
— О, молодо-зелено. Он еще в козлином возрасте. Ему можно будет подсунуть Анчурку Комелик. Я обучу девчоночку.
— Что это за иероглифы с возрастами?
— Очень просто: каждый человек находится в возрасте какого-либо животного.
— А ты сам-то в чьем возрасте?
— В лисьем, приятель!
— Слушай, Сламчик, не пей-ка ты больше этой сливянки, ты уже до этого выпил где-то. Чувствуется по твоим рассуждениям.
— Ничего не чувствуется. Я тебе старую сказку сказываю. И умную сказку. Постарее, чем твоя сливянка. Дай опрокину еще одну. За твое здоровье, графушка. Ну так вот, эта сказка такая: бог рассердился на Адама, потому что тот яблоко ел. Вот потому я, богобоязненный человек, с тех пор никогда не ем яблок. И не пью яблочное вино. Ну так вот, где я остановился? Ага. Бог швырнул человека на землю, чтобы он умер смертью смерти. Неизвестно только было, когда именно следовало умирать Адаму и Еве. Срок оставался неясным. Господь решил — пусть поживут до двадцати четырех лет. До тех пор жить имеет смысл. Однако человеку этого показалось мало, пришел он к богу жаловаться. Бог говорит человеку: не можем, Адам, дай ми покой! Не могу, мол, Адам, оставь меня в покое, я все годы уже поделил между тварями. Человек давай хныкать: где, мол, справедливость, когда человек до двадцати лет только растет и к чему-де такая длинная подготовка, неужели ради ничтожных четырех лет? Бог и сам это понимал: «Habeas rectum[25], — сказал он, — но где же я вам теперь возьму годов-то? Ну да ладно, уж так и быть, в долг попрошу». (Вот у кого научились наши дворяне делать долги!) Созвал, значит, бог зверей, что были близко, сначала козла, у него занял для человека пять лет, потом подозвал лисицу, и она дала десяток, — словом, продлил людской век до сорока лет. Подморгнул тут бог Адаму: «Довольно ли с тебя, Адам?» А тот знай головой трясет: нет, мало, мало еще! Попросил господь у вола десяток лет. И он дал (на то он и вол). «В эти годы, — сказал господь Адаму, — так же будешь тянуть ты иго, как вол. Ну, еще надо?» Адам говорит, надо. Теперь уже у осла попросил господь десять лет. Человеку и этого оказалось мало, но поблизости не было другого животного, кроме обезьяны. Значит, от нее нужно было добирать все остальное. Ну, теперь-то ты, графушка, понял, что я говорил?
— Предположим, понял. И я очень доволен, что ты теперь проживаешь как раз взятые у лисицы годы. Но смотри мне, Леопольд, будь начеку и не забывай, что ты министр, приехавший навестить меня — причем как раз в то время, как я отлучился встречать гостей.
— Ох, конечно, не забуду. Это мне на всю жизнь памятно будет.
— За обедом ты сидишь от меня по правую руку.
— И на который час ты заказал обед?
— На четыре. Со станции я отвезу гостей прямо в лес, а пока мы еще не заберемся далеко, Штириверский, который должен проследить, как будут выпускать зайцев, верхом подлетит ко мне докладывать, что ты прибыл. Все должно быть точно, как условленно.
Кожибровский собрался в путь, четверка его пегих лошадей уже нетерпеливо била копытами у подъезда. В экипаж Кожибровский велел положить два хороших ружья. Выйдя из дома, он оглядел двор, где среди хозяйственных построек в художественном беспорядке стояли машины, а кое-где и элегантные экипажи, словно забытые тут случайно. В кухне хлопотал со своими помощниками выписанный из Пешта повар, вынимая разнообразные деликатесы из прибывших вместе с ним ящиков, где чего только не было: откормленные гуси, огурцы, дыни, спинка упитанного барашка, различные рыбы, кетовая икра и еще черт знает какие яства.
Служанка, стоя на пороге кухни, ломала руки: «О господи Иисусе, да что же здесь нынче будет?»
Вдоль террасы сидели деревенские красавицы, они хохотали и заигрывали с парнями.
Завидев графа, молодой словак приподнял шляпу.
— А с нами что будет, ваша милость, господин граф?
— Все вы, друзья мои, честь честью получите свою поденную плату, так что ешьте, пейте да ведите себя прилично! Вот все, что от вас требуется. Когда же я вернусь, вы ступайте себе, кто в сад, кто во двор, и делайте вид, будто заняты работой. Может случиться, что я позову вас и попрошу сплясать, ну так вы и спляшите. Потому что я, видите ли, хочу показать иноземному вельможе, как живут и веселятся на земле венгерской. Вот и все! А вы сколько просите за это поденных? Господин нотариус еще с вами не срядился?
— Ничего он не говорил, только велел прибыть сюда. Крестьяне стали переглядываться, наконец самый старший из них сказал:
— У нас вот какой вопрос имеется, ваше превосходительство… на сколько дней мы вам надобны?
— Смешно! На один-два часа сегодня после обеда. Как только уедет чужестранец, вы тоже можете идти восвояси.
Крестьянин почесал затылок. Ему не по вкусу пришлось, что работы здесь только на один день.
— Ну, в Америке, — расстроено процедил он сквозь зубы, — по два талера в день платят, больше четырех форинтов то есть.
Кожибровский сдвинул брови.
— Ну, ну, мы ведь не в Америке, и ты мне с Америкой не лезь. Да и потом какая же это работа?
— То-то и оно, — не сдавался народный трибун, — будь это порядочная работа, я бы и слова не сказал. Но мы к такому не привыкшие.
— Ах вы, ненасытные словаки! — злобно вырвалось у Кожибровского. — Эй, Баптиста, выйди-ка да пристрели парочку из них!
Тут девушки и молодухи испуганно закудахтали, а мужчинам пришлось заиграть отступление.
— Вы, пожалуйста, не слушайте его, ваше сиятельство, он выпимши! Что ваша милость даст нам, за то и благодарствуем.
— Женщины получат по три кроны, а мужчины — по две — вынес Кожибровский решение.
Но это опять вызвало ропот.
— Как же так, позвольте спросить? Где это видано, чтобы баба больше мужика получала?
— Это потому, что бабы красивее мужиков, — ответил Кожибровский.
Все вышло так, как Кожибровский задумал. Поезд прибыл точно, и из купе первого класса показался прусский барон, а из-за его спины выглянула дама чарующей красоты.
— Моя племянница, вдова Врадитц, — поспешил представить ее барон.
Кожибровский уже слыхал о красавице вдове, чей муж был русским атташе. Два года назад в обществе каких-то высокопоставленных лиц он уехал охотиться на австралийские острова, где попал в руки туземцев, которые, поскольку он был в теле, в буквальном смысле слова съели его.
Кожибровский поклонился. У него потемнело в глазах — так хороша собой была эта женщина.
— Я счастлив приветствовать вас, — произнес он. Когда же секретарь Ханк стал сбрасывать бесчисленные картонки, коробки и чемоданы, Кожибровский не удержался от легкого укора в адрес барона: — Вот видите, милый мой, какой вы! Ну как нашлось в вашем сердце столько жестокости, чтобы не известить меня о такой великой радости.
— Да я и сам был удивлен, когда моя племянница, явившись к отходу поезда, объявила, что хочет ехать со мной.
— Да, но я прикатил за вами в легкой коляске.
— Не беда. В тесноте, да не в обиде.
— Я того же мнения, но не окажутся ли картонки для шляп и чемоданы взыскательнее нас? Кроме того, мне следовало позаботиться о достойном обществе для вашей спутницы. Что я, нелюдимый медведь, могу предложить даме в здешних условиях?
— Предложите мне руку, только и всего! — воскликнула с мягкой улыбкой прелестная вдовушка.
Кожибровский живо принял протянутую ему руку и поцеловал ее в том месте, где сходились линии узора на перчатке.
— И все же, любезный барон, вы допустили оплошность…
— Хорошо же вы меня встречаете, нечего сказать! — прервала его гостья, глазами провожая свои картонки, и тут же, сложив с мольбой маленькие руки, игриво запричитала: — Пощадите, пощадите меня, не дайте погибнуть от голода и жажды здесь, на дороге.
Кожибровский засмеялся, оценив шутку очаровательной вдовушки.
— Ну, что вы, могу ли я допустить… И все же я сержусь. Помилуйте, в кои-то веки выпало на мою долю счастье — ваш приезд, но я и тут не могу принять вас как должно! — Он с укоризной взглянул на барона. — И это — ваша оплошность.
— О, вот такие речи мне больше по вкусу, — заметила молодая женщина.
— Ну, ничего, как-нибудь образуется, — заключил Кожибровский и, перейдя на венгерский, стал совещаться с кучером. Тот собрал чемоданы и баулы и привязал их к задку коляски, остальные вещи сложил горой на козлах.
Кожибровский меж тем помог фрау Врадитц устроиться на заднем сиденье и усадил рядом с ней старого барона, полной грудью вдыхавшего целительный лесной воздух.
— Вы же, любезный господин Ханк, попробуйте примоститься тут, на откидном сиденье; правда, это местечко рассчитано на малых детей, но ведь и сам кайзер не может дать больше того, что имеет.
— А вы как же?
— Я бы подсел к кучеру, но там багаж.
— Следовательно?
— Следовательно, я сяду на другое место.
Кучер выпряг переднюю пару лошадей и одну лошадь поставил сбоку от оглобель, пристяжной к задней паре.
— А что будет с четвертой лошадью? — спросил барон.
— На нее сяду я, — сказал Кожибровский.
Сказано — сделано.
— Господь с вами! — испуганно воскликнула фрау Врадитц. — Ведь она не оседлана!
— О, будь она еще оседлана! — самоуверенно усмехнулся Кожибровский и поскакал рядом с коляской.
Тройка молнией неслась по великолепной дороге знатного владения, «славного доброй водицей и добрыми камнями», Кожибровский же средневековым рыцарем восседал на лошади, будто на ней и родился. Оно, впрочем, и не удивительно: вырос он в Кечкемете (его отец — офицер и похоронен был в этом славном алфёльдском городке) и все свое детство провел в играх и сражениях с тамошними скифскими отпрысками, вместе с ними научился и ездить без седла. По пути Кожибровский развлекал приезжую даму всевозможными историями. Этот замок того-то и того-то, здесь вот была такая-то битва, а вон там произошло то-то; в этих краях и вправду много чего происходило… Вот по левую руку хмуро стоят руины замка, а чуть подальше — огромный пень: когда дерево это срубили, из ствола его высыпался целый котелок золотых монет времен Матяша.
— Ой, посмотрите, что это такое вон там? О, боже мой, какая прелесть!
— Это мак.
— И можно его сорвать?
— Если прикажете…
Лошадь Кожибровского мигом перескочила ров и помчалась по пшеничному нолю, Кожибровский, перегнувшись чуть не до земли, на скаку сорвал цветок и поднес его красавице.
Фрау Врадитц улыбнулась всаднику и понюхала мак — хоть он и не имел запаха; потом приколола его к своей груди.
Так ехали они почти час и за это время вполне освоились друг с другом. Кожибровский то и дело склонялся к уху гостьи и нашептывал всякую всячину. Старый барон нет-нет да и интересовался:
— Что сказал этот проказник?
Она то отвечала, то нет, а иной раз даже краснела.
У Слинянского хутора Кожибровский увидел стайку кур.
— Знаете ли вы, с кого копирует Ворт * свои модели дамских туалетов?
— С кого?
— С кур!
— Полноте, Кожибровский, не то я брошу в вас этим вот биноклем.
— Честное слово. Я лично знал его, когда он был еще странствующим подмастерьем. Как-то я принял участие в одной деревенской охоте. Заметив на большаке паренька, мы силой заставили его присоединиться к нам загонщиком. Бедняге пришлось согласиться. Потом мы его, конечно, угостили, я завел с ним разговор и понял, что передо мной необычно смышленый ремесленник. Он рассказывал, что идет из Вены и собирается пешком исходить Венгрию, чтобы изучить национальные костюмы живущих здесь народностей и создавать потом гармоничные по цвету женские туалеты, ибо гармония цвета и является предметом его исканий, она-то и есть главное. Был у меня в то время один весьма толковый сторож, некий Янош Варко, вот я и рассказал ему, о чем говорит и что изучает французский паренек. «Глупости все это, — ответил Янош, покручивая усы, — в таких вещах лучший знаток господь бог, тот, что кур наряжает. Вы соизвольте только взглянуть, как тут подобраны цвета, — моя старуха, когда щиплет кур, прямо завидует: «Ох, да какой же наряд у них расчудесный!» Я возьми да и передай Ворту слова сторожа. Он крепко задумался, а когда я спустя лет десять зашел в его фешенебельный магазин в Париже, он кинулся ко мне на грудь: «Сударь, за все, что имею, я благодарен только вам». — «Мне?» — спрашиваю я оторопело. — «Это ваши куры снесли мне золотые горы. Да, да, я одеваю герцогинь и графинь в куриные цвета».
— Послушайте, Кожибровский, не морочьте мне голову!
— Клянусь, все это сущая правда. После этой встречи я сам доставлял ему из моего имения венгерских кур самой различной окраски, с них он затем копировал все новые и новые цветовые гаммы. И все уговаривал меня жениться — он, мол, будет даром поставлять туалеты моей жене, — в благодарность, так сказать.
— Вот видите. И вы все-таки не женились?
— Потому что не мог найти себе никого по душе, вплоть до вчерашнего дня.
— Значит, вчера все же нашли?
— Я называю вчерашний день потому, что нынешний назвать уже не могу.
Он так близко подъехал к фрау Врадитц и так низко склонился к ней, что лошадь коснулась ее мордой, оставив на мантилье каплю пены.
— Иисус, Мария и Святой Иосиф! — взвизгнула молодая женщина. — Что вы тут вытворяете? Ступайте прочь со своим противным животным!
Кожибровский, будто обидевшись, проехал вперед. Вдова Врадитц, разговаривая с дядюшкой, теперь могла видеть очертания статного всадника только издали, да и то лишь из-под локтя кучера.
— Смотри, Нинетт, да ты только погляди, что это за величественная красота! — не уставал восхищаться ландшафтом барон.
Нинетт, однако, больше нравилось разглядывать всадника и дабы не потерять его из вида, она ручкой зонтика раздвинула шляпные картонки, чтобы сквозь образовавшуюся щель продолжать вести наблюдения.
От дядюшки не укрылись ее ухищрения.
— Мне кажется, дорогая, что тебя интересует этот… как бишь его… ну… граф, — сказал он.
Фрау Врадитц пожала плечом.
— Ну, я бы этого не сказала. Впрочем, нужно отдать ему справедливость: он не какая-нибудь посредственность, чья душа погружена в непробудный сон. Нет, нет, он не шаблонен. В нем есть что-то необычно мужественное. Настоящий дикарь!
— А ты, конечно, расположена к дикарям. Ну что ж, вполне естественно. Ведь это они съели твоего мужа. Ты исполнена благодарности к ним, Нинетт.
Старичок любил говорить колкости.
У Непомукского моста Кожибровский свернул с большака и подал знак кучеру, который тоже, вслед за ним, выехал на проселок и, минуя крестьян, мочивших лен, погнал лошадей прямо к лесу.
— Это уже мой лес, — объявил Кожибровский, подъехав к барону.
— А где замок?
— За лесом.
— А пашни?
— Они за замком. Но часть из них мы увидим еще по пути.
— Может, сначала осмотрим замок?
— Как вам угодно. Только я предлагаю для начала лес.
— Согласен. Что это белеет вон там, на опушке?
— Это небольшой шалаш, я велел вынести сюда чего-нибудь подкрепляющего, так как обед будет позднее.
— Что ж, нам это не повредит, а, Нинетт?
— Перекусим немного и пройдемся по лесу. Для вас, господа, я припас парочку ружей.
— Ах да, ведь вы не охотник.
Погода стояла чудесная, весенняя, на чистом белом небе не было ни единого пятнышка, ни одной тучки, солнце не светило, не донимало горячими лучами, оно безучастно болталось в небе, как яичный желток в белке. В травах кишели, копошились тысячи существ, в пробившемся сквозь лес ручье барахталась и резвилась шустрая форель. Какой-то деревенский парнишка наловил их целую корзину и теперь как раз шел им навстречу.
— Посмотрите-ка, форель! Вот это да! — воскликнул приятно удивленный барон: он был большим любителем форели.
— Чей этот ручеек?
— Мой, разумеется, — ответил Кожибровский.
Пальцы барона слегка коснулись локтя Нинетт, взгляд которой блуждал, тонул в восхитительных красках леса, от голубовато-зеленых оттенков можжевельника до золотистых игл сосны.
— Слышишь, Нинетт? И ручей тоже наш, — оговорился барон.
Кожибровский весело посмеивался в душе, думая о том, насколько удачно и кстати вплетена была роль крестьянского мальчика. Пришпорив коня, он подъехал к шалашу.
В шалаше две сельские красавицы подали гостям ветчину, горячий чай, вареные яйца, масло, всевозможные печенья и шампанское. Вкусный завтрак здесь, на лоне дикой природы, вызвал у гостей восторг.
— Sapperlot![26] Это же прямо по-королевски! — Кожибровский поклонился.
— Мы хоть и небогаты, сударь, но пожить любим.
Возле шалаша горел огромный костер, над пламенем которого один из гайдуков жарил сало, подставляя под шипящие капли его кусок хлеба; сало становилось все румяней, а хлеб — все черней от копоти.
— А что он делает? — вполголоса спросила Нинетт. — Что жарит этот… гм… этот господин генерал? (До предела разукрашенная серебряным позументом ливрея была рассчитана именно на такой эффект.)
— Это любимое национальное блюдо венгров. Не хотите ли отведать?
Фрау Врадитц посмотрела на него тем щекочущим взглядом, который может смутить самые глубокие воды.
— Вы желаете моей смерти, господин Кожибровский!
— Вы трусихa! — поддразнивал ее граф, принимаясь уплетать с кончика ножа сало, нарезанное мелкими кусочками.
— Вы думаете, что я не посмею? Вам на самом деле так кажется?
— Да, мне так кажется.
— А вы хотите? — спросила она не вяжущимся с темой грустно-таинственным голосом, пронизывая Кожибровского взглядом.
— Конечно, хочу.
— Но какая вам польза от этого?
— Право, я и сам не знаю.
— Что же, дайте мне! — воскликнула вдова, и ее приятный смех зазвенел в лесу.
Она закрыла глаза и, приблизившись к Кожибровскому, раскрыла рот, подобно ребенку, который, чуть покачиваясь, ждет чтобы добрый дядя положил ему на язык конфету.
Кожибровского охватило непреодолимое желание воспользоваться тем, что глаза женщины закрыты, и сорвать поцелуи с ее свежих губ, но барон Кнопп как раз посмотрел в их сторону, и Кожибровский вынужден был дать красавице лишь кусочек сала.
— Не так уж плохо! — воскликнула она, одолев закопченный кубик.
— Ко всему можно привыкнуть, — мудро заключил барон Кнопп. — Возьмем, к примеру, бедных парижан, евших крыс во время последнего похода.
— Брр! — содрогнулась Нинетт. — Такое мерзкое животное!
— Или же взять дикарей, тех, что съели твоего мужа, — невозмутимо продолжал барон.
— Ой, дядюшка, не надо об этом!
Тем временем Кожибровский отправил коляску домой и наказал кучеру вернуться, прихватив еще одну коляску. Он велел ему ждать в западной части леса у Превиштского озера.
— А теперь возьмите ружья, господа, да оглядимся в лесу.
— Куда вы отправили коляску? Уж не хотите ли вы заставить нас пешком преодолеть все эти дикие заросли? — забеспокоилась молодая женщина.
— Напротив, я отправил одну коляску, чтобы из нее на другом краю леса получились две.
Кнопп и Ханк взяли по ружью, и компания отправилась в путь под древними деревьями-великанами, каждое из которых, казалось, привлекало внимание барона; с особым удовольствием задерживался он у странных, неправильной формы, стволов.
— Сколько может быть лет вот этому? Боже, что за великолепный экземпляр! Как жаль, Нинетт, что ты не захватила с собой фотоаппарат!
Кожибровский шел за ними рядом с фрау Врадитц и помогал ей собирать цветы; в лесу цвели прострелы и горевшие синим светом прекрасные фламмиролы.
Но не прошли они и трех шагов, не успели даже углубиться в лес, как фрау Врадитц вдруг вскрикнула.
Все обернулись. Барон в страхе опустил ружье.
— Что с тобой?
— Ой, меня что-то укусило!
— Святой боже, уж не змея ли? Здесь водятся гадюки?
— Нет, нет, — поспешил успокоить его Кожибровский, а сам разрывал каблуком сухую листву. Из-под нее показался огромный олений рог.
— Вот вам виновник неприятности. Наша дама наступила на рог, и он проколол ее изящные туфельки.
— Черт возьми! — воскликнул барон и вдохновенно поднял рог. — Вот это да! Вы только взгляните, мои друг Ханк! Эта часть туалета, несомненно, сброшена крупным и знатным представителем оленьего рода. Тэ-э-экс. Это мы, разумеется, заберем с собой!
— Право, не стоит тащить его, — возразил Кожибровский пренебрежительно, — ведь здесь этого добра предостаточно. Мы еще встретим сколько угодно таких рогов на своем пути. Только предупреждаю вас, господа, ступайте осторожно.
Кожибровский говорил правду. Рогов хватало. Едва прошли они полкилометра, как барон снова заметил рог под ногами. На этот раз он, как умный делец, смолчал, лишь украдкой подмигнул своему секретарю, а тот тихо ответил:
— И я вижу один. Во-он там, у терновника. Барон приблизился к Ханку и шепнул ему на ухо:
— Мы нарвались, друг мой, на дурака; да он и представления не имеет, какие у него тут, в лесу, сокровища. Что вы на это скажете, милый Ханк?
— Я считаю, что надо купить имение.
— Ха, он считает! — воскликнул в экстазе барон. — Скажите лучше, сколько он, по-вашему, за это заломит?
Секретарь ничего не ответил, он безмолвно указал на дальнюю поляну, где к сбегающему с горы ручью жадно припала косуля.
От приятного волнения ружье дрожало в руках у барона. Зато Ханк выстрелил, и косуля, повернувшись вокруг своем оси тут же упала замертво.
— Браво, Ханк! Брависсимо! Но не жалко ли такого великолепного животного? И вообще, разве можно в эту пору ходить на косулю?
— На самца можно, — ответил Кожибровский задорно, — щадить следует лишь оленьих дам.
В эту минуту взмыло два тетерева. Барон Кнопп прицелился и один из косачей камнем рухнул на землю. Пожалуй, один лишь Вельзевул, явно решивший подсобить Кожибровскому, способен был так удачно все это подстроить.
— Это был безупречный выстрел, — поздравлял барона Кожибровский.
— Я рассчитываю на перышки для моей серой шляпки, — заискивала фрау Врадитц перед своим дядюшкой.
— Хорошо, хорошо, дарю их тебе, — произнес барон Кнопп с гордостью охотника за львами, затем обернулся к Кожибровскому. — Это еще пустяки! Вот когда я охотился в России, в лесах моего тамошнего друга Орлова, я медведю угодил в самое сердце. Да, да, в самую что ни на есть середину. А здесь у вас водятся медведи?
— Затрудняюсь сказать, — кротко ответил Кожибровский, — может, и водятся. Лесок неплохой, что и говорить. Здесь мои любезные гости найдут все, что перечислено в календаре охотника. Я полагаю, олени и тетерева — это не единственное богатство леса. Одно знаю, что во время «рева» тут столько этих оленей собирается, что не счесть — уж это-то я слышу. Самок набирается целые гаремы, особенно осенью. Ревут хором. Но есть тут и кое-что другое, — например, вальдшнепы. Или зайцы. Не то чтобы их было очень много, но встретить можно, если захочется отведать жаркого из зайчатинки.
Все это он говорил скромно, как человек, не придающий сказанному значения. Знал ведь, шельма, что на очереди зайцы! Первый выстрел служил сигналом для развязывания мешков.
Не успели Нимроды разглядеть хорошенько свою добычу, как Кнопп в упоении воскликнул:
— Эх, десять золотых дал бы какому-нибудь препаратору! Кожибровский пообещал изготовить чучела тетерок, но тут претендовавшая на перья фрау Врадитц запротестовала. Потрясенным, собственной ловкостью, Ханк неподвижно стоял возле павшей косули, пока не появился гайдук с тележкой, на которой перед этим привезли сюда закуски, и не подобрал трупы животных. В тележку был впряжен философски настроенный осел почувствовав, что тележка становится все тяжелен, он стал кричать от досады.
По форме лес напоминал шляпу, по полям которой можно было свободно передвигаться, зато ее тулья совсем не выглядела доступной; отчаянные лесорубы, конечно, могли бы туда подняться (нынешним человек всюду заберется, даже на маковку церкви), но срубленные в этом лесу деревья в лучшем случае можно доставлять вниз волоком; при всем этом — или как раз поэтому — места эти изобиловали роскошными видами, по склонам серебряными повязками устремлялись вниз горные потоки, прорывая себе глубокие желоба в рыжевато-желтой глине. А взглянешь ввысь между деревьями, в таинственную гущу листвы — и в голове звенит от невообразимой красоты. Были и такие места, куда солнце не заглядывало уже несколько сот лет; здесь произрастали дерзкие, бросившие вызов самому богу растения, детища одной лишь земли, которым нет дела до солнца, — грибы и мхи, облепившие все вокруг. А вот из-под большого камня, журча, пробивается чудесный минеральный источник.
— Это не просто водичка, господа, — похвастался Кожибровский. — Такую и сам немецкий император не пивал. Прошу отведать.
У гайдука оказался стакан, и все попробовали водичку. Барон осушил два стакана.
— Божественный нектар! — заметил он самодовольно. — Вот это вода!
— Кто пьет ее, тот сто лет будет жить, — уверял хозяин имения. — Здесь ее называют чевицей.
— Можно ли ее перевозить? — поинтересовалась вдова. — А то ведь у нас нет других вод, кроме гадости этой «Аполинариса».
— Нет, нельзя. Она не выдерживает долгого пути, мутнеет, обретает затхлый вкус, — ответил Кожибровский.
— Очень жаль.
— Ничего не жаль, — алчно перебил ее Кнопп. — Именно это и хорошо. Ну, какую ценность может иметь для меня то, что есть и у другого? Мне подайте диковинку, которую трудно или вообще невозможно сыскать.
— Ты не в меру эгоистичен, дядюшка.
— А ты глупа, как этот ослик, моя дорогая племянница. Говоришь себе же во вред. Какова была бы тебе цена, если бы все женщины были красивы? Правду я говорю? Скажи, остроумный пример? Скажите же что-нибудь, граф Кожибровский, а?
— Вы не правы, — ответил Кожибровский, — ибо ваша племянница и в этом случае была бы самой остроумной и самой изящной среди прекрасных.
Мадам Врадитц ударила Кожибровского по плечу большим папоротником, будто мечом.
— Послушайте! Вы самый неисправимый льстец на свете! З-з-з, з-з-з! — одновременно в нескольких местах затрещали ветки кустов, и со скалы спрыгнул заяц, едва не попав на пышно украшенную цветами сирени шляпу фрау Врадитц; другой заяц совершил прыжок со склона в нескольких шагах от красавицы. Рука Ханка выпустила стакан, но, к счастью, он не разбился. Барон Кнопп нервно хватался за ружье, пока не вспомнил, что охотиться теперь на зайца не разрешается.
У источника, на шелковистой траве поляны, где только что, кроме дуплистого дерева и жужжащей вокруг него стаи диких пчел, ничего не было, разыгралось необычное, весьма забавное зрелище. С востока, с запада, с юга — отовсюду неслись зайцы, великое множество зайцев. Напуганные и стремительные, как мыши, они мчались через лужайку в гору, потом с горы, перебегая друг другу дорогу, будто танцуя кадриль. Некоторые бежали прямо на людей, затем в страхе кидались прочь, по-разному меняя направления.
— Что за чертовщина? — бормотал господин Ханк. — С ума они, что ли, посходили?
— Этот лес заколдован! — восторгался барон Кнопп. — Это бесподобно! Что вы натворили, любезный граф?
— Я? Ничего. — ответил Кожибровский самым естественным топом. — Я вижу здесь действительно нечто бесподобное: нимфу, но привезли ее вы.
— А это великое множество зайцев, сударь мой, это просто кошмар!
Кожибровский пожал плечом.
— Разве я виноват, что столько их развелось? Просто мы живем и мире, друг друга не обижаем, нам не тесно с ними в имении.
— Sapristi[27], такое мне и не снилось.
— Погодите, вот пойдемте-ка поглубже…
И они углубились в лес, идя по-прежнему низиной, а им навстречу, словно саранча, все выбегали, поблескивая глазами зайцы, трещали ветками кустарников, шуршали прошлогодней листвой.
— Чуют, жулики, что мы не имеем права стрелять их.
На лбу у потрясенного, восхищенного барона проступили капли пота.
— Так за сколько вы отдадите свое имение, Кожибровский?
— Бросьте, ведь вы еще имения-то не видали.
— И все же, какова ваша цена? — настаивал барон Кнопп с нетерпением.
— Об этом мы потолкуем дома, под крышей; вы же знаете, что я разбазариваю все за бесценок, со мной у вас дело пойдет гладко. Но все же поглядите сначала, что покупаете. Пойдемте-ка еще глубже в лес! Или вы хотите подняться повыше, в гористую часть леса? Там можно встретить и другое зверье.
Барон глядел на Кожибровского, как на икону, он свято ему верил.
— А… а какое зверье там, наверху? Что вы имеете в виду?
— Да разное, — ответил Кожибровский со свойственной ему загадочностью.
— Уж не хотите ли сказать, что там водятся и зубры?
— Всяко может быть, — улыбнулся Кожибровский.
И в ту же секунду в глубокой тишине послышался топот приближающегося крупного животного.
— Ш-шш, что это?
Они остановились, прислушались. Звук идет оттуда. Нет. Отсюда. Совершенно верно, именно с той стороны. Где ружья?!
Но… из-за деревьев показался всадник: это был Штириверский, спешивший господам навстречу. Подъехав, он приподнял шляпу и по-немецки доложил:
— Его высокопревосходительство министр земледелия ожидает господина графа по срочному делу.
Кожибровский шлепнул себя по лбу.
— Проклятье! Совсем забыл. Ведь вчера он депешей предупредил меня о приезде, но у меня это просто вылетело из головы, будто ветром выдуло. Простите, дорогой барон, не взыщите, но я должен немедленно уехать домой, я и так уже не знаю, как заглажу эту чудовищную бестактность.
— Разумеется, разумеется, и не беспокойтесь о нас!
— Если же вы желаете осмотреть лес более обстоятельно — что я вам настойчиво рекомендую, — я оставлю вам Баптисту, он у меня что-то вроде секретаря, он вам все покажет и расскажет. A propos, Баптиста, где коляски?
— Я думаю, это излишне, — проговорил Кнопп неуверенно.
— На краю леса, господин граф, у берез, — отчеканил Штириверский.
— Пойдемте и мы, — вставила фрау Врадитц. — В конце-то концов, бук есть бук, и он везде одинаковый.
— Что ж, пойдемте, — согласился с ней барон и обернулся. — Ты, верно, устала Нинетт? — спросил он племянницу. — Ух-х-х! Tausend krucifix![28] Я опять напоролся на рог.
Он поднял с земли прекрасный экземпляр, полюбовался им, затем бережно положил на телегу рядом с тетеревом и убитой косулей.
— Езжай, Баптиста, вперед, показывай нам дорогу. Штириверский ехал шагом на своем гнедом, сгибаясь, где этого требовали капризно сплетенные ветви. Хозяин и гости не торопясь шли живописной тропкой под сенью громадных деревьев.
То один из компании наклонялся, то другой: лес, как добрым дедушка, раздавал свои сокровища, уготовав что-нибудь для каждого. Гайдук, что вез тележку, собирал по дороге грибы (их он отнесет домой жене). Кнопп нашел штук шесть рогов. Фрау Врадитц порхала, срывая мелькавшие повсюду рубиновые ягоды земляники, даже зацепила шов на юбке, там, где она была сосборена — долго ли порвать такую нежную, как лепестки мака, ткань! Что до Ханка, то он нашел трут и нес его перед собой, как драгоценность.
Следуя за Штириверским, они вскоре добрались до экипажей, в каждый из которых была впряжена четверка лошадей. Кожибровский посадил фрау Врадитц и ее дядюшку в первую коляску, туда же уселся сам, только напротив их, так что его колени на каждой кочке задевали ноги красавицы, а кочек на этой злосчастной пашне было вдоволь. Что ж, подобные столкновения весьма приятны, уж хотя бы по одному тому, что помогают коротать время в пути, да и колени при этом нисколько не страдают. Ханк попал в другой экипаж, где и собрал все трофеи, в том числе косулю и найденные по дороге ветвистые рога.
У поворота их взорам открылась очаровательная долина ровные поля. Здесь Кожибровский не преминул заметить:
— Вот мои пашни.
Кучер, однако, гнал лошадей как ошалелый.
На полях сновали, суетились работники, но на скаку не очень-то можно было разобрать, что они, собственно, делают; у ручья стирали девушки, напевая заунывную словацкую песню. Песня была очень хороша, и фрау Врадитц захлопала в ладоши, не заметив даже, как нога Кожибровского коснулась ее крошечной ножки и чуточку придавила ее. Что поделаешь коль так хороша была песня! А на поле по-прежнему царило великое оживление: там рыли канавы, таскали навоз, косили люцерну; в одном месте паслись лошади, выпряженные из взятых напрокат экипажей, — вкупе лошади эти казались целым табуном.
— Все эти лошади ваши?
— Конечно!
— А для чего вам столько?
— Просто так. Не люблю ходить пешком.
— А что делают там все эти работники в такую пору? — полюбопытствовал барон.
— Ну, мало ли что. Земля, знаете ли, как хорошая жена, — пояснил Кожибровский, — требует к себе постоянного внимания.
— А я слышал, — заметил барон, — что земле необходимо давать отдых.
— Вот тебе раз! — засмеялся Кожибровский. — Разве жена не отдыхает оттого, что от нее, скажем, мух отгоняют, или поправляют перину, или укрывают получше?
— Гм. Видно, милый граф, вы — влюбленный в свое дело хозяин. Весьма похвально!
Тут из-за деревьев показался вдруг замок с двумя древними башнями, оригинальными выступами и окнами с зелеными жалюзи.
— О, что за прелесть, что за красота!
Барон Кнопп был восхищен, фрау Врадитц, разумеется, тоже, тем более что теперь уже она своей крошечной ножкой нажимала под пледом на огромный сапог Кожибровского.
— Да ты только погляди, Нинетт! Нинетт, ты видишь! О, да ты раскраснелась, как мак! Уж нет ли у тебя, голубушка, лихорадки?
— Ах, нет, ничего, дядюшка, это ветром надуло мне щеки. И еще крепче нажала на ногу Кожибровского.
В этот момент на одной из башен торжественным средневековым звоном заговорил колокол: динь-бом, динь-бом.
— Так, так! Это означает, господа, что повариха сейчас лапшу в бульон бросает, — сообщил Кожибровский.
— О господи, мне еще надо привести себя в порядок!
— Право же, это совсем лишнее.
— Но ведь у меня оборвана верхняя юбка. Или вы не знаете? Сами, верно, и наступили мне на подол!
— Полно, неужто роза менее прекрасна оттого, что один из ее лепестков чуть порван?
Тем временем они уже подкатили к хозяйственному двору, где повсюду стояли различные машины. Кожибровский со свойственной ему непринужденностью сумел обратить и на них внимание гостей.
— Машинами, согласно современным требованиям, я обеспечил себя добросовестно, uti figura decet[29], но при этом не забыл отдать дань прошлому. Вот, например, два моих пса, которые умеют неплохо лаять!
И он указал на мушкетные пушки, служившие украшением внутреннего входа. Вместо привычных кустов алоэ, встречавших гостей в иных замках, здесь грозно разевали пасть пушки.
— Вы случайно не рыцарь-разбойник? — пискнула с деланным испугом фрау Врадитц.
— Будь я таков, вам бы несдобровать.
— Ну и что бы вы со мною сделали, скажите на милость?
— Оставил бы у себя навеки, — произнес с пафосом Кожибровский.
— Но вы же продадите замок дяде, таким образом, я снова перехожу к нему.
— Да, вам просто повезло.
Они с сильным грохотом переехали разводной некогда мостик и остановились у крыльца. Кожибровский соскочил и помог фрау Врадитц сойти, точнее, сгреб ее в объятия и так снял с коляски. Она была легкая, как перышко, и хрупкая, но особых повреждений эта высадка ей не причинила, если не считать, что спрятанные в усах губы Кожибровского невзначай задели во время сей древневенгерской церемонии ее крошечное ухо, отчего оно сразу вспыхнуло, так что казалось обмороженным.
— Вот мы и прибыли в мою деревенскую хижину.
Он подал руку фрау Врадитц и учтиво повел ее вдоль галереи с колоннами к двери, что открывалась в гостиную.
— За кого вы меня принимаете? — возмущенно прошептана вдовушка.
— Я плохо соображаю, — проговорил он, едва переводя дыхание, — я ослеплен, я пленен, я потерял рассудок.
— Значит, вы не думаете обо мне дурно?
— Господи, да я и думать-то больше не способен!
И все же он думал. И думал именно о том, как было бы славно, если бы этот замок и имение, проданные теперь за хороший куш барону Кноппу, вернулись к нему с помощью этой красавицы, да еще в компании нескольких других замков и поместий. Он украдкой разглядывал стройный стан вдовушки, веселое, миловидное личико, вбирал теплоту ее взбудораженного сейчас взгляда, но из другого ящика его черепа появился второй его ум — ибо у Кожибровского их было два, и один из них, как правило, вступал в пререкания с другим; итак, второй ум теперь набросился на первый. Фрау Врадитц, спору нет, очень хороша собой, к тому же мила, — словом, аппетитная особа, но она кокетка, это ясно, вон как быстро вошла в азарт, как усердно нажимала ножкой, а ведь это опаснейшая игра! Замки-то в будущем у нее, конечно, появятся, а вот какие черти полосатые были у нее в прошлом? Кто знает, не утратил ли бедный господин Врадитц на тех австралийских островах вместе с жизнью и свои ветвистые рога, почище тех, что принадлежали воображаемым оленям Кожибровского?
Когда они вошли в гостиную, там уже ждал их господин Сламчик, который от полноты чувств сразу бросился Кожибровскому на шею, крепко обнял его и стал пожимать ему руки, будто сто лет с ним не виделся.
— Kristi Gott, Bruder![30] Мой дорогой, дружище! Кожибровский поспешил представить своих гостей.
— Барон Кнопп и его племянница из Пруссии. Ханк, их секретарь. Его высокопревосходительство министр земледелия.
Здесь последовали обоюдные приветствия.
Адвокат Сламчик с аристократической любезностью протянул руку изящной даме, затем сердечно потряс крупную костлявую руку барона, но Ханку протянул лишь два пальца для пожатия.
— Слышу, вы приехали с целью приобрести имение?
— Да, я желал бы купить охотничий участок, — сладеньким тоном ответил барон.
— Ну и как? — спросил Сламчик с холодным безразличием. — Стоит ли чего-нибудь с этой точки зрения лес моего приятеля?
— О, что вы, это же редчайшее место! Я никогда еще не видел такого изобилия дичи.
— Что вы говорите? Впрочем, я ведь знаю Кожибровского как самого рачительного хозяина. (Кожибровский тактично исчез в одной из боковых дверей, якобы с тем, чтобы похлопотать об обеде.) Это, в сущности, и привело меня сюда. Видите ли, по пути в свое имение… только пусть это останется пока в секрете, — тут Сламчик, улыбаясь, взглянул на гостью, — ну хотя бы до жаркого… я взялся доставить графу от его величества орден за заслуги его на ниве отечественного сельского хозяйства. Я готовлю сюрприз этому повесе, который, кстати, является моим давним другом. Ах, это отличнейший хозяин, сударь мой, уж он-то знает толк в земле, она его слушается и плодоносит прямо как по заказу. Не понимаю, с чего он надумал вдруг продавать это прекрасное имение. А ведь мне и словом не обмолвился! Я бы тоже охотно купил его, тем более что у нас теперь, — пояснил он, — новая тенденция в моде: дробить крупные угодья.
— Oй, ой! — заблеял барон с наигранной улыбкой. — Уж не собирается ли ваше высокопревосходительство конкурировать со мной?
— Приоритет за вами, — произнес господин Сламчик с достоинством. — Но мне думается, что зверей тут нет, разве только олени. А любителя оленьего мяса не так-то легко найти. То ли дело нежная лапка вальдшнепа или, скажем, кусочек рябчика. Varietas delectat[31]. Даже зайчатинки и то захочется изредка отведать, особенно когда ее нет. Насколько же мне известно, здесь зайцы не водятся.
— Что? Зайцы? Да здесь, ваше высокопревосходительство, их столько, что хоть с закрытыми глазами стреляй — обязательно угодишь в косого.
— Ну, а ежели тут столько зайцев, — засмеялся лжеминистр, — стало быть, лисиц нет. Ибо лиса, как известно, питается зайцами.
А почему бы и лисам сюда не перебраться? — вставила фрау Врадитц. — Кормиться есть чем…
— Видимо, еще не прослышали.
— Ничего, добрая весть быстро по свету летит… Кожибровский возвратился и, взяв министра под руку увлек его в нишу окна, где они стали вполголоса разговаривать. Их примеру последовали барон Кнопп и его племянница.
— Послушай, Нинетт, — начал он, — ты могла бы быть полезной мне при торге. Мне кажется, ты нравишься ему.
— Почему, дядюшка, вы так думаете? — отозвалась она глухо и зарделась.
— Уж не считаешь ли ты меня слепым?
— Нет, вы, конечно, не слепой, но…
(Она хотела сказать, что сквозь плед и зрячий не видит!)
— Право, племяшенька, могла бы ты один раз для дела использовать свои чары. До сих пор они шли на разные глупости. Ты начни с ним сама торговаться и сбей цену. Вас, женщин, этому учить не надо. Раз подмигнете — десять тысяч долой, дважды подмигнете — пятнадцать долой из назначенной цены… Ну же, чекань монету глазами, Нинетт!
Фрау Врадитц скривила пухлые губки.
— Покорно благодарю, — капризно тряхнула она головой, — я предоставляю вам подмигивать, если угодно.
— Я-то охотно бы согласился, дурашка, да только от моих подмигиваний толку чуть!
— А у меня глаза не для этого!
— Ох, что за агнец невинный! Сколько раз ты пускала их в ход даром, просто так. Ты мне зубы не заговаривай!
— Даром — это другое дело.
— Ты глупа, как ослик.
Лакей распахнул створки двери и доложил, что кушать подано.
Кожибровский мигом очутился возле красавицы и подал ей руку.
— Посмотрим, что там мои сообразили. Вы, должно быть, умираете от голода!
— Скорей от любопытства.
Он провел ее через гостиную с обитой шелком цвета бирюзы мебелью в столовую, где было накрыто на пять персон, не хуже, чем у «Максима» в Париже. Даже модные тогда хризантемы не были забыты. По левую руку от себя хозяин посадил министра, по правую — фрау Врадитц. Суп уже был разлит, от него шел пар а серые кружочки грибов кокетливо плавали в тарелках.
Одновременно с появлением хозяина и гостей в боковой комнате вдруг заговорили смычки — их было, пожалуй, не менее восьми; тут же мягко вмешалась флейта, потом кларнет, потом цимбалы.
— Что это? — всполошились берлинцы.
— А-а, это так, мои домашние цыгане.
Музыканты были одеты в живописные костюмы, какие носили воины черного отряда короля Матяша в спектакле, состоявшемся когда-то в Кашше.
— Да вы, Кожибровский, живете тут, черт побери, не хуже любого маркграфа!
— Должно же быть у меня какое-нибудь развлечение, — оправдывался скромно граф. — Я не пью, в карты не играю, жены у меня нет. Что мне остается? Я бы умер от скуки, лишившись возможности хотя бы иногда послушать музыку.
— А чем плохи соловьи в вашем лесу? Вдобавок, они развлекают вас даром. Этот же оркестр вам, наверное, стоит огромных денег!
Кожибровский пожал плечами, затем сказал с апостольской простотой:
— Они съедают то, что дает земля, ну и мне оставляют немного. И на том спасибо.
Тут на столе начало появляться все то, что ему «оставили»: сперва внесли большое блюдо с морскими раками и устрицами, к нему, как водятся, подали немного белого бургундского, затем последовала спинка барашка, приготовленная на английский лад, к ней — немного красного, как гранат, бургундского, наконец, принесли молодую гусятину с салатом из огурцов и, конечно, шампанского «Гайдзик».
Когда подняли бокалы с шампанским, Сламчик встал, погладил внушительную бороду, торжественно кашлянул и заговорил: — Уважаемые господа и моя очаровательная соседка! Прежде чем мы осушим наши бокалы, я хочу вам рассказать небольшую историю. Не так давно мы — несколько человек — охотились вместе с его величеством на фазана. Мы с королем шли впереди других через пашню, как вдруг на вспаханной борозде у ног его величества что-то сверкнуло. Я поднял сей предмет. Это оказался орден Липота среднего достоинства. Что предшествовало ему, как именно этот крест очутился на борозде, можно было только гадать. Видимо, кто-то из гостей короля обронил когда-то здесь орден. Я протянул находку его величеству, и тут его величество говорит мне: «Оставьте орден у себя. Крест принадлежал земле, и я его у земли не отниму, то есть ее же снова им и украшу. (Ей-богу, прекрасная и поистине королевская мысль, недаром родилась она в голове властителя аграрной державы.) Украшу им наиболее хорошо обработанный участок земли, самый плодородный и самый благодатный участок, вернее — его владельца. Немедленно сделайте мне представление». И вот я, прислушавшись к голосу собственной совести, назвал образцовым хозяйством нашей страны тримоцкое поместье. Тогда король повелел мне лично поднести крест в знак высочайшего отличия достопочтенному землевладельцу, рассказав ему при этом все, что вы только что слышали. И этот землевладелец не кто иной, как наш с вами милый гостеприимный хозяин, точнее, граф Кожибровский, за здравие которого я и поднимаю свой бокал!
Тут он достал из кармана освеженный новой лентой крест и повесил на шею графу, который отнюдь не казался растроганным.
— Сказать по правде, мне совершенно неясно, — проговорил он, улыбаясь, — кто же является кавалером ордена Липота среднего достоинства — я или тримоцкое имение?
— Sapristi! — горячо вмешался ошеломленный барон Кнопп, на которого вся эта сцена произвела огромное впечатление. — А что было бы, купи я случайно поместье на какие-то четверть часа раньше?
— Затрудняюсь вам ответить, — сказал министр елейно, запустив пальцы в бороду. — Вопрос не такой уж простой.
— Как? Вы считаете, ваше высокопревосходительство, что вместе с имением ко мне перешел бы и орден? — обомлел барон, и седые волоски на его макушке взмокли. Он вспотел.
— Если вспомнить слова его величества: «Крест принадлежит земле, и я его у земли не отниму», — то выходит, что да, орден неотъемлемо принадлежит тримоцкой земле. Но так как был упомянут и владелец ее, то возникает сомнение, которое, полагаю, мог бы разрешить только министр юстиции или же…
— Или же?
— Или же его величество, то есть, вернее…
— Продолжайте же, ваши рассуждения очень интересны, — взмолился барон, метнув строгий взгляд на фрау Врадитц, которая защебетала вдруг о чем-то постороннем.
— … вернее, его величество не стал бы уже отбирать у моего друга Кожибровского орден, ибо то, что я от имени короля повесил ему на шею, так и останется на его шее si fractus illaba-tur[32]: решение же вопроса о том, полагается ли и новому владельцу орден, который, согласно королевскому капризу, стал принадлежать земле, зависит опять-таки от нового королевского каприза. Но чокнемся же, господа!
Они выпили, однако из-за музыки, становившейся все более шумной — играли отрывок из «Бана Банка», — беседовать могли теперь только сидящие рядом.
— Поглядите-ка, сколько всякой всячины, помимо фасоли и гороха, произрастает в таком прекрасном имении! — заметила фрау Врадитц.
— Оно серьезно вам нравится?
— Я просто влюблена в него. Чего бы я не отдала, чтобы это поместье принадлежало мне.
— Я этому от души рад, — сказал Кожибровский.
— Вопрос лишь о том, сколько оно стоит?
— А, пустяки, — смеялся Кожибровский. — Достаточно вам лишь захотеть, и поместье ваше.
— Так-то оно так, но дядюшка немного скуповат.
— И даже в этом случае. Ибо есть два способа сделать его вашим.
— И какие же это способы?
— Один из них — это если ваш дядя купит его и впоследствии оно останется вам, не правда ли?
— Допустим. Ну, а другой способ?
— Придвиньтесь ко мне, я шепну вам на ушко.
— Не вздумайте шепнуть мне какую-нибудь глупость. — Кожибровский склонил свою большую голову совсем близко к красивому лицу гостьи.
— Второй способ, — шептал он, и от раскаленного дыхания его на белоснежной шее трепетал не послушный гребню легкий пушок, — если вы станете моей… тогда имение тотчас же станет вашим.
Фрау Врадитц испуганно отдернула голову и снова заалела, — казалось, щеки ее вспыхнули агатовым огнем.
— Послушайте, Кожибровский! Вы просто нахал!
Она надула губки и отвернулась, даже стул свой поставила спинкой к Кожибровскому.
— Оставьте меня!
— Но ведь я ничего плохого не сделал!
— Вы меня оскорбили.
— Чем?
— Своими словами.
— А что я сказал? Покупатель спросил — продавец ответил, чистосердечно, как есть.
— Но в какой форме? — возмущалась красавица. — Разве об этом говорят вот так, при таких обстоятельствах, ковыряя зубочисткой во рту?!
— Эти опять не поладили, — заключил старый барон.
— Простите, если я вас обидел несоблюдением формальностей, — оправдывался Кожибровский, пропустив мимо ушей замечание барона, — хотя я имею больше оснований строить из себя обиженного. Вы-то меня действительно обидели.
— Чем же, хотелось бы мне знать?
— Тем, что вы мне отказали.
— Я? — удивилась фрау Врадитц, нервно кроша пальцами кусочек бисквита.
— Значит, не отказали? Тогда все хорошо.
— Еще нет.
— Но намереваетесь?
— Пока не знаю.
— Разве вам не нужно поместье?
— Этого я не утверждаю. Но, может быть, я его раздобуду при посредстве дядюшки! — И она лукаво улыбнулась, ибо женщины отходчивы.
— Предупреждаю, что в этом случае вам придется набраться терпения, — шутливо пригрозил ей Кожибровский.
— Все равно. Сперва нужно испробовать первый способ.
— Ну, в таком случае, я имение не продаю. Фрау Врадитц пожала плечами.
— Если у вас хватит смелости заявить дяде в глаза, что вы шутки ради пригласили его сюда из Берлина…
— Ради вас я на все пойду.
— Хотелось бы в этом убедиться.
— Приказывайте!
— Итак, во-первых, — заговорила она тихо, глухим голосом, — запаситесь терпением хотя бы на три дня. Думаю, даже и романах просят на размышление не меньше… Потом спокойно продавайте поместье.
— Для чего вам эти три дни?
— Один для того, чтобы я могла подумать, второй день — чтобы решиться, а третий — чтобы подготовить дядю.
— Я могу надеяться?
— Сейчас я ничего не скажу вам. Разве не видите, что нас слушают.
— О, подайте мне знак, какой-нибудь знак! — задыхался Кожибровский, охмелев от ее чар.
Обед подходил к концу; когда подали сладости, фрау Врадитц взяла с тарелки крупную ягоду клубники, обваляла ее в сахарной пудре и протянула Кожибровскому.
— Откусите половинку.
— Ам! — Кожибровский отхватил пол-ягоды прокуренными черными зубами.
Фрау Врадитц взяла у него вторую половинку, томно опустила веки, и оставленная Кожибровским часть ягоды исчезла между ее свежими алыми губами. Мир был водворен. Вот какими пустяками вершатся дела у важных господ.
Возвращаясь после обеда в гостиную, барон Кнопп взял хозяина под руку.
— Ну, дорогой граф, какова же цена вашему именьицу?
— Торговаться будем или нет? — спросил Кожибровский.
— Называйте сразу последнюю цену. Между людьми корректными не должно быть места излишней болтовне.
— Двести тысяч форинтов.
— Я думал о ста восьмидесяти, — ответил Кнопп.
— Не уступлю ни одного гроша, более того, если вы скажете еще одно слово, я подыму цену.
— Стоп, — оживленно прервал Кожибровского барон и шлепнул его по ладони. — Бумаги у вас в порядке?
Конечно, бумаги были в порядке! Более того, уже к концу угощения явился заранее приглашенный нотариус из Хоммоны, который подготовил купчую, составил опись, и все это за то время, пока господа любовались пляшущими во дворе чардаш батраками. Фрау Врадитц усадили в вынесенном на галерею пурпурном кресле, и она, как королева с трона, глядела на веселое народное гулянье, любуясь, как рьяно трамбуют почву сапоги, как парни, отпустив своих партнерш, вьются вьюном около них и уйти не могут, и в руки не даются, вздрагивают, прячутся, увертываются, колышутся перед девушками, словно тени, наконец один прыжок — и парни обхватили девушек за талии, и вот, нежно прижавшись к партнершам, лихо кружат ну, а пестрые юбки, похожие на раздувающиеся волшебные колокола, шуршат и хрустят, обдавая прохладой.
Не успела фрау Врадитц всласть наглядеться на это веселье, как перед ней, будто из земли, вырос удалой парень: на сапогах шпоры, синий жилет расшит блестками, на шляпе колышется ковыль. Он честь честью кланяется и приглашает на танец.
Она встрепенулась, взглянула на него: ах, злодей, да это же Кожибровский! Что ж, шутить так шутить.
Молодая женщина не заставила себя долго просить, и через полчаса отплясывала уже так, что не придерешься. Когда граф отвел ее на место, она была само пламя, сама ласка.
— Это было очень любезно с вашей стороны, Кожибровский.
— Ах, какая же из вас получится венгерочка!
— И я надеюсь. Через три дня я напишу вам из Вены, где мы проведем у родственников недели две.
— И тогда я смогу к вам приехать?
— Конечно! Более того, тотчас же. Но и я хочу вас кое о чем попросить, Кожибровский.
— Приказывайте.
— Закажите мне для этого танца вот такой же народный костюм.
Кожибровский сладко, самозабвенно засмеялся: ведь эта просьба равнялась обещанию наивысшего блаженства.
— Вы самая совершенная женщина на свете, — заметил он тихо. — Вы еще не замужем и уже обременяете мужа заботами о нарядах.
Гости уехали вечерним поездом, оставив чек на двести тысяч форинтов, которые Кожибровский должен был получить наличными через месяц от назначенного сюда бароном управляющего.
С обстоятельностью истинного немца барон прихватил с собой всяческие «образцы» из имения: пучок травы, горсть земли в коробке (для химического анализа), бутылку воды из лесного источника, а также рога, которые он велел упаковать в свой дорожный сундук.
Он был счастлив, что приобрел такую богатую охотничью территорию. В поезде он строил тысячи планов. То-то удивятся его берлинские знакомые! А какие легенды разлетятся по Берлину об охотах барона Кноппа. Он был весь как на иголках. Шумно вздыхал, сетуя, что осень еще так далека; он бы не прочь был сразу же пуститься в обратный путь, чтобы поохотиться. Одним словом, барон не мог нарадоваться на свое новое имение. Одна за другой возникали у него попутные идеи. Он непременно пошлет туда живописца, который увековечит самые красивые уголки леса. Через минуту его мысли перенеслись к зайцам. А вдруг они до осени возьмут да и разбегутся? Может следовало бы обнести лес оградой? «Как ты думаешь, Нинетточка? Ох, какая ты сегодня рассеянная, что с тобой? А вы Ханк, как ваше мнение на этот счет?»
Мнение Ханка было таково, что обносить лес ни в коем случае не следует: ежели из него до осени и уйдут зайцы, то вместо них вернутся туда олени. Впрочем, зайцы-то не уйдут. Чего им уходить? Они ведь любят родные места. А вот оленей там действительно в этот раз не было, или если и было, то немного; как же они вернутся домой, если господин барон поставит забор?
С этим барон вынужден был согласиться, и свой дар строить планы тотчас же обратил на иное: принялся составлять список лиц, которых намеревался пригласить в гости; в список он включил и Кожибровского, замечательнейшего, по его мнению, человека. «А как он тебе понравился, Нинетт?»
— Я еще не разобралась в нем.
— А ведь он весьма располагает к себе.
— Мы еще поговорим на эту тему…
— Боюсь, не обманул ли я его. Некоторые люди просто не знают цены тому, что имеют.
— Почему ты так думаешь?
— Я видел однажды в Дрездене красивую девушку, у которой были золотистые волосы до пят, — такие волосы стоят целого поместья, а она продала их еврею за пять форинтов.
— Наверное, была очень бедна.
— Я тоже так думаю. Тривиальный тип красоток, покупающих затем за эти пять форинтов лекарство старухе матери.
В Вене жил шурин барона Кноппа, шевалье Корейский, а также другая его племянница, которая была замужем за неким бароном Бледой; посещение их и составляло теперь основную программу венской поездки барона, кроме того, в проекте были различные увеселительные вылазки в Шенбрунн, на Земмеринг, в Кальтенлейтгебен, Баден и иные живописные места.
Барон Бледа проявил чрезвычайный интерес к приобретению шурина, он и сам имел крупные земельные владения в Чехии.
Старый барон, расхваставшись, показал образец земли, однако Бледе явно не понравился комок рыжеватой глины — нет, нет, от таких почв толку мало! Тогда барон Кнопп велел внести оленьи рога, и Корейский стал внимательно их разглядывать. Вдруг он вскрикнул как ужаленный:
— Вот так фокус!
— Что с тобой?
— Да так, мне просто жаль этого бедного оленя, мои дорогой шурин.
— Почему? — удивился Кнопп.
— Ты только представь себе, что с ним произошло: вместе с рогами он потерял в твоем лесу и лобную кость.
— Что ты этим хочешь сказать? — побледнев, спросил новый владелец Троцкого имения.
— А то, что эти рога уже побывали когда-то в руках токаря, и даже служили, вероятно, где-нибудь вешалкой.
Барон вышел из себя, он неистовствовал, хватался за виски, он начинал постигать печальную действительность; подозрение, которое в нем возбудили, крепло с каждой минутой, обрастая все новыми подробностями. Теперь он всюду видел подвох. В его взбудораженном воображении их становилось все больше и больше, в конце концов он усомнился даже в существовании источника: а вдруг и это только декорация?
Но что он мог предпринять в своей ярости?
— Когда джентльмен нашего круга совершит глупость, — внушительно сказал ему Корейский, — он улыбнется и постарается замолчать эту историю.
И барон Кнопп решил молчать, ибо из двух зол — переплатить и быть посмешищем — умный человек, имея возможность, выбирает одно.
Что до Кожибровского, то радоваться своим деньгам он не смог: на этот раз бывалого жука насадили на булавку. И он попал в коллекцию фрау Врадитц, не на шутку в нее влюбившись.
Как только красавица уехала, не только дом, но и весь мир опустел для Кожибровского; с волнением юноши стал он ждать приглашения. Ведь она обещала вызвать его через три дня. Он строил планы, мечтал, строчил письма. Даже шафером успел обзавестись, оповестив о своем счастье жившего в Кракове друга, Пала Травецкого.
«У моей невесты примерно три миллиона денег и пара таких умопомрачительных глаз, какие я не променял бы и за десять миллионов — да, я серьезно влюблен, дорогой Пал. Heт больше прежнего заводилы Кожибровского, гуляки, повесы. Fuit![33] Это была моя последняя проделка. Отныне я становлюсь положительным человеком, выкуплю древнюю вотчину Строковичку и медовый месяц проведу в замке своих предков, где, клянусь даже куры в течение двух недель вместо воды будут опиваться шампанским.
Увы, предполагаемое благоденствие строковичских кур покоилось на односторонней программе, которую сорвала сговорившаяся родня невесты.
Дело в том, что фрау Врадитц сообщила дяде и прочим родственникам о честных намерениях Кожибровского.
Со своей стороны, дядя и прочие родственники сообщили фрау Врадитц, что Кожибровский — человек бесчестный.
Этим они, конечно, лишь толкли воду в ступе, ибо маленькая фрау Врадитц была тверда характером: несмотря ни на что, она взяла да и написала Кожибровскому письмо, которое, однако, было перехвачено. Таким образом, письма, адресованного в Тримоц, Кожибровский не получил.
В отчаянии он послал в Вену депешу ей, потом ее родственникам — Корейскому, Бледе, всем подряд; но и телеграмма Кожибровского была перехвачена, так что фрау Врадитц тоже не получала из Тримоца никаких известий.
Кожибровский ждал-ждал, наконец, видя, что ждать нечего, сам отправился в Вену, чтобы лично привести дела в порядок, но и об этом проведала клика родственников и поспешила отправить дядюшку с его племянницей раньше времени домой, в Берлин.
Кожибровский разменял свой чек в банке Лендера и следом за ними бросился в Берлин, ибо чувствовал: если ему удастся повидать фрау Врадитц и переговорить с ней, то дело его выиграно. Но встреча эта удалась не скоро. А ведь именно скорость решает все, когда имеешь дело с такими молодыми и полнокровными дамами.
Когда же встреча состоялась — это произошло лишь осенью, на одном из званых вечеров берлинского банкира Козела, куда Кожибровский, зная, что его flamme[34] там будет, раздобыл для себя приглашение — то за прелестной вдовой не на жизнь, а на смерть ухаживал уже некий морской лейтенант.
И все-таки она вздрогнула, и лицо ее покрылось мертвенной бледностью, когда Кожибровский, войдя в зал, стал приближаться к группе, где она в обществе нескольких дам и мужчин играла в какую-то излюбленную берлинцами игру.
Морской лейтенант сидел рядом с ней и опахалом из павлиньих перьев овевал ее лицо, отчего мерно взлетали ее выбившиеся из прически золотистые волосы.
— Граф Кожибровский, — любезно представила нового гостя хозяйка дома.
Кожибровский молча поклонился сидевшим за столом и как старый знакомый подал руку фрау Врадитц.
Фрау Врадитц заколебалась. Но только на минуту. Кожибровский заметил, что маленькая рука дрожит и трепещет, как сердце пойманной птицы.
— А, значит, вы знакомы, — заметила хозяйка, просто чтобы что-нибудь сказать. — Прошу вас, дорогой граф, присоединяйтесь.
— Во что вы играете? — весело спросил Кожибровский, ожидая ответа именно от фрау Врадитц.
Та, не выдержав его взгляда, опустила глаза.
— В «трех козлят», — ответила она.
— А в чем суть игры?
— Надо сдавать фант.
— Ну что ж, отлично, — ответил граф со своей обычной непосредственностью, — безделушек у меня хватает (он зазвенел брелоками от цепочки часов), а в остальном разберусь по ходу дела.
И он уселся рядом с фрау Врадитц, по другую руку которой прочно занял позиции лейтенант.
Молодая женщина, почувствовав себя меж двух огней, смутилась и на вопросы игроков отвечала невпопад, вследствие чего у нее то и дело отбирали фант. «Ой, да ведь мне больше никогда не вылезти из долгов!» Все ее кольца были уже розданы, оба браслета лежали у «судьи» (в цилиндре упитанного краснощекого господина), наконец она вынуждена была снять и серьги.
В компании уже обратили внимание на то, что самая хитроумная и острая на язычок особа попала в переделку. Эге, да ведь здесь что-то кроется! И все игроки просто засыпали ее вопросами.
После очередной оплошности фрау Врадитц начала рыться у себя в карманах; увы, они были пусты.
— Я проигралась в пух и прах, — сказала она, смеясь. Кожибровский отцепил от кольца с безделушками медвежий зуб в серебряной оправе и галантно протянул ей.
— Разрешите вас выручить, взаимообразно.
— О, что это? Фи, какая отвратительная штука!
— Это медвежий зуб.
— Благодарю, но зачем вам утруждать себя? — ответила она сдержанно, устало.
Кожибровский использовал момент, когда игравшие отвлеклись от фрау Врадитц, и тихо спросил:
— Не можете ли вы уделить мне хотя бы минутку? Выслушайте меня.
— Это невозможно, — ответила она. — Здесь все меня стерегут. Чего вы хотите?
— Объяснения.
Она подумала секунду, устремив отсутствующий взгляд на противоположную стену, где висела картина, изображающая обезглавливание Иоанна, и произнесла решительно и мрачно:
— Вы его получите.
— Где? Каким образом?
— Вместе с зубом.
Кожибровский ничего не понял, но продолжать диалог было невозможно. Очередной вопрос снова был задан фрау Врадитц, и ему оставалось лишь спокойно ждать, пока опять представится возможность заговорить с ней.
Но тут хозяйка объявила, что скоро подадут ужин, а так как заложенных предметов было много, пришлось прервать «экзекуцию» (на то немец и немец, чтобы даже в игре прибегать к экзекуции) я перейти к выкупу фантов.
Чтобы вернуть свой залог, играющий должен был или что-нибудь продекламировать, или изобразить статую, или обвинить кого-либо в чем-либо, или сказать кому-то дерзость, как это принято в таких безобидных забавах. Над всем этим можно всласть посмеяться, то есть повеселиться. Дешево и всласть. Немцы любят такое сочетание.
Фрау Врадитц представилась возможность во всем многообразии показать свои таланты; она пела, декламировала, перевоплощалась в статую, после чего все украшения были ей возвращены. Но вдруг «судья» поднял зуб.
— Чей это зуб?
— Одного медведя, — ответила фрау Врадитц (оживление, смех).
— Где этот медведь? Пускай объявится, — засмеялся и «судья».
После этих слов перед судьей предстал с поклоном самый обаятельный на свете мишутка — фрау Врадитц.
— Какой выкуп вы дадите за этот предмет?
— Расскажу одну историю.
— Просим! Просим!
Кожибровский нагнулся вперед, дабы не упустить ни одного се слова. Он уже знал, что рассказ будет относиться к нему, и сердце его гулко билось.
— У царицы Клеопатры, — начала красавица своим звучным проникновенным голосом, — гостил как-то Антоний. В честь его царица устраивала большие празднества. Среди прочих развлечении было и ужение рыбы на море. Клеопатра и Антоний ловили рыбу на удочку, царедворцам же это не дозволялось, они могли лишь наблюдать, как тешатся господа, да загадывать, к кому из них больше благоволят боги. А боги-то только Антония и баловали. Стоило ему закинуть удочку, тотчас же он вытаскивал рыбу одну чудеснее другой. Клеопатре же приходилось часами томиться на берегу, пока клюнет какая-нибудь жалкая рыбешки. Высокомерный Антоний и тут был недосягаем: с превосходством сверхъестественного создания складывал он в груду свою добычу. Клеопатра только губы кусала от досады.
— А губы у нее красивые были? — спросил краснолицый шутник, в цилиндре которого покоились фанты.
— Этого я не знаю, — ответила фрау Врадитц, — я знаю лишь то, что Клеопатра раскусила, в чем дело, ибо ум есть и у женщин, как ни долог у них волос.
— Просим, просим, продолжайте!
— На другой день Клеопатра снова назначила рыбную ловлю, чтобы продолжить состязание с Антонием. Антонин высокомерно улыбнулся: «Напрасно изощряешься, прекрасная царица, боги держат мою сторону!» С этими словами он самоуверенно закинул удочку. Не прошло и минуты, как он почувствовал, что клюнуло. Величавым жестом вытянул он леску. «Гляди же, Клеопатра, прекрасная царица!» Клеопатра и вместе с ней восхваляющие победителя придворные уставились на крючок счастливца, а на крючке-то… что бы вы думали?..
— Что, что же? — Слушатели затаили дыхание.
— На крючке была дохлая селедка, — закончила фрау Врадитц.
— Ха-ха-ха! Как же это могло случиться?
— А так, что в первый день Антоний послал в море водолазов, чтобы те подвешивали на его крючок заблаговременно пойманных рыб, но на другой день Клеопатра решила отплатит ему той же монетой: она подкупила одного из водолазов, чтобы тот надел на крючок Антония селедку, — продолжала фрау Врадитц.
— Прелестно, великолепно! — аплодировали гости рассказчице.
— И поучительно, — заключила она, — ибо Антоний стал посмешищем и показал себя мошенником, так что стал недостойным уважения и руки Клеопатры.
— Вы доставили всем нам истинное удовольствие, — учтиво сказал судья и протянул фрау Врадитц медвежий зуб, она же с свой черед передала зуб Кожибровскому.
— Разрешите, дорогой граф, рассчитаться с вами.
— Что же, со мною вы рассчитались, — ответил Кожибровский печально. — Но мне хотелось бы получить ответ еще на один вопрос…
Фрау Врадитц вопросительно взглянула на него.
— Любила ли еще Клеопатра Антония, когда давала ему этот горький урок?
В этот миг к фрау Врадитц подошел хозяин дома и подал ей руку, чтобы вести к столу.
Молодая женщина обернулась к Кожибровскому, улыбнулась томно и загадочно, потом кокетливо пожала плечами: — Возможно.
1904
ВСЕ-ТАКИ КИСЛИЧ ТАЛАНТ
История одного уголовного дела
Перевод И. Миронец
С тех пор, как Михай Мункачи * стал знаменит, в каждом уголке страны нет-нет да и всплывет какой-нибудь малюющий гений. В нашем городе таким оказался один из Кислицей, Йошка, сын агента по продаже вин Пала Кисла. В городе было несколько Кислицей: один пекарь, один регистратор недвижимого имущества, но самым крикливым, самым заносчивым был агент по продаже вин. Представляясь незнакомым лицам: «Пал Кислич», — он никогда не забывал добавить: «Настоящий Кисла».
Я, тогда еще мальчик, подметил, что при этих словах Пал Кислич неизменно ударял себя в грудь. Я подсознательно чувствовал, что это не шуточки. Настоящий Кислич! В звучании этих слов было нечто внушительное. Я даже спросил как-то хозяина, у которого столовался:
— А есть и ненастоящие Кисличи?
— Конечно, нет! — ответил тот с улыбкой. — В точности так же, как нет на свете ненастоящих майских жуков.
— Тогда зачем он говорит?
— Потому что он тщеславный осел. Кисличи, конечно, дворяне, но он хочет непременно подчеркнуть это и устно и письменно, а так как «ипсилон» на конце фамилии прилепить было некуда *, он ткнул его в середку первого слога, на место обыкновенного «и».
Впрочем, Кисличи эти едва сводили концы с концами; у Пала поначалу дела еще шли неплохо, но с тех пор, как на нас напала филлоксера, все способы и приемы виноторговли изменились, и Кислич обеднел, ибо что толку, что он настоящий Кислич, если имевшиеся в продаже вина ненастоящие.
Он хотел послать сына, как раз окончившего школу в родном городе, на год-два в Мюнхен, чтобы он подучился там в академии живописи, но теперь это стало невозможным, и тогда господин Пал начал поливать грязью городские власти.
— Что и говорить, великий это грех — допустить, чтобы такой талант погиб. Долго ли магистрату проголосовать и выделить для Йошки на какие-то два года ежемесячно по сто форинтов? Эх, если б сидели там настоящие сенаторы, способные умом своим постичь истинную цену искусства! Способные подняться на известную высоту и воспитать для своего города великого мужа, памятник которого в грядущем красовался бы на площади перед зданием сберегательной кассы. Да полюбоваться на этот памятник съезжались бы чужеземцы со всех краев и, сняв шляпы, вспоминали бы имена тех славных сенаторов, которые некогда помогли Йожефу Кисличу встать на стезю искусства… Но нашим сенаторам все это ни к чему. Сборище мелких душонок, вот и все. Только и умеют, что в карты играть да рыгать.
Кислич-младший на самом деле неплохо орудовал кистью. Так, он сделал вывеску почтенному Ференцу Шошу, колбаснику, и нарисовал на ней такую грудинку, что любо было глядеть. Грудинку эту и бургомистр Зомбори нашел столь совершенной, что наконец сдался и созвал на совещание кое-кого из состоятельных горожан, чтобы решить, посылать ли Кислича-младшего в Мюнхен, и если да, то на каких условиях.
На этот шаг, кроме грудинки, бургомистра подтолкнуло еще одно обстоятельство: будучи вдовцом и родителем нескольких маленьких девочек, он хотел получить в гувернантки Анну Кислич, дочь Пала Кисла. Барышня Анна была, между прочим, прелестнейшим созданием, какое и самому Рафаэлю нарисовать было бы не под силу. А поскольку барышня Анна сама просила бургомистра сделать что-нибудь для ее младшего брата и при этом лукаво ему улыбалась, господин Зомбори (он был еще мужчина в соку) в своем покровительстве изящным искусствам тотчас же поднялся на такую высоту, что вполне подошел бы на пост бургомистра Венеции.
При таких обстоятельствах было созвано совещание, в котором приняли участие директор сберегательной кассы Дёрдь Кожехуба, барон Кирш, полковник в отставке и владелец крупных поместий, любимый и всеми почитаемый парламентский депутат от города, его превосходительство Махай Ходайи, сенаторы Маркович и Болдани, преподобный каноник Йожеф Корца, доктор Эмиль Сюч, адвокат, владелец кирпичного завода Матяш Шихта, крупный арендатор Леринц Фильтц и др., всего двадцать человек.
Заняв председательское кресло, бургомистр красноречиво изложил цель, с которой созвал здесь лучших сынов города. Он намерен представить на рассмотрение глубокоуважаемых присутствующих сограждан, коих объединяет не имущественное положение или титул, а духовное величие, некий весьма приятный план. А план этот заключается в том, что их городок должен, наконец, выступить из мрака неизвестности, дабы славиться в грядущих веках не только отличными фляжками (которые изготовляет почтенный Миклош Перец в церковном ряду), но и тем, что он шагает впереди прочих в деле покровительства художникам. Благодаря этому город их привлечет к себе симпатии. А симпатии доставят городу источники доходов: железнодорожную инспекцию, строительство казармы, государственное садоводство и немало иных, такого же рода, лакомых кусочков из кухни нации.
— Что говорить, — продолжал бургомистр, — arcanum[35] этот не нов. Покровительствовать художествам? Но где они, эти художества? Какое такое художество имеется у нас здесь, кроме того, что мясник Ретки умеет одним махом выкроить из барана кисет, так, что вместо бахромы его украшают сохранившиеся при выделке все четыре ноги животного? Конечно, все мы дивимся этому и отдаем умельцу должную дань, по все же не это принято называть художеством — увы, господа, всем вам известно, как глуп род людской! Ну да что уж тут поделаешь. Нет художества, значит, надо создать его. Однако для этого нужны художники, так же, как и шерсть можно получить, только вырастив сперва овец. Все это так, но где взять этих овец, вернее сказать, художников? Вот ради этого-то, я и осмелился собрать вас, ибо в настоящее время в нашем городе выявился такой талант, который, возможно, в один прекрасный день станет мировой знаменитостью: это Йожеф Кислич, с самого детства обративший на себя всеобщее внимание как восходящая звезда на небосклоне живописи. Так ухватимся же, господа, за представившуюся нам благодатную возможность! Вы только взгляните на эту грудинку, что изображена на вывеске у Ференца Шоша а затем судите сами. Мое предложение состоит в том, чтобы послать молодого Кисла в Мюнхен для усовершенствования таланта. При этом каждый из нас обязуется в течение двух лет оказывать ему помощь в размере пяти форинтов ежемесячно что составит, поскольку нас здесь двадцать человек, сто форинтов в месяц.
Приглашенные приняли эту идею довольно сухо и сошлись пока на том, что вышлют на место подкомиссию, которая должна будет доложить свое мнение о размерах таланта Кислича-сына.
Бургомистр был человек умный, он знал: если хочешь как-то использовать людей, надо дать им возможность сыграть известную роль. Подкомиссия состояла из председателя и четырех членов. Под руководством директора сберегательной кассы Кожехубы полковник Кирш, Матяш Плихта, Махай Киш и Дёзё Кепеши (последний, очевидно, включен был благодаря своей фамилии)[36] приступили к выполнению поручения.
Затребовав рисунки, картины, эскизы Кисла, они подвергли их обстоятельному исследованию, но дать определенного заключения не смогли, в связи с чем встала необходимость совместного торжественного осмотра chef d'œuvre[37] Кислича — вывески Ференца Шоша. Это окончательно взбудоражило мир и покой городка. Подумать только! Слыханное ли дело, чтобы вот так поднялась вдруг вся интеллигенция, дабы подарить стране художника!
Все были как в лихорадке. Кислич-младший вызывал зависть. Неужто этот щенок на самом деле оказался чудесной находкой? Но, как бы там ни было, это прекрасный и вдохновляющий жест со стороны предводителей города!
Когда разнеслась весть, что призванная установить талант Кисла подкомиссия тут же, на месте, обсудит нарисованную грудинку, на площади перед колбасной Шоша закишела толпа. Предстояло, значит, необычное зрелище, ибо Кожехуба славился тем, что был человеком практичным, который, высчитав или установив что-нибудь, обычно говаривал: «Господь бог может ошибиться, но Дёрдь Кожехуба никогда». Вот и на этот раз он хорошенько обмозговал, как и какими средствами надлежит действовать, и когда от сберегательной кассы подкомиссия двинулась в путь, то шествие выглядело воистину живописно, ибо каждый член подкомиссии вел с собой на цепи по собаке, будто отправляясь на охоту.
Дойдя до лавки Шоша, Кожехуба спустил собаку, и, следуя его примеру, то же самое сделали остальные.
Освободившиеся псы ошалело кружили среди публики возле колбасной, повизгивая, яро помахивая хвостами, настораживая уши.
Кожехуба запустил в вывеску диким каштаном (он всегда носил в кармане каштаны, как средство против удара), чтобы привлечь к ней внимание собак: каштан стукнулся о жесть, собаки взглянули в ту сторону, но на этом их интерес к вывеске кончился.
— Картина никудышная, — изрек Кожехуба, — собаки ее ни во что не ставят.
— Может, они просто сыты, — подумал вслух господин Кепеши.
— А давайте мы сделаем контрпробу, — предложил полковник Кирш.
Он тут же объяснил, в чем состоит контрпроба. И вот каждый взял свою собаку и отвел в сторонку, полковник же тем временем зашел в лавку и попросил почтенного Шоша, чтобы тот во имя общественных интересов совершил патриотический поступок и на другой створке двери вывесил настоящую грудинку.
Когда судьи в сопровождении псов вернулись к дверям лавки, там уже в девственной чистоте своей красовалась великолепная настоящая грудинка. Спущенные собаки кинулись на нее стрелой, их поднятые вверх хвосты нервно дрожали, они топтались по спинам друг друга, так что почтенному лавочнику пришлось взяться за палку, чтобы вовремя защитить свой товар.
— То-то, — сказал директор сберкассы. — Основной вопрос ясен.
И действительно. Двадцать избранников встретились вновь, и подкомиссия с примерным единодушием доложила, что талант Йожефа Кисла — не полностью доказанный факт, что вывеска не совершенна и оставляет желать много лучшего, ибо собаки не дали себя обмануть, более того, рисунок, кажется, даже не напомнил им о мясе.
— Одним словом, парнишка для Мюнхена не годится, — вставил Имре Трагор, богатый торговец скобяным товаром.
— Как вас понимать? — насмешливо спросил сенатор Болдани.
— А очень просто, — ответил Трагор, — такое мясо, которое не похоже на мясо, и я могу нарисовать.
Начались путаные высказывания, говорилась невпопад всякая чушь, но бургомистр колокольчиком призвал всех к порядку и, покачав большой головой, проговорил:
— Я, право, не понимаю вас, господа. Не знаю, смеяться мне или сердиться, слушая ваши доводы, коим, сдается, не будет конца.
Кожехуба, автор реферата, побагровел и стал бить себя правой рукой в грудь.
— Господь бог может ошибиться, но Дёрдь Кожехуба — никогда!
— Ну, ну, ну, свояк, — успокаивал его бургомистр, — ошибка — понятие относительное. Все мы знаем, что вы один из наиболее практичных людей во всей округе, возможно, даже в стране, и что ума у вас палата, но, позвольте заметить, когда мы направили для обследования вас, пятерых, мы хотели узнать ваше мнение о работах будущего живописца, а вместо этого вы выносите на обсуждение мнение пятерых псов… Не обессудьте, но принять его за окончательное мы не можем… (В зале оживление, смех.) Это первое, что я хотел сказать.
Кожехуба и сам улыбнулся и, втянув голову в плечи, оттуда, как из ямы, слушал, что еще скажет бургомистр.
— Но по каким соображениям почтенная подкомиссия обратилась за помощью именно к собакам, спрашиваю я, — продолжал бургомистр. — Собака ведь не является художественным критиком, она картин не видит. Для картин нужен способный к восприятию глаз, знание знаменитых галерей и известный навык к сопоставлению. Собака узнала настоящую грудинку и бросилась на нее, не уловив, по вашему утверждению сходства изображенной на картине грудинки с настоящей. Уважаемая подкомиссия! Да ведь картина Кисла не пахнет мясом, в то время как мясо пахнет мясом! Вы, вероятно, изволите знать, что гениальность собаки заключается в ее обонянии, но написать пахнущий арбузом арбуз не способен даже самый гениальный художник. Глупые россказни, уважаемые господа, будто на виноград, нарисованный Апеллесом *, налетел дрозд и стал клевать ягоды. Сказка, выдуманная каким-нибудь писакой для рекламы Апеллесу. (Возгласы: Правильно! Верно!) Когда я служил в Боснии, то показал как-то нескольким пленным боснийцам портрет графа Андраши в «Воскресной газете». Как всем известно, боснийцы — существа намного интеллигентней дроздов, и я спросил их, что там изображено. Они внимательно посмотрели, но, поскольку никогда прежде не видали картин, стали молоть наперебой всякую чушь: «Какая-то баба!» — сказал один «. Это дом», — объяснил другой, но никто из них не ответил правильно: что это офицер — хотя им-то, как никому, была знакома форма, которую они видели на офицерах. (Одобрительное оживление.) Но предположим, уважаемые господа, условно, что мнение псов правильно, — разве в этом случае мы не должны под держать Кисла? Наоборот. Будь эта грудинка на вывеске у Шоша столь же совершенна, как виноград Апеллеса, Кисличу незачем было бы ехать в Мюнхен — ведь мы именно потому и посылаем молодого человека, что его картины еще не совершенны. Там он приобретет это совершенство, и его слава будет нашей славой.
Эти слова решили все. Все бурно поддержали бургомистра. Даже Кожехуба одобрительно покивал головой. Вскоре обязательство было подписано, и Йожеф Кислич уже в начале осени выехал в Мюнхен.
Два года провел Кислич в городе «сока цепом битого ячменя», как Пазмань * именовал Мюнхен. Учился он там или нет — один бог ведает, но сотенки получал регулярно. Бургомистр всеми правдами и неправдами выжимал их и отправлял ему. А «двадцатка» гордилась тем, что растит для города живописца. Ее за это окружало всеобщее уважение, каким удостаивают лишь меценатов, более того, быть членом «двадцатки» — значило иметь авторитет и положение. Устрашающая слава венецианской «десятки» * и та не могла быть более значительной. Появление кого-либо из «двадцатки» вызывало в народе почтительный шепот:
— Один из покровителей Кислича-младшего!
К концу первого года Матяш Плихта был удостоен малого креста Франца Иосифа, а Болдани — сана королевского советника. Жители маленького города ломали головы: за какие такие заслуги? Но легче было изобрести «вечный двигатель» и управляемый воздушный корабль, чем разгадать эту загадку; наконец успокоились на том, что король, видимо, узнал каким-то образом про обучение Кисла и подумал про себя (ибо он слыл любителем картинок): «А все же какие они молодцы…» Вот так-то и попала затем на страницы «Будапештского вестника» самая крупная сенсация года.
Во время масленицы следующего года, в самую пору убоя свиней, умер каноник Йожеф Корца (а ведь как любил, бедняга, приправленную чесноком домашнюю колбасу!) — и сразу же человек десять, не меньше, вызвалось заполнить опустевшее в «двадцатке» место; все они с радостью готовы были лишиться ежемесячных пяти форинтов ради почетного положения, которое обеспечивала эта роль. Но собрание членов комиссии, зачарованных возвышенностью собственных чувств, вынесло следующее решение: комиссия есть организация закрытая, а сделать из Кисла знаменитого художника она сможет и в составе девятнадцати членов. Так что посторонние лица пусть в их дела не суются.
Это патрицианское высокомерие оскорбляло самолюбие находившихся вне кружка, сеяло раздор в местных общественных кругах: мы-де тоже не лыком шиты. И вот было задумано серьезное дело. Началось новое движение — искали девушку, из которой можно бы сделать певицу. Козырем на козырь. Венгр ничего не пожалеет, чтобы козырнуть.
Меж тем из Мюнхена лишь изредка приходили коротенькие вести о «мальчике»: здоров, мол, хорошо развивается. Со своей сестрой Анной, которая с тех самых пор поселилась у Зомбори в качестве экономки (злые языки намекали, что не только экономки), он переписывался, нередко писал и самому бургомистру, прося подбросить что-нибудь на мелкие расходы; в письмах он всякий раз перечислял, над чем работает: то новую краску изобретает, то новый метод. Бургомистр Зомбори все поторапливал его прислать что-нибудь из работ — покровителям, мол, не терпится, ведь никто из них не видел еще его картин. Впрочем, Иштван Болдижар, путешествовавший прошлым летом по свету, привез весть о том, что, оказавшись в Мюнхене, встретился с Кисличем и что рядом с ним шла его натурщица, курносенькая и светловолосая баварочка. Словом, паренек вырос, похорошел и живет полной жизнью.
Молодой художник все обещал прислать свое произведение, но стоило ему что-нибудь закончить, как являлся какой-нибудь американец и тут же покупал работу, черт бы побрал всех этих бродяг-американцев! Так вот и получилось, что прошли все два года, а дома еще не видели ни одного его творения.
Ну, ничего, скоро он явится самолично, собственной персоной, и сделает портреты со всех своих благодетелей, а потом приступит к великим произведениям.
Чем дальше, тем больше шуму вызывал предстоящий приезд Кислича. Да, это будет causa bibendi[38]. Начались серьезные обсуждения того, как организовать встречу. Кому встречать у поезда? Устроить ли банкет? Или ничего не предпринимать пока не видели работ?
Все это не удивительно в таком маленьком городке. 3десь ведь считается событием, если попадется кукурузный початок красного оттенка, а тут, подумать только, питомец «двадцатки» возвращается законченным художником!
Приезд его намечался к концу сбора винограда. Бургомистр организовал пожертвования, так что получилась кругленькая сумма — «на дорожные расходы», — снял под ателье уютную квартиру на улице Двух гренадеров и написал своему подопечному, что пора-де приезжать и пусть он депешей сообщит день прибытия.
Ждали-ждали, но дни шли за днями, а Кислич ничего не отвечал. Виноград созрел, а Кислич молчал; опали с деревьев листья, а он все не ехал, словно земля поглотила его. Писали в Мюнхен, но письмо вернулось со штампом: «Адресат не значится». Что же могло случиться с мальчиком? Сердца сжимало беспокойство.
Старый Кислич за это время успел переселиться в Будапешт, и вот земляки поручили часто ездившему туда Лёринцу Фильтцу разыскать старика и разузнать у него о сыне. Но Фильтц вернулся и доложил, что старик ничего о нем не знает. Да, тут уж не до шуток.
Этот вопрос сильно занимал жителей городка, когда, как гром с ясного неба, со страницы местной газеты грянула страшная весть: Йожеф Кислич, кого группа простачков за свой счет обучала в Мюнхене, по пути домой на одной из железнодорожных станций разменял фальшивую стофоринтовую бумажку, но железнодорожный кассир распознал неудачную, по-видимому, подделку, арестовал молодого рисовальщика и передал его прокурору, которому тот чистосердечно во всем признался, а через несколько дней удрал из предварительного заключения, и теперь его разыскивают. Эту полученную из достоверных источников сенсационную весть газета публикует, мол, с сожалением, ибо она неприятно заденет обширный круг родственников, а также состоящий из знатных лиц патронат.
Известие это молнией разнеслось по городу, повсюду вызывая усмешки: «Нечего сказать, воспитали!» Вечером в казино меценаты были встречены хохотом, разумеется, те из них, которые осмелились там показаться.
— Поздравляем с великим живописцем!
Господа смущались, особенно близко к сердцу принял это дело полковник.
— Мне стыдно, я чувствую себя, как побитая собака: взлелеять на своей груди преступника! Но во всем виноват только бургомистр.
— Какие глупости! — защищался последний, вооружившись своей неисчерпаемой диалектикой. — Все относительно. Кислич сделал то же, что делает король. Он сделал деньги. То есть, не имея на то права, воспользовался привилегией короля. И точка. Нужно только приподняться на известную высоту, и тогда инцидент выглядит не так уж страшно.
Иного мнения был хозяин кирпичного завода Плихта:
— Тот факт, что он делал деньги, на мой взгляд, не был бы столь постыдным, делай он их умело. Но больше всего нас компрометирует то, что мы поддерживали такого бездарного шалопая. Нас по праву могут назвать идиотами.
— Извольте говорить в единственном числе! — вмешался крайне раздраженный Кожехуба. — Не я ли сказал сразу же всем вам, господа, что картина с грудинкой — это жалкая мазня? Но вам было тогда не угодно меня слушать. А ведь господь бог может ошибиться, но Дёрдь Кожехуба — никогда.
Пока в казино кипели страсти, порождая брызги плоских шуток и острот и давая насмешникам и злопыхателям богатую добычу, в соседнем, занимаемом королевским правосудием, доме еще светились два окна на первом этаже, там, где помещалась регистратура. Служащие суда уже к полднику покидают свои кабинеты и перебираются в погребки или другие не менее заманчивые места — и лишь один-два ретивых рыцаря карьеры продолжают при свете свечей трудиться для блага государства.
На этот раз в суде засиделся только регистратор Ференц Риглер, заносивший в книгу входящих бумаг полученную вечерней почтой корреспонденцию, но и он уже нетерпеливо ерзал на стуле. Достал из кармана часы, потом опустил их обратно, занес в книгу еще несколько пакетов из лежавшей перед ним груды, предварительно пробегая глазами заявления, с тем, чтобы кратко охарактеризовать их при записи, как это было положено. Снова достал часы, — да, уже время ужина; может быть, часы его и не точны, но желудок не ошибется. Впрочем, все равно. Он протер очки и продолжал работать. Время шло, шло, перо трещало, хрустело на упругой диошдёрской бумаге, но взгляд его хозяина нет-нет да привлекали уютно освещенные окна ресторана «Роза», что напротив, где сквозь спущенные шторы виднелись мелькающие тени юрких официантов.
Что ж, зрелище это уже кое-что для бедного регистратора в последний вечер месяца (тридцатого октября). Он непроизвольно опять полез в карман, но не в тот, где у него были часы, а в тот, где у него не было денег; не обнаружив, однако, там ничего, кроме нескольких медных монет и десятифиллеровика светлой масти, он со вздохом вернулся к деловым бумагам. Взял следующую бандероль, машинально развязал ее, взглянул и что это? Сон или явь?.. apage satanas![39] Среди приложений к отпечатанным на листах документам он увидел скромно прижавшуюся сотню.
Глаза его разгорелись, кровь бешено понеслась по жилам. Какая удивительная, какая умопомрачительная история! Будто сам бог решил утешить страждущего. Будто само провидение возгласило: ах, бедняжка, ах, Ферн Риглер, хороший ты парень а вот голодный. Да и покутить тебе хочется. Ну так ступай же, сын мой. Погуляй. Ты был прилежен, старателен, ты заслужил от меня маленькую поддержку.
В самом деле, что тут плохого, если он теперь возьмет эти деньги? Можно ли это назвать растратой? А, что там, и знать никто не узнает. Но предположим, хотя и не допускаем (как любят говорить адвокаты), это станет известно… ну и что ж, кто и чем сможет попрекнуть его? Еще несколько часов — и наступит первое число; ежели он доживет до утра, то жалованье будет у него в кармане, и он утром же положит деньги на место, а сейчас дело это регистрировать, конечно, не будет, успеет зарегистрировать утром: если же он не доживет до утра — тогда начхать на все! Это ясно, как день. В этом сам каноник не найдет ничего зазорного. Можно будет исповедаться в этом. Но только к чему исповедь-то? Ведь не грех же взять взаймы. И не проступок даже. Просто-напросто придвинул на четыре часа первое ноября…
Рассуждая таким образом, он без дальнейших угрызений совести отцепил улыбающийся свежестью сотенный банкнот от протокола, спрятал его в бумажник, закрыл, канцелярию и, весело насвистывая, пошел в «Розу», где, по обычаю провинциальных городов, присоединился к знакомой, уже занявшей столик, компании и великолепно провел время до часу ночи: пил-ел все, что душе было угодно, сорил деньгами, вдобавок выиграл приз у бродячего торговца, затем с группой таких же, как он сам, молодых людей пошел давать серенады живущим поблизости знакомым девушкам.
И никто больше не вспомнил об этом. Да и что тут вспоминать — дело-то ведь самое обычное. На другой день Фери Риглер в полусонном состоянии взял свое жалование, положил честь честью деньги обратно в папку, занес все это, как положено, в большую книгу, веселая ночка сменилась скучными буднями, и потекла серая жизнь в своем тесном русле. Человечество шло и шло к своей конечной цели. Колеса бесчувственного механизма административного аппарата и судопроизводства продолжали вертеться и гудеть.
Одним из результатов вечного движения административного аппарата было то, что в начале зимы где-то в Темешваре поймали Йожефа Кисла.
Итак, преступник попался. Суд безотлагательно назначил заключительное заседание, имевшее быть событием знаменательным. Дамы города сходили с ума ради входного билета на галерку. Судебные писаря раздавали их молодым женщинам, требуя за это свидания. Ибо чиновничье сословие и тогда уже подкупалось.
Обширный зал был набит до отказа. Присутствовали все, кто мог, кроме злополучных меценатов. Хоть стыд, как говорится, не дым, все же они решили держаться подальше от срама.
Суд разобрал ряд скучных дел, и наконец дошла очередь до самого главного.
— Следующее — дело фальшивомонетчика Йожефа Кислича, — объявил председатель суда. — Ввести подсудимого!
Наступила мертвая тишина. Все взоры впились в дверь, где меж двух надзирателей с приткнутыми штыками появился красивый и статный Кислич с бледным лицом и гладко зачесанными назад холеными длинными волосами.
— Ах! — вырвалось у дам. — Какой интересный!
Сотни вееров подняли прохладный ветерок в душном, пропахнувшем бараньими шубами зале.
— Вы Йожеф Кислич? — спросил председатель.
— Я, — ответил он глухо, еле слышно, надломленно.
— Подойдите ближе, — продолжал председатель, раскрывая дело, — и отвечайте на мои вопросы. Этот кредитный билет сделан вами? Но где же она… сотенная…
Он нервно рылся в бумагах, перелистывал страницы, затем нетерпеливо поднял всю папку и потряс, — и тут на стол посыпались десятифоринтовые билеты, один, два, три, четыре, шесть, десять.
Председатель выпучил глаза. Уж не сон ли это? Он лихорадочно переворачивал бумаги — ничего, кроме этих десяти десятифоринтовых…
— Странно, странно, — заикаясь, проговорил он. Судьи повыскакивали с мест: что это значит? Председатель тихо сообщил:
— Вместо фальшивой сотни в деле десять обычных десяток… Непостижимо!
Судейские сгрудились вокруг стола, по листочкам пересматривали дело, но других денег, кроме десятифоринтовых кредиток, там не было.
— Йожеф Кислич, — сказал председатель, — corpus delicti[40] каким-то образом исчез из папки. Вы свободны, но в другой раз берегите себя лучше, чем у нас в суде берегут дела.
Долго строили в городе догадки, пытаясь разгадать тайну, но раскрыть ее так и не удалось. Как такое могло случиться? Или сам дьявол пришел на выручку своему же отпрыску? Вопрос оставался неразрешенным до тех пор, пока Риглер не женился наконец и, под величайшим секретом, не рассказал обо всем жене. Тайна просочилась и в некоторой мере реабилитировала все же наших загрустивших меценатов.
Ибо, черт побери, ежели изготовленную Кисличем сотню сбыл Риглер, сбыл официант, сбыл владелец ресторана, сбыл поставщик и все прочие, ежели она все еще находится в обращении и победоносно гуляет по свету наравне со своими выпущенными государством близнецами — ergo[41], все-таки Кислич талант.
1906
ТЭВИШКЕШ В ГОСТЯХ
Перевод И. Миронец
Йожеф Тэвишкеш считался в нашем комитате таким же тузом, как и граф Антал Форгач. Даже, пожалуй, еще большим, и пялились на него больше, чем на графа, когда он время от времени появлялся на балашшадярматской ярмарке. «Гляди-ка, сам Тэвишкеш идет!» — указывали на него друг другу люди. Некоторые бежали за ним вслед, иные старались хоть взглядом проводить его, покуда он не исчезал в какой-либо скобяной лавке, чтобы купить инструменты, или в одной из палаток, где разложили свой товар лошонцкие башмачники. Частенько, выторговав задешево пару сапог, он пускал в ход еще и последнее средство:
— Ну, а за сколько уступили бы вы мне эти сапоги, ежели бы я впредь и работникам своим покупал здесь же?
Если башмачник случайно не знал Тэвишкеша, то пренебрежительно осведомлялся:
— Сколько же у вас работников, хозяин? Тогда Тэвишкеш надменно вскидывал голову.
— Гм, а сколько у вас сапог, сударь?
— Все тут, у вас перед глазами.
— Не знаю, — говорил Тэвишкеш задумчиво, — может, и хватило бы.
Словом, Тэвишкеш был человек знаменитый, и его имя стало так сказать, нарицательным: когда кто-нибудь не в меру бросался деньгами или важничал, о нем говорили с осуждением: «Вот дурень, воображает, будто он граф Форгач или Йожеф Тэвишкеш».
Так, в представлении народа стали рядом два самых завидных, гремевших далеко за пределами комитата, имени, из которых первое принадлежало потомку властелинов времен Арпада, владельцу замка Синий Камень и еще недавно — имперскому канцлеру, второе — крестьянину, в мужицких портах, обладателю доброй сотни парцелл, недавно занявшему в Болоньо пост сельского старосты.
Тэвишкеша окружал в наших краях ореол не меньший, чем Баги — в Чонграде. В молодости, занимаясь торговлей, он скопил большое состояние, но при этом сохранил простой образ жизни. Зимой спал в хлеву рядом со скотиной, а летом — на дворе, сам шел за плугом впереди своих батраков, на косьбе первым взмахивал косой… так было, пока не начал он прихварывать да покашливать.
Время ведь с любым управится, времени и его милость Тэвишкеш нипочем. Да оно и хорошо, а то ведь наш делец так быстро стал прибирать к рукам все вокруг, что, по расчетам одного бывшего не при деле вацкого цифромета, при таком разгоне через шестьдесят пять лет Тэвишкеш завладел бы всем комитатом Ноград, а по прошествии ста сорока шести лет — всей Венгрией, а еще через двести двадцать три года его милости принадлежала бы уже вся Европа. А это отнюдь не устраивало бы окружающих.
Тэвишкеш знал каждую борозду в своих владениях, — состоявших из верной сотни парцелл, на какие делили землю еще при Марии-Терезии, разбросанных в нескольких окрестных селах и изрезанных, должно быть, на тысячу клочков, — и лично распоряжался, чем и где должны их засевать батраки. Сыновья (у него их было двое) тоже помогали ему, но он держал их в ежовых рукавицах, кроме того, имел управляющего, которого величал «ваше благородие» * (тот же его коротко: «хозяин»), но при этом зорко за ним приглядывал, памятуя о пословице: «С господами дело иметь — в оба глаза смотреть». Впрочем, управляющего, господина Зайтаи, господь бог тоже умом не обидел — он другую пословицу всегда в памяти держал: «Мужик с землицей хитер, что лисица». Вооруженные такого рода познаниями, они долгие годы жили бок о бок, не причиняя друг другу никакого ущерба.
О Тэвишкеше слагались целые легенды, которые, пока долетало до верхнего края комитата, превращали его в сказочный персонаж. Особенно возбуждал он фантазию простого народа. «Что-то поделывает теперь Йожеф Тэвишкеш? — размышлял какой-нибудь пастух, валяясь на своем сюре. — Поди полдничает как раз. А что у него на полдник? Верно, топленое масло пьет да салом заедает».
Господскому сословию он тоже был знаком, можно сказать, лично. Многие побывали в Болоньо, в его крытой соломой с земляным полом избе — не в качестве гостей (Тэвишкешу некогда было с гостями возиться), а по делу. Собиравшиеся жениться кавалеры приезжали, чтобы подобрать добрую четверку из его лошадей (дорого, зато шику сколько!), расчетливые хозяева ходили к нему покупать племенной скот, ибо, барышничая в молодости, он во время своих путешествий по чужим странам насобирал самые лучшие породы.
Не раз бывал у него с такой же целью и сам граф Форгач, но это было ничто по сравнению с другим необычайным событием: однажды, в самый разгар лета, почтенный Тэвишкеш въехал на неказистом своем возке в гордо возвышавшийся на синевато-серой скале замок, до которого от Болоньо день с лишком езды и который находится в словацком краю, среди гор.
Нет, жаловаться ему было не на что: граф принял его любезно, как и должен один вельможа принимать другого.
— А, добро пожаловать, господин Тэвишкеш, добро пожаловать? Как же это оказались вы в наших краях, куда и птица не долетит?
— Да вот соизволил пожаловать, — ответил Тэвишкеш, одернув на себе помявшийся в пути выходной черный сюртук, — и буду любезен изъяснить вашей милости свою просьбу.
Он старался выражаться как можно изысканнее, употребляя слова, подслушанные у господ, граф же, в свою очередь, пытался прибегать к простонародной речи. Оба, как истинные властители, облачались при встрече в духовный мундир друг друга.
— Ну так что же, выкладывайте поскорей свою нужду, — проговорил граф. — И прошу, присядьте, чувствуйте себя как дома. Я уж и сам смекнул, что в такую пору (было время молотьбы) да в такую даль вас привело сюда немаловажное дело. Знаю, вы неохотно оставляете свое хозяйство.
Тэвишкеш вздохнул, но вздох этот постепенно перешел в небольшой приступ кашля, и сморщенное лицо его стало кирпичного цвета.
— Но-но, старая гармошка, — пожурил он свои легкие, когда прекратился кашель. — Стареем, ваше сиятельство. Вот и дружба становится приятна человеку. Думаю, почту-ка я его сиятельство графа своим посещением.
— Очень мило с вашей стороны.
— А поскольку я строиться решил с осени, то надобно мне немного леса прикупить, ну, говорю, поеду я к доброму графу своему — у меня-то леса нет — и заодно подберу на корню потребную мне древесину. Ну как, дадите, нет?
— Да хоть весь лес, господин Тэвишкеш.
— Благодарю покорно, мне понадобится всего-навсего стволов сорок, на стропила да балки.
— Только-то? — заметил граф. — Ну, ради этого, право же, не стоило в такой дальний путь пускаться — просто дали бы знать мне…
— Э, нет, так оно как-то лучше, — настаивал Тэвишкеш, — думаете, для меня ничего не значит, что мы лично свиделись с вами?
— Это и я весьма ценю, — ответил граф любезностью на любезность.
— А цените или нет — это по цене будет видно, ваше сиятельство, — произнес Тэвишкеш с хитрецой.
— Ну так, знаете что, — засмеялся граф, — десять деревьев я отдаю вам даром, как гостю своему, платить будете только за остальные тридцать.
— А что как не сговоримся мы на те тридцать? — спросил Тэвишкеш не то шутливо, не то с любопытством.
— Десять деревьев, раз уж я сказал, вы все равно получите в подарок.
Графа в самом деле обрадовало посещение «золотого мужика». Ведь именитые гости обходили замок Синий Камень стороной. Комитатское собрание давным-давно объявило Антала Форгача мертвым — с той поры он умер для деятелей из венгерской знати. Тем не менее у Антала Форгача где-то в глубине билось доброе венгерское сердце, и раз уж он обманулся в своем расположении к венгерским дворянам, которые остыли к нему, то поневоле стал всячески выказывать свое благоволение к венгерскому крестьянину. Кого-то из нас да надо же было жаловать!
Итак, он принял Тэвишкеша очень любезно, сообщив, что нынче даже не отпустит его восвояси.
— А я и не собираюсь, — заявил Тэвишкеш.
— Будьте у меня как дома, погуляйте в саду, осмотрите замок, в общем, развлекайтесь как вам угодно — до самого ужина.
Граф тотчас же отдал распоряжение повару приготовить хороший венгерский ужин, затем похвастал графине столь оригинальным гостем, рассказав при этом множество разных анекдотов о крезе из Болоньо, которые очень заинтересовали его жену, привезенную из Чехии.
Ужин был действительно хороший, и почтенный Тэвишкеш уплетал его, сидя возле сиятельной графини, которая с улыбкой наполняла его бокал великолепными винами. Увы, разговаривать между собой они не могли, так как графиня не понимала по-венгерски, но женщина она была, как видно, умная и добрая, ибо заметила, что гость покашливает, и после ужина, после того, как он всласть наговорился с графом и камердинер отвел его в комнату, где гостя ожидала раскрытая постель с шелковым бельем, ключница принесла ему стакан ароматного грудного чаю — дескать, сиятельная графиня посылает против кашля.
Затем лакей услужливо спросил, не нужно ли помочь раздеться.
— Еще чего не хватало! — воспротивился Тэвишкеш. — Но знаете что, сударь, прикажите, если можно, занести сюда с повозки мой сюр — это будет дело!
— Сейчас принести, сразу же, или он вам утром понадобится?
— Сразу, сейчас же, я желаю им укрыться.
— Но ведь тут есть для этого одеяло. Тэвишкеш покачал головой.
— Что одеяло! Нет у него того духа знатного, — а без этого разве уснешь!
Пришлось лакею притащить сюр, и тогда Тэвишкеш, сняв сюртук, лег на диван и накрылся сюром; но заснуть он не мог до самой полуночи: то ли жарко ему было, то ли диван под ним был слишком мягок — в конце концов он вышел в коридор и, растянувшись на каменной скамье, вскоре захрапел.
И граф и Тэвишкеш — оба вставали с петухами; когда граф спустился на прогулку в парк под пышные группы сосен, он уже застал там Тэвишкеша, который полной грудью вдыхал целительный воздух.
— Ну, здесь прямо оживаешь, — воскликнул Тэвишкеш, — грудь так и распирает!
— Да, мы здесь высоко над уровнем моря, воздух тут, несомненно, хороший.
— Лучше этого воздуха нет ничего на свете, разве только дымок галочского табака, — убежденно проговорил Тэвишкеш.
— В таком случае, может, здесь и позавтракаем, как вы думаете?
— Ну, что ж, все равно, — согласился Тэвишкеш равнодушно.
Лесничему было назначено явиться после завтрака, и граф теперь обратился к Тэвишкешу.
— Я знаю, что вам уже не по себе и хотелось бы вернуться домой, поэтому я и не смею вас дальше задерживать. Вот мой лесничий, господин Миклович, вы ему объясните, какой длины-толщины должны быть стволы, и он позаботится…
— Я сам хотел бы выбрать деревья, — перебил его Тэвишкеш.
— Но до леса далековато, и, мне кажется, излишне утруждать вас…
— Нет, иначе никак нельзя, так уж заведено, — настаивал Тэвишкеш.
— Но я знаю, сколь дорого для вас время: ведь если вы теперь поедете в лес, то вам сегодня уж не попасть в Болоньо.
— А зачем мне сегодня ехать в Болоньо, — воскликнул Тэвишкеш с задором, — когда я и на Синем Камне могу остаться!
— Вот это я понимаю! — повеселел граф. — Это другое дело. В таком случае, любезный Тэвишкеш, выбирайте стволы по своему вкусу. Я рад, что вам хорошо здесь.
Почтенный Тэвишкеш собрался было запрячь двух своих гнедых, что доставили его сюда, но, оглядевшись в конюшне и заметив, как весело хрупают графский овес его удалые, он пожалел отрывать их от этого полезного занятия и предложил лесничему отправиться пешком.
— Как вам угодно, — ответил тот.
Сразу же позади замка Синий Камень раскинулся ласковый каштановый лес, другой же лес, тот, в котором Тэвишкеш должен был подбирать себе стволы, находился далеко, по дороге к Лешту. Шли они, шагали с добрый час, пока добрались до места, но тут только и начались настоящие хлопоты, особенно с отбором подаренных десяти стволов. Тэвишкеш во что бы то ни стало хотел подвести под топор самые огромные сосны-великаны, поэтому, подойдя к какому-нибудь крупному экземпляру, тут же начинал сомневаться: а что, если впереди он встретит деревья и побольше? Но не обойдешь же лес в несколько тысяч хольдов! Для этого и двух недель мало.
У лесничего Микловича стало иссякать терпение, он сердито кусал рыжеватые усы и без конца ворчал. А уж когда и желудок заурчал! Теперь двое восставали против одного, и столкновение было бы неизбежным, не вмешайся само провидение в облике посланницы графа. Сообразив, что Тэвишкеш не вернется в замок к обеду, граф снарядил в лес служанку, которая принесла в корзинке жареного холодного мяса да две бутылки доброго старого вина.
Тут путешественники помирились, закусили и улеглись на шелковую траву (пускай-де еще немного подрастут деревья), и, пока лесничий заигрывал с девушкой (хорошеньким беленьким существом), Тэвишкеш закрыл глаза: нет, не для того чтобы не видеть происходящего (ведь ничего дурного и не происходило), — просто фея сновидений, явившаяся из бутылки, силой заставила его закрыть их.
Проснувшись уже под вечер в хорошем расположении духа, освеженный, старик быстренько отобрал все же десять деревьев, и сторговался с лесничим на остальные. Смеркалось, когда он приплелся в замок, где граф встретил его со словами:
— А мы уже думали, что вы потерялись.
— Совсем наоборот, ваша милость. Вместо одного Тэвишкеша явилось двое. А ну-ка, где он тут, второй Тэвишкеш…[42]
Старик полез в стянутый веревочкой рукав своего наброшенного на плечи сюртука и извлек оттуда ежа, которого нашел в поле по пути домой и теперь принес его графским детишкам. Те не знали, что и делать от радости, и тут же подрались из-за ежа.
За ужином (в угоду почтенному Тэвишкешу приготовили жаркое из баранины и лапшу с творогом) разговор с творога перекинулся на хозяйство, на прославленных мериносов графа, и болоньовский вельможа изъявил желание лично понаблюдать способ приготовления знаменитого в то время синекаменского овечьего сыра. У графа же его овцы, его великолепные английские бараны были слабым местом. Что говорить, все это стоило показать, беда только, что до хлевов далеко.
— Вот если бы вы могли задержаться у нас на денек…
— А почему бы мне и не задержаться? — согласился Тэвишкеш с большой охотой.
Граф был рад, но в то же время удивлен. Что произошло со стариком? Разве его больше не занимает собственное хозяйство? Странно, что он бездельничает, да еще в самую страду, — и это Тэвишкеш, о котором ходит молва, что он и из могилы восстанет на покос отавы да на уборку, чтобы работников приструнить. Нет, непонятно!
Загадка эта непрестанно занимала эксканцлера. Он даже с управляющим Яношем Кишем поделился своим недоумением, заметив с улыбкой:
— Подумайте, Тэвишкеш и на завтра остается… Ума не приложу, что это с ним. Пустился в такой длинный путь из-за каких-то несчастных сорока бревен, вместо того чтобы прислать своего управляющего — да что я говорю, писаря этого управляющего, — и вот, прилип здесь, будто «поляк» *. Кто бы мог подумать такое о Тэвишкеше?
Янош Киш пожал плечами.
— Видимо, он хорошо здесь себя чувствует, только и всего. Любезность вашего сиятельства приколдовала его. Не может расстаться с вашим домом. К тому же он стар. А к старости человек что дитя. С возвращением же детства возвращается беспечность, легкомыслие. Пожалуй, этим объясняется его поведение. Видно, и Тэвишкеш не исключение из общих для людей законов.
На другой день граф велел заложить легкую бричку, и они объехали все хозяйство, побывали в обеих овчарнях. В одной из них как раз была свадьба. Овчар выдавал дочь за алыпо-эстергайского скорняка. Заливалась волынка, и собравшиеся отовсюду пастушьи чада и домочадцы отплясывали чардаш под волшебное блеяние давно почившей овцы. И вдруг перед помещиком выросла шаловливая молодушка.
— А ну, ваше сиятельство! Может, спляшем? — покачивая бедрами, позвала она.
Другая, пышная, горделивая красавица, уважения ради, решила пригласить на круг почтенного Тэвишкеша.
Граф улыбнулся и чуть было не попался, но Тэвишкеш, сурово наморщив лоб, с достоинством остановил эксканцлера:
— Неприлично нам смешиваться с подобным людом.
И холодным жестом отослал осмелевшую от медовой водки молодицу:
— Ишь чего задумали, недотепы!
Когда, побывав на двух хуторах и в степном имении «Рочка», где жена приказчика состряпала им великолепный обед — куриный бульон с клецками и пирог с укропом, — как нельзя более угодив тем Тэвишкешу, они возвратились в замок, им навстречу выбежали сыновья графа, Янош и Антал, издали крича.
— Дядя Тэвишкеш, а что вы нам привезли?
— Ничего, голубчики мои, я вам не привез, ничегошеньки, — запричитал Тэвишкеш, — сегодня я ничего не нашел по пути, только суслика одного.
— А почему вы его не привезли?
— Он убежал к себе в норку.
— А что ж вы его там не догнали?
— Ну, где ж мне пролезть в нору.
— Это правда, — сказал маленький Анталка, — у вас большой живот.
— То-то и оно. А норка такая махонькая, мои крошки, что только суслику и пролезть в нее. Я мог бы, конечно, налить в ту норку воды, и тогда суслик вышел бы — но ведь я не звал, что вам нужен суслик.
Рассуждениям не было конца. Дети засыпали старика вопросами, упреками.
— Неужели можно его достать, залив водой норку? И вы не достали?
— Не достал, — оправдывался Тэвишкеш, — потому что у меня не было воды.
— Разве обязательно надо водой?
— Ну конечно же.
— А вином нельзя было? — допытывался Янош.
— И вином можно бы, — засмеялся Тэвишкеш, — только и вина не было.
— Как же так, ведь отец утром положил в бричку целых две бутылки.
— Что поделаешь, мы их распили за обедом, к тому же жалко переводить вино на сусликов.
Этот разговор послужил богатой пищей для фантазии и любознательности мальчиков. Как заливают норки сусликов? Отчего суслик так боится воды? Страшно, должно быть, бедняжке от наводнения в его домике? Наверное, пищит или, может, ревет? А когда он удирает, пытается ли укусить человека, что дожидается у норки?
Они забросали отца множеством вопросов. Но тот совсем ничего не знал о сусликах (хотя и сам был чем-то вроде суслика из затопленной норы), и дети потеряли к нему интерес. Насколько больше привлекал их теперь Тэвишкеш! После ужина они залезли к нему на колени и завели бесконечный разговор о сусликах. Наконец он пообещал мальчикам — раз уж они так этого желают — завтра с позволения их мамочки, сиятельной графини, отправиться с ними в поле выливать сусликов, вот только кувшин глиняный надо прихватить.
Это окончательно растрогало всю графскую фамилию. Граф особенно был доволен, когда же гость удалился спать, вернее, спустился сначала в конюшни поболтать со своими гнедыми да полюбоваться на них (ей-ей, они, что ни день — все глаже становились на дармовом овсе), граф стал с гордостью расхваливать его перед графиней.
— Вот видишь, это тебе венгерский крестьянин. Прирожденный джентльмен. Другого такого нет в целом мире. Ему бы сейчас заниматься хозяйством на своих трех тысячах хольдов, он ведь и не откосился еще, и зерно не молочено, немало, вероятно, убытка он понесет, а сколько покрадут без привычного надзора — и вот, при всем том, что человек он экономный и к тому же страстный земледелец, Тэвишкеш столь воспитан и любезен, что остается в угоду детям, потому что им, видите ли, захотелось половить с ним сусликов. Это, душечка, просто сказочно. Такого человека нужно ценить.
Тэвишкеш в самом деле пошел на другой день с мальчиками в поле, они заливали сусликов до самого обеда, и это была божественная забава; а после обеда Тэвишкеш уселся с детьми на дворе замка, под соснами, и стал мастерить им из бузины водяной пистолет и лук из дранки. Это вызвало восторг, начались невообразимые шалости, особенно по вкусу пришелся мальчикам водяной пистолет, из которого они рьяно поливали на расстоянии двадцати — двадцати пяти шагов сновавших по двору гувернанток, камеристок да швей, которыми полон был графский двор. Веселые взвизгивания, оживление, смех развеяли обычную суровую тишину замка. Одна за другой появились из замка крошечные графини (их было три) и вместе со своей француженкой-гувернанткой тоже подошли к старику: может, он и им смастерит что-нибудь, — и Тэвишкеш тут же сделал каждой по длинному ожерелью из одуванчиков и повесил их девочкам на шею. Радости не было предела. Украшения показались девочкам ценными, потому что были они не из золота.
Меж тем Тэвишкеш повествовал детям о лисичках, которые живут в таких же почти норах, как и суслики, о белках, которые разгуливают по веткам дальнего леса с такой же ловкостью, как будто гуляют по ровной земле. Они-то ведь астмой не страдают, как он (то есть, старый Тэвишкеш), вот их и трудно словить, хотя он, конечно, знает один способ.
— Пойдем поймаем одну, — торопил маленький Янош.
— Теперь уже поздно, графушка, вечереет, а лес далек, да и белочки уснули где-то в другом месте.
— Ну, значит, мы утром должны пойти. Правда ведь, мы утром пойдем? Обещаете нам, дядя Тэвишкеш?
— Ни слова больше, дети, — послышался вдруг укоризненный голос самого графа; скрытый кустами, он незаметно приблизился к ним по усыпанной гравием дорожке. — Вы не должны злоупотреблять добротой дяди Тэвишкеша. У дяди Тэвишкеша есть и другие дела, кроме как с вами играть. Вы не должны его дольше удерживать, нельзя! Ступайте сейчас же отсюда!
Дети нехотя разбрелись, хоть покинутый ими Тэвишкеш и подавал им издали поощрительные знаки, обращаясь при этом к своему сиятельному хозяину с такими словами:
— Так ведь я-то все равно завтра здесь буду.
— К-как? — заикаясь, пробормотал граф, смущенный этим поразительным заявлением. — Неужели они вас все-таки уломали? Да вы их не слушайте!
— Тут маленькие графья ни при чем, — с расстановкой, таинственно озираясь и приглушив голос до шепота, произнес Тэвишкеш, — это я из соображений высшего порядка.
— Из соображений высшего порядка? Я вас что-то не понимаю, — улыбнулся граф, — того и гляди, вы разожжете мое любопытство. Вы, конечно, оставайтесь, любезный Тэвишкеш, я только рад буду, но какие же это соображения высшего порядка?
Тэвишкеш склонился совсем близко к уху графа и, лукаво сощурив глаза, шепнул:
— В деле замешана женщина, если уж говорить начистоту.
— Женщина? — Эксканцлер так удивился, что большие голубые глаза его округлились и даже рот раскрылся.
— То-то и оно, о женском сословии речь. В этом все дело.
— Вот тебе на! — произнес граф совсем тихо. — А сколько лет теперь вашей милости?
— Шестьдесят с хвостиком.
— А хвостик-то длинный?
— Да семерочка полная.
— Ишь какой вы! Поздравляю вас, любезный Тэвишкеш. И что же, особа эта находится тут, в замке?
— Тут, — ответил Тэвишкеш загадочно.
— Кто же она?
— Гм. Вот этого-то я вам и не могу сказать.
— Вы меня удостоили такого доверия, так будьте уж откровенны со мной до конца.
— Но вся штука в том, — отговаривался Тэвишкеш, — что та самая особа ничего не должна подозревать.
Граф совсем опешил.
— Чего именно не должна подозревать?
— А что мой выбор пал на нее.
— Позвольте, Тэвишкеш, но я вас совершенно не понимаю. Или вы несете чепуху, или у меня в голове путается. Вы говорите о любовном приключении и хотите, чтобы женщина не знала о нем. Да ведь так же ничего не получится…
— Ах, вон вы куда?! — захохотал Тэвишкеш, утирая рот. — Тоже придумаете, ваше сиятельство! Хорошо, нечего сказать, судите вы о Йожефе Тэвишкеше! Ай-ай-ай! Это я, я-то? (Тут он снова принялся хохотать.) Ох, беда мне, моей грешной головушке. Да мне не до жиру — быть бы живу. Я о сыне думал, дорогой мой графушка, — ведь как-никак шестьдесят семь мне… посмотрел я, посмотрел на этих девиц прехорошеньких, что снуют тут у вас по двору, подумал, что сына уж давно женить пора, и тотчас высмотрел для него одну пригожую — дома-то среди неотесанных мужичек и выбрать некого. Мне-то хотелось бы все же чего-нибудь получше, поизысканнее для своего щенка. Чтоб и наряжаться умела, но и взяться было б за что, да и силенок чтобы хватало. Женщина ведь тоже должна уметь поднять одну пожоньскую меру, иначе она только на мыло и годится. Словом, высмотрел я тут одну, с виду — как раз то, что надо, вот потому хочу остаться у вас еще, чтобы змеиным оком проникнуть и в нутро ее, узнать, что за штучка, каков у нее характер, поведение да ловка ли в работе, и все это так, чтобы она о том не ведала. В общем, я тут теперь вроде шпиона какого.
— Теперь-то я понял, — смеялся граф над недоразумением. — Умный ход, почтенный Тэвишкеш. Ну, а служанкам моим, какую ни выберете, великая честь. Шутка ли, черт побери, прислуга у Форгачей и вдруг на тебе: молодая хозяйка в доме Тэвишкеша!
Такая речь, видно, задела самолюбие Тэвишкеша, и он надменно отпарировал:
— Могли бы мы, конечно, и какую-нибудь барышню из замка приглядеть, но я хочу такую, чтоб из воли моей не выходила, носу передо мной не драла.
— Ну, конечно, конечно! (Граф явно заинтересовался этой историей.) Но, быть может, и я мог бы дать вам полезную информацию, если бы вы шепнули мне ее имя.
— Ни за что на свете, — воспротивился Тэвишкеш. — Скажи я вашему сиятельству, — пусть даже ваше сиятельство никому не передаст, — все одно я утратил бы веру, что девушка эта не из расчета показывалась такой, какой я ее видел.
На это возразить было нечего, Тэвишкеш был прав (какой же он умница, что за трезвый рассудок!) — граф и не стал его больше расспрашивать, но все же не утерпел, чтобы вечером перед сном не поведать новость графине.
А это подействовало так, будто он пустил к ней в постель живого муравья: она всю ночь не давала супругу спать, металась в постели, гадая, на которую же из камеристок (а вдруг на француженку-гувернантку?) пал выбор, а поутру первым делом пошла на кухню, где готовили завтрак, и под великим секретом рассказала все прислуге:
— Смотрите будьте начеку, ведь богач Тэвишкеш хочет выбрать среди вас невесту для сына.
И с этой минуты Тэвишкеша в замке стали обхаживать и улещать, как какого-нибудь средневекового правителя. Камеристки, гувернантки, швеи, угадывая желания гостя, вьюном вились вокруг него, через каждые два часа из его комнаты зеленой веточкой изгонялись мухи, стоило ему присесть в сосновом бору, как сразу не одна, а две-три мчались следом, чтобы подставить ему под ноги скамеечку, и нужно было видеть, как шустро подносились на лопаточке угольки, едва он возьмется за свою трубку. Нашему Тэвишкешу, будто царьку какому-нибудь, оставалось только защелкнуть на ней сверкающий серебряный колпачок.
К полудню в замок явился управляющий и, увидев, что Тэвишкеш сидит на скамейке меж сосен и пускает колечки из трубки, удивленно заметил графу:
— Что это, старик все еще тут?
— Как видите, — ответил бодро граф, — но теперь-то мы уже знаем, почему он тут.
* * *
А ведь совсем и не знали. Пройдет еще неделя, не меньше, прежде чем все выяснится, да и то не здесь, а в Болоньо. На Синем же камне этого, быть может, никогда и не узнают.
В Болоньо, примерно через неделю после описанного, приехал еврей Мурцук из Сирака. Он искал почтенного Тэвишкеша по какому-то важному и срочному делу, но тот все еще не вернулся домой.
— Уехал хозяин-то мой, — жаловалась жена Тэвишкеша, как раз месившая тесто. — Ох-хо-хо, где-то он теперь! Занемог ведь хозяин наш, бывает, чуть не задохнется от кашля, до судорог прямо… Как только душа у бедного не выскочила… а по ночам жар большой, уж так иной раз лицо распалится, голубчик мой Мурцук, что твой утюг, а грудь ходуном ходит, как добрый мех в кузнице. А тут как раз доктор прибыл к его благородию господину управляющему. Пошла я за ним. Пришел доктор, осмотрел его, и тут же высказал свой приговор. Здесь, говорит, большая беда, надо бы, говорит, легкие переменить, а как это невозможно, пускай хотя бы климат переменит; сию же минуту, не медля ни одного часа, пускай садится в тарантас и, сколько бы это ни стоило, едет без передышки в ту сторону, куда ласточки улетают, и остановится лишь у моря или в Татрах, где на соснах рябчики сидят, — словом, надобно ему в такое место уехать, где сосны растут, и недельки эдак три прожить там, не то воспаление легких и смерть. Тут отец наш перепугался, запряг, поехал и вот теперь уже шесть недель сорит где-то деньгами. Ох, уж мне эти доктора! Разве у них есть совесть? Боже ты мой, что станется с этим светом, скажите вы мне? Пришла беда — открывай ворота: мало того, что колеса вечно приходится крепить, а тут на тебе — еще и легкие укрепляй!
— А вы, часом, не знаете, куда он поехал? Я бы написал ему, — запричитал сиракский еврей.
— Не знаю я. душа моя Мурцушка, — ответила жена Тэвишкеша, — потому как он ничего не сказал, когда уезжал. Знаю только, что бедняжка где-то коротает лето.
1908
ФЕРЕНЦ РАКОЦИ ЖАЛУЕТ В ДАР
Перевод И. Миронец
Во время памятного Сословного собрания в Шарошпатаке в 1708 году * достопочтенный Миклош Берчени — правая рука князя — шестого декабря по случаю дня своего рождения устроил пир на весь мир, где было истреблено великое множество вин и съестного, так что на другой день, седьмого декабря, даже сессия не состоялась, поскольку большая часть представителей сословий занемогла. Между тем произошло любопытнейшее событие: приволокли в цепях предателя Имре Безередя, за удалую голову которого с той минуты никто не дал бы и ломаного гроша.
На этом пиру заболела и сама госпожа Берчени, урожденная Кристина Чаки, особа весьма сладострастная и податливая, «foemina luxuriosa et mollis»[43], как отметил в своей, сохранившейся в библиотеке реформатской школы, рукописи учитель Янош Чечи. Но тут же надобно сделать оговорку: господин Чечи лицо пристрастное, ибо он был сильно обижен на весь род Чаки, поскольку Иштван Чаки расквартировался в его доме и за время сессии основательно попортил в нем все, даже попалил заборы.
Владетельный князь был весьма расположен к графу Берчени и чрезвычайно умело потворствовал его тщеславию, единственной слабости этого знаменитого своей отвагой человека. Берчени и сам признавал это и годом раньше, на одном пиршестве в Кашше, когда кто-то спросил его, смог ли бы он покинуть Ракоци, сказал:
— Нет на свете тех сокровищ, за которые я оставил бы Ракоци, но взгляни он хоть раз на меня косо — и не видать ему больше Берчени.
Вот Ракоци и был неиссякаем в милостях к его персоне. И теперь, когда госпоже Берчени нездоровилось, он — иной раз и дважды на день — инкогнито покидал свой расположенный на территории крепости дворец, чтобы лично справиться о ее самочувствии, отчего, разумеется, больной легче не становилось, хоть он и захватывал с собой различные пилюли и снадобья, зато супругу ее такое внимание князя льстило.
А ведь эти визиты были, наверное, в тягость властителю, так как, к слову сказать, город Шарошпатак был достоин своего честного названия *, и по его улицам в дни зимней оттепели была такая распутица, что ночному сторожу приходилось объезжать город на телеге, запряженной четверкой волов, чтобы он мог ежечасно выкрикивать время ради удобства и спокойствия высоких и высочайших особ — ибо даже самые малые из тех, что расквартированы были в городе, имели чин не меньше офицерского; лучшие квартиры получили главный гофмейстер Адам Ваи, главный распорядитель барон Иштван Сегенеи, supremus foedinarum administrator[44] Готфрид Хелленбах, посланник кайзера Габор Толваи, прибывший из Вены для мирных переговоров, juris oeconomici praeses[45] Ференц Клобушицкий, generalis campi mareschallus[46] Шандор Кароли, прибывший прямо из блистательной Порты посол Янош Папай и другие по-разному титулованные магнаты. Даже посланцы комитатов (тоже шишки немалые) были расквартированы уже лишь в окрестных селах. В Шарошпатаке расположилась только самая крупная знать, да и то не всем хватило места. Речь-то ведь идет не о каком-нибудь непритязательном сборище неприхотливых людей, у которых, кроме господа бога, да плаща, да баула и нет ничего — венгерский барин и в преисподней барином останется. Один только Иштван Чаки привез с собою восемьдесят прихлебателей с прислугою вместе и занял целую улицу; Шандор Кецер, кроме челяди своей, свору гончих прихватил, а барон Иштван Сегенеи — свой постоянный цыганский оркестр, двух иезуитских монахов да придворного шута.
Зная все это, умный человек смекнет, сколько же бездельников сопровождало в таком случае Берчени, а уж о самом князе и говорить нечего, — словом, о том, чтоб и Берчени разместить во дворце, не могло быть и речи. Пришлось выселить из квартир главного управляющего княжеских владений старого Матяша Надя вместе со всеми прочими служащими имения, и здесь, возле самого дворца, разместить Берчени соответственно его сану.
Именно эта близость и сделала посещения князя, о коих уже было упомянуто, столь обременительными для него: ведь смешно было бы проделывать эти несколько шагов верхом или в экипаже — вот и приходилось ему влезать в свои тяжелые охотничьи сапоги, натягивать большой медвежий полушубок и, как простому смертному, в грязи до колен топать через двор вместе со своим любимым пажем Яношем Ибрани, несшим под мышкой «аптечку».
Каждый день выходя из дворца и потом возвращаясь, князь приметил у входа в крепость старую чету, крестьянина и крестьянку, одетых бедно, но опрятно. На голове у мужчины была овчинная шапка, на ногах — постолы. Одет он был в грубошерстные некрашеные штаны и так называемую поддевку; дополняла наряд болтавшаяся на боку котомка. Верхнюю часть тела женщины защищал от холода поношенный кожух со следами некогда вышитых на нем тюльпанов, голова была повязана толстым серым платком, из-под которого едва виднелось ее морщинистое, но смышленое лицо; черные со все еще моложавым огоньком глаза сверкали живо, как у ящерицы, все вокруг подмечая.
— Будь она мужчиной, — заметил как-то князь, снова увидев караулившую кого-то у ворот крестьянку, — можно бы подумать, что это шпион лабанцев *.
— А что, если в юбку наряжен мужчина? — усомнился паж.
— Да ну, просто подаяния ждет, только и всего. Дай ей на обратном пути серебряный да спроси, по какому делу пришла.
Так и сделал паж, возвращаясь. Старики как раз сидели у ворот на камне и завтракали, доставая еду из сумы; скудный же это был завтрак: лук да хлеб черный. Паж прошел вперед и бросил в передник женщине серебряную монету.
Та взяла ее и тут же вернула.
— Не милостыни я тут дожидаюсь, барич, а правды, — сказала она, как бы выговаривая ему, твердым и смелым голосом.
— Что вы называете правдой, тетушка?
— Мне нужно пресветлого князя повидать.
— Гм, это не так-то легко.
Да, это было нелегко. У тогдашних всесильных властителей еще не было заведено давать аудиенцию. Они были земными богами, доступ к которым имели только избранные. Теперь от бедняка лишь синее небо так отдалено, как в то время какой-нибудь правитель, — и мог он все ноги исходить, так и не добравшись до властелина. Случались, правда, уже и в те времена искавшие популярности правители, которые останавливались на улицах, выслушивали простых граждан, рядовых солдат, крестьян, — словом, желали стать притчей во языцех. Впрочем, таким был один только Генрих IV. Ракоци же особенно заботился о том, чтоб держать от себя людей на почтительном расстоянии. Он знал венгерский характер. Знал, что только тогда сможет сохранить свой авторитет среди вельмож, с коими связан бесчисленными родственными узами, если останется на недосягаемой для всех высоте, в полумистическом тумане, меж молний и туч, если он будет не просто властелином, но сверхвластелином.
— Трудно, трудно, барин молодой, — согласилась с пажем старуха, — потому как у меня в кармане всего только два талера. Я уж сулила их стражнику, да ему, видно, это показалось мало, не пустил меня, чертово отродье, прибери его дева Мария. Эх, кабы было у меня чем позолотить ему руну…
— Так ведь нету же… Не могу понять, чего вы тут ожидаете да мокнете понапрасну (Как раз пошел снег.).
Старушка хитро улыбнулась.
— Стражников-то часто сменяют. Среди солдат пойдут толки о моих двух талерах, и, думаю, найдется же среди них и порядочный человек. Вот я и жду двухталерового стражника.
— Ты спроси, чего ей надо от князя? — тихо приказал пажу Ракоци.
Старушка услыхала эти слова и ответила прямо человеку в полушубке:
— Что с вами толковать-то! Вам что прикажут, вы то и делаете! Я на таких как раз и жаловаться собралась. Говорить, так уж с самим!
Ракоци настолько забавлял этот разговор, что он и сам стал поддерживать его: ничего, гофмейстер господин Ваи не осудит, так как не узнает о нарушении этикета.
— Где вы живете? — спросил он у женщины.
— Все в Талье, с тех пор как замуж вышла. Вон за него, — добавила она, указав себе за спину.
Крестьянин собрался что-то сказать, но жена не дала ему раскрыть рта: «Твое дело — держать язык за зубами».
— А вы узнали бы правителя, встретившись с ним? — спросил снова Ракоци.
— Я-то вряд ли узнала бы, разве что по перу черной цапли[47] на шляпе, но он, наверное, узнал бы меня.
Этими словами она совсем рассмешила Ракоци.
— А вы захватили с собой свою правду в письменной форме? — спросил он.
— А как же, есть и это, есть и кое-что другое. Такое есть, отчего светлый князь, ежели увидит, опустит голову на стол, да и заплачет горькими слезами.
Властитель вздохнул. Что и говорить, такого доводилось ему видеть немало. Сразу вспомнилось множество неприятных дел, ожидавших его. Ничего более не сказав, он поспешил в свои апартаменты переодеваться. Тяжелые сапоги сменил на легкие, из желтого сафьяна, надел темно-лиловый брокатовый доломан, а тем временем дежурный камергер доложил об управляющем патакских владений Матяше Наде.
Матяш Надь, кого называли «двуглавым», был в доме своим человеком, наиболее близким к Ракоци, единственным, кто мог входить к нему в любое время, днем ли, ночью ли, и в любой одежде. Это был неказистый старичок с короткой шеей, но, вероятно, за счет недоросшей шеи у него была двойная голова: на макушке виднелась не то шишка, не то бородавка величиной с доброе яблоко. Ее-то и называли в Патаке «малой головой» почтенного Матяша Надя.
— Пусть войдет! — сказал Ракоци, после чего створки двери тотчас распахнулись, и к его сиятельству вошел низкорослый коренастый господин с открытым лицом; кряхтя и отдуваясь, он с трудом тащил перед собой большое выкрашенное в зеленый цвет ведро, из которого торчал побег, а на нем, приветливо покачиваясь, красовалась полураспустившаяся роза.
Князь недоуменно уставился на вошедшего.
— Какого черта вы тут приволокли?
— Ну, не самого черта, — ответил управляющий, — только его семя, ваша светлость. Как вы сами изволили вчера вечером приказать.
— Я? Не помню, чтобы я просил у вас когда-нибудь герань или розу. Для такого дела, не посетуйте, но я позвал бы кого-нибудь другого.
Со своим старым слугой князь, как водится, был на короткую ногу, шутил с ним, поддразнивал его, зато и Надь, в свой черед, мог говорить князю то, чего прочие смертные сказать бы не осмелились, поэтому его все почитали и уважали: даже графы и графини старались снискать его расположение и протекцию.
— Сие до тех пор лишь будет цветком, serenissime princes[48], покуда мне это угодно, — ответил управляющий спокойно и выдернул из земли зеленую ветку с бутоном: тут стало ясно, что она без корней и воткнута просто так, для отвода глаз.
— А теперь уж и вовсе голая земля осталась. Не ее ли вы собрались поднести мне? Впрочем, старина, еще может наступить такое времечко, — продолжал он, помрачнев, — что и она пригодится, и ей рады будем…
— О, сие лишь до тех пор земля, — возразил господин Надь, — покуда мне это угодно. — С этими словами он начал осторожно сгребать сверху землю и высыпать ее (из почтительности) в единственное здесь не столь уж аристократическое место — в карман собственного сюртука. Вскоре из-под слоя земли в ослепительном блеске показалось истинное содержимое ведра: чистое кёрмёцкое золото, заполнявшее ведро почти доверху.
В самом деле, князь велел к нынешнему утру доставить ему из кассы имения пять тысяч золотом, что и было выполнено теперь управляющим.
— Но к чему вся эта комедия? — журил его князь. — Хорошо еще, если вы на старости лет не надорвались, пока дотащили этакую тяжесть сюда наверх. Эта выдумка, разумеется, опять родилась в вашей малой голове.
— Уж тут вы положитесь на меня, ваша светлость. Засыпь я это, как водится, в ящички да мешочки, тут, где и стены глаза имеют, эти дармоеды тотчас же догадаются, что я несу, налетят на вас и, как всегда, выманят, выклянчат все. Они же вечно голодны, и у вашей светлости снова не останется денег на свои нужды. Знаю я их, бездельников. Но куда же высыпать? Кругленьких пять тысяч, без изъяна.
Князь открыл один из шкафов, в котором был объемистый ящик, «личная шкатулка», так сказать, — в него-то и высыпал Надь золотые монеты.
— Две монеты вы вставьте при себе, — приказал князь, — там, у ворот, стоят крестьяне, муж и жена, вызовите их, отдайте им деньги, а заодно разузнайте от моего имени, по какому они делу, что у них за беда, и доложите мне — где бы я ни был.
На словах где бы я ни был он сделал особое ударение. Затем он пошел к мессе в натопленную часовню, против обыкновения, несколько поздно, так как его священник захворал этой ночью, схватил воспаление легких, и пришлось — ибо Ракоци требовал неукоснительного проведения мессы ежедневно — посылать за домашним священником господина Чаки — Дёрдем Таяни, который, в свой черед, всю ночь играл в деревушке Талья в карты с посланцами комитатов, и его с трудом разыскали и доставили во дворец.
В связи с тем что воды Бодрога после обильных дождей попортили кое-где мосты и депутаты под воздействием vis major[49] ни в тот день, ни накануне не могли попасть в город (хотя почему бы им и не попасть: ведь поп каким-то образом попал же к ним), сессия в эти два дня не состоялась.
По праздникам и свободным от сессии дням здесь вошло в обычай, что наиболее приближенные к князю вельможи сходились в приемные на lever[50], по образцу «cousin»[51] Людовика XIV или их величеств английских королей — с той лишь разницей, что там было принято собираться к утреннему туалету короля и, пока ему по одной подносились части туалета (брюки, например, подавал архиепископ Кентерберийский), его развлекали легкомысленными придворными сплетнями, а при дворе Ракоци вельможи собирались лишь к полудню и обсуждали вопросы предстоящей сессии. И на сей раз — князь это предугадывал — непременно должна была возникнуть особенно печальная тема обсуждения: все жаждали поскорей договориться об участи Имре Безередя — под знаком казни пойдет обсуждение на завтрашнем заседании или ограничатся приговором о недолговременном заключении, впрочем, Берчени был крайне раздражен всем этим и настроен добиваться смертной казни, само же благородное Собрание было и вовсе в ярости. Один только князь предпочел бы спасти Безередо жизнь, но это возможно только в том случае, если обсуждение оттянется хоть на неделю, пока всеобщее негодование уляжется.
Итак, он умышленно медлил со своим выходом в приемный зал, где, собравшись полукругом, его ожидали уже придворные.
На счастье, он должен был сначала утвердить несколько законов, потом упразднить некий налог, далее занялся рекомендациями, принятыми 30 ноября, которые потребовал зачитать дважды, выдвигая различные вопросы и придумывая всяческие оговорки, только чтобы затянуть время. Суммы, утвержденные Собранием на те или иные нужды войск, казались ему то слишком большими, то, наоборот, чересчур скудными. «Пятьдесят шесть тысяч век * зерна в месяц на семьдесят пять полков — ведь так, кажется, определило собрание? А ну-ка прикиньте, господа, не мало ли получается? Одиннадцать тысяч центнеров мяса… Подсчитайте, господин Пал Радаи, сколько латов * приходится на одного куруца в день?» Затем последовал разбор жалованья офицеров, «цивильного листа» в сто тысяч форинтов на личные расходы Ракоци, в пятьдесят тысяч — на расходы графа Берчени, двадцать пять тысяч — графа Чаки, двадцать тысяч — главного гофмейстера Адама Ваи. «Хорошенько обдумайте, господа, не слишком ли это много будет?»
И, внезапно обернувшись к зевавшему в уголке Готфриду Хелленбаху, с тихой иронией предложил:
— Что ж, сударь, поразмыслите, как бы открыть ради этого какую-нибудь крупную золотую жилу в горных районах, которые нам уже не принадлежат?
(В то время Кёрмёц, Бестерце, Брезно и Зойом были уже заняты лабанцами.)
Подписывая документы, дабы присутствующие не могли заговорить с ним, Ракоци беспрерывно говорил сам, подробно излагая недавние переговоры о перемирии с посланником императора, пока не пожаловал Берчени (его милости крупно везло в тот день) и, дождавшись из приличия бреши в речах князя, тут же вклинился в нее.
— Что было, то прошло, наш милостивый государь, а теперь, думается мне, разумней было бы обсудить нечто, касающееся будущего, дабы из этих высоких палат продиктовать какую-либо директиву сословиям, воля которых распылена. Я подразумеваю преступление бестии Безередя. Поскольку оно завтра, вероятно, будет обсуждаться на заседании.
— Может быть, это не столь уж срочно, — заметил с досадой Ракоци.
— Вот именно срочно! Надобно показать устрашающий пример, — горячился, по своему обыкновению, Берчени, — ибо мягкость наша приведет лишь к тому, что все наши люди разбегутся. Вот и сейчас этот негодяй-лютеранин Шандор Платти, ох, попадись он мне еще раз…
Он не успел докончить фразу, как в распахнувшихся внезапно дверях появился знакомый нам Матяш Надь с маленьким узелком в руке.
Берчени злобно повернулся, Адам Ваи нахмурился, как и всякий раз, когда замечал нарушение церемониала, и только красивое, румяное лицо князя прояснилось, он сделал навстречу вошедшему несколько шагов и оживленно спросил:
— Ну, что у вас, Матяш?
— Я уж всяко допытывался у старушки, — доложил он своим певучим голосом, — но она все просит, чтоб допустили ее к вашей светлости, не пожелала изложить мне ни жалобу свою, ни просьбу, а велела передать вот эту дребедень. Говорит, как увидит это ваша светлость, тотчас же и пропустит ее.
— А ну-ка, посмотрим!
Старичок развязал узелки пестрого платка, и из него показался выцветший, шитый серебром, красный детский жилетик.
— Право, не понимаю, что это значит. (Ракоци неуверенно обвел взглядом своих придворных — не поможет ли кто разъяснить загадку, — и вдруг приказал управляющему взглядом.) Введите, Матяш, женщину!
Маленький промежуток времени до ее прихода князь использовал для того, чтобы пересказать свой утренний разговор с крестьянкой, который одним из присутствующих понравился, другим нет. Берчени, например, очень любил такие вещи, он повсюду возил с собой анекдоты о знаменитом дудвегском сухоточном мельнике Хабакуке. Зато брови главного гофмейстера, почтенного Ваи, зловеще подскочили на лоб, будто протестуя перед богом и людьми против такой неслыханной дерзости: чтобы княжеская мантия и вдруг осквернилась духом мужицких ошметок! О, боже, боже, как трудно вылепить совершенного короля! Уж он ли, оставаясь с serenissinusom, не беседует с ним, приводя различные поучительные примеры о вреде чрезмерной общительности с простолюдинами, подрывающей авторитет властителя, напоминая о том, что в римском храме святого Петра есть мраморное изваяние Иисуса Христа, ноги которого имеет возможность лобызать любой проходимец — и что же? Кончилось тем, что их процеловали — вылизали до дыр, того и гляди, вовсе ног не останется. А ведь это Христос, к тому же из мрамора! И к нему подходят лишь с поцелуями, в то время как к князю могут пробраться такие, которые не прочь и укусить.
Все это так, но на этот раз уже ничем делу не поможешь, ибо скандал произошел: Матяш Надь ввел тальскую крестьянку.
Она нисколько не казалась испуганной и шагала с уверенностью гренадера. Ее грязные, промокшие сапоги скорее чавкали, чем стучали. Только навостренный взгляд беспокойно искал князя среди уставившихся на нее господ, пальцем же — ибо женщина есть женщина — она, послюнив его, приглаживала выбившиеся из-под платка седеющие волосы.
— Станьте вот тут, — предупредил ее патакский управляющий, удержав на известном расстоянии от группы сановников, — и изложите перед лицом великого князя свою просьбу.
— Сказать-то я скажу, — ретиво отпарировала старушка, — но сперва укажите мне, который из них князь?
— Это я, — послышался ласковый голос, и она увидела, как вперед выступил самый красивый и самый статный витязь, только странным показалось ей, что именно у него одного не было ни сабли, ни ментика.
Оглядела она его с головы до ног, потом подозрительно спросила:
— Ференц Ракоци, тот, который Второй?
У князя эта фраза старушки вызвала улыбку, и по улыбке крестьянка узнала его. Лицо ее мигом залилось слезами.
— Что это за детский наряд вы мне прислали сюда, голубушка?
— Разве не узнаешь, сердечко мое? — вырвалось у нее с неудержимой силой, и слова полились потоком, неразборчивые от душившего старушку волнения. — Это же твой жилетик, ненаглядный ты мой. Ты носил его, когда был еще таким вот, как этот мой кулак. Все еще не признал? Ах ты, такой-сякой негодник! Да ведь я та самая Париттьяш, которая…
Только и успела сказать, но и это было больше, о, гораздо больше того, что могла выдержать взыскательная душа главного гофмейстера Ваи: схватившись за виски, будто в них с обеих сторон вонзилось по стреле, он прыгнул к двери, распахнул ее и крикнул телохранителям, чтобы увели сумасшедшую. Телохранители подбежали, схватили старушку, но князь знаком остановил их — пусть, мол, говорит. Телохранители отступили, но стоявший рядом с крестьянкой добродушный Матяш Надь все-таки тихонько пожурил ее:
— Почтительней говорить надобно! Как можно так разговаривать с его сиятельством? Хоть бы на колени, бабка, опустилась!
Она же со смелостью неведения, переполненная какими-то своими чувствами, ответила:
— Ну уж он-то от меня этого не потребует, довольно стояла я перед ним на коленях, когда учила его ходить да ползала с ним: гопп-гопп, потому как я и есть кормилица его светлости. Мое молоко сосал он в Борши. И вам, господа хорошие, знать это надобно да так и глядеть на меня, как на его кормилицу и воспитательницу. Ведь я и в Мункаче была, при его маменьке. Ох, и вырос же ты, касатик, ишь молодцом каким стал! Но как же это не распознал ты тетку Париттьяш?
Лица вельмож и в самом деле смягчились, даже спесивый Берчени не погнушался подойти к ней и пожать ее мозолистую руку, да так, что ладонь захрустела: «Но, но, полегче, барин, больно ведь».
Ракоци стоял со скрещенными руками в глубоком раздумье; какая-то неведомая сила смела вдруг заросли лет. Таким знакомым и сладостным казался ему этот голос, голос колыбельных песен и сказок, укачивающего гульканья, который подхватил его теперь и помчал назад, назад, пока, наконец, не привел в омытую щемящими воспоминаниями детскую комнату, где он — топ-топ — расхаживал в красном, шитом серебряными пуговками жилете.
— Я все вспомнил, — сказал он приглушенно, растроганно. — Вас Жужей зовут, правда?
— Так, так, сокровище мое! — возликовала старушка, и ее небольшие черные глазки вспыхнули, как светлячки. — Жужанна Катона мое девичье имя.
Заметно было, что князь искал слова, достаточно торжественные для такого случая, — но сейчас ему в тягость был его высокий сан, он был просто человеком.
— Значит, это ты? Как же ты постарела, бедняжка! Что, много работать приходится, милая?
— Меня удары состарили до времени, и именно ты — ох, прости господи меня глупую! — именно ваша светлость нанесла мне самый тяжелый из них. Сердита я, ох, сердита я на тебя, ваша светлость! Такому славному да отважному князю все ж поумнее править страной следует. Раз дело не идет, стало быть, и не надо. Бога надобно помнить, голубчик ты мой, ваша светлость. Он ведь всех прочих господ важнее будет. А я уже пять лет, как горюшко свое безмерное с собой несу…
— А ну, мамаша, смелее, — весело вмешался Берчени. — Выкладывай-ка нам свои беды.
Но «мамаша» и не оглянулась на него, она обращалась только к Ракоци.
— Когда светлость твоя дитем малым была, — повысив голос и воинственно подбоченясь, продолжала она, — моим молоком ты питался. Так или не так? И уж я кормила тебя, ничего для тебя не жалела. Но куда же это годится, чтобы и сейчас, когда стал ты властвовать над целыми странами, рука твоя опять к моему молоку тянулась!
— Я не понимаю тебя, добрая женщина!
Париттьяш расстегнула полушубок и, вытащив из-за пазухи пожелтевшую бумажку, протянула ее князю, а сама продолжала трещать языком, ни на миг не останавливаясь:
— Я расскажу по порядку все, что до этого касается. Было у нас двое взрослых сыновей и одна корова, они и содержали нас, стариков. Коровенка — она как раз телочку принесла — давала десять кварт молока в день. Окаменеть мне здесь же, в этой самой патакской крепости, если я вру. Ну, ладно. Пять лет тому открылась несчастная эта война. Заиграли трубы, повсюду стали седлать лошадей. Коня у нас, правда, не было: мы ведь бедные батраки, коровенка наша только то и ела, что я, бывало, по обочинам дороги насобираю да в корзине своей принесу, но зато было у нас двое сильных парней. А ну, говорю, сыночки, хватит дома сидеть! Марш, собирайтесь в дорогу! Мой маленький господин с императором дерется. Ступайте, выручайте своего молочного брата! И они пошли. Как же было не пойти-то. И теперь они там где-то, дерутся на славу, коль не поумерли с тех пор. Ничего, думаю, обойдемся как-нибудь, останется ведь корова со своей телочкой. Двум старикам с нашей Бимбо жить — что у Христа за пазухой. Но не тут-то было. Подумайте только! Проходит мимо как-то куруцкий отряд, и капитан силком забирает моих скотинок, потому как, говорит, отряд питаться должен. Уж я и плакала, и молила: «Оставьте дома коровенок, двое моих сыновей и так уж воюют». — «Потому и берем, — ответил капитан, — где молодцы, там и коровы должны быть, парням есть надо». Пес безбожный, прибери его дева Мария, увел все же, а мне оставил вот эту квитанцию: князь, мол, потом заплатит. Потому я и бью челом тебе, ваше сиятельство.
Ракоци взял реквизиционную записку, заглянул в нее и добродушно сказал женщине:
— Корову, тетя Жужа, вернем, и на том — мир.
— Да ведь при ней и телка была, — встрепенулась Париттьяш.
— Будет и телка.
— Я и так в убытке останусь: сколько телят принесла бы она за это время!
— Ладно, мы и над этим подумаем по-отечески. А покуда, голубушка, ступай вниз и отобедай вместе с мужем своим на кухне для челяди. Я еще сегодня вызову тебя.
Матяш Надь поспешил было увести крестьянку, но князь остановил его.
— Она и сама дорогу найдет, а вы, старина, останьтесь еще, получите кое-какие распоряжения.
Матяш Надь, вместо того чтобы по придворному обычаю поклониться, кивнул головой.
(«Легко ему дерзить князю, коли у него две головы, — говаривал Иштван Чаки, — одну снимут — другая останется».)
— Высчитайте, — приказал ему князь, — сколько телок может народиться у одной коровы за пять лет, учитывая также и возможный succrescentia[52] самих телок.
Приближенным понравилось такое решение, в особенности остался доволен Берчени, и человек пять-шесть сразу же взялись за вычисления, будто это было теперь самым важным вопросом для Венгрии; они то и дело запутывались в расчетах, так как были весьма плохими счетчиками, пока, наконец, у господина Хелленбаха, человека, знакомого с цифирью, получилось девятнадцать голов: старая корова, родоначальница, так сказать, телка и дальнейший их приплод, бычки и телки, — ежели считать, что отнятая у Париттьяш телка была тогда двухлетней.
— Итак, господин Матяш, подберите на нашей ферме девятнадцать голов скота и велите пригнать сюда, к нашему замку.
— Они будут здесь, — ответил Матяш Надь елейно.
— Они будут здесь, но что будут есть? — вставил шутливо Берчени, приходивший в восторг всякий раз, когда князь выбрасывал такие колена, весть о которых затем гремела по деревенским лачугам.
— Верно! — откликнулся князь. — Ступайте-ка, Матяш заодно и в канцелярию, пусть составят там сразу же дарственную запись от нашего имени для жены Париттьяша, урожденной Жужанны Катона на луг в сто кил *, который еще сегодня будет выделен моим землемером из патакских владений.
— Виват! — неистовствовал Берчени. — Да воздаст господь Ференцу Ракоци за его доброту славой его оружия!
— Аминь, — прогудели остальные хором.
Матяш Надь между тем поспешил в канцелярию, где тотчас же поднял всех на ноги: ведь князь, ежели задумал что, точно на иголках сидит, пока не выполнит. И вот лучший каллиграфист Балаж Карлаи красиво вывел красным заглавную букву N, но едва успел написать «Nos Franciscus Rakoci de Felso-vadasz…»[53] как ворвался паж Ибрани: прекратить-де писать дарственную, ничего из этого не выйдет, и пускай господин Матяш Надь немедленно вернется к князю.
Почтенный Надь бросился со всех ног и в два счета очутился перед Ракоци. Вид князя был мрачен.
— Дарственную запись, — сказал Ракоци тихо, — я должен отменить, поэтому и послал за вами.
Вельможи ошеломленно переглянулись.
— Моя земля — земля плохая.
Он произнес это с глубокой тоской. Это тоже показалось сановникам необычным. Гофмейстер, забыв про учтивость, невольно воскликнул:
— То есть как плохая?
Но тут же ему стало неловко от собственной бестактности: horribilis![54] — и это он, главный гофмейстер! — он осмелился перебить высочайшую речь!
К счастью, князь не заметил этого, по крайней мере, никак не реагировал, его полностью поглотили собственные мысли.
— Я придумал нечто иное, — добавил он, улыбаясь, — как-никак я и на самом деле тот Ференц Ракоци, который Второй. Но продолжим. Знаете ли вы в Патаке такого землевладельца, что клонит к императору?
Господину Матяшу Надю этот вопрос пришелся не по вкусу, и, как обычно в таких случаях, он стал поглаживать нарост, свою «верхнюю голову».
— Такого землевладельца? — протянул он. — В Патаке? Нет. Плохой то был признак, когда он прибегал к кратким ответам.
— Ну а такого, скажем, мямлю, который и вашим и нашим? — продолжал допытываться Ракоци.
Господин Надь покраснел, как рак в кипятке. Горло его сжалось, на висках вздулись жилы.
— Gratia[55] голове моей, serenissime princeps, — прохрипел он, — но я дворянин!
— Знаю, знаю, брат мой, — ласково сказал князь, поняв беспокойство старика, — ты — Надь де Юрёгд. Но все равно, когда правитель спрашивает (он сдвинул брови), должно отвечать.
— Ну, стало быть, нет таких, — выпалил наконец в ужасных муках господин Надь.
— Ведь мы же не собираемся брать его на заметку и обезглавить не думаем. Следовательно, мы ждем от вас не denuntiatio[56], мы просто желаем купить у этого человека за наличные деньги участок в сто кил для бедной Жужанны Катона.
Только теперь господин Матяга начал понимать, в чем дело, как и прочие вельможи, которых бесконечно огорчил этот туманный план князя, ибо сквозь него проступили вдруг мрачные очертания грядущих времен.
Что же до Матяга Надя, то он повеселел, ибо в политике был несилен.
— Я знаю такой участок земли, — сказал он с облегчением.
— И он принадлежит именно такому человеку?
— Не человеку.
— А кому же?
— Вдове. Покойного Михая Шолтеса.
— Ну, это еще лучше. Ступайте и приобретите его на имя моей старой кормилицы. Чу, как раз полдень звонят, так что вдову дома застанете.
В самом деле, на кальвинистской башне загудел старый колокол; по укоренившемуся обычаю придворные стали по одному расходиться, так и не перемолвившись о деле Безередя, и князю нынче также не пришлось сказать решительное слово, а ведь qui habet tempus, habet vitam[57].
Оставшись один, Ракоци удовлетворенно опустился в кресло и, положив перед собой шитый детский жилет, долго разглядывал его, долго вспоминал минувшее.
Приближенные Ракоци удалялись молча, расстроенные, углубленные в свои думы, с поникшими головами. И только на дворе внешней крепости Готфрид Хелленбах нарушил гнетущую тишину.
— Держу пари, — заговорил он, — что правитель нынче в связи с этим случаем думал о том, что в один прекрасный день у него могут подчистую забрать все земли, дворцы, луга, мельницы и даже у этой бедной женщины ее клочок земли отберут за то, что им подарен.
Берчени, рассердившись, резко при всех оборвал его:
— Я скажу вам прямо: ежели это ваше открытие — все, что вы могли припасти для армии, то поджарьте его себе и съешьте на здоровье.
Но в глубине души храбрый Берчени сам понимая, что именно это и было у Ракоци на уме, и он всю дорогу не переставая ворчал, ругался, еще и дома бранил ослом foedinarum magistera за то, что тот навевает на войско, которое и без того уже рассеивается, печальные предчувствия.
Когда в час пополудни дежурный камергер вошел к князю с докладом, что обед подан, он застал его в кабинете за весьма странным занятием: князь заворачивал в бумагу маленький алый жилет. На другой день на пакете узнали его почерк: «Пусть это носит мой сын Дюри». По-видимому, он хотел послать пакет в Вену, к рождественской елке. Но кто же доставит пакет туда? Разве что сам черт или Яворка *.
Возвратимся, однако, к событиям того дня. Сразу же после обеда князя ждала большая радость: гонец принес весть, что господина Ласло Ваи, любимца князя, которого у Абрудбаня поймали сербы и в обмен за которого патакское Собрание намеревалось отдать плененного предводителя сербов Тэкели — вызволили его же солдаты, и он еще сегодня прибудет к князю.
Но еще большей была радость Париттьяшей, когда они увидали коровье семейство из девятнадцати голов и получили от управляющего снабженное печатью письмо, закрепившее за ними навеки пастбище в сто кил. Старый Нариттьяш подбросил в воздух свою барашковую шапку и, чуть было не помешавшись от радости, непременно хотел взобраться на самую большую корову и так, верхом на ней, гнать домой остальных.
Что до жены Париттьяша, то она расплакалась, точно малое дитя, и никак не могла унять слезы, сквозь которые неотрывно разглядывала своих великолепных коров.
— Боже, боже, кто мог такое подумать? Это уж слишком, это не про нас писано. Какие уж мы господа! Луг в сто кил!
Да нам уж и не обойти его нашими усталыми ногами. Графьев из нас все равно не получится. Лучше мне умереть на месте, чем лишить его светлость такого богатства.
Она умоляла господина Надя еще раз отвести ее к князю: она-де хочет сказать ему, что столько им не надо, а нужна всего-навсего своя корова. Надь успокаивал ее, как мог, объяснял, что нельзя уже ничего изменить, ибо то, что сказано правителем, — закон, коему следует подчиниться. Тут она присмирела, прося теперь позволить ей пройти хотя бы на минуточку к князю, чтобы только поблагодарить, только к ручке приложиться. Но господин Надь и на это не согласился. Наконец она стала его упрашивать передать князю, что ладно, мол, на этот раз она, уж так и быть, примет дар, но чтобы впредь он не был таким расточительным, ибо это к добру не приведет. Это, мол, велела передать его няня, и еще просила прибавить, что, ежели он так будет транжирить свое имущество, то, ей-богу, не нынче — завтра разорится, ибо нет такого изобилия, которое не иссякло бы. «Только вы поклянитесь, что передадите!»
Тут, конечно, господин Надь дал клятву, а крестьянка, успокоившись, целиком отдалась созерцанию своего стада; она разглядывала каждую скотинку в отдельности, вблизи и отступая, пощупала у каждой лопатки, спросила, какую как кличут, когда же новый владелец Париттьяш погнал стадо к воротам — «ну, ты, эй, ты, н-ну!» — то и старуха Жужа поплелась за ним и только на прощанье вздохнула тяжко, из самой глубины души.
— Что и говорить, куда как хорошо стадо… вот только как же это — столько распрекрасных коров, и без быка?
Матяш Надь ничего не ответил, ибо это уже дело самих коров.
— Ох-хо-хошеньки-и, столько коров — и ни одного быка, — продолжала сокрушаться старая Париттьяш на разные лады, медленно шагая вслед за своим стадом, но, так как ответа не последовало, она у самых ворот, за которыми стали исчезать коровы, обернулась и ласково обратилась напоследок к управляющему:
— А что бы вам стоило, голубчик мой барин, дать для них еще и быка?
1909
Повести
КОМИТАТСКИЙ ЛИС
Перевод Е. Тумаркиной
I Введение
Давняя это история. Иные были тогда времена, иные нравы. Мало кто и помнит теперь о той счастливой поре, когда кварту вина за грош сторговать было можно, знаменитейшим оратором тот почитался, кто на собрания комитатские с самой толстенной дубинкой приходил, наибольшим авторитетом владелец лучшей пенковой трубки пользовался, а величайшим либералом и патриотом того признавали, кто лучше всех «марш Ракоци» умел насвистывать.
Стряпчие не драли с людей по три шкуры, всяк с ними по-своему расплачивался. Клиент-католик самое большее пригласит своего ходатая отобедать, лютеранин скажет: «Спасибо, друг, будем отныне на «ты», — а кальвинист возместит расходы по тяжбе посулами: «Ежели вам, сударь, придет охота теплое местечко на комитатских выборах отхватить, только шепните мне». Акцизные чиновники не совали нос в кисеты добрых мадьяров, судебные исполнители не поднимали шума из-за грошовых исков, а уездные исправники господ дворян без толку не тревожили, разве что на званый обед пригласят.
Все, все тогда было по-иному. По «Кашшайскому календарю», который восемь грошей стоил, вполне можно было знакомиться со всей отечественной литературой — если, конечно, находился такой чудак, что, потратившись на календарь, еще и читать его принимался.
Комитат в то время большей властью обладал, чем вся страна в целом. Два облезлых льва на фасаде комитатского управления с таким достоинством взирали на эту коварную Европу, будто размышляли, сколько частей света стоит на завтрак слопать.
Все тут возвещало о величии и могуществе комитата — от вышитых букв «NV»[58] на сумках гайдуков до возвышавшегося в самом центре комитатской столицы дворца, с кровли которого отчаянно каркали целые полчища ворон, словно оповещая о том, что самым красивым, самым высоким зданием повсюду является тюрьма и именно в ней больше всего жильцов.
Логика незыблемости общества сосредоточивалась под эмблемой тюрьмы, скамьи для порки и ореховых прутьев. Не ради простых людей держали эти ореховые прутья, а для исправников, дабы могли они в пылу благородного гнева душу отвести, ибо тогда господствовало мнение, что каждый исправник уже сам по себе — ходячий уголовный кодекс, а коли от скуки и прикажет всыпать кому-то несчитанных двадцать пять горячих, то бездельникам-бумагомарателям не удастся протрубить об этом в газетах. Во-первых, и газет-то не было, во-вторых, ежели бы они существовали, их бы все равно никто не читал, а в-третьих… под трибунал его, висельника, если осмелился в дела комитатские нос совать!
Книги да наука не тревожили наших снов. Все-то мы знали: не было на свете ничего, чему нам стоило бы поучиться… ведь вот, что делает чудак-англичанин? В тысячах книг болтает о том, что и так уже записано в Corpus Juris[59], и, следовательно, дело это пустое, — или о том, чего там нет, — а это уж и вовсе глупо. Tertium non datur.[60] Если же зайдет речь о писаниях ученых людей — пожалуйста, есть у нас Пишта * Сечени! С ним и беседуйте. Он за всех нас думает.
Понятие «vis inertia»[61] вытеснило из словаря нации слово «прогресс». Последнее было неизвестным языческим выражением. Мы скорее придерживались обратного. Еще мудрый составитель «Малого зерцала» * писал в изящнейших виршах:
В комитате Энском грязи по колено…
Я и сам этому когда-то учился. Достойна уважения та грязь, в коей тонут никчемные новые идеи! Она и в герб наш входила, и мы ее чистым золотом почитали. Нам она не мешала. К чему нам, например, дороги? На кой черт они нужны? Как-нибудь дотащимся на крестьянских пристяжных до соседней деревеньки, а там, глядь, и соберется приличная компания для игры в тарокк; люди же из чужих комитатов пусть поскучают у себя дома, чем к нам приезжать, раз уж сюда не доехать.
По крайней мере, по этакой проклятущей грязи немец до нас не доберется.
Что правда, то правда, немцы сюда не добрались, зато нашла к нам дорогу сила, что помогущественнее немца будет. «Либерализмом» она зовется.
Да и либерализм-то сумел к нам дойти лишь после того, как летать научился.
…Захлопали над нами его крылья, распростершиеся надо всем миром, и смешалось с воздухом родины его дыханье, а уж кто вдохнул его — словно опиума накурился и повел и повел безумные наивные речи, никогда прежде не слыханные, о равенстве и братстве… Воздух сгустился, половина страны от этого кашлять начала, будто чахоткой заразилась.
Для нового воздуха новые легкие нужны! Страна сама начала сбрасывать с себя старую шкуру, не ожидая, пока время силой сдерет ее.
Правда, здание комитатского управления по-прежнему стояло там, где раньше, и гайдук с галунами, как прежде, горделиво вышагивал перед ним, и бахрома на кисете у исправника так же галантно шлепала его по благородным ляжкам, и бездонная грязь, как когда-то, хлюпала на улицах, и лошадка красовалась на дворе комитатского управления, а в чернильнице главного нотариуса перья с засохшими на них чернилами мечтали о тех собраниях, на которых всегда решали, что уж в следующий-то раз решение обязательно будет вынесено — но за кулисами всего этого безумный век создавал новую мораль и, как посаженный в землю картофель лезет, тянется ростками из перегноя, так и люди, перестав уживаться друг с другом, потянулись в разные стороны.
И каждый обвинял друг друга в отсутствии либерализма. Либерализм!
Разве тогда знал кто-нибудь, что это такое! А кто и знал — позабыл. Давно, очень давно ветер отечества целовал знамена с надписью: «Libertas!» * Уже и самая башня, на которой развевались эти знамена, обратилась в руины!
В те времена идея эта только-только зарождалась, словно серая полоска рассвета, нетерпеливо ожидаемая людьми, измученными бессонницей.
Да, нелегко было и прочитать и поверить во все то, что написали на лбу очаровательной феи, которую именуют «Равенством».
И если были у нее поклонники, то, уж конечно, и хулителей находилось немало.
И хулители эти тоже были люди твердые и горячие, привычкой прикованные к неподвижному кому земли, который они с убежденной страстностью считали золотым.
…Драться с половиной мира из рыцарства, чести или легкомыслия, из-за надменного слова, оброненного королем, или ради того, чтобы осушить слезу в прекрасных глазах королевы, — в этом есть смысл, но разглагольствовать и сражаться за равенство и братство — это уж, простите, чистое безумие…
Так рассуждали равнодушные, не удостоившиеся сверкающего взгляда прекрасной богини, — ну а как же думали те, кто ненавидел ее сияющий лоб…
«Близится конец света: новые люди собираются сокрушить вековые установления жизни!»
«В чем же тут логика: увидишь рядом голого нищего, и сам раздевайся догола — вот тебе и равенство! Либо прижимай к сердцу всякого безродного да дели с ним имущество — вот тебе и братство!»
«Надо остановить мир, вознамерившийся перевернуться. И как этот бездельник шевельнуться посмел, не испросив на то позволения ни у его высочества наместника, ни у благородных сословий!»
Многие так рассуждали, и если сперва они только ворчали, то потом и бороться начали против новых людей; а тех становилось все больше, и они никаким оружием не пренебрегали. Простой солдат только радуется победе, а духовный борец жаждет ее.
Не следует смеяться над этой борьбой из-за того лишь, что много в ней было смешных, забавных и мало героических эпизодов: она велика и священна, как любая другая.
Почтенных наших судей, на которых охотно клеветали, будто они только и могут, что «тосты произносить», не боевые трубы воодушевляли на битву, не грохочущие пушки подстегивали, не развернутые знамена вели, не потоки крови распаляли, а одна простая мысль, которую они тогда и высказать-то не могли, лишь носили в зародыше под сердцем, мысль, которая созрела стихийно и лишь потом обручилась с разумом, мысль, которую никто не сеял, не сажал, которая возникла, появилась сама по себе, словно цветы в девственном лесу. Кто их сажал? Кто повелел дремучему лесу вырастить сразу столько цветов никем не виданных расцветок, никому не ведомых ароматов…
…Цветы — мысли земли-матушки, ну а наши мысли — чьи они цветы?..
Циркуляр о выборах по очереди обошел уже пятьдесят один комитат… Сторонники партий красных и белых перьев готовились к решающей битве друг с другом в последнем, пятьдесят втором.
II Когда старый стряпчий влюблен
И надо ж было так случиться, что самый языкатый стряпчий комитата, старый Мартон Фогтеи, который у печовичей * считался наипервейшим, хоть и довольно затертым козырем, вдруг спятил, да еще в тот момент, когда больше всего рассчитывали на его ум, знания и ораторские таланты.
Н-да! До чего ж все-таки несовершенное существо человек! Ясную, трезвую реальность вдруг ни с того ни с сего променяет на романтику, словно какой-нибудь судебный писарь. Только что он еще суетился, возражал, что-то оспаривал, ликвидировал, приводил в исполнение, на что-то набивал цену — но вот обжег его горячим взглядом прекрасных глаз самый кроткий из клиентов, и сразу позабыл он и Corpus Juris, и поземельную книгу, и решение апелляционного суда и сломя голову ринулся per analogiam[62] навстречу дурацкому акту, именуемому святым браком, который для обладающего здравым рассудком стряпчего может представлять интерес лишь постольку, поскольку является обычной основой для будущего бракоразводного процесса.
Невозможно точно определить, теряет ли в такое время человек умственные способности, или у него разум мутится, или, быть может, это просто какая-то заразная болезнь, поражающая иногда и стариков, когда им вдруг начинает казаться пустой набитая «делами» канцелярия, прежде столь тесная, что даже и «адъюнкт» amice Лупчек в ней не помещался и вынужден был спать в кухне, на территории, исключительное право на которую принадлежало служанке Эржи, однако Эржи, конечно, и в голову не приходило возбудить против amice Лупчека судебный процесс «о вторжении в чужое владение»; но пока канцелярия пребывает пустой, неуютной, безрадостной, словно голова какого-нибудь ученого, сердце наполняется сумасбродными мечтами и желаниями, что сами по себе являются полуидеями, полубезумием, полуничем, смесью холодной дрожи и жаркого сердцебиения; убедительные строки в папках с крупными, выгодными тяжбами, самые разумные аргументы вдруг рассыпаются, мир переворачивается, в разные стороны летят буквы, право, наука, доводы, и отовсюду улыбается лишь красивое личико русоволосой девушки. Покорное перо выпадает из ослабевших рук, в потрепанном процессуальном кодексе путаются параграфы, стряпчий уж ничего не способен отыскать, по ошибке пишет он прошение о продаже имущества с молотка на розовой бумаге и, вместо того чтобы приглядывать за стадиями процесса, вздыхает на луну, ворчит да сетует без устали, словно досадуя, что не может всех на свете подвергнуть штрафу за неявку в суд.
Это первая стадия любви — чувства, которого стряпчий так боится, что даже сам себе не смеет в нем признаться и отыскивает другие причины своего беспокойства: скверная политическая атмосфера… либералы нажимают… влияние твердолобого Пала Надя * распространяется… клиенты туги на расплату, а судьи праведные решения выносят… где уж тут хорошему настроению быть!
Затем наступает вторая стадия. Эта уже значительно сильнее.
Он забывает возбудить судебное дело, на голову ему, словно ливень, обрушиваются заочные определения. Он и внимания на них не обращает. Благоприятное решение суда третьей инстанции он принимает с истинно английским равнодушием, значительно более озабоченный тем, вычищена ли его васильковая венгерка, хорошо ли повязан бахромчатый шейный платок. Он просит своего адъюнкта дать ему почитать что-нибудь приличное, а тот с готовностью отыскивает две-три растрепанные книжки «Новелл Юстиниана» *, которые его принципал с пренебрежением отбрасывает: ему «Возлюбленную Химфи» * или «Аврору» * подавай, нечего ему совать Вирожила * или там Маккелдея *, а не то он мигом вычтет из месячного жалованья господина адъюнкта пять форинтовых кредиток, что само по себе будет весьма сложным математическим действием, ибо оклад domine[63] Лупчека составляет всего-навсего четыре бумажных форинта в месяц.
Из всего этого даже domine Лупчек заключил, что его принципал влюблен, ну а то, что известно amice Лупчеку, который, по мнению стряпчего Фогтеи, вообще ничего толком не знает, стряпчему Фогтеи не знать было бы истинным позором.
Итак, на второй стадии господин адвокат обнаруживает, что крошка-девушка, совсем еще дитя, оставила неизгладимые следы в его сердце и — разумеется, в случае, если она еще «res nullius»[64], — недурно бы заполучить ее в качестве обложки для своей жизни… ведь стряпчий тоже человек, и его сердце не из камня… а тут стрела амура «сигнализирует» — и в его жизни найдется местечко для кротких человеческих радостей, по крайней мере, «sub clausula»[65].
И тогда он, прежде всего, составляет в уме «опись» — положение дел: крошка-девушка — единственное дитя, отец ее хотя всего-навсего трудолюбивый колбасник, но дворянин, человек благородный, есть у него и маленькое поместье, которое дочь унаследует; с другой стороны, что касается его самого, то есть господина адвоката, то и он еще кое-чего стоит, невзирая на свои пятьдесят лет; имеются у него несколько тысчонок форинтов, приличная клиентура и восходящий до небес политический нимб. Оба состояньица, объединенные вместе, образуют солидный фундамент для будущего — словом, имея все это в виду, стряпчий решил предпринять соответствующие шаги.
Это ведь тоже целый процесс, но процесс весьма странный. И здесь человек пишет «челобитную», — да только просит он в ней очаровательную «ответчицу» осудить его самого, затем с бьющимся сердцем ожидает «ответа» и в самой вежливой форме составляет «ответ на ответ»; при этом грубым словом «отказать» даже не пахнет, ответчице он ни за какие блага мира ни в чем не перечит, наоборот — соглашается на все ее условия и обещает ей и небо и землю. Одним словом, это процесс шиворот-навыворот, который любой ценой необходимо проиграть. Приходится совсем переродиться, стать любезным, предупредительным, самоотверженным, что от стряпчего требует великого напряжения сил.
И если не будет слишком уж унизительного «встречного иска», то вскоре следует «окончательный приговор», в котором определяется день свадьбы, программа отбытия, прибытия и прочие благоглупости.
Да только не так-то легко все это складывалось.
III Мелкий дворянин
Отец девушки господин Калап был человек упрямый; он полагал, что каждый дворянин такой же полновластный хозяин на своем подворье, как и его высочество наместник.
Уже внешний вид дома позволял угадать, чем дышит его хозяин.
В нише фасада стоял с непокрытой головой какой-то святой: даже каменотес счел за благо изобразить его без головного убора в знак высокого уважения к его милости хозяину и особого почтения к строкам, что выбиты были под статуей:
«Дом этот построен господином Иштваном Калапом, Дворянином, из ему же принадлежащего леса. Anno[66] 1805».
По надписи этой сразу было видно, что за особа в доме проживает. Это человек чванный, гордый, себе цену знать должен. Он ведь не кто-нибудь, а почтенного комитата избиратель, который привык, что и сам вице-губернатор льстит ему да кланяется. И разве в том только дело, что он избиратель!.. Куда господин Калап повернет, туда и все мелкое дворянство округи потянется! Шурья, да кумовья, да родичи в седьмом колене, да еще те, кто в родственники набивается, на Эржике поглядывая. А кто же не заглядывался на Эржике? Единственная дочь, к тому же красавица писаная! Не из тех красоток, что по асфальту улицы Ваци семенят, на которых наш глаз с охотой останавливается. В них все искусство и блестящая ложь, к их красе не один мастер-художник руку приложил, от химиков до куаферов включительно. А у Эржике все свое, подлинное: и черные волнистые волосы, и алые губки, и оживленное сияющее личико, и белоснежные зубки, и наивная, естественная веселость, не отравленная затхлым салонным запахом пачулей, и сохраненная в неприкосновенности свежая поэзия невинности.
Однажды вечером покуривал господин Калап у своих ворот трубку; взглянул он на облака справа, затем слева, зевнул, повернулся и поглядел на облака, что за его спиной в небе проплывали. С довольной физиономией констатировал, что погода завтра будет хорошая, и, вынеся такое решение, словно точку поставил с помощью старой своей пенковой трубки, выпустив огромный клуб дыма, который и сам мог бы за облако сойти в крохотном государстве какого-нибудь немецкого монарха.
Взгляд господина Калапа лениво блуждал по окрестностям. С дальних гор, где вскоре загорятся пастушьи костры, переходил он на волнующие посевы пшеницы, что с таинственным шепотом колыхал вечерний ветерок, так что казалось, они бегут от него; потом на дорогу, где виднелись клубы пыли, издалека доносился звон колокольчика, предвещавший возвращение домой стада. Из пыли постепенно вырисовывалась фигура быстро приближавшегося всадника; на спине черной коренастой лошадки — трансильванки восседал молодой человек господского вида в серых со множеством пуговиц штанах для верховой езды, синем куманском доломане, круглой шляпе с узкими полями и белым пером.
— Добрый вечер, дядюшка! — поздоровался незнакомец, приподняв свою разбойничью шляпу. — Что это за село?
— Карикаш.
— Далеко ли до города?
— Трубок пять будет, — неохотно пробурчал господин Калап.
(В те времена так счет милям вели. Выкурит путник-мадьяр трубочку — вот тебе и отечественная миля; счет этот, правда, не больно точен, но зато прост: по крайней мере, табличек не требуется, что пройденный путь указывают. Коли не изменяет мне память, славный Андраш Дугонич даже книгу свою так на главы делил: «Первая трубка табаку», «Вторая трубка табаку» и т. д. *. И кто знает, потому ли он так сделал, чтобы заголовками этими равнодушную публику расшевелить, или затем, чтобы высмеять таким манером задыхающуюся в собственном жиру нацию, которая печатную бумагу только для «разжигания трубки» и употребляла.)
Всадник, казалось, раздумывал:
— Да, многовато все же…
Господин Калап не отозвался.
— …для моего коня, — добавил путник для ясности. — Не скажете, где тут в селе заночевать можно?
— Везде, — кратко ответил господин Калап и ткнул каблуком в ворота, которые со скрипом распахнулись.
— Немалый путь я проделал, — опять заговорил незнакомец.
Господина Калапа это не интересовало.
— Пятый комитат проезжаю.
— Гм! Бывает, — буркнул господин Калап, однако не полюбопытствовал, откуда прибыл путник.
— Вы, сударь, и впрямь немногословны, — заметил незнакомец.
Старик только головой кивнул: так, мол, оно и есть. Что он, дурень, языком зря молоть? Довольно и того, что ему, дворянину, размышлять приходится, словно какому-то еврею-спекулянту! Но уж разговаривать — нет, увольте! А мужик — он на то и существует, чтобы по движению губ господина своего понимать.
Молодой человек соскочил с лошади, предоставив ее заботам дворового, который щелкал тыквенные семечки тут же во дворе, а хозяин пошел к дому, пропустив впереди себя гостя, навстречу которому, словно для пущей торжественности, из сеней выпрыгнули четыре волкодава. По их оскалу было ясно, что они чрезвычайно расположены к живому обмену мнениями с незнакомцем, а тонкую его плетку вообще не принимают в расчет; однако их оппозиционные настроения тотчас же остудил гневный взгляд господина Калапа — псы сразу присмирели и, подобострастно виляя хвостами, удалились: даже неразумные твари и те обязаны склониться перед дворянином, стоит ему бровью повести!
— Ай, Чиба, молчать! — успокаивала собак в сенях Эржике; но, увидев молодого пришельца, покраснела, слова замерли у нее на губах, и она молниеносно одернула юбку, съехавшую набок, пока девушка возилась на кухне.
— Добрый вечер, красавица-сестрица, примете ли гостя?
— Добро пожаловать! — поздоровалась Эржике. — Милости просим.
И распахнула державшуюся на ремне кухонную дверь, что открывалась в «первую» комнату.
— Пожалуйте, будьте как дома!
Путник вошел. Это была чистая, истинно дворянская комната, со старомодными, обитыми кожей стульями, громоздким, застекленным шкафом и широким столом посередине; вдоль стен стояли сундуки и кофры с нарисованными на них или выбитыми гвоздями удивительными птицами — пеликанами. За дверью вколочен был крюк, а на нем содержался целый арсенал: старая сумка с вышитой зеленым шелком косулей, которая, правда, не страдала чрезмерной верностью натуре, но вполне могла послужить исходным материалом для фантазии охотника; из сумки выглядывали жестяные трубочки со смертоносным порохом и прочими принадлежностями; все это прикрывало висящее там же фамильное ружье, из которого господин Калап обычно стрелял бешеных собак — правда, через окно, из комнаты, чтобы, не дай бог, драгоценную персону свою опасности не подвергать; однако сам он, несмотря на сию предосторожность, подвергался значительно большей опасности, нежели разгуливающие под дулом зловредные твари, для истребления которых из гуманных целей он вынужден был прибегать к инструменту, оставшемуся со времен Альвинци *. В мирном согласии с описанным выше ветхим инструментом на крюке висела и другая принадлежность арсенала — ржавая булава, что когда-то, согласно устному преданию, сверкала в руках Матиса Калапа; а ведь предание — будто снежный ком: чем дальше его катят, тем больше он становится; так и господин Матяш Калап превратился сейчас в памяти его потомков в такого великого героя, что самого Пала Кинижи * за пояс заткнул. Стены комнаты украшали портреты комитатских губернаторов — с безусыми лицами и в париках, — под каждым подпись строк в пятнадцать со всяческими званиями и титулами, — а над дверью красовался семейный герб — карабкающаяся на дерево коза и подпись на синем поле: «Insignis nobilis familiae Kalap»[67].
Эржике смахнула краешком своего передника пыль с обитого кожей стула.
— Присядьте, пожалуйста.
— Благодарю вас, я не устал.
— Это только так говорится, — любезно возразила Эржике. — Как тут не устать, что вы… да и видно по вас, что большой путь проделали…
— Двое суток с седла не слезал, но во время выборов ко всему привыкаешь.
Господин Калап, до сих пор молча покуривавший трубку, вдруг стал хмыкать, а глаза его заблестели и с интересом уставились на незнакомца; потом он повел взглядом по комнате и остановился на предмете, прислоненном к изголовью высокой кровати: на лице его отразились необычайная мягкость и трогательная радость, словно у матери, караулящей улыбку своего младенца, либо у ростовщика, размечтавшегося над золотыми. Но ему еще дороже эта вещичка — спутник его молодости, предмет его гордости — традиционный топорик. Да, три года, как он на покое, бедняга! Ржавчина его ест. Ох, и много же голов проломил он когда-то! Вот только б одной никогда не касался!..
Широкий, честный лоб Калапа омрачился при этой мысли. Видно, очень уж темное это облако, коли светлую радость разом в черный цвет окрасило. Что поделаешь, где свет, там и тень!
Отгоним эту страшную тень…
Провидение затем и создало для дворян трубки, чтобы вместе с исчезающим дымом уносилась печаль, ежели явится она к человеку незваной гостьей.
Господин Калап глубоко затянулся, на сердце у него полегчало, и, подхватив клубок мыслей о выборах, он принялся разматывать следующую нить.
— Ну, ну… Неужто и впрямь будет что-нибудь?
— Похоже, теперь-то уж будет, да по-настоящему! Старик с удовлетворением кивал головой, а гость, бросив беглый взгляд на дворянский герб, небрежно произнес:
— Я вижу, вы, сударь, избиратель.
— Это я и сам вижу, — кратко ответил обидевшийся старик. — А вы, сударь, тоже?
— Я Миклош Карци из Халашке, дворянин. Отца моего звали Петером.
Услышав это имя, старик попятился. Трубка выпала у него изо рта и разбилась, разлетелась на тысячу осколков. Бедняга дрожал как осиновый лист.
— Проклятые колики, — пробормотал он, опускаясь на стул возле печки. Ни за какие сокровища мира не взглянул бы он сейчас на юношу, с сочувственным лицом расхаживавшего взад и вперед по комнате; но тут в открытую дверь вошла Эржике с кувшином вина в виде вступления к гостеприимству, которое будет здесь оказано гостю чуть позже и признаки которого постепенно начали проявляться в доносящемся из кухни поросячьем визге, в хлопанье крыльев испускающих под ножом дух цыплят и в тому подобных многообещающих звуках.
Эржике раскраснелась от кухонного жара; белый передничек и растрепавшаяся прическа так шли маленькой проказнице, что даже описать невозможно. А грация, с которой она поставила на стол кувшин и, отыскав улыбающимися глазами гостя, знаком пригласила — отведайте, мол! И во всем этом было столько очаровательной шаловливости, в которой даже критический женский взор, буде он здесь присутствовал, не обнаружил бы ни капли кокетства.
Молодой человек глядел на прелестное создание как зачарованный и вдруг опустил глаза.
Мужчина, опускающий глаза перед ребенком! Что бы это могло значить? Только одно — что он никогда еще не был влюблен!
Молодые люди не сказали друг другу ни слова. Девушка уже приоткрыла было свои алые пухлые губки, готовая защебетать, но безмолвие юноши словно ножницами отрезало рвущиеся наружу мысли. Эржи не приходило на ум ни единой любезной фразы, какими принято обращаться к гостю. Смутившись вконец, она поспешила на кухню и там весь вечер раздумывала над тем, что бы ей следовало сказать. Как много прекрасных выражений вспомнилось ей теперь — куда же подевались они все тогда, когда были так нужны?
Да, очень это опасная интерпелляция сердцу, ответ на которую оно вынуждено бывает «принять к сведению».
IV Комитатские дела
А господин Калап все сидел на стуле в полуобмороке. Колики дело не шуточное, заберутся человеку в нутро и дворянина не помилуют! Но хотя с виду хозяин и не сознавал ничего, однако отлично все примечал. С тех пор как жену-покойницу (вот уже восемь лет прошло) к месту вечного успокоения снесли, с тех пор, несмотря на угрюмый нрав, он был для дочери всем: не только отцом, но и матерью, любящей матушкой. Любовь к своему детищу и самые грубые натуры утончает. Калап заметил красноречивое молчание молодых людей, когда они впервые остались как бы один на один и никто третий не мог помочь им завязать разговор. Была бы жива мать, непременно такое заметила бы, ну а коли нет ее на свете, приходится отцу на эти тонкости внимание обращать.
Господин Калап вздохнул с некоторым облегчением. Их молчание зародило в нем одну идею — такую идею, за которую он бы пожертвовал и имуществом, и дочерью, всем на свете: идея эта могла бы сбросить с могилы его счастья громадный камень, поставленный туда его собственной совестью, да так прочно, что, казалось, никогда уже не воскреснуть счастью Калапа. А вдруг все-таки воскреснет!.. Люди о его грехе и так ничего не знают, а тут и небеса бы забыли! Только бы заткнуть глотку черному ворону, что без устали кружит над его головой! Вот и «квиты» были бы! Зарубцевался бы, сгладился страшный шрам, глубокие меты которого острым ножом раскаяния врезаны в душу. Ох, как ноет этот незаживающий шрам, когда память, считая свои зарубки, проводит по нему пальцами: с острыми сухими ногтями!
Словно выздоравливающий больной, Калап обвел комнату неуверенным взглядом. Надежда протянула ему руку помощи, и он изо всех сил уцепился за нее.
— Плохо мне стало… голова закружилась… сам не знаю почему. Видно, кнастер слишком крепок… Не стану я больше курить! Ну и ну!.. Так на чем мы остановились?.. Да… вот славно-то… я, значит, имею счастье с сыном господина Петера Карци…
— Вы, вероятно, были знакомы с покойным батюшкой? Господин Калап вздрогнул.
— Знавал его… как не знать. То есть знаком-то не был, а вот по слухам хорошо знал, красавец был, говорят, в свое время. Никогда не видал такого красавца! Жаль, что лично познакомиться не довелось…
— А ведь он здесь жил, в вашем комитате.
— Знаю, как не знать. А потом вдруг исчез, бедняга. Ума не приложу, какая с ним беда приключилась. Он и сына тут оставил, но скоро мальчонку увезли, ежели не ошибаюсь, к родичам, в какой-то словацкий комитат. Верно я говорю?
— Лучше не вспоминать, — вздохнул юноша, и лоб его омрачился.
— И я так считаю. Мертвые да почиют с миром.
Юноша вздрогнул… А ну как старик заподозрил, что гнетет его сердце и душу?..
Миклош пристально посмотрел ему в глаза. Под испытующим взглядом старик побледнел, склонил растерянное лицо и отвернулся в угол, точно ища что-то.
— Не примите в обиду, но, поскольку и вы слышали про моего покойного отца, следует мне, я думаю, узнать имя благородного человека, в гости к которому занесли меня слепой случай и счастье.
— Я дворянин Иштван Калап из Калапфалвы. Теперь настала очередь попятиться юноше.
— Господи боже мой! — вскричал он в ужасе.
— Ох, и тяжелый сегодня день, господи! Тяжко, очень тяжко, — вполголоса, словно молитву, бормотал старик.
На столе грустно мигала толстая сальная свечка. Никто не снимал с нее нагар. В комнате царил полумрак.
Старик молитвенно сложил руки.
«Отец небесный, пошли мне силы, пошли мужества. Ты ведь бог не только для праведников. Коли умеешь карать страшно, оковы на душу накладывать, покажи, что и миловать можешь. Сними с души моей тяжкий крест, господи. Довольно я за него расплачивался. Коли ты и вправду бог, исполни мою просьбу! Тогда поверю я в твое всесилие!»
…В этот момент удар грома потряс землю, задрожали оконные рамы, словно сам господь говорил: здесь я, слышу, о чем молишь». В окно буйно, со свистом ворвался ветер, задул свечу; и сразу же хлынул проливной дождь.
Господин Калап позвал из кухни Эржике, велел принести огня.
То ли от огня, то ли от прихода Эржике, точно не скажу, но впечатление от предыдущей мрачной сцены вдруг рассеялось.
Миклош получил возможность сказать, что свечка горела бы лучше, если бы все время была в таком подсвечнике. (Свечку, как вы догадываетесь, Эржике держала в руке.)
Вполне естественно, от этого замечания красивый подсвечник смутился и выронил свечу на пол, а она, разумеется, снова погасла.
И уж как тут было не рассмеяться и отцу и Миклошу! А нашалившее дитя бросилось вон из комнаты и потом уж весь вечер не осмеливалось показаться.
Вволю вместе посмеявшись, мужчины как-то очень сблизились. Тут они и кувшин заметили, а коли заметили, так чего ж ему зря стоять! Чокнулись хозяин с гостем.
«Померещилось, видно, мне, — подумал про себя Калап, — ни о чем он не догадывается, можно спать спокойно».
«Смешно, — размышлял юноша, — ежели это он, то eo ipso[68] не мог бы им быть… Вероятно, дальний родич, который и не подозревает ничего».
— Ну и ну! Так что ж все-таки занесло вас сюда, братец? — нарушил тишину хозяин дома.
— Ветер занес да дела комитатские.
— Ветер? Ага, разумеется, ветер. Не удивительно, он ведь и камыш к корню клонит. Вот и тебя сюда, в гнездо твое, загнал, в исконный твой комитат. Разреши-ка мне на «ты» тебя называть. Мы ведь оба с тобой дворяне. Да, в исконный твой комитат. И правильно сделал, что приехал. Ну, что ж… на место вице-губернатора у меня, правда, есть человек *, ему я уже слово дал, а из прочих должностей выбирай любую, какая по нраву. Ты кем стать-то хочешь?
— Так ведь я вроде топора, который на то лишь и годен, чтоб деревья рубить, если сами не падают. Подневольный я человек, что прикажут — то делаю.
— Да кто приказывает-то?
— Мой граф.
— Какой такой граф?
— Я управитель майората Илларди.
— Граф Илларди? Разве у графов Илларди и в наших краях имения есть?
— У них повсюду имения, они во всех пятидесяти двух комитатах у себя дома.
— Барин, он и в аду барином остается, хе-хе-хе, так, что ли, братец?
— Да вроде так.
— Ну и ну… Теперь-то понимаю, как не понять. Кто-то из твоих графов депутатом хочет заделаться, а тебя вперед послали дорогу прокладывать. Вот моя рука, ради тебя и я за него свой голос отдам. Ну же, чокнемся!
Вновь зазвенели бокалы. Господин Калап совсем размяк, очень уж ему по вкусу беседа пришлась. Сейчас из него можно было веревки вить.
— То ли сам старый граф, то ли зять его, пока точно не знаю, — заговорил Миклош. — Знамена мне завтра привезут. Старый граф письма одного ждал, прежде чем имя на них напечатать. Письмо прибыть должно было через день после моего отъезда; значит, знамена я завтра получу.
— Э, чего бы другого хватило! Знамена да имя дело десятое, но раз я сказал, значит, с вами буду. Честное благородное слово!
Не ожидая ответа, он ударил затверделой ладонью по руке Миклоша и, словно успокаивая, добавил:
— Слово старого Калапа как Священное писание или, еще того вернее, как контракт.
На губах молодого человека появилась грустная улыбка.
— В этом-то я уверен, но только зря вы поспешили с честным благородным словом. А вдруг раскаетесь?
— Что сказано, то сказано. Да и с какой это стати мне раскаяться? По мне все одно: не тот, так этот. Что поп, что батька.
Миклош сделал большой глоток из кувшина. Ох, и огненный же напиток! Так и ударил в голову. Лицо у него стало красным, как кровь. А может, не от вина он так раскраснелся, а от чувства, что изнутри его грело?
— В великое время мы живем, дядюшка. От великих дел кровь в сердцах кипит.
— По мне, хоть до Страшного суда пусть кипит да паром исходит, — бросил через плечо старик. — Мне-то какое дело до людского нутра? Я только в свином нутре разбираюсь.
— Ну, а как же страна наша?
— Э-э, мне-то что до страны? От ее забот мне ни тепло, ни холодно. Волнует она меня, как эта разбитая трубка. И что мне в том, какой путь она изберет да как правосудие вершить будет человек, скажем, из комитата Бекеш. Мне, братец, все равно, какого деревенского горлопана в парламент пошлют… я их, их в виду имею.
— Ну, а комитатские дела?
— Это совсем другое. Тут и я свое словцо вставлю, а уж когда родичей всех под крыло возьму, тогда посмотрим, что моя воля значит. Комитат совсем другое дело, да и как же иначе… за него я в огонь и в воду пойду.
— Поговорим тогда о комитате. Признайтесь, дядюшка, положа руку на сердце, не кажется ли вам, что по-иному кое-что быть должно?
Господин Калап даже глаза вытаращил.
— Ничего мне такого не кажется, — ответил он с глубоким убеждением.
— Неужели вы считаете справедливым, чтобы сильный слабого угнетал?
Старик, улыбаясь, ответил:
— Да ведь слабый для того и слаб, милый братец, чтобы сильный побить его мог.
Миклош вздохнул.
V Теория свободы
В комнату вошла старая служанка накрыть на стол. Пока, семеня ногами, она расставляла на домотканой скатерти с красной каймой фамильное серебро, ложки, перечницу, солонку, разные кувшины и так далее, нить беседы вилась дальше.
— Рассудите по совести, — с жаром говорил Миклош. — Почему один человек должен быть лучше другого? Бог сначала сотворил человека, а уж потом — комитат да дворянские гербы.
— Гм! Ну и напрасно!
— Бог всех создал равными, свободными и независимыми хозяевами земли; но некоторые люди извращают его волю, отнимают права у других и превращают их в слуг, хотя им следовало стать братьями.
— Я не я буду, коли ты не выкопал эти дурацкие бредни из какой-нибудь проповеди.
Но юноша его не слушал, а продолжал, все более воодушевляясь:
— Дальше так не пойдет! Свет засияет в окна! Недолго уж будут безнаказанно затаптывать в грязь человеческое достоинство. За вековой грех наступит вековая расплата. Правда, в нынешнем положении не мы виноваты, мы, дворяне, сами того не желая, родились в этом грехе, но исправить черную несправедливость и сбросить тяжкий груз, что давит на плечи крепостных, это уж наш святой долг.
Старик от души расхохотался, очень его развеселило, что «терпкое» винцо так замутило разум юноши. Что там ни говори, а есть в этом вине крепость, и немалая…
— И пусть во всем он будет равен дворянину!..
— Кто?
— Крепостной.
Это уж было чересчур. Калап запальчиво перебил:
— Ну, нет, тут я возражаю. Эй, где мой топорик?..
И в праведном своем гневе он чуть было не начал возражать отнюдь не дворянским оружием, но, к счастью, его усмирила мысль, что тому, кто осмелился высказываться столь крамольно под его кровом, он уже задолжал одну человеческую жизнь.
Лицо Миклоша горело, глаза пылали, грудь бурно вздымалась, и в жилах с бешеной скоростью стучала кровь. Сейчас он чувствовал себя в состоянии раскрошить весь мир, как прогнивший насквозь орех.
— Возражать напрасно, — горячо воскликнул он. — Это уже носится в воздухе! Такие замыслы — порождение самого времени: а что рождено, то будет расти. Колеса времени вращаются, и кто бросится под них, чтобы воспрепятствовать ходу истории, будет смят и раздавлен!
— Да откуда ты набрался всего этого?
— Сейчас и про то расскажу, где взял да зачем говорю. Мы ведь с вами о выборах в парламент беседуем. До сих пор вопрос стоял так: отдать свои голоса тому из кандидатов, кто лучше, умнее, кто больший патриот…
— И кто больше платит.
— Словом, долго мы не раздумывали — проголосуем, и дело с концом! Но теперь в стране образуются совсем иные партии, зашевелились умы и сердца. Теперь красное и белое перо не просто цветом отличаются. За каждым своя большая идея стоит. Белое перо — отсталость, рабство, несправедливость утверждает; красное — справедливость, равенство и свободу.
Старик начал прислушиваться к никогда ранее не слыханным речам, что-то в голосе молодого человека, в самой манера речи постепенно увлекало его воображение.
— О какой еще свободе ты поминаешь? У нас и так свободы достаточно…
— И много ее, и мало, смотря как считать. Мне больше нужно.
— Гм. Большее-то никогда не помешает! Это, конечно, неплохо было бы.
— Все должны быть свободны — и граф, и простой дворянин, и мужик. У всех должны быть равные права и обязанности.
Господин Калап почесал голову и неловко заерзал на стуле:
— Ну и глуп же ты, милый братец! Вот наплел! Да на черта мне свобода и право, коли они и у других есть?.. Я и гроша ломаного за них не дам.
— То-то и грустно, что многие так рассуждают. Но мы не унываем!
— Да кто ж вы такие?
Миклош сконфуженно и грустно опустил красивую голову и долго не отвечал. Господин Калап тоже задумался. Тишину комнаты нарушал лишь стрекот сверчка.
— Кто они? На это они сами ответят, а вот кто я такой? — с бесконечной горечью вырвалось у юноши. — Я никто, слуга вельможи, ну, а поскольку плоха та собака, что на хозяина лает, так ничего я вам и не скажу. Эх, был бы я независим!..
— Со мной можешь говорить спокойно.
— Да не оттого горько, что молчать должен, а оттого, что действовать открыто не могу. А сейчас самое время. В пятьдесят одном комитате уже выбрали депутатов. Либералы, что красные перья на шляпах носят, крепостных освободить хотят. Сейчас у них большинство в один голос. Все теперь в вашем комитате решится. Ясно станет, кто верх возьмет. Взоры всей страны на вас устремлены.
Господин Калап побледнел.
— Тысяча чертей! Ведь это великое дело! А я тебе свой голос обещал.
— Говорил вам, не горячитесь.
У старика от волнения застучали зубы.
— Коли в бога веруешь, скажи мне прямо — кто ты такой? Для кого души покупаешь? Я совсем спячу от неизвестности. Лучше мне семь раз самой лютой смертью помереть, чем против дворянских привилегий голосовать. А ведь я обязан, сам слово честное дал.
Саркастически рассмеявшись, Миклош ответил:
— Да неужто вы по белому перу на моей шляпе не видите, что я печович?
— Да ну? Ой, правда! — радостно вскричал старик. — Иди-ка скорей сюда, я тебя к сердцу прижму, большой ты камень с него снял! Раз ты действительно с белым пером, это мне всего на свете дороже. Не бойся, мы победим, коли я говорю: стольких людей подниму, что ты рот разинешь от удивления. У старого Калапа двести голосов! Да, ты и впрямь меня успокоил. Ну, чего горюешь? Видишь, я, как дитя, радуюсь: мне теперь все нипочем. А ну-ка, проси у меня, что пожелаешь, — все отдам! Самую красивую пенковую трубку в презент или коня лучшего. Ох, и напугал ты меня, парень! Что ж не выбираешь ничего? Я и рубахи своей для тебя не пожалею…
Миклош, скрестив руки, стоял перед ним, словно и правда раздумывал, что бы ему такое выбрать…
Внесли дымящийся ужин. Вошла и Эржике, и с ее приходом разговор сразу принял другое направление. Впрочем, венгры вообще-то мало говорят во время еды; слышен лишь стук ложек или вилок о звонкие тарелки. Эржике нет-нет да поглядывала на гостя исподтишка, конечно, только чтобы удостовериться, все ли у него есть, не забыл ли положить себе чудесного грибного соуса либо вкусных маринованных огурчиков, что так и плавают в сметане. Он ведь человек рассеянный, даже не замечает упомянутых шедевров, но Эржике, разумеется, не станет обращать на них его внимание — все на столе перед ним стоит, коли не слепой, сам увидит. Больше она и не взглянет на него. Опустив глаза, Эржике склонила красивую свою головку чуть ли не в тарелку. Но что-то ее жгло. Будто крохотный тоненький лучик свечи высунул на аршин свой пламенный язычок и жжет, жжет ей лицо, покалывает лоб… какая-то неловкость, волнение… А что, если еще разок взглянуть?.. Глаза ее встретились с взглядом Миклоша. Она тотчас же снова опустила их, но покой был утерян. И что он, право, глядит на нее? А может, уже не смотрит? Снова, как прежде, встретились их глаза. Каждый раз взгляды становились все горячее: один у другого огонь заимствовал, а излишек огня на щеках проступал.
Хозяин изредка нарушал тишину двумя-тремя словами, чтобы предложить гостю кушанье, когда же блюда, которых они уже отведали, уносили, он снова и снова прикладывался к содержимому кувшина, сопровождая это прибаутками.
— Слыхал, братец, в селе Сараз-Брезо как-то гуси не пили, только ели, вот все и околели…
— Чтоб с нами так не случилось! — весело отзывался Миклош и осушал бокал.
Затем старик задремал; глаза его сузились, тяжелая голова опустилась в ладони, и он засопел на уголке стола, словно русинский депутат, витающий в розовых мечтах.
Свеча горела тускло, снаружи доносился шум дождя. Молодым людям казалось, что они наедине. Мучительное, но сладостное чувство.
— Завтра очень грязно будет, — сдавленным голосом произнес Миклош.
— Да, — пролепетала в ответ Эржике.
Они снова умолкли, ничего больше не приходило им в голову, и все-таки оба чувствовали себя прекрасно. Даже не заметили, как время пролетело, а кукушка в часах и полночь прокуковала.
Но все же хорошо, что хриплый крик ночного сторожа, донесшийся с улицы, подал Эржике спасительную мысль. Она позвала старую служанку, которая, часто моргая и двигаясь, словно во сне, помогла ей постелить кровати, а затем пожелала спокойной ночи, да так тихо, что сама, вероятно, не услышала, не говоря уж о госте. Впрочем, у него сегодня все равно спокойной ночи не будет.
VI Два сватовства разом
Утром Миклош поблагодарил господина Калапа за ночлег и поспешил оседлать коня. Калап вышел вслед за ним во двор.
— Брось дурить, братец! Я тебе и шагу отсюда сделать не дам. Сегодня воскресенье, отдохни у нас как следует.
— Спасибо, дядюшка, но остаться не могу.
— Мы тебе так рады.
— Я должен еще сегодня отыскать кое-кого в городе.
— Да не убежит он, завтра отыщешь.
Эржике стояла, прислонясь к большой акации, что росла перед кухней; там же расположились и псы, это было их собачье казино: во-первых, тут им было удобней всего наслаждаться ароматами, что неслись из кухни, а во-вторых, сие место делала для них весьма привлекательным брошенная им кость; теперь волкодавы не лаяли, а, как приличествует достойным членам семьи, лишь глазами провожали готовящегося к отъезду гостя. Умытые вчерашним дождем ветви акации так и манили к себе, словно пытались удержать молодого человека. Лучи утреннего солнца позолотили своим светом Эржике. О, какая это была милая, приветливая картина! Миклошу показалось, что, если он отсюда уедет, ему придется навсегда оставить здесь этот золотой солнечный лучик, и куда бы он ни поехал, отныне всюду его будет сопровождать только тень.
— Обещай хоть, что вернешься к нам, — настаивал хозяин. Миклош распрощался со стариком, помахал Эржике шляпой и сунул ногу в стремя.
— Ничего не могу обещать определенно. Ох, и грустным же тоном он это произнес!
Эржике почувствовала, как от этих его слов у нее замерло сердце. В голове шумело, там билась отчаянная мысль, сейчас девушка закричит: «Не уезжай! Останься!..» На глаза ее навернулись слезы, во сто крат прекраснее и трогательнее открыв ее чувства, но слез этих никто не должен был видеть. Она отвернулась.
Однако и то, как она отвернула головку, ясно все выразило. Миклош сумел понять это.
Внезапно он вынул ногу из стремени, шагнул к господину Калапу, взял его за руку и долго, молча глядел в глаза.
— Послушайте, дядюшка! Вчера вы обещали отдать мне все, что я пожелаю. Ловлю вас на слове: отдайте мне… Эржике!
Мир перед стариком покачнулся, с просветленным лицом взглянул он в небеса, словно поблагодарить хотел за то, что угадано его тайное желание. Он не мог вымолвить ни единого слова, только бормотал что-то невнятно и жал руку молодому человеку… Да, бог велик! Вот он протягивает руку, чтобы снять тяжкий крест…
— Отдам… Как же иначе, — растроганно вымолвил наконец старик. — Эй, ребята, — крикнул он слугам, — а ну, ведите коня назад в конюшню, а седло на чердак забросьте…
— Нет, этого не надо, — со счастливой улыбкой сказал Миклош.
— Я здесь приказываю… Черт побери! Куда ж эта девчонка запропастилась?
Эх, попробуй-ка ее теперь найти! Убежала куда глаза глядят, как услышала слова Миклоша: ведь они для нее новый мир открыли. Небось рассказывает сейчас розам в саду о чуде, что с ней случилось.
Что же, пусть поговорит, пусть помечтает… Душа ее купалась в мысли, только что рожденной и тотчас уже созревшей. Ведь любовь самый скороспелый плод; она, как золотое яблоко из волшебной сказки, которому только ночь нужна, чтобы расцвести, созреть и уже быть сорванным.
— Давай ее поищем, как-никак и она к этому отношение имеет, — предложил счастливый отец. — Пошли в сад.
И только он собрался открыть калитку, как вдруг она распахнулась, и во двор вошел белобрысый, конопатый молодой человек.
Господин Калап был в таком распрекрасном настроении, что даже смертельного врага с радостью к сердцу прижал бы. Он и конопатого обнял, а тот, не зная, что подумать, так как давно привык, что встречали его обычно неласково, возымел и насчет данного приема некоторое подозрение, а посему счел за благо решительно отскочить в сторону, вырвавшись из мускулистых объятий, а затем, с некоторого отдаления, принялся оправдываться: он, мол, ни в чем на свете не виноват, а если что и случилось, не стоит на нем зло срывать, ведь причина, вероятно, в его принципале, он же всего лишь его скромный и смиренный заместитель.
Старик захохотал на весь двор.
— А, вы, значит, подумали, что я вас придушить хочу, ха-ха-ха! Добро пожаловать, добро пожаловать! Входите, милости прошу! — И, повернувшись к Миклошу, он представил вошедшего: — Этот господин — практикант, служит у его милости господина Мартона Фогтеи, ха-ха-ха!
— Фогтеи? — пробормотал Миклош.
— Да, у моего стряпчего. Вот уж кто умница, сынок! У него в одном мизинце больше мудрости, чем у епископа в голове. Этот Фогтеи и сейчас у меня процессов двадцать пять ведет. Так ведь, господин Лупчек? Ну, скажите, наконец, как там его милость, что он мне передать велел?
Господин Лупчек, поняв, что здесь ему ничто не угрожает, вновь обрел свои естественные манеры, отличавшиеся от неестественных тем, что были они еще более неловкими и угловатыми. Он счел пристойным в качестве введения к своей речи два-три раза кашлянуть.
— Передать они вам ничего особенного не велели, а вместо этого послали запечатанное письмо: после полудня сами будут за ответом.
— Что ж, тогда сходим в дом за очками. Вероятно, какое-нибудь судебное дело не выгорело, ну, да не беда, из двадцати-то пяти процессов где прибавится, а где и отвалится…
Господин Калап нашел очки, водрузил их на нос, снял, протер, снова надел, подошел к окну, где было посветлее, перочинным ножом, не торопясь, поддел печати, ногтем отколупнул их от конверта и по старинной привычке сильным щелчком очистил бумагу от песка. Однако в письме оказался неожиданный сюрприз.
— Да что сегодня, первое апреля? — с некоторым раздражением вырвалось у старика.
— Сегодня второе июня, — равнодушно отозвался Лупчек.
— Послушайте, вы, может, ваш принципал спятил? Лупчек приятно осклабился.
— Да вы знаете, что в письме он просит у меня руки моей дочери?
Миклош порывисто вскочил.
— Сиди, сиди, я и за тебя отвечу, — утихомирил его старик.
Лупчек с жалостью оглядел Миклоша.
— Ах. тысяча чертей! Послушайте, вы, скверную шутку сыграл ваш принципал. Я дочь не в мусорной куче нашел, чтоб первому встречному старому холостяку отдать, который в отцы ей годится! Передайте ему от ворот поворот и… и скатертью дорожка!
Лупчек чуть не лопнул от смеха: очень уж ему по вкусу пришлось, как его господина принципала честили.
— Прошу прощения, но господин принципал, наверно, учитывали то обстоятельство, что ваша честь сочтут положение, занимаемое ими, невысоким, а пятьдесят весен, обременяющих их плечи, чрезмерными. Однако чего они хотят, того добиваются: ввиду вышеупомянутых причин они не поленились снабдить своего скромного заместителя различными аргументами. Так как номер первый не произвел должного впечатления, я имею честь передать вам номер второй.
И господин Лупчек протянул «номер второй» — заверенный протокол решения партии консерваторов, согласно которому господин Мартон Фогтеи выдвигался их кандидатом в депутаты парламента.
Господин Калап прочел бумагу, сложил ее и вернул Лупчеку.
— Поздравляю его милость, но даже в этом случае мы с ним каши не сварим. У меня тоже есть свои аргументы. Во-первых, я не отдам ему дочь потому, что не отдам, во-вторых, не отдам потому, что уже отдал.
— А третий аргумент? — осмелился смиренно напомнить господин Лупчек.
— Ах, этого еще мало? Так я вам вот что скажу: не выводите меня из терпения!
— Этого мало, прошу прощения, конечно, этого мало. Извините, ваша честь, но этого мало, во-первых, потому, что аргументация есть нечто бесконечное, а так как она бесконечна, то вполне естественно не может закончиться окончательно на втором аргументе, во-вторых, этого мало потому, что у нас имеется и третий аргумент.
С этими словами он вынул из кармана фехерварский нож, раскрыл его и вспорол подкладку жилета, из которого выпало обернутое в множество промокательных бумаг второе письмо за пятью печатями: особо заботливое хранение должно было свидетельствовать о важности послания.
— А ну, давайте его сюда, — полураздраженно, полусмеясь, сказал Калап…
Но едва он начал читать, как лицо его приобрело синевато-свинцовый оттенок, и чем дальше пробегал он глазами по бумаге, исписанной крупными буквами, тем больше хмурил и без того омраченный лоб. Дочитав до конца, потрясенный Калап молча положил письмо в карман: трубка его погасла, он хотел ее снова набить, однако вместо кисета вынул из кармана письмо и вновь прочитал его. Но, конечно, на бумаге стояло то же, что и прежде. Дрожащей рукой Калап отер лоб.
— Я согласен! — мучительно простонал он, и лицо его залила смертельная бледность. — До полудня сообщу обо всем дочери.
VII Тайна
Тут мы на некоторое время прервем нашу историю и поищем в темном прошлом тайну, что сплела сюжет нашего рассказа. Нам придется вернуться вместе с дядюшкой Калапом на семнадцать лет назад, к тому времени, когда он был в расцвете сил, незадолго до того женился, словом, наслаждался, как говорится, медовыми годами, если конечно, «месяц» может, словно резина, растянуться на года! Однако в данном случае это вероятно, ибо господин Калап с трудом добился своей жены, а что труднее дается, всегда больше ценится.
Впрочем, почтенную госпожу Калап мы упомянули только из-за того, что название этой главы — «Тайна». Ну, а там, где есть тайна, ищи женщину, тогда и найдешь ключи к тайне.
Царствие ей небесное, бедняжке госпоже Калап, мир праху ее, но только ведь она и в самом деле всему была причиной! Зачем вышла она замуж за господина Калапа, коли Петера Карци любила? Зачем родителей послушала, что предпочли состоятельного Иштвана Калапа управляющему имением, который ко всему еще отцом семейства был — у него после рано умершей жены сын-сирота оставался. Хотя, конечно, что правда, то правда, по обычаям того времени девичье сердце слишком мало значило, чтобы отцу возражать осмелиться. Но если можно оправдать ее брак с нелюбимым, то где искать оправдания тому, что и после замужества не выбросила она из головы красавца Петера Карци?
Любви трудно приказывать, но и ревности не легче. Да, это следовало бы знать бедняжке Боришке.
Судьба пожелала, чтобы сразу после медового месяца молодожены поехали на свадьбу к одному родственнику, куда злой рок привел и Карци.
Тотчас же после венчанья молодой муж велел было запрягать, но Боришка не согласилась.
— Ой, останемся еще хоть на часок!
Этот час был для Калапа мучителен: нигде он не находил себе места, голова у него горела, ноги дрожали, сердце громко стучало. В возбуждении он прислонился к стене дома и закрыл налитые кровью глаза. Ему хотелось подумать, в душе его зрел темный план. Подозрение и гнев — дурные советчики! Перед закрытыми глазами молодого мужа проносились придуманные им самим видения, отчаянная лихорадочная фантазия рисовала ужасные картины, на фоне обманутой любви, словно змеи, грозно извивались чудовища с головами, напоминавшими лицо молодой супруги, два страшных глаза пронзали его насквозь и жгли, будто адским огнем.
Задрожав, он пощупал лоб, с которого градом лил пот. «Наяву я вижу это или во сне? — думал он. — Не может быть, чтобы такое наяву было».
В эту минуту в доме заиграла музыка, послышался старый добрый чардаш.
Калап подошел к окну и заглянул в зал. То, что он увидел, сразу убедило его: увы, он не спит?
Его Боришка рука в руке, сердце к сердцу танцует с Карци, головка ее отдыхает у него на плече, а рука Карци сжимает ее тонкую талию. О, проклятье. Кто может знать, что они там шепчут друг другу?
Вне себя, он ворвался в зал и, когда жена выделывала самые ловкие па, схватил ее за руку, опередив красавца партнера. Как раз шла самая кокетливая часть чардаша: тут партнерша словно говорит: «Возьми меня, я твоя…» — Час прошел, — глухо сказал Калап. — Едем! Раскрасневшееся, пылающее личико молодой женщины сразу поблекло, она умоляюще подняла на мужа большие голубые глаза.
— О, еще полчаса… Только полчаса! Мне так здесь хорошо!
— Тебе здесь хорошо!
Это все решило. Больше не было никаких сомнений. Признаки вернее всего говорят тому, кто умеет их читать. В первое мгновение сильного мужчину словно электрическом током ударило по нервам, в следующее мгновение по ним пробежал страшный холод. Прорвавшийся гнев окрасил его щеки, потряс все существо, но губы его не предали. Как раз безмерность гнева и подала ему злобный совет сдержаться, не выдать того, что кипит внутри.
— Ну, что ж, я не против, — с деланным равнодушием произнес он, — можем остаться хоть до утра: мне и самому не особенно хочется уезжать.
Он холодно отвернулся от жены и куда-то исчез, целый вечер его не видели; правда, бывшие влюбленные не очень-то и обращали на это внимание.
Однако около полуночи он снова появился и молча расхаживал по залам — единственная мрачная фигура среди веселящихся гостей. Приятели думали, что он здорово перебрал, а потом отсыпался где-то в овине на сене и до сих пор полностью не пришел в себя после возлияний.
Но голова у господина Калапа болела сильнее, чем обычно от вина. Он едва дождался случая, когда наконец смог остаться с Карци наедине.
— Вы дворянин, не так ли? — тихо спросил он.
— Дворянин, — отвечал тот, устремив на Калапа сверкающий гневом взгляд.
— Ежели дворянин, значит, не трус. Не говорите никому ни слова и через полчаса незаметно выберитесь отсюда и сойдите за мною в сад. Я буду ждать вас у пасеки. Нам с вами пора свести счеты!
— Приду! — дерзко шепнул Карци и, гикнув, с веселым неистовством прямо на глазах у господина Иштвана Калапа пустился в пляс с его женой, из-за которой они оба чуть позже отправятся сводить счеты к пасеке.
Но ждать себя долго он не заставил; на стене соседнего овина обрисовались две темные тени — Калапа и Карци.
— Ну, я пришел, — вызывающе произнес Карци, прислонившись к столбу пчельника. — Что вам от меня угодно?
— Прямо могу сказать, отгадать нетрудно, — ответил Калап.
— Ну-с?
— Мне кажется, нам двоим тесно на этом свете.
— Я и сам так думаю…
— Ах, вот как? Тем лучше, по крайней мере, скорее с этим покончим. Знаете, где я был, пока вы развлекались?
— Меня это не интересует. Калап сделал нетерпеливый жест.
— Я сел на коня и съездил домой за пистолетами.
— И прекрасно сделали, — сказал Карци холодно.
— Пистолеты заряжены. Извольте идти за мной!
Карци молча последовал за Калапом. Они прошли по широкому полю, на котором даже в темноте белела тропинка, разрезавшая его пополам и уводившая в темные заросли ивняка. Калап шел первым; в середине зарослей он остановился, словно задумавшись, но затем снова двинулся быстрым шагом.
Тишину прервал Карци:
— Не понимаю, зачем мы идем в такую даль.
— Потом поймете.
— А что скажут, если мы будем столь долго отсутствовать?
— Это узнает только один из нас, другой будет отсутствовать весьма продолжительное время.
— А приблизительно?
— Приблизительно до второго пришествия!
По ту сторону ивняка река Рима делала излучину, словно собирая оборкой серебряно отсвечивающую ленту. Здесь через речку были переброшены узкие доски для пешеходов: если же местный житель желал попасть с телегой на поле, лежащее за Римой, он тратил полдня, прежде чем добирался до комитатского моста. Так вот тогда и ездили.
На берегу Калап вдруг остановился и, вынув из-под плаща привезенные им пистолеты, протянул их своему врагу для выбора.
Карци наугад прикоснулся к одному из них и кисло заметил:
— Без свидетелей я не стану стрелять, не хочу сгнить в тюрьме за убийство.
— Ах, ты не будешь стрелять? — в бешенстве заорал Калап. — Ну, как хочешь! Но я, клянусь тебе, я буду стрелять и ухлопаю тебя, как трусливого зайца.
Карци понимал, что умнее всего было бы броситься сейчас на беснующегося человека, вырвать у него из рук пистолет и вместе со своим бросить в волны Римы; но в ярости Калапа было что-то справедливое, законное, и это парализовало силы Карци, лишило его твердости.
— Ну, что ж, — тихо произнес он. — Давайте кончать поскорее.
Вдруг Калап хлопнул себя по лбу и живо сказал:
— Подождите, вы, действительно, правы. Тому, кто останется в живых, придется возиться с трупом. Надо что-то придумать. Я предлагаю вот что: станем оба на этот узкий мостик — кто упадет, будет унесен водой и не причинит другому никаких неприятностей. Река — верный хранитель тайн.
Карци раздумывал не больше мгновенья.
— Согласен, — быстро сказал он. — Кто стреляет первым?
— Стреляем оба сразу:
— То есть как это?
— Сейчас объясню. Слышите, петухи полночные кукарекают на селе?
— Да, но они как раз сейчас умолкли.
— Не беда, вот-вот опять услышим. Значит, стреляем по первому петушиному крику. Займите позицию!
— А кто гарантирует, что один из нас не воспользуется положением и не выстрелит без сигнала?
— Наша собственная честь, господин Карци. Господь смотрит на нас, он все видит.
— Довольно!.. Я занимаю позицию.
Узкий пешеходный мостик без перил стал полем боя. Оба врага отмерили восемь шагов, осторожно ступая по сбитым вместе доскам, перейти по которым и днем-то было рискованным предприятием, затем взвели курки, нацелили пистолеты друг в друга и в такой позе застыли.
Ожидание длилось недолго, но было томительно и жутко. Среди мелких облаков то и дело показывался месяц, как будто играл в прятки со звездами; в ивняке возникал таинственный шум, словно это дышала сама спящая природа, ночную тишину нарушали лишь волны, плещущие о столбики пешеходного мостика…
…Резкий петушиный крик пронзил воздух, вслед за ним раздались два пистолетных выстрела, и два человеческих тела упали в волны. Луна поспешно укрылась за облачным своим покрывалом. Один человек, преодолев волны, выбрался на берег, второго тихо унесла река — река, верно хранящая тайны. На берег выбрался Калап. Словно окаменев, стоял он у самой воды, а глаза его были неотрывно прикованы к черной точке, которая все уменьшалась, уменьшалась и вот уже казалась лишь чернильным пятном на отливающей серебром ленте реки. Что это было? Конечно, голова убитого, временами появлявшаяся над волнами. Калап бросился было бежать за черной точкой по берегу, но ноги отказались ему служить. Месть гнев, ревность, бушевавшие ранее в его душе, вдруг превратились в ничто, он о них и не вспомнил, словно никогда не испытывал.
— Что я наделал? Зачем?!
Лишь мрачная тишина была ответом на вопрос, обращенный им к собственной душе; ивняк продолжал таинственно шуметь, казалось, ветви шептались о загадочной тайне, волны теперь уже злобно ударялись о мостки, словно с плеском повторяя: «Убийца! Убийца!»
Тихо… Калап начал дрожать; со стесненным сердцем ждал он, пока на горизонте окончательно не исчезнет плывущая вниз черная точка: быть может, тогда станет легче. Но он ошибался. Черная точка навсегда осталась с ним: она как будто отпечаталась в его душе, и с тех пор он обречен был никогда не расставаться с этой ужасной фотографией.
VIII Голос с того света
Событие, описанное в предыдущей главе, произошло давно, так давно, что, быть может, его и вообще-то не было. Когда-то, правда, внезапное исчезновение молодого управляющего имением дало повод для множества слухов и кривотолков. Каждый объяснял событие по-своему, особенно долго сплетничали в округе языкатые старухи: куда он мог деться да что с ним случилось, убили его или он сам на себя руки наложил; да, может, он в Америку удрал и т. д. А через несколько месяцев из Римы выловили совершенно разложившийся, ставший неузнаваемым труп. Общественное мнение было вполне удовлетворено: разумеется, утопленник — бедняга Карци. Правда, суд официально констатировал, что тело не может принадлежать Карци, ибо у того были волосы черные, а у этого соломенные, кроме того, Карци был высок ростом, а этот совсем коротышка; но в конце концов что в этом понимает суд! Пусть-ка господин исправник подержит два месяца под водой свою высокочтимую голову и благородные кости — вот тогда и посмотрим, как изменится его достойная персона! Бадогский полевой сторож вспоминал, что в вечер свадьбы, эдак около полуночи, двое неизвестных господского обличья прошли мимо его сторожки, а немного погодя со стороны Римы послышалось два пистолетных выстрела; но ведь бадогский сторож пьяница, и, с тех пор как двадцать лет отслужил императору — чем он весьма гордится, — в нем так крепко утвердились солдатские нравы, что ни единому его слову верить нельзя. А соседский ночной сторож прямо небом и землей клялся, что в ту ночь проследовало через их деревню мокрое привидение, вода струилась с него, будто с навеса, и оно оставляло на пыльной дороге кружевные следы; сначала — так рассказывал сторож — хотел было он наброситься на привидение, а потом подумал, что ловля призраков не входит в его обязанности, за выполнение которых он получает жалованье натурой; поэтому он зажмурил покрепче глаза, осенил себя крестным знамением и не стал мешать бедняге следовать своим путем.
Как мы уже упоминали, Карци был вдовцом. Его жена, с которой он прожил чуть более года, распростилась с жизнью в тот самый момент, когда дала новую жизнь маленькому Миклошу. Миклошке стукнуло два годика, и он уже очень чисто выговаривал слово «папа» (в слове «мама» у бедняжки не было надобности), когда его отец вдруг исчез. Добрые люди, которых в прошлом веке было еще полным-полно, заботились о круглом сиротинушке, пока в один прекрасный день не явился из Северной Венгрии человек, по виду чиновник; он назвался родственником Карци и увез ребенка с собой.
Вот и все, что знали люди о печальном событии, но постепенно, как и все на свете, даже эти смутные подробности сгладились в людской памяти. Факты, попавшие в лапы времени, похожи на крашеную материю, которая постепенно линяет.
И лишь в душе у Калапа ужасная картина навеки осталась новехонькой.
Но уж если он стал пленником этого видения, если гнетет оно его душу, пробуждает от снов, если бьет по лицу, когда ему хотелось бы радостно улыбнуться, подмешивает полынь в питье и яд в еду, отгоняет прочь благотворное забвенье, то пусть, по крайней мере, никто об этом не знает. Лишь бы никогда не проговорилась река — хранительница тайны…
И вдруг, спустя десятилетия, река заговорила… Мартон Фогтеи писал в письме:
«Милостивый государь! В ночь кендерешской свадьбы два человека с наведенными друг на друга пистолетами стояли на бадогском пешеходном мостике. Судьба этих людей известна лишь нам двоим. А ежели так, то зачем об этом распространяться? Sapienti pauca![69] Вас, милостивый государь, вероятно, не очень интересует это дело? Случилось оно давно, с тех пор, разумеется, и позабыть о нем было можно. Охотно верю, но вот у документов фатально долгая память! Впрочем, что я болтаю попусту, будто в претензии на Вас из-за полученного отказа? Первая мысль не всегда самая лучшая, следовательно, я уверен, Вы от нее откажетесь и охотно примете в зятья депутата парламента. Дата и т. д.»
Вот что содержалось в письме стряпчего… Тень умершего отца поднялась со дна реки, чтобы оттащить сына в тот момент, когда он потянулся к девушке…
Разве можно было не уступить призрачной тени, вставшей на пути заветнейших планов грешного человека и сказавшей: «Ни шагу дальше!»
Калап, словно пораженный молнией, недвижимо сидел на стуле и, казалось, ничего не слышал, не чувствовал, не думал, вообще не был живым человеком; amice Лупчек потер руки и вписал в свою «Книгу записей» данный ему положительный ответ. Взволнованный Миклош сорвался с места и схватил практиканта за горло.
— Отпустите меня, сударь! Что вам угодно?
— Я желаю знать, что вы там царапаете?
— А что ж мне царапать, ежели не ответ его чести? Они сказали, что согласны.
— На что он согласен?
— Странно! Они согласны, чтобы мой принципал женился на их дочери.
— Это невозможно! — в отчаянии вскричал Миклош. — Я протестую! Час назад вы обещали ее мне! Эржике моя и только моя! Правда? Он вас неправильно понял! Вы не отдадите дочь стряпчему? Говорите, дядюшка, ради бога, прошу вас…
Но обращаться к старому Калапу было бесполезно. Он не ответил бы теперь даже самому судебному следователю… Его большие остекленевшие глаза тупо уставились на юношу, словно говоря: «Не понимаю, о чем речь». Наконец язык его шевельнулся и издал непонятный рычащий звук, похожий на бормотание ребенка, что учится говорить.
— Да ведь их паралич разбил, — проблеял ошеломленный Лупчек и пустился наутек.
Он бежал, не останавливаясь, до соседней деревни, где господин Фогтеи держал речь перед собравшимися дворянами в изящных периодах излагая мысли о том, что каждый дворянин — жемчужина в короне святого Иштвана *. Было бы прискорбно смешивать жемчуг с мусором (овация). Мужика сама природа создала более сильным и плечистым, чтобы он прокладывал дороги, платил налог и работал на барщине. Идти против природы — искушать бога. (Правильно!) Жертвовать на алтарь отечества презренный металл — ниже дворянского достоинства, дворянин платит налог собственной кровью! Предки наши, одевавшиеся в меховые шкуры, перевернутся в своих могилах, если мы отдадим хотя бы одну из завоеванных ими привилегий. (Общее одобрение.) Он, Фогтеи, заявит об этом в парламенте во всеуслышанье; если его благородные земляки придерживаются того же мнения, он просит их оказать ему доверие. Пусть они хорошенько все обдумают и не дадут себя провести его сопернику Ласло Бойтошу, который, кстати говоря, поит благородных дворян никудышным винишком (ропот). Чего же ожидать от человека, проявляющего такое неуважение к дворянству? Вот вы нашего вина отведайте? (Восторженные, бурные крики.) Речь произвела эффект. Amice Лупчек, задыхаясь, прибыл в село именно в тот момент, когда дюжие молодые дворяне, подхватив его принципала, кто за что смог уцепиться, потащили его по улицам, выкрикивая импровизированную песню:
Садись в кадку, Ласло Бойтош, В Пожонь едет Мартон Фогтеи!Пишта Ферц самый главный вербовщик голосов, вытащил откуда-то большую кадку и засунул в нее огородное пугало в виде «бахуса», что должно было изображать персону предшественника либералов в той позе, в какой местное общественное мнение вознамерилось усадить его в кадку вместо того, чтобы отправить в пожоньский парламент. С героической серьезностью Пишта Ферц вышагивал во главе процессии, высоко подняв зловещую кадку.
Фогтеи лягался, кусался, трепыхался, никак не желая смириться с тем, что его особу транспортируют этаким манером; но патриотизм запрещал благородным дворянам обижаться на него: с примерным смирением они терпели барахтанье его милости и ни за какие мирские блага не отпустили бы свою ношу, не донеся до конца села, до звонницы.
Amice Лупчек спешил проложить себе дорогу к удостоившемуся подобной чести хозяину, но добраться к нему он не смог, ибо вдруг возникло непредвиденное препятствие. Кому-то пришло в голову сказать: «Эх, и до чего этот малый на огородное пугало похож!» У пристрастившихся к зрелищам земляков глаза так и разгорелись! Тотчас выдумали: это, мол, шпион из партии Бойтоша! А Пиште Ферцу больше и не надо было! Схватил он за шиворот достопочтенного amice, который так и не успел добраться до своего хозяина, и сунул его в кадку, ободряя отчаянно визжавшего молодца тем, что кадку сейчас повесят на самую верхушку звонницы, а оттуда уж он может с полным комфортом наблюдать за событиями…
Лупчеку и в самом деле едва не оказали эту честь, как вдруг несчастье помогло: дно кадки под тяжестью его тела отвалилось. Господин Лупчек выскользнул было из нее, да не совсем: между его животом и дном кадки возникло бросающееся в глаза несоответствие; развязка могла наступить лишь в том случае, если его вытряхнут из кадки вверх тормашками.
Итак, начался живой обмен мнениями относительно методов извлечения Лупчека из кадки. После долгих пререканий решение вопроса пришлось доверить Фогтеи, который только сейчас заметил, что висевшие из кадки ноги ему почему-то знакомы, где-то он их уже видел, — вот только где именно? Весьма не скоро, но все же он наконец вспомнил: ведь это его собственные прошлогодние сапоги, которые он не мог носить из-за мозолей и сплавил своему практиканту взамен двух пар головок для сапог, обусловленных в контракте о службе amice. Итак, сомнений, что в кадке amice Лупчек, у стряпчего не было. Вопрос извлечения его — ибо господин Лупчек фатально застрял в кадке и не было никакой возможности извлечь его оттуда задешево, не разнимая кадки, — ставился таким образом: стоит ли портить из-за него добротную вещь или не стоит? Господин Фогтеи вынес гуманное решение, согласно которому кадку необходимо было незамедлительно и с большой осторожностью разбить, ибо личность, застрявшая в ней, не кто иной, как его собственный практикант, который к тому же привез своему принципалу важные вести.
Обручи сбили, и amice Лупчек в полной сохранности выкатился вместе с рассыпавшимися клепками; то обстоятельство, что хозяин кадки раньше держал в ней муку, оставившую весьма заметный след и на бедняге amice, разумеется, особого упоминания не заслуживает.
— Violencia[70] — покушение! — заорал достойный юнец, как только отдышался. — Я требую сатисфакции!
— Ладно, ладно, — сказал Фогтеи, — но раньше не грех бы умыться, друг мой.
— И то правда… — ответил господин Лупчек, совсем остыв, и поспешил к первому же колодцу.
— Ну-с? — спросил принципал, как только ему удалось остаться наедине с измученным помощником. — Сено или солома?
— Сено.
— Что ж он сказал?
— Согласился.
— После какого?
— После третьего.
— Очень хорошо, хотя мне жаль, что нам пришлось зайти так далеко. Итак, в четвертом не было надобности, а ведь оно самое эффектное… Верните его мне, amice!
Лупчек вытащил из голенища сапога рваный, засаленный платок, в который было завернуто четвертое послание: он передал его адвокату нетронутым.
— Значит, — вновь заговорил адвокат, — положение дел таково: я теперь жених. Что слышно о барышне, с которой я обручен?
— Их честь обещали поговорить с ней еще до вечера. Фогтеи потирал руки, на его желтой физиономии расцветала радость.
— Значит, до вечера? Очень хорошо! То есть, мне кажется, он слишком спешит. До вечера он вряд ли сумеет убедить ее… мне так кажется…
— Мне и самому так кажется.
— Что? Что вам кажется, amice?
— Что его честь не поговорят с барышней до вечера.
— Как вы смеете так думать — ведь он обещал! Однако господин Лупчек стоял на своем.
— Обещали они или нет… я все же повторяю: они не станут говорить с барышней ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра…
— Э, вы что, спятили? Я вот велю сейчас вас связать, если не объясните своих слов. Ну-с, почему это он не станет говорить с барышней?
— Потому… у них язык отнялся.
— Язык отнялся?
— Третий аргумент был настолько силен, что их честь тотчас же хватил удар. Потрясенный адвокат попятился, на его физиономии мелькнуло мимолетное неудовольствие, затем равнодушным голосом, стараясь скрыть свои чувства, он произнес.
— А ведь нам, amice, его язык еще пригодился бы на некоторое время.
IX Знамена
Миклош остался с глазу на глаз с беспомощным человеком. Руки господина Калапа безжизненно повисли, голова откинулась к спинке кресла, медленные глухие вздохи вздымали грудь.
На зов Миклоша первой прибежала старая служанка Бориш, однако она тотчас же в ужасе выбежала обратно во двор, криком встревожив всю округу.
— Ох, господи! Кто бы подумал! Такой богатый человек, а тоже вот бог не помиловал! Да как же велик ты, господи! Все видать, под тобою ходим… Эй, люди, люди! — верещала она, ломая руки. — Если есть у вас душа, скорей бегите, коней запрягайте! Янчи! Скачи за врачом в город. Хорошо бы, конечно, бабку позвать, она-то получше доктора разбирается, но так ей молодой барин приказал… Эй, Пишта, послушай… сбегай-ка побыстрее в верхний конец села к хромой мельничихе, пусть травки даст, какая получше. А ты, Като, доченька, чего пялишься? Лучше бы немного овса разогрела их милости на живот положить: глядишь, овес душу барина-то на земле и удержит…
Миклош раздел старика и хотел уложить его, когда на пороге появилась стройная фигурка Эржике.
— Батюшка! — вскричала она с непередаваемой болью в голосе и бросилась отцу на грудь, покрывая поцелуями его щеки, лоб, согревая в своих ладонях его руки.
— О, твои руки холодны, как…
«Как у покойника», — чуть не сказала она, но Миклош поспешил перебить ее, не дав докончить невольно явившуюся грустную мысль.
— Как лед! — произнес он, став рядом с Эржике и прикоснувшись к застывшей руке старика. — Впрочем, тревожиться не стоит, я так полагаю.
Девушка в изумлении подняла глаза. Кто здесь разговаривает? Кто еще находится в комнате, кроме нее? Кто смеет разделять ее боль? Отчаяние отняло у нее память, но как только она увидела Миклоша, память тут же была ей возвращена любовью.
— Боже мой! Вы здесь! О, как много всего произошло! Ведь с ним ничего плохого не случится, правда? Говорите, молю вас, правда, не случится?
— Первый удар обычно не опасен. Я думаю, к нему и речь вернется.
Девушка тихонько зарыдала. Миклош вздохнул и взмолился к небесам.
О, если б старик смог сказать еще одно слово, только одно-единственное слово в обмен на ту последнюю фразу, что практикант адвоката записал в свою книжицу!
Кто теперь возьмет эту фразу обратно!
— Господи! — задыхаясь рыдала Эржике, закрыв ладонями очаровательное личико. — Почему вы сказали, что к нему вернется речь? Ведь он не лишался ее. Нет, мой отец не немой! Батюшка, батюшка, посмотри на меня, заговори со мной! Я здесь, неужели ты не узнаешь меня?
Старик открыл на минуту глаза, язык его быстро задвигался, но понять эти бессвязные звуки было невозможно. Эржике в отчаянии вскрикнула:
— Так, значит, ты стал немым! Ты лишен языка, у тебя остались только мысли! Ты видишь меня, но не можешь заговорить! Я могу спрашивать у тебя, но не получу ответа! Милый, добрый папа!
Слезы так и хлынули у нее из глаз, и она опустилась на колени у постели отца.
— Кто теперь будет рассказывать мне разные истории долгими зимними вечерами? С кем я буду беседовать? Кто станет гладить меня по голове, называя «милой Эржике»?
Миклош склонился к плачущей девушке, нежно взял ее маленькую ручку и не мог удержаться, чтобы не сказать:
— Я… я буду говорить с тобой, рассказывать тебе разные истории долгими зимними вечерами, со мной ты будешь теперь беседовать!
Лицо девушки запылало. Его можно было сравнить с зимним пейзажем, неожиданно позолоченным солнечным лучиком, одолженным у весны; сбегающие слезинки еще сверкали на щеках, но казались каплями росы на розах, и ни за какие сокровища мира нельзя было догадаться, что место их рождения — глаза Эржике, где уже сверкала улыбка.
— Ой, о чем вы это? — пролепетала она в смущении, однако руки своей не отняла.
Большому горю так же пристала радость, как горькому кофе — сахар.
Прибыл врач, единственный в комитате человек, носивший очки. Он осмотрел больного и подал надежду на выздоровление.
Доверие к нему Миклоша было безгранично, но Эржике заподозрила, что врач просто утешает ее.
— Больной пережил сильное душевное потрясение. Что же, там видно будет, дитя мое! — сказал Эржике доктор, чье холодное сердце, чувствительность которого притупилась от постоянного созерцания человеческих страданий, дрогнуло при виде глубокого отчаяния девушки. — Многого я не обещаю, ибо хочу сделать больше обещанного. Но прежде всего мне необходимо узнать те подробности, которые предшествовали несчастью и, быть может, вызвали его… Расскажите мне о них.
Эржике не отвечала. Впав в тупое оцепенение, она сидела на стуле в той стадии тягостного отчаяния, когда человек уже не может, да и не хочет думать.
— Я был один с господином Калапом, когда он почувствовал себя плохо, — выступая вперед, сказал юноша.
— Вероятно, какая-нибудь неприятность, резкая сцена?
— Вроде того, — чуть запинаясь, ответил Миклош.
— Смелее, мой молодой друг! Врач своего рода следователь: он извлекает пользу из любой даже кажущейся несущественной мелочи.
— Вы на этом настаиваете?
— Безусловно.
— Сегодня утром практикант адвоката Мартона Фогтеи некий Лупчек…
— Я его знаю.
— …явился к господину Калапу и передал ему письмо от господина стряпчего, в котором тот просил руки его дочери.
Врач покачал головой и улыбнулся. Ну, а Эржике услышанные слова показались мрачными отголосками какой-то печальной истории и, смешавшись с давящим ее душу и разум тяжелым туманом, окрасили все в черный цвет. Темные клубы тумана колыхались над девушкой, угрожая поглотить ее.
— Ну-с? — с любопытством спросил врач.
— Господин Калап отклонил предложение господина адвоката.
— Ага!
— Отклонил весьма твердо. Однако Лупчек передал ему другое письмо, которое очень взволновало господина Калапа, он побледнел как смерть и дал согласие на брак Эржике с Мартеном Фогтеи. Это были его последние слова. Потом он упал на стул и больше уж ничего не говорил.
Казалось, змея сквозь клубящийся туман протянула к Эржике свое ядовитое жало… девушка вздрогнула, в ужасе прижала руку к сердцу. Затем, словно пантера, метнулась к Миклошу.
— Что вы сейчас сказали? Ах, не может быть, мне просто померещилось!
Миклош молча опустил голову и тяжело вздохнул.
— Да, — вежливо заговорил доктор, — он раскрыл приятную тайну. Разрешите мне, барышня, первым пожелать счастья госпоже будущей супруге депутата парламента.
— Нет, ни за что на свете! — прерывающимся голосом страстно вскричала Эржике.
Больной, сделав усилие, шевельнул языком, послышался слабый стон. Все обернулись к нему, зловещее облако, словно красноречивый протест, пробежало по лицу старика: «Молчи, девочка!»
Ни врач, ни Миклош, ничего не поняли, но любящая дочь сумела прочесть все по отцовскому лицу, ей были открыты тайны его морщин, в которых могли заключаться лишь добрые советы.
— Я не так выразилась, господин доктор, — произнесла она дрожащим, но твердым голосом. — Воля отца для меня священна, как он пожелал, так и будет.
Эти слова окончательно истощили ее силы; она рухнула на стул, погрузившись в прежнее тупое оцепенение. Миклош хотел броситься к ней, но врач удержал его.
— Пусть даст волю горю, друг мой; это лучшее лекарство. Бедняжка похожа на поникшую белую лилию.
О, какое прекрасное сравнение! Поникшая лилия — это теперь, когда она говорит: «Я подчиняюсь отцу», — но гордая лилия раньше, когда она вскричала: «Нет, ни за что на свете!»
Миклош задумался: чему же верить?.. Да и лилии поникают по-разному: одни совсем ломаются, другие лишь на мгновенье уступают порыву бури, чтобы в следующую минуту с поднятой головкой вновь красоваться на своем стебле. Как же поникла его лилия?
— Черт побери… молодой человек, — вновь заговорил после короткой паузы врач, — чем больше я раздумываю, тем таинственнее мне представляется этот случай. Где это письмо? Нам надо знать…
— Письмо у него в кармане, — ответил Миклош.
— Не окажете ли вы мне любезность и не вынете ли его оттуда?
Юноша оскорбленно и гордо взглянул врачу в глаза.
— Что вы обо мне думаете, сударь?
— О, боже, что я думаю? Да вообще-то говоря, ничего. Я забочусь о выздоровлении больного и прежде всего ищу первопричину несчастья — вот и все. Где тут у него карман, я и сам выну письмо.
Он быстро нашел скомканную бумагу в куртке погруженного в дремоту больного. Внимательно прочитал ее, но ничегошеньки не понял.
— Да, умнее от этого мы не стали, — недовольно произнес он. — Никаких следов душевного потрясения. И вообще письмо настоящий ребус, сфинкс. О предложении тоже странно сказано: «Примите в зятья депутата».
Глаза Миклоша живо блеснули.
— Но в таком случае согласие господина Калапа относится только к депутату.
— Как вас прикажете понимать?
— Так, что, когда Калап сказал «согласен», он соглашался лишь на то, о чем просил господин Фогтеи, то есть принять в зятья депутата.
— Вы правы, если взглянуть на дело именно с этой точки зрения. Как видно, вы весьма педантичны и щепетильны. Разумеется, вы тоже адвокат?
— Нет, я всего лишь управляющий имением, но не хочу забывать, что борюсь против адвоката. Хитрость против хитрости.
— Ага, значит, вы хотите ему помешать? Мне кажется, я понимаю…
— Дело просто, сударь: я люблю Эржике и как раз перед приходом практиканта просил ее руки у господина Калапа. Он с радостью согласился на наш брак, и, если бы не это таинственное письмо, я был бы сейчас счастливейшим человеком на земле.
Врач расхохотался.
— А, подите вы! До чего ж вы, дорогой, неискушены. Зачем вам надо было болтать о согласии старого Калапа? Теперь барышню связывает с господином Фогтеи уже моральное обязательство.
— Я рассказал об этом, господин доктор, по той простой причине, что я честный человек. Слова господина Калапа для меня святы, ибо они, быть может, последние. Он знал, почему соглашался, и мне к этому ни прибавить, ни отнять. Я не ищу причину, но думаю, она важная, ибо он согласился весьма неохотно.
Врач уже больше не смеялся, он шагнул к юноше, глядя на него во все глаза.
— Отлично сказано, молодой человек, очень хорошо! Разрешите пожать вашу руку… Но — не сочтите за назойливость — меня все-таки интересует, почему вы так толкуете согласие старика.
— Сейчас объясню. Как я уже говорил, воля отца Эржике может заключаться и в том, что он отдаст ее Фогтеи лишь в том случае, если того выберут в парламент.
— Верно, верно, но в конце концов только сам старик смог бы разъяснить это, если б мог говорить.
— Именно потому, сударь, что он говорить не может, дочь имеет право толковать согласие отца так, как позволяют сложившиеся обстоятельства.
На лице Эржике уныние сменялось надеждой. Из разговора мужчин она не пропустила ни единого слова, но беседа доходила до нее как бы процеженная сквозь страданье: голова у девушки гудела, в ней метались тысячи мыслей, сердце то сжималось, то расширялось, в зависимости от того, какие впечатления преобладали в нем. Однако она не имела сил ни вмешаться в разговор, ни встать с места; ею овладело какое-то странное оцепенение.
— Ваши рассуждения невозможно оспаривать, — отвечал врач, — они совершенно правильны. Против них можно возразить лишь одно: все это на практике яйца выеденного не стоит. Избрание Фогтеи не вызывает сомнений. Во всех остальных комитатах депутаты уже выбраны, и до сих пор положение партий было одинаково. Вы должны согласиться, что выборы последнего депутата в пятьдесят втором комитате уже не просто выборы, а последний, решающий бой, в котором либералы и консерваторы будут сражаться не на жизнь, а на смерть.
— Все это я знаю, но не могу понять, почему именно Фогтеи должен победить?
— Вы имеете в виду Бойтоша? Абсолютно невероятно. Либералы значительно беднее, где уж им победить здесь, на последнем бастионе, когда крупные магнаты платят по сто золотых за каждый приветственный выкрик. А другого кандидата от консерваторов, кроме Фогтеи, нет.
Миклош улыбнулся.
— Нет, но будет. Крупные магнаты большие самодуры. Я тоже знаком с одним таким вельможей, он сказал мне: поезжай и трать, все для тебя открыто: мой кошелек, винные подвалы, зернохранилище; покупай души, плати за них столько, сколько просят; нельзя скупиться, когда дело идет о принципах. Что касается имени, это дело второстепенное, ты найдешь его на знаменах, которые пришлют вслед за тобой. Вот почему я и говорю: Мартон Фогтеи не станет депутатом, а Эржике не будет обязана выйти за него замуж.
— Кто знает? — задумчиво произнес врач.
— А я еще раз повторяю: этому не бывать! — решительно воскликнул юноша.
— А-а! Ну и какими же деньгами вы располагаете? Этак тысяч двадцать, тридцать?..
— Примерно миллион.
Услышав огромную цифру, врач попятился.
— Не шутите! Кто же этот расточительный вельможа? Я попрошу наложить секвестр на его средства.
— Граф Габор Илларди.
— О, о! Это другое дело, теперь я верю, что оба наших кандидата отправятся в «кадку». Я хоть сейчас могу поздравить вас как жениха.
В этот момент раздался стук в дверь. В комнату вошел человек в синей одежде. Миклош. обернулся и изумленно вскричал:
— Ну и ну! Как вы меня нашли, дражайший Барко?
— А я, осмелюсь доложить, увидел Муци, вашу лошадь то есть, господин управляющий, ее на дворе поили. Вот я и подумал, вряд ли хозяин с лошадью расстанется, а то бы я вас в городе искал…
— Что хорошего привезли?
— Бумаги от его сиятельства графа.
Миклош жадно пробежал аристократичные каракули Илларди. В письме вельможа еще раз наказывал ему не жалеть денег и сделать все возможное в интересах кандидата от консерваторов, самому же Миклошу он сулил повышение, если тот будет действовать успешно. К письму была приложена доверенность на имя Миклоша, в которой всем служащим графских имений вменялось в обязанность точно выполнять «имеющие законную силу» распоряжения управляющего, коего надлежало по первому его требованию снабжать деньгами, вином и продуктами.
Миклош с живейшим интересом повернулся к Барко.
— Знамена привезли?
— Так точно, привезли. На двух батрацких телегах, вот они, у ворот стоят.
— А что на них написано?
— Что написано? — воскликнул Барко с присущим мелкому дворянину пафосом. — Да здравствует Мартон Фогтеи!
Врач горько усмехнулся. Эржике при звуке этого имени передернуло, как от холода, она вздрогнула, словно ее толкнул сильный порыв ветра. Миклош, опустив голову и кусая губы, принялся быстро ходить взад и вперед по комнате. Наконец он остановился перед больным, долго глядел в помутневшие, омраченные глаза его, словно желая спросить совета, затем с силой топнул ногой об пол и негромко сказал:
— А я в третий раз повторяю…
X Помолвка
Положение было серьезным. В страну проникли идеи равенства. В Венгрии вновь стала модной любовь к родине. О, это вечно возрождающаяся мода, которая так быстро нам надоедает!
Матери вечерами заставляли детей молиться за счастье родины, молодежь и в любви руководствовалась преданностью отечеству, дочери консерваторов мечтали о консерваторах-женихах и наоборот; с уст поэтов мелодично лились печальные и нежные, мрачные и бурные напевы о родине… Везде и на всем мелькал изборожденный морщинами скорбный лик родины; и даже тем, кто закрывал глаза, являлся он призывно, зовуще, словно желание, словно мечта, словно божество!
Поэтому и смогла сбросить с себя ветхую траурную вуаль наша общая мать; ее поблекшее, стареющее лицо оживилось, похорошело, засияло: она помолодела, словно испила воды из Леты, согбенная фигура ее распрямилась, мышцы налились стальной силой, слабый, искаженный хроническим кашлем голос стал звонким, и, гордо выставив вперед грудь, она крикнула громко на весь мир: «И я здесь!»
Мы напрягли ноги, ибо почувствовали, как они окрепли. «Что венгру два гроша стоит, немцу за десять отдадим» — такова была национальная политика pars pro toto[71]. Ученые мужи современного государства сказали бы: «Весьма недальновидная политика», — но как бы там ни было, а она успешно противостояла внешним влияниям.
Но к чему возводить укрепления против самих себя? Наибольшее препятствие для прогресса и равенства заключалось в нас самих, и преодолеть его было величайшей задачей; хорошенько очистить от ржавчины и плесени все железное старье, ненужное выбросить, а годное собрать и выковать из этого материала блестящий меч, сверканье которого воодушевляло, а удар, нанесенный по предрассудкам ночи, воскрешал нацию. Победа давалась нелегко. Разве допустят консерваторы, чтобы ради красного словца из их рук выхватили древко знамени, которое так упорно рвали новые ветры, знамени, защищать которое повелевали им собственные интересы, спесь и предубеждения. В последнем отчаянном напряжении сил выступила, объединилась гвардия перепугавшихся печовичей, когда по стране пронеслась весть, будто число избранных уже либеральных депутатов равно количеству депутатов-консерваторов. Итак, в пятьдесят втором комитате надо было сосредоточить все силы, ибо выиграть значило все выиграть, проиграть проиграть все.
Вождями печовичей были попы и наиболее состоятельные дворяне; даже знатные вельможи вернулись на родину из-за границы, где на молочных реках с кисельными берегами сбрасывали «лишний» жирок отечества, чтобы, не дай бог, да в нем не задохнуться, сбывали этот жирок иностранцам, которые, словно промокательная бумага, охотно его впитывали. Получив известие о великой опасности, старый граф Илларди, один из богатейших магнатов, тоже поспешил возвратиться на родину. О том, что происходит в стране, писали ему служащие его многочисленных поместий: того и гляди, мол, разразится восстание, как во времена Дожи *, барщину отменят, введут налоги и вообще всю страну с ног на голову поставят…
Да, теперь отступать нельзя. Тут уж не до шуток. Старый граф принял решение ехать домой, чтобы привести в чувство сбившихся с панталыку людей, вернуть обществу, так сказать, божеский вид.
На столь серьезный шаг он решился не без труда: это ведь куда более жалкая забава, чем псовая охота или там конные скачки, да и вообще к лицу ли вельможному аристократу заниматься сколачиванием парламента? Занятие это лишь потому и извинительно, что оно не из дешевых.
Однако обстоятельства вынудили его ехать к варварам для наведения порядка. По пути он вспомнил, что является губернатором какого-то комитата. Но вот какого именно? Э, да ладно, его мажордом, который даже по-венгерски говорить умеет, отыщет в адрес-календаре. Ну, а прочее его не задержит, сам он, правда, на пожоньском собрании магнатов даже не покажется, но в нижнюю палату пошлет из «решающего» района кого-нибудь из своих поверенных стряпчих, допустим domine Бойтоша.
По прибытии домой граф первым долгом пригласил к себе Бойтоша, чтобы сразу получить сведения о положении дел и попросить «верного семье человека» стать кандидатом в депутаты.
Бойтош был человек лет сорока пяти, сухощавый, высокий, с прекрасным бледным лицом и глубоко запавшими глазами, в которых светилась доброта и энергия.
— Я позвав вас затем, amice, — заговорил высокомерный вельможа, — чтобы сделать из вас господина.
— Благодарствую, ваше сиятельство.
— Нет ли у вас желания поехать в Пожонь депутатом?
— Во всяком случае… если доверие моих сограждан…
— О каких согражданах вы говорите? Остерегайтесь подобных опасных выражений. Может, и вы французские книги почитываете?
— Да, ваше сиятельство, я тоже читаю книгу, открытую нам временем.
— Ах, вот как! Что же вы вычитали в этой книге? — насмешливо спросил вельможа.
— Вычитал, что все мы люди, ваше сиятельство. Граф нахмурился.
— Гм, возможно… весьма возможно, но какая вам необходимость это замечать?
Сутулая фигура Бойтоша распрямилась, глаза вспыхнули, словно затаенный огонь, когда на него подует ветер.
— Если тьма начинает рассеиваться, ваше сиятельство, замечаешь, что наступает рассвет.
Илларди нервно потер лоб, молча долго расхаживал взад и вперед по залу, наконец остановился перед Бойтошем и так же долго смотрел тому в глаза.
— Если закрыть глаза, мой друг, то не заметишь рассвета.
— Ваше сиятельство весьма правильно выразились. Если закрыть глаза…
— Ну? — уже с раздражением прикрикнул граф.
— Я держу глаза открытыми.
Граф закусил губу, но сдержал гнев: Бойтош известен был как человек верный и на редкость самоотверженный.
— Жаль, что вы так считаете. Я хотел было просить вас стать кандидатом в депутаты, но убедился, что вы для этого непригодны. Берите перо и пишите моему поверенному в Пайе господину Фогтеи. Он верный человек, в прошлом году побывал у меня в Вене, так что я его знаю, у него золотые принципы… вполне подходящая для меня фигура.
— Простите, господин граф, но это единственное, чем я не могу быть вам полезен… Это абсолютно невозможно!
— То есть как? Почему?
— Видите ли, я тоже кандидат в депутаты и в том же самом комитате.
— Вы? Кандидат в депутаты? Без моего ведома и соизволения?
— Меня выдвинула партия красных перьев.
Это было уже слишком. Граф побледнел и молча, жестом приказал Бойтошу удалиться, а час спустя в комитат уже скакал курьер Фогтеи, которому, как нам известно, предложение графа пришлось весьма кстати. Фогтеи сразу сообщил об этом главным заправилам партии, которые тотчас же поспешили принять кандидатуру стряпчего главным образом из-за «постскриптума», заключавшего в себе обещание прислать через несколько дней верного человека для убеждения дворян-патриотов, а чтобы доводы доверенного лица были весомее, лицо это будет снабжено «неограниченным кредитом».
Фогтеи был вне себя от радости. Ну, теперь-то уж он смело может свататься к дочери господина Калапа, теперь-то его не отвергнут ни отец, ни дочь. Против отца у него и раньше было оружие, а вот покорить дочь представляло немало трудностей. Но теперь и эта преграда позади. Девушка даже не заметит седеющих кудрей и морщин на лбу, их великолепно прикроет высокое звание. Лакомый кусок для тщеславия — стать супругой депутата парламента. А видел ли кто-нибудь когда-нибудь женщину без тщеславия?
Итак, Фогтеи приступил к действиям и, как мы знаем, попросил руки Эржи. Нам известно также, как действовал Лупчек и какие печальные последствия это имело для Калапа. Даже сам Фогтеи был потрясен случившимся, так как оно грозило разрушить все много лет вынашиваемые планы стряпчего, к которым он был столь привержен.
С каким трудом, с какой заботой возводил он это здание! Познакомиться со стариком, подладиться к нему, не спеша, постепенно войти в круг лучших, ближайших друзей семьи, вести себя, как дома, в карикашском поместье и долгие годы наблюдать, как на его глазах растет шаловливое дитя, любовь которого надо завоевывать конфетками, игрушками, чтобы не получилось резкого скачка, когда настанет время заменить обращение «дядя» словом «муж».
И вот время это настало. Эржике минуло семнадцать лет. Благодаря непроницаемому характеру господина адвоката никто, даже Лупчек, не подозревал, отчего Фогтеи так упорно цепляется за этот план. Дело казалось тем более разительным, что в течение долгих лет Фогтеи находился в весьма интимных отношениях с хорошенькой и состоятельной молодой дамой, теперь же — хотя божественное провидение освободило ее от тягостных уз, которые, если верить злой молве, были не слишком тесными еще при жизни покойного супруга, — теперь, когда она надела вдовью фату, перестал вдруг ее замечать. Все поражались, ибо поступок сей никак не вязался ни с характером старой любовной связи, ни с известными всем и каждому скупостью и жадностью господина Фогтеи, который почему-то не спешил прибрать к рукам имущество вдовушки, оцениваемое в двадцать тысяч форинтов, хотя вся операция обошлась бы ему лишь в небрежно оброненное «да».
Общественное мнение считало так: либо верно предположение науки о том, что человеческий характер меняется каждые семь лет, а сейчас у Фогтеи как раз наступил седьмой год, либо он нацеливается на кусочек пожирнее. Tertium non datur![72]
Однако выдвинутое предположение, давно уже витавшее вокруг обеденных столов, вдруг было опрокинуто известием о том, что Мартон Фогтеи хочет взять в жены дочку карикашского колбасника. Волнение охватило всех. Общественное мнение порешило, что бедняга Фогтеи спятил на старости лет, потеряв голову именно в тот момент, когда предвыборные агенты распинались по всему комитату о том, как он умен. Возникла тысяча вопросов: почему он на ней женится? Зачем ему это дитя? Неужели он способен любить?
Гм! И старое дерево дает ростки! Да, но не без причины! Дочка карикашского колбасника не богаче и не красивее вдовы. Что-то тут под золой скрывается, — ну, да время все выгребет!
Удар, разбивший старого Калапа, вызвал неудовольствие стряпчего. Кто же теперь уговорит Эржике? Сознание вины, этот самый велеречивый союзник, увы! онемел. Э, да что там, ведь кто и вправду чего захочет, тот непременно добьется своего. Сильное желание шагает почти так же широко, как невозможность. А ведь он и вправду желал Эржике. Настолько, что даже сумел убедить честнейшую часть своего существа, будто он действительно влюблен в будущую жену. А уж это было больше, нежели желание, это превышало даже выражение «душевная жажда», и лишь слово «томление» могло по достоинству охарактеризовать ощущения его милости, в рамках сего брачного дела пустившие корни в безжизненной, песчаной пустыне его сердца. Поразительно, в этой бесплодной Сахаре, среди бесцветных песков теперь кое-где проглядывали блестящие песчинки, словно промчавшийся вихрь занес их сюда из чужих краев. Здесь пронеслась буря любви, той любви, что облагораживает сердце и, словно луч весеннего солнца, окрашивает в ясные тона даже мрачные горные вершины. Луч весеннего солнца! Впрочем, может ли тут идти о нем речь? Поменяем-ка весну на бабье лето, и сразу сравнение перестанет так сильно хромать. Бабье лето обычно бывает в октябре: и в это время льются солнечные лучи, но более тусклые, они тоже золотят горные вершины, но золото имеет какой-то грустный оттенок. Весеннее солнце — улыбка здорового человека, осеннее — больного.
Итак, если продолжить сравнение, поздняя любовь — просто болезнь. Мы не знаем, действительно ли занедужил господин Фогтеи, однако вряд ли ошибемся, утверждая, что его состояние было похоже на то, когда человек, симулируя под каким-нибудь предлогом хворь, раздевается» какое-то время неловко мечется в постели, но постепенно ослабевает от лежания и в какой-то степени и впрямь заболевает.
Из-за печального происшествия Фогтеи отложил на день свой визит; лишь на следующий день отправился он к Калапам. Эржике приняла его, словно бесчувственная мраморная статуя: На лице ее не отразилось ни радости, ни неудовольствия, ни ненависти. Она была как закрытая книга. Миклош уехал час назад. И хорошо, что уехал. Останься он, многое обернулось бы по-иному.
— Ну-с, как мы себя чувствуем? — спросил адвокат, молодецки спрыгивая с коляски и испытующе глядя на девушку. — Я слышал, вашему бедному отцу пло…
— Очень плохо.
— А вы как, сестричка? — продолжал он, слащаво улыбнувшись и ущипнув ее за щечку, отчего она ни покраснела, ни побледнела, — и лишь очень нескоро место это сквозь кожу слегка окрасилось кровью, будто прихваченное морозцем.
— Благодарю вас, господин стряпчий, вы очень любезны… разумеется, мне тоже нечем похвастать.
«Гм, гм…» — размышлял про себя его милость. — Дела наши идут очень хорошо, совсем прекрасно. Глупышка уже все знает. Итак, мы больше не говорим уже «дядя», а — «господин стряпчий». Отлично. Ежели мы легко отвыкли от одного титула, то без труда расстанемся и со вторым ради третьего. Кто знает, не шептала ли она уже тайком этим стенкам: «Милый мой муженек, милый Мартен…».
На плодородной почве любви раньше всего расцветает весенний мак — тщеславие!
Фогтеи зашел к старику. Эржике за ним не последовала.
Когда Калап увидел адвоката, лицо его заволокло темным облаком гнева, серые глаза сверкнули от ярости, но стряпчего это не смутило. Он почтительно взял неподвижно висевшую руку и поцеловал ее.
…Холодная, безжизненная рука, казалось, дрогнула.
— Я приехал поблагодарить вас за согласие. Клянусь, у вас никогда не будет причин пожалеть об этом!
Больной закрыл глаза, сжал зубы и отвернулся к стене, будто говоря: мне вам сказать нечего.
Все это не мешало адвокату высказать свои взгляды на данное дело, изложить причины, побудившие его к сему браку, выразить свое уважение старику; он не преминул также оправдать себя за некоторую безжалостность. Любовь отнимает у человека способность рассуждать спокойно. В заключение Фогтеи изъявил желание сыграть свадьбу через три недели, как раз на следующий день после выборов, — пусть будет двойной праздник.
А тот, к кому он обращался, лежал будто бесчувственный труп, не слышно было даже его дыхания.
«Молчание знак согласия», — подумал адвокат и, обратившись к вошедшей Эржике, подытожил результат односторонних переговоров следующим образом:
— Вот мы все и уладили с вашим отцом.
Эржике не отвечала. Адвокат приблизился к ней и сжал девушке руку.
Она вскрикнула. Господин Фогтеи нахмурился.
— Кольцо… печатка… — пролепетала Эржике, устыдившись своего невольного крика.
— Ах, кольцо! Больно?.. Ну, ничего, до свадьбы заживет. А теперь перейдем к делу. Собственно, о нем-то мы и говорим. Итак, мы решили, что свадьба состоится через три недели. Вы согласны?
Эржике и на этот раз не ответила; вся дрожа, она смотрела на отца, который вдруг приподнялся, опершись на локоть: девушка хотела прочесть по его лицу, какой должна дать ответ.
Но старик как будто и не собирался подсказать ей ответ, напротив — все его черты выражали живейшее, выжидательное внимание: левую, здоровую руку он сложил в виде слуховой трубки и напряженно прислушивался…
…На улице под окнами с шумом и гиканьем продефилировала группа людей. Одни орали: «Да здравствует Бойтош!», другие: «Да здравствует Фогтеи!» Шум быстро удалялся, и можно было различить лишь отдельные невнятные выкрики.
Казалось, старик прислушивался к голосам, словно подсчитывал про себя: вот этот был «Фогтеи», а тот «Бойтош».
Как знать, какие именно выкрики он подсчитывал?.. Эржи все еще не отвечала. Ее молчание поразило, но не смутило адвоката. Он снял обручальное кольцо, что было у него на мизинце рядом с кольцом-печаткой, и надел на пальчик девушке.
— Быть может, это не будет жать?..
Эржике и тут промолчала, хотя в фразе стряпчего заключался вопрос. Впрочем, молчание знак согласия. Адвокат спокойно почесывал подбородок.
По-видимому, ему было безразлично, что девушка ни за какие блага не может ни взглянуть на него радостно, ни даже пошевелить рукой, на которую надето обручальное кольцо. Да и какое ему дело до чувств бедняжки, до того, что кольцо жжет ей палец, будто сделано из раскаленного железа, и жар его постепенно проникает до костей, пока не обуглит их, не испепелит и пока не упадут наконец на землю и палец и кольцо…
Эржи украдкой вздохнула и, чтобы избежать влюбленных взглядов адвоката, опустила глаза в мучительной надежде, что кольцо, сжимающее ее палец, исчезнет, превратится в ничто.
XI Перед выборами
Дни шли, бочки пустели, а комитатские глотки становились все более хриплыми; бочек, слава богу, было больше, чем дней, и интерес к общественным делам поддерживался постоянный. На колокольнях развевались знамена: все они были национальных цветов, но чтобы большая, не знающая грамоты часть дворянства — жемчужины святой короны — могла разобраться в событиях, имя Фогтеи красовалось на белом поле знамени, обведенное зеленым венком, а имя Бойтоша, как и приличествует истинным приверженцам партии красных перьев, окружал венок соответственного цвета. Всюду и везде шли великие приготовления. Благородные патриоты составляли завещания на тот случай, если они конституционным путем испустят дух на выборах; музыка гремела по долам и горам; сколько цыган ни жило в благородном комитате, все они бросили изготовление самана ради своего второго ремесла — смычка, который не выпускали из рук с рассвета до поздней ночи. Все купались в изобилии, даже мужикам кое-что перепало во время жарения быков и крупных выпивок. Предмет всеобщего обожания — «дармовщина» — уселся на трон «калифа на час», и склонился пред ним и стар и млад. Из всех владык мира у него были наивернейшие подданные. Жизнь мелкого дворянина превратилась в настоящее «эльдорадо»; от мясника из графского имения он бесплатно получал мясо, от корчмаря — вино. Так повелели «милостивые господа», которые никогда еще не были столь милостивы, как теперь: они сами спускались из своих замков к нему, мелкому дворянчику, и даже к облаченному в дерюгу обращались не иначе, как именуя его «дорогим дядюшкой» или «милым братцем», интересуясь, нет ли у него в чем-либо нужды. А уж коли между дворянчиком этим и крупным имением шла какая-нибудь тяжба, то улаживалась она в эти дни просто: крупное поместье объявляло себя проигравшей стороной; ежели у кого-то рождался ребенок, пятеро вельмож одновременно предлагали свои услуги в качестве крестных отцов; исправник, вице-губернатор еще издали приветственно поднимали шляпу, когда случалось им повстречаться с самым что ни на есть захудалым дворянином. А тот, разумеется, не знал, куда и деваться от счастья; каждый божий день он был зван на обед в четыре знатные дома, и не один дворянчик, досадуя, жалел, что нельзя разорваться на четыре части; ведь после выборов, что ни говори, и следа не останется от этого благополучия.
В истории новейших выборов встречаются, конечно, небывалые подкупы. Так один кандидат в депутаты нарядил в новые шапки всех избирателей округа, чтоб ему по шапке не дали; другой за каждый голос отваливал по полцентнера табаку, центнеру мяса, центнеру соли, по полгектолитра вина да еще десятифоринтовый банкнот давал в придачу. А один вельможа подарил как-то пастбище в пятьсот хольдов деревне, что перешла на его сторону, поддержав его, — а всего в деревеньке зарегистрированных избирателей можно было насчитать не больше тридцати пяти. Но, в общем, ныне и вербовка голосов, и подкупы куда умереннее, чем прежде. Причина этого в изменившихся условиях, в падении депутатского авторитета и в расширении избирательного права. Не последнюю роль играет и то, что с тех пор мы стали беднее на много миллионов и растеряли множество иллюзий. Хоть и редко, но встречается, правда, человек, руководствующийся определенными принципами, приросший к ним душой так, что ничем его от них не оторвешь. Сей вид людского племени возник как раз в период, к которому относится наша история, и во время выборов Бойтоша и Фогтеи он переживал свой младенческий возраст. Дарвин не упоминал об этом странном человеческом виде, не охарактеризовал его, но зато национальная история и дневники заседаний парламента уделяют ему много места.
До выборов оставался один день; повсюду царило общее возбуждение. Обе партии начали стягивать силы к месту битвы; по грязной, ухабистой дороге, важно именуемой шоссе, с утра до вечера постоянно сновали экипажи, доставлявшие избирателей к месту действия. Измучившиеся во время предвыборной кампании субъекты в праздничных камзолах с напомаженными усами и синими, отекшими физиономиями, важно восседали на телегах. Рядом с кучерами занимали места люди помоложе, один из них обычно держал в руках знамя, а сзади располагались «ветераны» — старцы, прошедшие огонь и воду двадцати избирательных кампаний, для которых все это было сущей ерундой; они равнодушно попыхивали своими носогрейками и то и дело прикладывались к висевшим на боку флягам, предназначенным — пока люди не доберутся до ближайшей корчмы, где по священной конституционной традиции останавливается обоз, — ликвидировать заминки в бесперебойном снабжении напитками. Зато, добравшись до трактира, все, что на дне фляг оставалось, выливали на землю, как диктуют «правила приличия». Их кандидат не какой-нибудь оборванец, а вельможа с головы до ног. Полгектолитра, гектолитр — для него пустяк. Надо же и мать-землю напоить. Ведь она, бедняга нас кормит. Ну, а коли содержимое фляги (и так ведь могло случиться) иссякало раньше, чем обоз до корчмы добирался» это не только на празднество тень набрасывало, но и моральный ущерб репутации кандидата наносило: что ж он на пути «Загляни ко мне» не выстроил? Чего «выламывается», коли денег нет? Зачем людей жаждой морить?..
На окраине города были разбиты два лагеря, к югу разместились сторонники Бойтоша, на востоке — партии Фогтеи. Толпы народа пытались перещеголять друг друга в бесчинствах. Это была весьма живописная картина: изобрази ее художник на полотне, она послужила бы весьма усладительным зрелищем, — но в действительности все это производит совсем другое впечатление. Хриплый галдеж, винные пары, взаимное трение идей, то и дело изъявлявшееся столь живо, что об убедительности аргументов, сопровождавших взаимные разъяснения, свидетельствовали вспухшие физиономии спорщиков. Одному достался недостаточно большой кусок сала. Другому не хватило вина, а третий, напротив, ощущает его избыток и во хмелю начинает вспоминать, что однажды на богархатской ярмарке брату его жены малолетний сын шурина кандидата показал кукиш, и, поэтому он теперь ни за какие коврижки не отдаст голос такому подлому человеку; разумеется, он перейдет в соседний лагерь, где бедному дворянину и сигары не пожалеют и т. д.
То тут, то там возникали тысячи мелких неприятностей. Вино в душах патриотов пробуждало различные чувства, и, всплыв на поверхность, они проявлялись в самых разнообразных формах.
Да, ловким человеком должен был быть руководитель вербовщиков, чтобы властвовать над этой толпой, знать все дипломатические уловки и каждого человека видеть насквозь…
Таким человеком и был Карци. Умел он с людьми ладить, да и его все любили. «Этот, сразу видно, душу отдаст за дело Фогтеи!» — рассуждали про него люди.
Но только какое там — «душу отдаст»! Со сжавшимся сердцем ожидал он момента выборов, когда и дело его, которому он в самом деле отдал душу, потерпит поражение, и сам он навсегда потеряет Эржике.
И вдруг на дороге возникло облако пыли. Сюда, к ним, мчалась коляска. Господи, господи! Да ведь это знаменитая серая тройка, серая тройка Калапа. Кого же она везет?
На заднем сиденье сидел сам старый Калап, а рядом с ним Эржике. Значит, даже полуживой, поднялся этот герой выборов и явился отдать свой голос за Фогтеи.
По всему лагерю молнией разнеслась весть, что приехал даже старый, разбитый параличом Калап. Живой труп воскрес ради Фогтеи! Лавиной прокатились по толпе крики, потрясшие небеса: «Да здравствует Калап! Да здравствует Фогтеи!»
Старик пристальным взором оглядывал ряды знакомых, махавших ему кто платком, кто топориком, кто флягой.
Коляска остановилась. Сотни людей окружили ее, все громче требуя от старика речи: «Слушайте! Слушайте Калапа!»
Но разве может заговорить немой?
Однако народная толпа весьма своенравна, бывают у нее и невыполнимые желания. Отдельные выкрики постепенно перерастали в бушующий вихрь.
Чтобы утихомирить толпу, вынужден был заговорить Миклош.
— Друзья мои, — начал он, — вы требуете речи во что бы то ни стало. Разрешите мне выступить вместо дядюшки Калапа в поддержку кандидата в депутаты Фогтеи. Враги прозвали его «комитатским лисом», но прозвище им не заслужено. Своим красноречием он честно и верно будет защищать воодушевляющие вас принципы.
Казалось, старый Калап с напряженным вниманием прислушивается к каждому его слову.
— Я верю, Фогтеи — честный человек; и вера моя имеет тем большую силу, что знаком я с ним давно. Он долго был поверенным моего отца, который и на смертном одре больше всех доверял Фогтеи…
Не успел Миклош выговорить эти слова, как вдруг — словно дикий зверь взревел, словно молния внезапно ударила — почувствовал сильный рывок за руку, и он услышал напугавший его крик: «Остановись!»
Свершилось чудо. Парализованная длань старого Калапа схватила его руку, а вернувшийся голос возвестил о себе громким криком.
Потрясенные, все глядели на них, затаив дыхание.
— Остановись! — еще раз воскликнул старик. — Что ты сказал? Ты говорил о своем отце Петере Карци и сказал, будто он и на смертном одре доверял Фогтеи. Боже мой! Так ты видел отца на смертном одре?
— Я закрыл ему глаза, — спокойно ответил Миклош. Радость озарила черты старика. Он устремил на небо взгляд, исполненный благодарности, и, заливаясь слезами, рухнул на колени прямо среди ликующих людей, с благоговением лепеча:
— Господи! Как ты велик, как ты могуч! Господи!
— Пойдем, пойдем, — тихо прошептал он затем Миклошу и увлек молодого человека в шатер.
* * *
Там они долго беседовали. Господин Калап рассказал юноше о том, что считал себя убийцей его отца.
Как только Миклош услышал это, ему все вдруг стало ясно.
— Дядюшка! — вскричал он. — Теперь я все понимаю. И моего отца всю жизнь совесть мучила, он, бедняга, тоже слышал, как упало тело, и думал, что ваша милость испустили дух. Он и Фогтеи-то позвал, чтобы завещание составить, и доверил ему все свои наличные, около тридцати тысяч форинтов, поручив разыскать наследников Калапа и передать им деньги. Копия завещания у меня среди вещей, но я никак не мог предположить, что речь идет о вас, дядюшка. Ведь то, что вы живы, само по себе отбрасывало всякие подозрения, которые могли у меня возникнуть относительно тождества личности.
— Ну, теперь-то мы знаем, что за фрукт этот Фогтеи, — весело произнес старик. — Великий это день, милый братец, вернее, сынок… Уж с этого-то момента Эржике твоя! А сейчас пойдем и поймаем лиса в его собственный капкан… Теперь уж я, старый Калап, сам стану кричать: «Да здравствует Бойтош!»
Миклош молча кинулся старику на шею.
* * *
Снаружи их нетерпеливо поджидала галдящая толпа. О том, что живой труп заговорил, а его омертвелые рука и нога обрели прежнюю подвижность, говорили как о непостижимом чуде, о «персте господнем».
Когда Калап вышел из шатра, его подняли на плечи, словно героя-победителя, и теперь еще настоятельнее потребовали, чтобы он произнес речь.
И старик заговорил.
Сняв шляпу с седой головы, он смелым взором окинул толпу.
— Дворяне, дорогие друзья мои! Я, вернувшийся из лап смерти, я, всю жизнь верно любивший свой комитат, я, Иштван Калап, заявляю вам: «Да здравствует наш депутат Бойтош!» И с этими словами я становлюсь под его знамена. Бог благословит тех, кто со мной!
* * *
Час спустя ни один костер не горел в лагере Фогтеи… все потухли… лишь пустые бочонки валялись вокруг да несколько мертвецки пьяных людей, что в колясках не поместились, а на собственных ногах уже не могли добраться до лагеря либералов.
Да, что и говорить, много всяких чудес случалось когда-то в этой маленькой бедной стране.
1877
ЛОХИНСКАЯ ТРАВКА
Перевод Г. Лейбутина
Введение
До сих пор ломаю я голову: какая она, эта самая лохинская травка? И где она растет? В кустарниках или камышах, возле соляных ключей или на вершине лысой горы Гребенки, на лугу или во ржи?
И почему не встречается она больше стройным словацким молодушкам, которые целыми коробами носят домой траву на корм своим телятам да коровам?
— Больше не встречается? — спросите вы. — Значит, кто-то уже находил ее однажды?
Конечно, находили! В том-то и дело! Вот только боюсь, что рассказать об этом случае толком не сумею…
Однажды ночью в дом Михая Секулы, лохинского старосты, какой-то негодяй подбросил анонимное письмо. Стекло оконное в наружной раме разбил, прохвост, и вбросил. (А в словацкой деревне, в этой колыбели мастеров-стекольщиков, днем с огнем не сыщешь человека, который возьмется застеклить вам окно.) В подметном письме говорилось, что-де местный молодой священник — такой и сякой подлец; а посему автор письма предлагал мирянам прогнать попика из деревни, вывезя его вместе с женой и всем скарбом за пределы Лохины. «Не то, — уже грозил пасквилянт, — через неделю пущу по деревне «красного петуха».
Как известно, птицу сию не очень-то жалуют в деревнях. Хороша она только в печи, когда на ней другого, дочиста ощипанного петуха поджаривают!
Писавший подметное послание слово свое сдержал (и кто бы мог, ей-богу, только подумать!). Ровно через неделю запылала Лохина и на одну треть выгорела дотла. А в ту же страшную ночь, когда бушевал пожар, нашли — теперь уже в сенях у церковного сторожа Андраша Миравы — новое подметное письмо. Точно такое же, как и первое: тот же почерк та же старая, пожелтевшая, с неровными, кое-где рваными краями бумага, свернутая в трубку и обвязанная грязной, неопределенного цвета ниткой.
Ну, благочестивому отцу и в этом послании досталось на орехи: и что дед его был еврей, и что сам он втайне католик, и что бесчестный он человек, для которого нет на свете ничего святого и который только для того и взял в жены нынешнюю попадью, чтобы втайне незаконно сожительствовать с ее замужней сестрой. (Сестра попадьи, красавица Песи, действительно жила в это время в доме у лохинского священника.) Далее в анонимном письме рассказывалось о поведении попа в прошлом, пока он еще в дьячках ходил; ей-ей, это была не очень лестная летопись его деяний, хотя она и соответствовала кое в чем истине, в особенности по части слабости попика к своим служанкам. Да только к чему об этом на весь белый свет кричать?
И добрые лохинские мужички не придали большого значения письму, хотя земляки из соседних деревень не переставали натравливать их на попа.
— Пошто не прогоните вы его? — спрашивали они лохинцев после первого письма.
— Не верим мы, что подожгут деревню. Которая собака лает — не кусает.
После пожара, когда было найдено второе анонимное письмо, грозившее новым поджогом, проезжавшие через Лохину туропойцы насмехались:
— Ну теперь-то уж вы, конечно, выпроводите попика за околицу!
— А зачем? Теперь-то мы точно знаем, что пожар будет.
Успеем загодя вытащить все пожитки из домов.
Так лохинцы и сделали: вынесли весь свой скарб на кукурузные полоски да к виноградникам, а иные — на хутора. Построили себе шалаши из веток, кукурузных стеблей, кое-кто даже шатер соорудил из парусины; перед входом вбили в землю один-два кола, к ним коней, коров привязали. В селе же все опустело, только кое-где в каменных домах теплились признаки жизни.
Однако даже беззаботная Лохина струхнула, когда и вторая угроза была приведена в исполнение точно в назначенный в письме срок. Большинство обитателей села в эту ночь не спали, караулили, а все равно загорелся общинный овин. На счастье, погода стояла тихая, безветренная, так что одно только это строение и сгорело.
Да что толку, коли уж тут как тут и третье подметное письмо. Его нашли у входа в погреб кантора Матяша Блозика. Снова пасквилянт поджогом грозился, если поп и дальше в деревне жить останется.
Ну, тут уж и комитатским властям пришлось зашевелиться (обычно они шевелятся только для того, чтобы на другой бок перевернуться). После долгой раскачки комитатская управа назначила следствие, выслав для его проведения нового капитан-исправника, его высокоблагородие Михая Шотони.
Исправника, правда, полагается титуловать просто «благородием», но Михай Шотони — отпрыск знатного рода, из числа тех, что выезжали на четверке, прирожденный барин, который, пресытившись женщинами, напал вдруг на мысль стать вице-губернатором. А для этого нужно было, хотя бы из приличия, начинать с исправника. Опыт, так сказать, приобрести.
Хотя говорится же в Писании, что бог если кому должность дает, то одновременно и ума к ней. А уж у кого деньги есть, так тот еще и науки прикупить сумеет.
Искать учителя новому исправнику пришлось недолго. Как-то раз является к нему полицейский следователь Мартон Терешкеи — векселей подписать. А Шотони и говорит ему как бы в шутку:
— Подпишу, но с условием…
— Заранее согласен на любые условия, друг мой!
— Одолжи мне твою голову.
— С удовольствием, если ты сумеешь ею так пользоваться, чтобы не слетела она у меня с плеч долой. Последнее было бы мне совсем не по душе, да и тебе, вероятно, тоже. Ведь кто тогда расплатился бы с тобой по моим векселям?
— Будь другом, поедем со мной расследовать лохинское дело! Ты человек искушенный, поможешь мне. Меня вице-губернатор туда посылает, и я хотел бы распутать преступление во что бы то ни стало.
— К твоим услугам. Когда отправляемся?
— Послезавтра.
— Единственно, чего мне хотелось бы: это еще до отъезда познакомиться с делом.
— Вот здесь заявление вместе с анонимными письмами. Прочти дома и придумай что-нибудь. Мне, например, ничего в голову не приходит. Ведь, черт побери, если даже лохинцы не знают, кто писал анонимки, кто поджигал, так откуда же я-то могу знать?
— Ну ничего, братец, я ужо разнюхаю.
Мартон Терешкеи слыл за самого способного следователя во всем комитате: это был человек, обладавший большим опытом, острой наблюдательностью и находчивостью. Именно он распутал знаменитое дело Маслаги о подлоге! С простым народом Терешкеи умел разговаривать на общедоступном языке, причем таким добрым и вкрадчивым голосом, что в эту ловушку попадались самые несговорчивые. Вполне возможно, что ему удалось бы сделать блестящую карьеру (одно время ходили, например, слухи, что Терешкеи берут в Будапешт следователем столичной полиции), если бы распространявшиеся про него анекдоты не подмочили его репутации. Так, рассказывали, будто он несравненный мастер «перекрестного допроса», что по провинциальной терминологии означало: бах с правой, хлоп с левой — крест-накрест, — а также, что он с готовностью позволяет просителям «докладывать». Однажды кузнец из Раполта приводит ему в подарок теленка, а Терешкеи как закричит на него сердитым голосом: «Ты за кого же меня принимаешь? Меня, что ли, будет сосать твой телок? Не мог заодно и матушку его прихватить??»
— Лохинское дело для меня — пустяк, — хвастливо заявил Терешкеи три дня спустя, после того как ознакомился с пасквилями. — Распутаем как пить дать!
— Неужто? Вот обрадовал ты меня! — воскликнул молодой исправник. — А то ведь я решил посвятить себя политике.
— Незавидное это поприще, друг мой! В особенности для такого светского льва, как ты.
— С прежней жизнью покончено; карты наскучили, хозяйствовать я не люблю. Надо же мне хоть чем-то заниматься.
— Вернись к женщинам!
— Ни за что! — воскликнул Шотони с выражением отвращения и скуки на лице.
— Ну, тогда вели запрягать. Поедем расследовать дело о лохинском пожаре.
Поутру они отправились в Лохину, захватив с собой Дюри Хамара, близорукого секретаря суда, знаменитого тем, что все написанное рукой он тут же размазывал носом.
— С чего начнем? — спросил Шотони по дороге, обращаясь к Терешкеи.
— Начнем с попа. Едемте сначала к нему!
Лохинского священника звали Шамуэлем Белинкой. (Почти все лютеранские попы — либо Лайоши, либо Шамуэли.) Это был красивый мужчина с орлиным носом и голубыми глазами, высокий, стройный — словом, из той категории благочестивых отцов, про которых говорят: «Этого женщины выбрали!»
Прибыв на место, Шотони принялся вежливо расспрашивать священника:
— Сколько вам лет?
— Тридцать.
— Давно служите священником?
— Три года.
— Когда женились?
— Два месяца тому назад.
(Хороши медовые месяцы, нечего сказать!)
— Никого в поджоге не подозреваете?
— Нет, никого.
— А между тем, — вмешался в допрос Терешкеи, — по всему видно, что поджог сделан кем-то, кто зол на вас.
Вполне возможно, — пробормотал господин Белинка неопределенно.
— Не было у вас когда-либо недоброжелателя, — повел дальше допрос Терешкеи, — затаившего на вас обиду?
Священник задумался.
— Насколько мне известно — нет.
— Странно! Ну что ж, попробуем разобраться, — задумчиво поскреб следователь свою рыжую с проседью бороду. — В анонимках много такого, что могло быть известно только близким к вам, доверенным людям. Кто был у вас прежде в услужении?
— Один работник — он и сейчас у меня — и две служанки, которых я отпустил.
— Как звали служанок?
— Одну — Магдаленой Кицка, другую — Анной Стрельник.
— Где же они теперь?
— Насколько мне известно, обе живут дома, у своих родителей.
Все эти сведения Дюри Хамар занес в протокол, а священник подписал его.
— Вот и готов первый документ, — шутливо заметил Шотони, помахивая листом протокола, — составленный под моим капитан-исправника, наблюдением!
— Тощ он больно! — возразил недовольно Терешкеи. — Больше ничего не можете добавить, святой отец?
— Ничего.
— Выходит, мы и с места не сдвинулись? — помрачнев, спросил Шотони с наивностью, не приличествовавшей его служебному положению.
— Не бойся, братец! Коль уж ты такую старую лису, как я, выманил в поле, то она до тех пор не вернется в нору, пока не докопается до истины.
— Значит, ты все-таки надеешься?
— Я же сказал тебе: все дело проще пареной репы. Вот посмотришь, сегодня же подцепим мы этого прохвоста на крючок. У меня нет никакого сомнения относительно того, что пасквилянт — местный житель. А сколько человек знает грамоту в словацкой деревне? Хорошо, если пятьдесят! Вот мы их всех и вызовем на допрос.
— Совершенно верно. Но где же село?
Вокруг виднелись только обезображенные пожаром, закоптелые стены, кучи пепла, груды полуобгорелых, вытащенных из огня стропил и балок. Но даже и та половина деревни, которую пощадило пламя, была пустынна.
— Пойдем туда, куда перебрался жить народ, — отвечал Терешкеи. — Не могли бы вы, батюшка, дать нам кого-нибудь в провожатые, чтобы он отвел нас на место нового поселения?
Шамуэль Белинка предложил взять в проводники господина Микулика, церковного старосту:
— Он покажет вам, как добраться.
Микулик сидел в этот час на террасе и покуривал трубку. Это был забавный худощавый человечек, внешностью вполне оправдывавший свое деревенское прозвище — «Лещ». На грушевидном лице его природа поместила пару блестящих и крошечных, словно бусинки, глазок. Одежда его состояла из домотканых суконных штанов, верхняя же часть туловища была прикрыта кофейного цвета курткой того самого покроя, который пользуется особенной любовью у канторов.
Приезжие господа усадили Микулика на козлы рядом с кучером, чтобы он показывал, куда ехать по этим неведомым проселкам. Гайдуку же, место которого на козлах сейчас было занято, пришлось шагать за дрожками пешком.
— Деревня, сударь, теперь в двух местах помещается.
— Где же?
— Одна половина, «Бакуловская», очень далеко — в горах. А другая — здесь вокруг, возле виноградников да по сливовым садам.
— Нам важно знать, где поселились староста и писарь.
— Они возле виноградников.
— Значит, туда мы и поедем.
Оригинальное существование
Приезд комитатского начальства в такую бедную местность, как Лохина, — событие большой важности. В одну минуту новость распространяется повсюду, и все сразу теряют голову. Хорошо еще, если никто не додумается ударить в колокола. Но и без того по всему селу начинается суматоха: ведь деревенским властям нужно успеть обо всем позаботиться, чтобы приезжему начальству потрафить. У гайдука выспрашивают, какие блюда обожают господа больше всего (и если Янош — парень не дурак, он называет не что иное, как свое собственное любимое кушанье). Нескольких верховых нарочных срочно отряжают кого за мясом, кого за приправами, того за винами, а этого за новой колодой карт в город. Как же иначе? Начальство не должно испытывать ни в чем нужды!
А на этот раз, в связи с приездом Шотони и Терешкеи, переполоху и суматохи было еще больше, ведь буквально все необходимое для встречи нужно было где-то на стороне добывать. На полоске клеверища, где несколько тополей, словно опахалами, покачивали своими блестящими серебристыми листьями, писарь устроил импровизированную канцелярию, установив в тени деревьев три стола. Слева от столов бабы соорудили из молодой, свежескошенной отавы лежанки на тот случай, ежели после обеда господам захочется подремать.
После обеда! Только где его варить, этот обед? Тут уж вовсе хлопот не оберешься! Эй, ребятня, а ну быстро вырыть в земле очаг! А потом запрягайте телегу и одним духом доставьте сюда Аполлонию Микулик, она лучшая стряпуха во всей округе! Король и тот пальчики оближет, отведав ее стряпни.
Тем временем десятские усердно бегали по полям, что разбросаны у подножья горы, сгоняя согласно приказу господина исправника всех жителей села, знающих грамоту, на пробу почерков перед приезжим начальством. А кто уклонится — пусть пеняет на себя! Пока сооружали очаг, стали собираться и крестьяне: старики и подростки, бабы и девки и даже малые ребятишки.
— Приступим, господа, к работе, — распорядился капитан-исправник, положив по экземпляру анонимных писем на стол перед Терешкеи и Дюри Хамаром. — Женщин тоже проверим? — со смехом спросил он старого следователя.
— Конечно, — отвечал Терешкеи, — они-то и есть самые отпетые фарисеи, в особенности ежели грамоте обучены. Не вижу причин, почему бы именно женщине не быть сочинительницей пасквиля. Больше того, у меня как раз на этот счет есть известные подозрения.
— О! Ах! — послышались вокруг возгласы удивления.
— Пронюхал что-нибудь? — шепотом спросил Шотони.
— Ч-ш! Пока еще ничего определенного сказать не могу, но даю голову на отсечение, что после пробы почерков все выяснится. Вот посмотришь! Однако приступим.
Поочередно к столу стали подходить словаки — русые, долговязые, крепкие парни. Явилось и несколько стариков с длинными волосами, прихваченными на загривке гребенкой. Среди пожилых женщин не оказалось ни одной грамотной, да, впрочем, и кокетливые, юркие молодушки в зеленых полушерстяных юбках (сзади подоткнутых, а спереди украшенных разноцветными лентами, свисающими с пояса), в большинстве своем могли только поставить крест. Но старосте и десятским доподлинно была известна степень грамотности каждой из них, они стояли тут же и проверяли, не вздумает ли какая сплутовать.
Сунув дряхлому калеке-старику перо в руку, Терешкеи приказал:
— Напиши-ка нам, дед, два слова: «Люди божьи». (Так начинались анонимные письма.)
Перо прыгало в заскорузлой руке, а неровные буквы шатались, как пьяные, из стороны в сторону, и были они все горбатые, с большими животами, с торчащими кверху хвостиками спереди и сзади.
— Так еще до всемирного потопа писали, — улыбнулся следователь. — Можешь идти, дед. Следующий!
Теперь черед дошел до подростка с рябым лицом. Но не успел он начертать и нескольких букв, как глаза Терешкеи зловеще сверкнули и он крикнул:
— Гайдук! Схватить этого человека!
Однако в тот же самый момент и писарь закричал с волнением в голосе:
— Вот он, поджигатель!
Гайдук, помчавшийся было к Терешкеи, остановился нерешительно на полпути, не зная, которого из двух преступников ему теперь хватать, как вдруг и господин исправник (сговорились они, что ли?) с грохотом отбросил канцелярский стул и схватил за шиворот стоявшего перед ним малорослого Мартона Куштара, лохинского скорняка. А тот, бедняга, с перепугу даже перо гусиное, навлекшее на него такую беду, из рук выронил.
— Попался, висельник! — кричал исправник.
Гайдук, познавший за годы службы в комитатской управе, что в подобных случаях преступник тот, кого таковым считает старший по чину начальник, подскочил к скорняку и принялся его вязать. Несчастный Куштар, бледный как смерть, пытался оправдываться.
— Невиновен я, как агнец новорожденный.
— Нет, это ты писал подметные письма, негодяй!
— Не писал я ни единого словечка!
— Напрасно отпираешься! Виновен, раз я говорю! Вяжи его!
И связали бы запросто беднягу, потому что гайдуку на помощь уже спешил лохинский мясник, заклятый враг Куштара, если бы не остановил их старый следователь:
— Ради бога, братец, не вводи в конфуз! Ведь это я отыскал сочинителя… Да только хоть бы он провалился…
— Молчи! — азартно кричал исправник в ответ, уподобляясь охотнику, у которого хотят отнять подстреленного им зайца. — Посмотри, разве не та же самая рука писала?
— Удивительно! Мой точно так же пишет, как и твой!
— А ну, дай сюда! — нетерпеливо выкрикнул исправник и стал придирчиво сравнивать почерки. — Какая-то чепуха получается, Марци! Не могли же они вдвоем в конце концов один и тот же пасквиль писать!
— Втроем, ваше благородие, втроем! — перебил его подбежавший к ним писарь. — Я тоже нашел точно такой же почерк.
— Вот и разберись тут! Что за чертовщина? — разозлился Шотони.
Все трое изумленно уставились друг на друга, и только Секула, сельский староста, от всей души хохотал над приезжими.
— А вы что же думали, господа? Дело очень простое. В вашем селе люди пишут только двумя почерками. Старики — как их научил покойный учитель, а молодежь — как наш Нынешний.
Разумеется, староста был прав. Буквы обитателей Лохины не могли носить на себе печати индивидуальности, их форма определенная раз и навсегда покойным Даниелем Хловачем, жила и после его смерти: знать, и скромному сельскому кантору — учителю — определена доля бессмертия. Вывод же был таков, что анонимки написаны по методу нынешнего кантора Матяша Блозика.
Тотчас же вызвали его самого. Это было, кстати сказать, нетрудно сделать, так как ныне здравствующий кантор, лежа на спине перед винным погребком Яноша Бискупа, преспокойно покуривал свою трубку.
— Не могли бы вы сказать, кто из ваших учеников обладает этим почерком? — спросили его следователи.
— Все они одинаково пишут, — отвечал Блозик и гордо постучал себя кулаком в грудь, — потому что такой уж я человек: всех одинаково люблю и всех одинаково учу. Чтобы ни один не знал больше другого!
(Так Матяш Блозик понимал принцип всеобщего равенства.)
— Если мы не выберемся из этого лохинского лабиринта, то не видать мне вице-губернаторской шапки как своих ушей. А по всему видно, что мы окончательно зашли в тупик! — тихонько сетовал Шотони.
— Ничего подобного! Подвело нас только направление, в котором мы до сих пор вели следствие. Но я заранее продумал несколько направлений. Поэтому не падай духом и позволь мне действовать дальше, — возразил Терешкеи. — Первым делом перенесем-ка мы нашу канцелярию в другое место, потому что ветер гонит дым от этой проклятой кухни-времянки прямо мне в глаза!
На «кухне» полыхал огромный костер, от которого к небу, колыхаясь на ветру, словно холщовые полотнища, поднимался синеватый дым, внизу же плясали свирепые языки пламени. У очага хлопотала молодая, стройная женщина; она резала картошку, крошила лук, отбивала мясо и беспрерывно передвигала горшки и кастрюли то ближе к огню, то подальше от него. Вместе с дымом к приезжим долетали и запахи готовящейся пищи, а иногда — аромат спелой малины из соседних кустарников.
— Это и есть Аполлония Микулик, — обратил внимание господ на повариху писарь. — Красавица — поискать надо, а стряпает — пальчики оближешь!
— Приятно, когда повариха — женщина красивая!
— Пока еще девица, — вмешался в разговор Блозик, все еще болтавшийся подле комитатского начальства.
— Издали — хороша, — согласился старый Терешкеи. — Может, взглянем на нее поближе, братец?
— Если на отца похожа, — ничего особенного, — возразил равнодушным голосом Шотони. — Ведь это ее отец — церковный староста? Дорогу он нам показывал.
— Так точно, «конский выправитель».
— Это что еще за специальность такая?
— Не очень почтенная, — отвечал писарь, — да только старик больше не занимается этим «ремеслом». Разбогател, уважаемым человеком стал, вот даже в старосты церковные его выбрали.
— Ну и как же он «выправлял» лошадей? — поинтересовался капитан-исправник, пока Терешкеи отправился к костру за угольком для своей трубки.
— Честь лошадиную, так сказать, выправлял. Ездил по всем конским базарам.
— Вроде барышника был, что ли?
— Не купил он за весь свой век ни одного коня, — принялся рассказывать сельский староста. — А вот как ярмарка кончится, откроет он где-либо неподалеку от рыночной торговки горячей пищей свою канцелярию, да и скупает паспорта лошадей, на которых не нашлось покупателя. Народ, бывало, валом валит к нему. Ведь кому нужен после ярмарки конский паспорт? А Микулик по четыре, а то и по пяти крейцеров за штуку платил.
— Чудак! Ему-то они на что сдались?
— В округе полным-полно конокрадов, ваше высокоблагородие! И добывают они таких стригунков — один краше другого. Вот на этом все предприятие господина Микулика и было основано. Ведь коня без паспорта честный человек покупать не станет. А если кто и рискнет, то даст за него вору гроши какие-нибудь. Если же у коня бумаги надежные, то честь его конская выправлена, и конокрад раз в шесть больше на нем наживется.
— Ах, вот оно что! Теперь я начинаю понимать! — воскликнул Шотони, удивленно раскрыв глаза.
— Воры шли к Микулику, а тот смотрел лошадь и выискивал в своем большом обитом железом сундуке подходящий по масти — для Гнедка или Серка — паспорт. Из тысячи-то на любого коня можно подходящий подобрать. Конокрад платил за бумагу пять форинтов, и ворованная лошадь тотчас же становилась честным приобретением. А если паспорт и особым приметам коня соответствовал, то Микулик за него десять, а то и все двадцать форинтов мог заломить. Ну, в конце концов кто-то все же на него донес в полицию. Это как раз во времена провизориума * было.
— Разумеется, Микулик угодил в тюрьму?
— Куда там! Выкрутился…
— Как? И его не наказали по всей строгости закона?
— В то время закон и сам-то на ворованном коне ездил!
— Ну и ну, просто интересно! — удивился Шотони. — А что же сталось с его коллекцией паспортов?
— Суд арест на них наложил. Зато сам Микулик с той поры исправился. По крайней мере, сейчас про него ничего плохого не слыхать.
Пока Шотони обогащал подобным образом свой административный опыт, старый следователь приковылял обратно от костра.
— Ну как, ваше благородие? Не правда ли, краса девица? А?
— Хороша, чертовка! — отвечал Терешкеи, прищелкнув языком. — Эх, будь я помоложе!..
— Сколько же тебе лет, старина? — начал допытываться капитан-исправник.
— Упорно держусь на сорока.
— Ну, это еще какой возраст! — заметил писарь, подозрительно разглядывая старика.
— Так ведь я уже шестнадцать лет на том держусь. Нет, мое времечко прошло. Страсти теперь уже больше не властны надо мной. Увы! к костру я только потому пошел, чтобы о деле поговорить с девицей.
— О деле? — засмеялись вокруг. — Хорошая ширмочка — это ваше «дело»!
— Кроме шуток. Только не удалось мне с ней побеседовать. Очень уж там много длинноухих поварят!
— О чем же ты хотел с нею поговорить? — полюбопытствовал капитан-исправник.
— Хотел спросить у нее: умеет ли она вязать?
Услышав такой ответ, окружающие заулыбались: так уж положено, коли начальство изволит шутить.
— Знакомство завязать она, конечно, сумеет, если тебе этого хочется, — заметил Шотони.
— Нет, мне в самом деле нужна мастерица, хорошо владеющая спицами.
— Аполка умеет вязать, — поддакнул писарь, все еще не уверенный, не шутит ли исправник.
— Кликните-ка ее сюда на минутку.
Звать повариху отправился сам писарь, потому что она девушка робкая, сама к важным господам подойти побоится, ее долго подбадривать надо.
— Такая уж она овечка невинная? — насмешливо заметил Шотони.
Повариха пришла тотчас; движения у нее были и вправду робкие, но потупленные черные глаза горели демоническим огнем. На ходу она сняла свой белый вышитый передничек и небрежно перекинула его через округлую руку, будто иная важная барыня столу.
Юбку она носила длинную, не как все прочие крестьянские девушки — по колено; волосы ее не были собраны, как положено, в косу, спускавшуюся на спину, а красивым венком, как у девиц мещанского сословия, обрамляли голову. Выступала она горделиво, будто пава, покачивая стройным тонким станом.
— Прямо тебе — серна горная! — перешептывались все, мимо кого она проходила.
На щеках девушки сквозь смугловатую кожу пробивался густой румянец, а на мраморно-бледном лбу между бровями пролегла властная складка, которая придавала ее красивому овальному лицу не девичью мужественность и одновременно свидетельствовала о том, что Аполке минула уже «тысяча недель». (Лохинцы считают, что в их суровом горном климате требуется ровно тысяча недель, чтобы девушка созрела для замужества.)
Шотони, оживившись, окинул ее своим искушенным взглядом. Ого! Недурна!
— Позвал я тебя, милочка, — ласково начал Терешкеи, — для того, чтобы ты помогла мне в одном небольшом дельце. Ну, да ты не пугайся нас! Мы, ей-ей, совсем неплохие люди. Вот господин писарь сказал нам: вязать ты больно хорошо умеешь.
— Умею, — отвечала девушка с кокетливым жестом.
— Так принеси-ка ты мне свои спицы, доченька. С собой они у тебя?
— Нет, дома.
— Ну, ничего, мы гайдука за ними спосылаем. Тебе-то ведь стряпать надо.
— Нет, что вы! — замахала руками девушка. — Я лучше сама сбегаю. Чужому человеку и не найти моих спиц. Да здесь недалеко совсем. Мы ведь на краю села живем.
— А разве вы не переселились?
— У нас дом каменный, не загорится. А крыша черепичная. Подозвав гайдука, Терешкеи распорядился вслух:
— Проводишь барышню! — А на ухо шепнул ему: — Смотри не позволяй ей дорогой ни с кем о спицах разговаривать. В тайне все надо сохранить.
Однако следователь Терешкеи своим приказом так раздразнил любопытство присутствовавших, что с трудом выдерживал их атаки.
— Уму непостижимо, — бормотал староста.
— Не понимаю, что вы еще задумали, — недоумевал Дгори Хамар.
— Да скажите же вы нам, ваше благородие, — приставал писарь. — Ум хорошо, а два лучше. Может, и мы чем подсобим?
— Господа, имейте терпение! — только улыбался в ответ Терешкеи.
— Не имеем, — топнул ногой Шотони, который прямо-таки сгорал от нетерпения.
— Ну, а я имею. Поэтому я подожду, пока принесут спицы!
Терешкеи произнес эти слова с таким важным и загадочным видом, что лишь еще больше разжег любопытство. Однако из следователя и клещами не удалось бы вырвать его тайну. В конце концов Шотони начал подтрунивать над своим помощником.
— Видно, потому ты и прослыл полицейским гением, что даже спицы вязальные тебе доставляют под охраной? Меня смех разбирает, едва вспомню, как ты гайдуку наказывал: «Смотри не позволяй ей по дороге ни с кем о спицах разговаривать». О чем разговаривать-то? О великой тайне, что дочку Микулика за спицами послали? Сегодня же после обеда велю я этой девице связать для тебя ночной колпак. Согласен?
— Согласен, если только ты перестанешь дурачиться. Однако, как я вижу, в покое ты меня не оставишь. Пойду-ка я лучше прогуляюсь по деревне этой палаточной.
— Я тоже с тобой пойду.
— Хорошо. Вон там, кажется, рожок лежит. Пусть погудят нам в него, как только девица возвратится.
Все поле вокруг было покрыто толстым слоем копоти: она лежала на траве, осыпалась с листвы деревьев при малейшем дуновении ветра. Почернели от нее и крыши палаток. Словом, «красный петух» повсюду оставил свою роспись. Сам-то он красный, а вот пишет черными буквами.
Перед халупками резвились озорные малыши: их играм не могло помешать ничто на свете, даже «красный петух», переместивший их родную деревню на это вот поле. Ребятишки лепили мячики из вязкой глины, кидали их, норовя угодить в доску, и приговаривали при этом: «Звени-звени, колокольчик, как в Бестерце или звонче». Нанизав картофельные балаболки на прут, они метали их затем вдаль со словами: «Лети-лети, бульба, свинцовая пулька», — и балаболка действительно летела стремительно, как пуля. О, эти разбойники отлично умели с ними обращаться!
В сливовых садах покачиваются в воздухе белые лодочки, издали напоминая стаю летящих белых лебедей. Вот уж воистину — волшебная деревня! Крестьянки, привязав к толстым сучьям двух соседних деревьев белую скатерть, укладывают в эту импровизированную люльку младенцев. Пока матери работают, малыши отлично себя чувствуют в тени сливовых деревьев: листва нашептывает им колыбельные песни, а ветерок, как хорошая нянька, к тому же покачивает их маленькие гнездышки.
…Боже мой, вот был бы переполох, если бы кто-нибудь незаметно прокрался сюда и перемешал младенцев, оставленных без присмотра!
Временные халупки были по большей части пусты, только кое-где малые ребятишки, играя поблизости, присматривали за скарбом.
— А где же взрослые? — под большим секретом спросил у одного из таких «сторожей» Терешкеи, великий мастер допытываться.
— Разошлись кто куда! Мамка сено на лугу гребет, невестка на мельницу уехала муку молоть, а отец к начальству пошел, которое поджигателя ищет, — вразумительно разъяснил ему мальчонка.
— Ну, а что слышно о поджигателе? Найдут его?
— Как же, найдут! Говорят, господа ничегошеньки не знают. И не узнать им до тех пор, пока они у старого Хробака совета не спросят.
— Слышал, братец, — вот это комплимент нам с тобой!
— Гм, ничего! Погоди-ка, малец, а кто же этот самый Хробак?
— Не знаю я, — заупрямился вдруг мальчишка и ускакал, чмокнув губами лошадке-хворостинке, на которой он лихо восседал верхом.
А комитатские господа продолжали свою прогулку, пока снова не наткнулись на человека, с которым можно было поболтать: перед одной из лачуг, расстелив на земле шубу, лежал дородный крестьянин.
— Что стряслось, землячок?
— Лихорадка бьет, ваше благородие, — не попадая зубом на зуб, отвечал крестьянин.
— Плохо ваше дело! А отчего же вы не примете какого-нибудь снадобья?
— Уже давно бы весь недуг прошел, если б жили мы на старом месте. Ведь против лихорадки самое верное средство девять раз на Девяти могилах перекувыркнуться. А где ж тут найдешь могилы?
— И как вы думаете, сколько вам еще здесь обитать? Больной крестьянин вздохнул.
— Да уж горела бы она дотла, деревня-то, да поскорее! Надоело ждать, пока вконец сгорит. Теперь бы самая пора заново строиться, погода стоит еще теплая, позволяет.
Что там ни говори, а духом крепок был больной землячок.
Но самое забавное зрелище среди живописной пестроты являло собой громадное засохшее дерево черешни, со ствола которого спускался, болтаясь на шнурке, пучок можжевеловых веток, а на сучьях в совершенном беспорядке висело, шелестя, множество бантиков из древесных стружек.
— Смотри-ка, братец, да здесь, как видно, трактир?
Так оно и было. Предприимчивый Мор Кон успел и здесь обосноваться со своим заведением — благо оборудование для этого нужно нехитрое: бочонок водки да кусок мела…
Хозяин трактира, стоя возле бочонка, был настолько погружен в серьезный торг с каким-то своим клиентом, укрытым от глаз пришедших большим кустом орешника, что не заметил приближения гостей.
— Отдаете за два форинта или нет? — слышался голос Мора Кона, который невозможно было спутать с чьим-то другим.
— Это же нахальство! — возмущался его клиент. — Да как у вас совести хватает за такой великолепный паспорт предлагать каких-то два форинта?
— Как совести хватает? — вскричал еврей-корчмарь. — Очень даже просто! Я калькуляцию произвел. Вы предлагаете за восемь, значит, готовы отдать за шесть. Из этого я делаю вывод, что цена ему четыре форинта, и потому предлагаю вам со своей стороны — два форинта.
— Логика поистине торгашеская! — улыбнулся Терешкеи, подтолкнув капитан-исправника. — Чш! Тише!
— Ну, бог с вами, — отозвался второй голос. — Пусть будет по-вашему, берите за шесть!
— Что я, белены, что ли, объелся? — перебил его господин Мор. — Дам я вам, так и быть, четыре, коли уж проговорился. Столько он стоит.
— Ни филлера не уступлю. За меньшие деньги не стану я вам коня «выправлять».
В этот самый миг издали донесся звук рожка.
— Нас зовут, пошли, — нетерпеливо позвал Шотони.
— Нет, погоди, сей диалог меня очень заинтересовал! Дорого я дал бы, чтобы добраться до сути. Но увы, теперь уж ничего не выйдет, корчмарь нас заметил… Смотри, как испуганно замахал он руками! А другой землячок решил поскорее убраться восвояси! Гляди, как бежит-торопится, прохвост!
А жаль!
— Не горюй, братец Марци, — с горделивой усмешкой остановил его Шотони. — Не одному тебе все знать. Достаточно того, что я об этом деле уже знаю.
— Что же ты знаешь?
— Знаю я, кто убежал и о чем разговор шел…
— Да что ты говоришь, братец! Кто же он?
— Янош Микулик.
— А паспорт и «выправление» лошадей?
— И про то мне ведомо, — торжествующе заявил Шотони. — Большое дело я распутал, скажу тебе. Весь комитат от удивления рот разинет.
— Брось шутить, Мишка! — Терешкеи устремил на собеседника испытующий взгляд, в котором были одновременно и зависть и сомнение.
— Погоди, придет время, сам убедишься.
— А сейчас разве ты не можешь мне сказать?
— Это дело не имеет никакого отношения к поджогу. Ну, пошли!
— Вижу я, отомстить ты мне решил за то, что я тебе не рассказал о своем плане. Хочешь меновую?
— Нет, не хочу. Сейчас я и без тебя все узнаю.
— Уверяю тебя, здорово получится. Все будет проделано просто и изящно.
Предательская нитка
Дочка Микулика действительно уже возвратилась со своими спицами.
— Отошлите людей, — обратился Терешкеи к старосте, — они уже не нужны мне. Только мешать здесь будут.
— А разве вы никого больше не будете допрашивать?
— Будем, но займется этим после обеда уже, господин секретарь. Допрос надо будет снять со всех, кто раньше других прибежал на пожары. А также со служанок Шамуэля Белинки. У меня тут вот имена их записаны: Магдалена Кицка и Анна Стрельник.
— Они обе живут в Банудовке, в горах.
— Ну, если они нам понадобятся, мы сами к ним съездим. А сейчас — за дело. Удалите всех с территории, отведенной под канцелярию.
По одному слову старосты толпу зевак как ветром сдуло; у стола остались лишь трое приезжих господ, гайдук, староста с писарем да учитель Матяш Блозик, которого назначили виночерпием и «кухмистером». В обеденный час — самая лучшая должность.
— Подойди поближе, Аполка! — любезно позвал повариху Терешкеи. На лице его было написано торжество. — Ну, что же ты мнешься, милочка? Садись вот сюда, к столу. Ты теперь у нас самая важная персона!
С этими словами следователь сунул руку во внутренний карман сюртука. Все присутствующие уставились на него, даже дыхание затаили. Вытащив из кармана анонимные письма Терешкеи принялся осторожно разматывать нитки, которыми были связаны листки.
— Нитки — бумажные, — заметил он глухим, сдавленным голосом. — Дома я рассматривал их под лупой, так что наверное знаю, что бумажные…
На лицах зрителей отразилось разочарование. Все ждали чего-то большего.
— У меня есть подозрение, что нитки эти из какого-нибудь распущенного чулка.
— Вполне возможно, — пробормотал писарь.
— А вот мы сейчас увидим. Возьми-ка, Аполка, и начни вязать из них чулок. Так мы узнаем, какого цвета был прежде чулок и как он выглядел. На это поджигатель не рассчитывал! Хе-хе-хе!
— Черт побери! — не утерпел писарь. — Вот это ум, вот это голова!
Аполлония Микулик взяла нитки, и спицы быстро-быстро замелькали в красивых белых пальцах. Однако руки ее, по-видимому, сильно дрожали, потому что девушка беспрестанно упускала одну петлю за другой.
— Ты потуже вяжи, Аполка, — посоветовал писарь.
— Влюблена девушка, — поддразнивал ее Секула. — Сколько петель упустит, столько сердец подцепит.
Аполка покраснела, а руки ее так задрожали, что она даже нитку оборвала.
— Не смотрите на нее, не мешайте! — вмешался Шотони. — Разве можно тут вязать, когда вы ее глазами съесть готовы?
Впрочем, он и сам глаз не мог оторвать от красавицы.
С большим трудом официальная «вязка чулка» была наконец окончена. (Выглядел связанный кусок, разумеется, так, как выглядит всякая казенная работа, — в семи-восьми рядах всего-навсего по нескольку десятков петель, да и те неуклюжие, аляповатые.) Но и изготовленного куска было вполне достаточно: с первого же взгляда становилось ясно, что распущенный чулок был желто-синий.
— Мы напали на след! — воскликнул староста. — Знаком нам этот чулок.
— То-то и оно, что знаком. Такие чулки в городе у каждой подворотни торговки-еврейки продают. На мой взгляд, найденный след едва заметен, но все же и он лучше, чем совсем ничего. В особенности в Лохине, где, я полагаю, немногие женщины ходят в чулках.
Староста тут же принялся на пальцах перечислять – Попадья — раз, скорнякова жена — два, мельничиха с дочкой — три, жена и теща еврея-арендатора — четыре, ну и наша Аполка также в чулках щеголяет.
При этих словах вязальщица зарделась как кумач. Однако Терешкеи тут же перебил старосту:
— Ты, Аполка, можешь идти к своим кастрюлям. Спасибо тебе за труды. Да, так продолжайте господин староста. Кто еще у вас тут носит чулки?
— Больше никто, кроме, конечно, моей жены…
Вы, сударь, как я посмотрю, знаете село с головы до ног.
— Старосте все положено знать.
— Это верно, только дамские ножки ведь не входят в круг обязанностей старосты. Вот погодите, спрошу я у супруги вашей, каково ее мнение на этот счет. Однако хватит нам подтрунивать друг над другом. Отправляйтесь, господин староста, с нашим гайдуком ко всем названным вами лицам, и произведите обыск.
— А если найдем?
Коли такого же цвета чулок найдете, конфискуйте. А если он распущен, арестуйте владелицу!
— Ничего себе историйка, — проворчал староста. — Свою собственную жену обыскивать придется!
Терешкеи горделиво посмотрел им вслед.
— Ну, выпустил я мою последнюю пулю. Зато теперь-то уж я спокоен.
И чтобы показать, как он спокоен, следователь тут же набил свою пенковую трубку и стал шарить в обширном своем наружном кармане, отыскивая какую-нибудь бумажку на раскурку.
Не стоило бы тебе закуривать, милый Мартон, — пытался отговорить его Шотони. — Я вижу, вон Аполка уже и на стол накрывает. Сейчас обедать позовут.
Время дорого, — братец! До тех пор я еще успею полтрубочки выкурить! — Но, выбирая среди извлеченных из кармана бумажек, какую из них можно без ущерба спалить, Терешкеи вдруг переменился в лице и гневно закричал: — Опозорили! Ах, мерзавцы!
Жилы на шее у него вздулись, в висках застучало, глаза налились кровью.
— Ради бога, что случилось? — испугался Шотони.
— Читай! — прохрипел Терешкеи, протягивая исправнику скомканный клочок бумажки.
Шотони расправил его. Мистические буквы, написанные все той же, уже знакомою ему рукой пасквилянта, словно смеющиеся чертенята, запрыгали на белой бумажке перед глазами исправника. И вот что было там написано:
«Ты, рыжебородый похотливый козел! (Ничего себе, миленький титул!) Если ты сейчас же не прекратишь следствия и не перестанешь совать свой нос в наши дела, мы спалим и дом твой и ометы. А жена твоя тоже узнает, что ты за птица: известны нам все твои проделки, старый греховодник, знаем и мы, зачем ходят так часто в суд зеленовские молодухи…»
— Нахальство высшей степени! — промолвил Шотони. — Где ты это нашел?
— У себя в кармане.
— Какая неслыханная дерзость!
— Сколько ж голов должно быть у этого негодяя, — негодовал Терешкеи, — коли он сам лезет под топор?!
— Осмеяли нас с тобой, старик!
— Не меня осмеяли, — возмутился следователь, — а закон, все комитатские власти и даже его королевское величество!
Из этого случая явствует, что поджигатель или его сообщники находятся в нашем непосредственном окружении. Но кто они? Вот всем вопросам вопрос! *
— В истории девятнадцатого века не было еще такого случая. Даже у Питоваля * ничего подобного не встретишь. Нет, уверяю тебя, братец, сам черт поджигает эту деревню!
— А с чертом и комитатским властям не совладать! — пролепетал секретарь Дюри Хамар.
— Да таким ловким может быть либо дьявол, либо…
— Либо женщина!
— Ну, а с женщиной не только комитат, но и сам черт не справится…
Издали донесся мягкий голос Аполки:
— Кушать подано, господин писарь! — А затем, лениво передвигая ноги и низко кланяясь, появился и сам «кухмистер» Блозик.
— Суп готов, милостивые господа.
И в самом деле, пора было обедать. Пастух уже давно переступил через свою собственную тень, что в Лохине означало полдень: так что господа даже слегка запоздали с трапезой. Но так уж всегда получается, когда повариху отрывают от дела по пустякам.
Впрочем, задержка с обедом была сторицей возмещена: все кушанья удались на славу. Разве что рыба была чуточку переперчена. Зато пёркёльт из барашка получился просто объедение, не говоря уже о хворосте. Можно было бы, конечно, добавить в хворост корицы, но и без нее лакомство вышло на славу.
За трапезой господа расположились согласно рангам Блозик, как «стольник», — в самом конце стола. Он уже успел снять со всех кушаний пробу, знал, в каком порядке они будут поданы, и это породило в нем чувство известного превосходства, вследствие чего он сделался слишком разговорчив.
В глубине души кантор, может быть, и сознавал некоторые недостатки трапезы, но он приложил все свое риторическое искусство, чтобы расхвалить яства и тем самым возбудить аппетит гостей. Так он разок-другой ущипнул Аполку за щеку приговаривая при этом:
— Озолотить бы следовало твои ручки, душенька!
В честь жаркого кантор сочинил торжественную оду, которая и была продекламирована им под всеобщее веселое одобрение. А когда на столе появились вина, Блозик даже прослезился от удовольствия.
— Placeat, domine spectabilis. Jstud vinum habeat colorem, odorem et saporem,[73] — хвастал он, хотя вино было чуточку кисловатым и отдавало бочкой. Только по поводу паприкаша * из рыбы, сердитый перец которого обжег ему язык, он прошелся с ехидцей:
— Черт побери! По-видимому, такой вот рыбкой и потчевал наш Иисус Христос столь великое множество народу (то есть рыба была так сильно наперчена, что ее не могли бы съесть даже библейские голодающие!).
Словом, обед всем понравился, и лишь Терешкеи то и дело нетерпеливо поглядывал на проселочную дорогу: не возвращаются ли еще староста с гайдуком? В них была его последняя надежда. Вернутся его посланцы без всего — следователю не останется ничего иного, как вечером отправиться посрамленным домой. Б-р-р! Подумать страшно, сколько ехидных острот будет отпущено в его адрес по поводу записки, подсунутой злодеем прямо в карман!
— Ну попадись ты мне в руки, негодяй! — скрежетал он зубами.
Исправник же ожидал возвращения старосты с безразличным видом и все с большим увлечением увивался вокруг Аполки.
— Эй, Мишка, Мишка! — пробовал пристыдить его Терешкеи. — Опять за свое принимаешься?
Долго пришлось ожидать следователю, — о, как тяжелы были для него эти минуты! — пока на противоположном конце клеверища не показались наконец господин староста и гайдук. Шли они неторопливым, размеренным шагом. Одно это уже было дурным знаком.
— Нашли что-нибудь? — глухо, почти робко спросил следователь старосту, когда тот подошел поближе.
— Ничего! Не хочет чулок показаний давать, ваше благородие.
— Ну тогда провались все на этом месте! — закричал Терешкеи, швырнул наземь бумаги и, повернувшись к Шотони, заявил: — Можешь сам продолжать, братец, коли тебе угодно. Я больше ничего не в силах придумать!
— Я тоже, — с удивительным спокойствием отозвался исправник.
Тут уж и Блозик осмелел и предложил, учитывая создавшееся положение, попробовать погадать на решете пшеничными зернами.
— Золотые слова, господин учитель, — сострил исправник, — потому что даже дырявое решето наверняка больше нас с вами знает.
У старосты же было наготове другое предложение: посоветоваться со старым мудрецом.
— Кто такой — этот ваш старый мудрец? — рассеянно осведомился Терешкеи, который, подобно утопающему, готов был ухватиться и за соломинку.
— Здесь у нас в горах, на хуторе, старец один живет. Настоящий пророк! В трудную минуту деревенские жители всегда к нему за советом ходят. Хробаком он прозывается. Я сам видел его, правда, всего один раз, еще в детстве.
— Хробак, говорите?
Терешкеи вспомнил, что во время их прогулки по селу мальчишка тоже упоминал Хробака. Значит, по народному поверью, только Хробак может указать верный след? Как знать? А что, если действительно устами народа глаголет бог? Край этот — родина суеверий. Высокие горы, словно великаны, обступили долину и, казалось, все время что-то нашептывают ей. Непроницаемый туман, клубящийся над их вершинами, обволакивает и мозг человеческий, а в шуме лесов так и слышаться какие-то таинственные заклинания.
— Как же к нему добраться? — спросил Терешкеи.
— В коляске нельзя. В лучшем случае верхом, местами дорога очень крута.
— Едем староста. Велите седлать лошадей.
— Очень даже кстати, — обрадовался староста, — потому что на обратном пути мы заодно сможем завернуть в Бакуловку где у вас ведь тоже есть дело, господа?
— Интересно, почему деревню назвали Бакуловкой?
— Часть жителей деревни, переселившись с горы в котловину «Скрыня», выбрали себе временным старостой местного казначея Бакулу. Вот поэтому их и прозвали «бакуловцами» а тех, что со мной поселились, — «секуловцами», — пояснил староста Секула.
— Слышал и я кое-что про вас. Ведь вы, кажется, враждуете с Бакулой?
Господин казначей — человек со странностями, — улыбнулся Секула. — Значит, и вам, ваше благородие, известна эта глупая история?
— А в чем дело? — заинтересовался Шотони.
— Да в том, ваше высокоблагородие, что мы оба с ним — католики и поэтому к обедне ходим в соседнее село Зелено. Господин Бакула, человек богатый и гордый, очень сердился, что святой отец во время молебна всегда мое имя упоминает. Вот однажды пришел он к священнику и предложил ему в подарок овечку, если он отныне вместо «secula seculorum»[74] будет петь «Бакула Бакулорум».
— Ну, поехали поскорее! — заторопил Терешкеи старосту. — Нам ведь еще и в Бакуловке нужно двух свидетельниц допросить. Хорошо, если бы вы, господин староста, раньше нас туда отправились, чтобы нам не тратить время на розыски.
— Сколько лошадей прикажете отрядить?
— Сейчас сосчитаем. Господин секретарь останется здесь — допрашивать очевидцев пожара. Если ничего не выясним то хоть документ будет в комитатском архиве о том, что следствие было проведено по всем правилам. Господин сельский писарь поедет с нами. Его высокоблагородие…
— Я никуда не поеду. Здесь подожду вас, — заявил неожиданно Шотони и, улегшись на свое травяное ложе, принялся покуривая, разглядывать бегущие по небу облака да обворожительное личико и стан красавицы Аполки.
— А как же я? — выступив вперед, спросил господин Блозик.
— Вас мы оставим здесь блюстителем порядка. Вдруг кто в наше отсутствие вздумает приставать к Аполке, тут-то вы и одерните охальника!
— А ежели мне самому захочется к ней поприставать?
— Вы — персона церковная, о вас даже и подумать такого нельзя!
— О, что вы! — осклабился Матяш Блозик. — Cantorеs amant humores.[75] Я тоже простой смертный. Больше того, как персона церковная, я испытываю вдвое большее влечение к ангелам…
— Ах, отстаньте, — отмахнулась Аполка, — кому вы нужны с вашим противным носом! (Нос у кантора был, правда, слегка красноват, но с каких это пор красный цвет стал считаться противным?!)
— Ах, сестричка Аполка, — оскорбленно вздохнул Блозик, — а ведь не всегда ты была так строга к святой церкви!
При этих словах прекрасная повариха пришла в столь сильное замешательство, что выронила из рук фарфоровую тарелку, которая (говорят, к счастью!) и разбилась. Карие очи Аполки гневно засверкали. По-видимому, в словах Блозика скрывался какой-то злой намек.
— Да погодите вы, — остановил шутников староста, — Самое важное теперь — найти кого-нибудь, кто знает дорогу к Хробаку. А то ведь я не знаю.
— Я тоже, — подхватил писарь. — Вот было бы дело, поехали бы мы наобум!
— Я знаю дорогу, — вмешалась вдруг в разговор Аполка, — хаживала я в тех местах, и не раз.
— И ты сможешь провести туда господина следователя? — спросил Секула. — В самом деле?
— Отчего же нет? Пусть и для меня приведут лошадь, господин староста.
— А ты не побоишься сесть на нее?
— Ну вот еще! — весело рассмеялась девушка, словно горлица заворковала.
— Без седла?
— Конечно.
Исправник Шотони вдруг тоже вскочил со своей лежанки.
— Тогда и мне коня! — приказал он.
Всеведущий Хробак
Вскоре прибыли пять приземистых горных лошадок. Аполка легко и уверенно вскочила на свою, неоседланную, и будто слилась с ней.
— Ну, пошел, Красавчик! — воскликнула она, взмахнув тонким, только что срезанным прутиком. И конек торопливо зарысил, неся на своей спине прелестную всадницу: стройная фигурка грациозно покачивалась.
Господа едва поспевали за Аполкой. Ну и хитрая же бестия этот Секула: лучшую лошадь дал поварихе, чтобы подольститься к красавице. Но в «лазах» на горных дорогах не очень-то разбежишься! «Лаз» у горца-словака все равно что хутор у жителей Алфёльда. В горах каждому селу принадлежит одна узкая, стиснутая скалами долина, тянущаяся часто на много десятков километров. Обрабатывать ее, оставаясь в селе, почти невозможно, так как одно только хождение на поле и обратно заняло бы целый день. Поэтому в селе живут лишь богачи, за которых работают другие (ведь у них сколько ни укради, все равно вдоволь останется), да такие бедняки, которым все равно нечего делать в поле. Ну и, разумеется, те жители, чьи наделы находятся сразу за околицей.
На землях, лежавших поодаль от села, можно было увидеть небольшие белые хатки, приютившиеся где-нибудь на лысом холме или среди высоких серых скал. Они-то и назывались «лазами». Вокруг «лазов» худосочная земля вынуждена была покориться человеку, но для того, чтобы очистить от камней хоть сколько-нибудь большой участок, пришлось потрудиться на нем не одному поколению.
Но и то, что высвобождается из-под камней, — желтоватая глина, — все равно упорствует, вечно корит крестьян-словаков.
«Зачем выбросили мои камни? Вот нарочно не стану родить вам ничего». Пробуют бедняги сеять и рожь, и вику, и кукурузу да только земля не родит, и из высеянных семян вырастают какие-то уродцы — жалкие карикатуры на настоящие растения.
Однако здешняя скупая почва все же делает исключение для двух растений и двух животных: для картофеля и овса произрастающих тут даже лучше, чем на равнине, а также для коз и овец, которые на склонах гор находят траву более сочную, чем внизу. Зато самого словака земля, если захочет, может и вовсе подвести: взять да и совсем сбежать от него! Налетит ливень, потекут ручьи и смоют глину со всего расчищенного поля. Пропали плоды тяжелого многолетнего труда, и лежит участок, вновь весь покрытый валунами, которые залегают в земле, наверное, до самого пекла.
Приходится тогда бедному горцу начинать все сызнова, очищать от камней новый слой глины.
За широкой расселиной по крутым пешеходным тропинкам, опушенным, словно рукав полушубка, орешником да лозняком, всадники могли двигаться лишь очень медленно, шагом. Застенчивые березки и гордые буки мало-помалу остались позади. Кое-где белели уже клочки ковыля, будто бородавки на обнаженном теле земли. Еще выше — горный ручеек с журчанием перекатывал с боку на бок разноцветные камешки, спеша вниз, в долину.
Порой дорога становилась настолько узкой, что путники могли передвигаться только друг за другом, гуськом. Поначалу Аполка рысила на своей лошадке в хвосте отряда, а в голове ехал староста. Но у развилки дорог, где стояло изваяние зеленовской девы Марии (здесь, как уверяют местные жители, в ночь под рождество собираются ведьмы и с быстротой ветра катают огромные бочки, в которых сидят и хохочут чертенята), Секула расстался с экспедицией, свернув на Бакуловку, чтобы подготовить село к встрече важных господ, и впереди поехала Аполка. Теперь проводницей стала она. В одном месте пышные волосы девушки зацепила свесившаяся ветка. Шпилька выскочила, дивные пряди рассыпались и, дразня взоры, заплескались на белом нежном плечике.
Шотони подскакал к девушке и старался держаться рядом с ней; все просто диву давались, как это его конь ни разу не оступился на какой-нибудь осыпи над ущельем.
— Эх, Аполка, — вздохнул исправник, когда зеленовская дева Мария осталась позади, — жалко тебя, завянешь ты здесь понапрасну среди волков да медведей.
Но заговорить с Аполкой оказалось делом нелегким: отвечала она коротко и таким холодным, безразличным и резким голосом, будто ножницами обрезала нить разговора. А ведь когда хотела, умела она и ласково говорить.
— Волки и медведи куда лучше людей, — возразила она исправнику. — Меня они, к примеру, никогда не обижали!
— Была бы ты умницей, Аполка, наряжалась бы ты в шелка, разъезжала бы на четверке рысаков, лакей двери бы тебе отворял-затворял.
Девушка вздохнула, а затем резко бросила:
— Не нужно мне теперь ничего.
— Вот как! уж не в монашки ли ты уйти надумала?
Аполка склонила голову к гриве своего коня и из-под собственного локотка покосилась глазом на исправника. Ах до чего же хороша она была в этот миг!
— А может, и того хуже! — ответила она тихо и печально.
— У тебя какое-то горе на сердце, Аполка. Что-то мучает тебя, по лицу твоему вижу…
Девушка задумчиво посмотрела на проплывающие мимо и остающиеся позади деревья и травы и ничего не ответила. Она только попридержала лошадь, и их сразу же нагнали остальные. Шотони раздосадованно покусал свой пшенично-белый ус: ведь это означало отказ, а он не привык, чтобы женщины с ним так обращались.
Всадники долго ехали по склону горы Гребенки. Дорога была однообразна. Вокруг царила глубокая тишина, не нарушаемая даже разговорами: путникам нельзя было ни на миг отвести взгляда от поводьев лошадей. Скучнейшее дело — вот такое путешествие. Поэтому все очень обрадовались, когда слева неожиданно зазвучала печальная словацкая песня:
Задается мой миленок, не пойму я только чем: Нет у парня ни ягненка, ни хатенки — гол совсем! Пояс свой затянет туго, медной пряжкою звеня, Нет у парня украшений, кроме старого кремня.— Человечьим духом запахло! — заметил Терешкеи, услышав пение.
— Недалеко уже и до Хробаковой хижины, — отозвалась Аполка. — Теперь на тот голос поедем.
Мгновение спустя мелодия оборвалась, и тишину гор нарушил на сей раз громкий плач, доносившийся, как видно, оттуда же, откуда и песня. Да кукушка на соседней горе принялась отсчитывать лохинцам, сколько лет суждено было им еще прожить. Отсчитала довольно щедро…
Стоило путникам обогнуть скалу, прозванную «Каменным окороком», как они увидели перед собой спрятавшуюся за утесом на полянке халупу Хробака, — низенькую, с единственным маленьким окошком и камышовой крышей, через тысячу щелей которой валил дым от очага. Свободно жилось под этим кровом дыму: иди, вейся, куда хочешь!
У стены хатенки, на чурбаке, сидела старая-престарая женщина, с лицом, изборожденным тысячью морщин, и горько плакала.
— Приехали! — крикнула Аполка, проворно соскакивая с коня.
Лицо девушки раскраснелось от верховой езды и горного воздуха, и она была в этот миг неотразима. Писарь и следователь даже переглянулись, заметив, что капитан-исправник не сводит с нее глаз.
Терешкеи меж тем спросил плачущую старушку:
— Вы чего плачете, бабушка?
— Как же мне не плакать, — сквозь рыдания проговорила старушка, — когда меня отец побил!
— Как, у вас еще жив отец? — удивился следователь. — Что вы говорите?!
— Ну-ну, бабуся! — принялась ласково уговаривать старуху Аполка, опустившись подле нее на колени. — Разве можно так? Чуть что — и в слезы. А ведь вы знаете меня, бабуся?
— Конечно, знаю! Ты — выправителя конского дочка будешь.
Тем временем на шум, доносившийся снаружи, из хижины выбрался старик крестьянин — седой как лунь, но с таким краснощеким, пышущим здоровьем лицом, будто его кто подрумянил. В руках у старика был старый из кожаных ремешков плетенный лапоть и шило. По всей вероятности, починке подлежал лапоть, а не шило.
— Ну что тут? — пробасил он. — Что угодно господам? Терешкеи от удивления рот разинул.
— Вы — отец этой женщины?
— К сожалению. Лучше бы моя жена камень вместо нее родила.
— А правда, что вы ее побили?
— Как же ее не бить, коли она не слушается, пренебрежительно отозвался старик и еще раз погрозил дочери кулаком.
От этого движения рукав его рубахи соскользнул к плечу, обнажив крепкие мускулистые руки.
— Перестань реветь, корова! И не стыдно тебе перед чужими людьми-то? — прикрикнул он на дочь. — Смотри получишь у меня еще, коли мало было!
— Чем же провинилась бедняжка?
— Чем? — резко бросил старик. — Песни любовные распевает да с кошечками играет, вместо того чтобы деда своего баюкать.
Тут у Терешкеи и вовсе трубка изо рта выпала.
— Как, у вас и отец жив? — с сомнением в голосе воскликнул он.
— Почему же нет? Все знают Хробака-старшего.
— Вы не шутите, в самом деле у вас есть отец?
— Что ж тут удивительного? У всякого человека есть отец! — отвечал старик и сердито добавил: — А если не верите идите и сами посмотрите. Вон он под навесом лежит!
— Сколько же ему лет?
— Я и свои-то годы не считаю, но так думаю: большую часть своего века прожил уже старина.
— Ну, а дочь ваша?
— Анчурка? — пренебрежительно переспросил старик. — Погодите-ка… Думаю, лет за шестьдесят ей. Идет время и для детишек тоже.
— Можно нам поговорить с дедушкой?
— А отчего же нет, если только он не спит. В последнее время старик все больше дремлет. Тогда его и не добудишься. Сейчас посмотрим, что он там поделывает.
— Ты идешь с нами, Мишка? — спросил Терешкеи исправника.
— Нет, — коротко ответил тот, садясь на бревно подле Аполки. — А я уже догадался, кто поджигатель, — шепнул он ей.
— Кто? — приглушенным голосом спросила девушка. Исправник пододвинулся к ней.
— Ты!
Аполка вздрогнула и побледнела.
— Ты подожгла мое сердце, которое до сих пор было подобно сырому труту. Я люблю тебя, Аполка!
Девушка, как полузадушенная кошкой птичка, которая вдруг вновь получила возможность дышать, встрепенулась тут же и поникла, опустила свою дивной красоты головку.
— Поедем со мной. Я заберу тебя к себе, — с жаром, раскрасневшись от волнения, продолжал шептать исправник. — Для одной тебя буду жить. Все отдам ради тебя.
Нет, нет, оставьте меня, — прошипела сквозь зубы Аполка и, вскочив, убежала, словно вспугнутая горная серна, к остальным господам, под навес.
А там разговор с мудрым Хробаком уже был в полном разгаре. На счастье приехавших, старик не спал. Он лежал в большом корыте, выстланном мягкой конопляной куделей. На голове у него не было уже ни единого волоска, кожа сморщилась, отчего казалось, что череп старца был покрыт каким-то вязаным колпаком. Толстые отечные веки и белые ресницы, которыми старик до странного часто мигал, производили неприятное впечатление. Лицо его было восково-желтого цвета, а во рту старика, как бы в знак того, что он все еще находится на этом свете, торчала трубка, которую он сосал, причмокивая, будто младенец, сосущий материнскую грудь.
— Так, значит, из-за поджога вы ко мне пожаловали? — хрипуче-тоненьким, будто загробным, голоском спросил он.
— Да, совета твоего пришли просить, — повторил Терешкеи. — Ты человек знающий, много переживший, много повидавший на своем веку.
— Оттого я много видел, что глаза мои всегда были закрыты, а уши — открыты. Ну, расскажи, что ты уже успел сделать? (Всеведущий Хробак и господину следователю говорил только «ты»).
Терешкеи рассказал, как вначале они думали добраться до истины путем сличения почерков.
— Качай меня, качай. Мне тогда легче говорить, — лепетал старец писарю. — Почерков, говоришь? — прошамкал он, норовя одновременно своей сухой, исхудалой рукой поймать муху, жужжавшую над корытом. — Чепуха! Принесите сюда сотню малых младенцев — увидите: все они как близнецы. Только когда подрастут младенчики, тогда и перестанут походить друг на друга. Так и крестьянские буквы — что тебе дети малые! Ну, а еще что ты предпринял, сынок?
Теперь следователь начал рассказывать историю с чулком. Это, брат, такой прием, что наверняка повергнет мудреца гор в удивление. Старик и в самом деле внимательно выслушал рассказ и только попросил:
— Почеши мне, сынок, маленько пятки.
Господин писарь выполнил и эту просьбу Хробака: коли ребенок на первом году жизни в своих желаниях — король, то старец за сто лет — свят, как папа римский. По лицу старика можно было видеть, какое ему это доставило наслаждение. Он задвигал губами, словно улыбаясь стал моргать глазами и от удовольствия задергал одной рукой, — будто барашек ножкой, когда тому дают полизать соли.
— Это вы ловко придумали… с чулком! Только знай сынок, нитки не имеют языка, а спицы — глаз. Чулок — хитрая, штука, у него есть начало, да нет конца.
— Верно, отец! Конца не видно, потому что последние петли с первыми соединяются.
— Ну, а еще что вы сделали, сынок?
— Допросили священника.
— Вот это умно. Поп больше всех знать должен. Тому в кого бросили булыжником, лучше других известно, откуда прилетел камень. Так-то!
Великий полицейский талант, гениальный Терешкеи стоял перед старцем, растерянный и сжавшийся, будто мальчишка-школяр. Он и сам чувствовал, что попал в положение смешное и бессмысленное, но не знал, как из него выпутаться.
Его, словно ученика перед учителем, охватила даже какая-то дрожь, когда он пересказывал содержание протоколов допроса: что он спросил у Шамуэля Белинки и что тот ответил:
— Ну и чудаки вы, малые дети, ей-ей! — возмущался словацкий Мафусаил. — Ничего-то вы не умеете делать. Говоришь, спросили у священника: не знает ли он человека, который сильно ненавидит его? Зачем же так?
— А что же нам оставалось делать, отец? — покорно вопрошал Терешкеи. — Как нам было искать преступника?
— Отправляйтесь-ка вы домой, сынки, — голосом пророка повелел старец, — и скажите властям…
— Что сказать?
— Чтобы прислали сюда людей поумнее!
Но гордец Терешкеи сейчас даже ухом не повел, молча проглотив и это оскорбление.
— Почему ты так говоришь, отец? В чем же наша ошибка была?
Хробак закрыл глаза и, шепелявя беззубым ртом, по слогам выговорил ответ (тем не менее речь его нелегко было разобрать окружающим):
— В чем ошибка, говоришь? Иначе надо было спросить попа-то: нет ли кого, кто любит его горячо или любил когда-то? А теперь не мешайте мне спать.
— С богом, дедушка! Желаем тебе хорошего здоровья! — попрощался со стариком писарь.
— Здоровья у меня хоть отбавляй! — пробормотал тот. А вот табачку немножко не мешало бы…
Терешкеи кинул ему свой кисет, полный табаку, и, понурив голову, погруженный в раздумье, вышел из сарайчика.
«Старый Хробак прав. Здесь собака зарыта», — подумал он.
Совет горного пророка открыл перед ним горизонты. Кровь в его жилах забурлила, он снова ощутил жажду действовать, распутывать. Поэтому, подойдя к халупке, он бодро крикнул:
— По коням! Поехали в Бакуловку, девиц допрашивать!
Травка мудрости
Деревня казначея Бакулы почти ничем не отличалась от деревни Секулы. Только Бакула считал себя великим талантом и в течение временного правления хотел доказать всей своей деятельностью, что он рожден для должности старосты, и потому, узнав от Секулы о прибытии комитатских властей, он подбил бакуловцев подписать прошение о том, чтобы несчастному селу выделили пожарный насос с кишкой. Но все равно Секула оказался умнее: он-то наперед знал, что власти насоса не дадут.
Рассказ о ходе следствия, яркими красками описанного бакуловцам Секулой, быстро облетел село, вызвав всеобщий интерес. В особенности всем понравилась история с чулком: женщины улыбались, а старая Кошкариха даже не удержалась от возгласа: «Вот и выходит, что хорошая мягкая онуча лучше всякого чулка!»
Бедного Секулу буквально на части рвали жадные до новостей бакуловцы. Чем кончилось сличение почерков? Знают господа что-нибудь определенное или все еще полосатые чулки разыскивают?
Один лишь Бакула остался внешне безразличен: его злило, что все события развернулись в деревне Секулы. Но ничего, зато уж все остальное произойдет здесь, в Бакуловке! Знал он, какой почет полагается ему (а через него и его деревне), но знал он и честь. К моменту, когда господа показались на спуске горы, его уже ждала оседланная лошадь. Бакула тотчас же выехал навстречу начальству, а возвращаясь с ним вместе, восседал на коне гордый и очень важный.
В селе все было приготовлено для встречи. Канцелярский стол и скамья для порки, а также несколько бутылок вина опущенных для охлаждения в бочку с холодной водой. Знает Бакула деликатное обращение, знает и вкусы начальства Жалко только, что не осталось времени послать в Лохину за колодками для преступников.
Народ, выстроившись шпалерами по обе стороны дороги взирал на прибывших с таким любопытством, словно в деревушку въезжал какой-нибудь владетельный князь. Несколько человек даже «виват» крикнули. Глупое словечко! Никому не ведомо, что оно означает. Забрело во времена французской революции в Лохину да так и осталось.
Но и это зрелище — немалое развлечение для деревенского жителя. Вот едет барин верхом на лошади. Пожилой, а как прямо держится в седле! А только другой — молодой, белокурый — все же намного красивее первого. У него в имении, говорят, собственный дворец с тремястами окнами — лохинцы летом туда на жатву ходят.
Да, долго будут вспоминать в Лохине об этом событии. Еще бы! Настоящие господа — и где? У подножия Гребенки. Такого здешние зеленые поля вовек не видывали!
Но поглядите-ка, сзади-то кто едет! Не секретарь и не заседатель, а… Аполка Микулик!
Вот уж было веселья! Некоторые пробовали даже шуточки отпускать в ее адрес, в особенности женщины.
— Эй, Аполка, ты, что ж, тоже в комитатской управе должность получила?
— Подумать только, куда угодила девка-то!
— Наверняка, гусей пасет, — острил гораздый на насмешки Грегор Опица, — тех самых, что мы госпоже исправничихе в подарок носим всякий раз, когда нам в суд обращаться приходится.
Господа, наверное, не слыхали этих насмешек, Аполка же сделала вид, что не слышит.
— Я хочу допросить здесь двух девушек, — заявил Терешкеи Бакуле. — Некую Анну Стрельник и Магдалену Кицку. Где они сейчас?
— Обе вызваны, ваше благородие. Только Магда еще с поля не вернулась, травы пошла накосить корове. Я уже послал за ней. А другая — здесь. Анна Стрельник, выходи!
На зов к столу, огороженному столбиками и веревками, чтобы толкающиеся вокруг зеваки не мешали допросу, приблизилась бледная, худенькая девушка. Анна Стрельник не знала ничего, на все вопросы отрицательно качала головой или роняла еле слышно: «Нет, не знаю».
— Ты настоящая «незнайка», милочка, — с сердцем заметил следователь. — А вот ответь-ка мне на такой вопрос: ты не знаешь, были ли у отца благочинного какие-либо связи?
— Не знаю.
— Не заигрывал он иногда с вами, со своими служанками? Не замечала ты, чтобы он ласковее поглядывал на какую-нибудь из женщин?
— Я не могу этого сказать, ваша милость…
— А ты не бойся! Комитатская управа приказывает тебе. Отчего же не сказать, дочка?
— Оттого, — пролепетала Анна Стрельник, — что у него глаза всегда очками прикрыты, где уж тут увидеть, как он на кого смотрит.
— Глупая ты девка! Такие вещи можно и по другим признакам заметить: например, если бы он потрепал одну из вас по щеке, обнял за талию или еще что-нибудь в этом роде.
— Ну, такого я за нашим батюшкой ни разу не замечала. А вот целовать, он целовал — Магдаленку.
— Вот как? Ну и что ж, Магдаленка не была против?
— Она и сама сколько раз целовала батюшку. Терешкеи удовлетворенно потер руки.
— Достаточно, дочка. А теперь давайте мне сюда эту самую Магдаленку!
Гордо взглянув на Шотони, он бросил ему:
— Вот и снова маленькая ниточка в наших руках. Капитан-исправник одобрительно кивнул головой, но взор его по-прежнему был устремлен на Аполку, которая стояла, прислонившись к акации, бледная, дрожащая.
— Что с тобой, Аполка? Плохо чувствуешь себя?
— Нет, ничего. Под сердцем немножко закололо, но теперь уже проходит.
— Ну что, не пришла еще Магдалена Кицка? — нетерпеливо крикнул Терешкеи десятскому.
— Здесь я! — послышался издали смелый голос.
Через толпу пробиралась мускулистая, могучего телосложения девица. Зрители расступились, и девица подошла к самому следовательскому столу. В руке у нее был серп и за спиной корзина, прикрепленная четырьмя веревочками, завязанными на груди. Корзина была полна травы. Широкое, краснощекое свежее лицо Магдаленки, словно роза, алело на фоне зеленых трав: шалфея, щетинника, молочая и тысячи других выглядывавших из корзины и пышно обрамлявших голову девушки.
— Я здесь повторила Магдаленка и быстро обвела Толпу своими синими, ясными, как небо, глазами. Увидав неподалеку от себя Аполку, девушка с ненавистью отвернулась.
— Я здесь еще раз повторила она. — Уж не повесить ли вы меня собираетесь?
— Не болтай чепухи, милая! А отвечай-ка на мои вопросы.
— Вот оно что! — вскричала девица, по-военному опуская руки по швам. — На позор меня выставить задумали? Допрашивать на глазах у всей деревни! Ну нет, на мне не ищите полосатых чулок. Не я поджигательница! У меня и отец честным человеком был. Не боюсь я перед законом ответить. Ну и что из того, что была я священникова возлюбленная? Все равно я — девушка честная… — Голос ее с каждым словом становился все более резким и страстным. — Но если вы уж очень хотите, я могу подсказать вам, где пестрый чулок искать! — крикнула Магдаленка в неудержимом порыве. — Вон туда смотрите, на ноги Аполки Микулик! Шотони нервно вскочил.
— Как ты смеешь бросать такое обвинение?
— Потому что на ней они! Я-то вижу, — повторила девушка, устремив пронизывающий безумный взгляд на Аполку.
Словно окаменев, неподвижно стояла та у акации — губы плотно сжаты, глаза горят, будто у разъяренной орлицы.
— Через одежду видишь? — прикрикнул на Магдалену капитан-исправник.
— Да, вижу и через одежду!
Народ, крича и ругаясь, стал напирать на веревочную загородку.
— От травы у нее дар такой! — раздавались возгласы.
— Правосудия требуем! — вторили с другой стороны.
Шум нарастал со скоростью урагана. Ни Шотони, ни Терешкеи уже не имели власти над людьми. Голоса, один громче другого, взлетали над толпой.
— В корзине — трава мудрости!
Многие метнулись к Аполке, чтобы схватить, связать ее.
— На виселицу злодейку! — громовым голосом орал одноглазый здоровенный мужик в шляпе, украшенной ожерельем из улиток.
Аполка, словно раненая тигрица, на миг растерялась, даже ноги у нее подкосились. Но в следующее мгновение она пришла в себя и стремглав кинулась к Магдалене, дыша ненавистью. Теперь лицо ее было не бледное, а, наоборот, багрово-красное. Ухватившись стальной рукою за корзину с травой, она одним рывком сдернула ее со спины ненавистницы. Корзина перевернулась, ударившись о землю, а вся трава высыпалась.
Разъяренная толпа кинулась к траве; люди, спотыкаясь, толкаясь, вырывали друг у друга увядшие стебельки, среди которых должна была находиться и «трава ясновидцев». Только которая среди сотни других?
— Пропустите! — крикнула Аполка и, оттолкнув человек семь мужчин, загораживавших ей дорогу, пробралась к загородке, а там легко, как кошка, одним прыжком очутилась на следовательском столе.
— Наврала эта ведьма! — выкрикнула она, и голос ее прозвенел над толпой, словно стеклянный колокол. — Лохинцы, смотрите!
Сразу же установилась такая тишина, что слышен был шелест крыльев ворона, который как раз в этот момент пролетел над Аполкиной головой.
— Смотрите! — повторила девушка. Грудь ее быстро вздымалась, а рассыпавшиеся черные волосы достали до земли, когда Аполка наклонилась, чтобы поднять — до щиколоток или даже выше — подол своей ситцевой, в синий горох, юбки.
Сказала, а сама зажмурилась даже, чтобы не видеть, как другие смотрят. Зато другие-то, конечно, не зажмуривались.
— Не виновата девка! — закричали все вокруг, разочарованно бросая на землю пучки травы.
…На Аполке были белые чулки, белые, как снег.
* * *
Волнующий был это момент. Никогда не забудут его ни лохинские мужички, чьим взорам предстали очаровательные стройные ножки, ни господин Бакула, в деревне которого все это произошло.
Аполка восторжествовала, оправдалась. Зато клеветницу Магдаленку тотчас же постигла кара (все же есть бог, землячки!) — она потеряла сознание, упала и от пережитых треволнений тяжко заболела. Никто и не пожалел ее (поделом злодейке), кроме разве господина следователя, который сетовал, что ему так и не удалось допросить девицу.
— А она знает что-то! — ворчал Терешкеи. — Материалец добротный. Ну ничего, мы еще вернемся к ней.
Старосте он наказал впредь до дальнейших распоряжений не спускать с Магдаленки глаз. После этого господа тем же путем, что прибыли, отправились обратно, потому что уже завечерело. Солнечная тарелка прокатилась по багряному небосклону, да и спряталась тихонечко за Гребенкой.
Ветер зябко зашелестел листвой деревьев, лягушки открыли свою вечернюю конференцию на поросших ракитником болотах и то и дело плюхались в воду, спасаясь с тропинки из-под лошадиных копыт. Крылатые обитатели леса торопливо порхали вокруг всадников, а вверху, в гнездах, беспокойно пищали их отпрыски. Все говорило о том, что природа готовится на покой и уже надевает свое темное, ночное одеяние.
Терешкеи с писарем и старостой ехали впереди, Шотони с Аполкой — чуть поотстав. Девушка была бледна, под глазами у нее появились синие круги, но даже и они, казалось, красили ее миловидное личико. А большие глаза, словно два светлячка в ночи, горели каким-то хмельным блеском.
— Вот видишь, бедняжка, в какую беду ты угодила, — промолвил Шотони, но в ответ не получил ни слова. Девушка только плечами пожала.
— Тебе нужно уезжать отсюда. Нельзя тебе дольше здесь оставаться. Никто из здешних чести твоей не защитит.
— Почему это? Что плохого знают они про меня? — сквозь зубы процедила Аполка.
— Из-за отца твоего злы они…
— А что им известно про отца? — гордо бросила девушка.
— Я знаю все. Знаю, что он и фальшивыми паспортами торгует.
У Аполки нервно передернулось лицо.
— Это пустые сплетни, — возразила она хриплым голосом.
— Я сам слышал сегодня, как он рядился с евреем-арендатором. Так что — или ты поедешь со мной, или отец твой!
— Побей бог этого жида! — вырвался у Аполки душераздирающий возглас. — Выдал!
В глазах у нее потемнело, она пошатнулась, выпустила поводья, схватилась руками за голову и повалилась с коня.
— Ой! Что с тобой?! — испуганно крикнул Шотони спрыгивая на землю. (Лошадь его тотчас же убежала прочь, но исправнику было не до нее) — Аполка, — взывал он кошечка моя, приди в себя!
Но девушка лежала на росистой траве недвижимо, закрыв глаза, словно мертвая. Подле тропинки печально приютился высохший куст шиповника с торчавшими во все стороны колючими ветками. В него-то, падая, и угодила одной ногой Аполка. Хорошо еще хоть не лицом! Алая кровь, брызнув из расцарапанной ноги, обагрила траву, ветви карликового деревца. Кто бы мог подумать, что этот жалкий, засохший кустик даже после смерти своей еще раз расцветет алым цветом.
Шотони в отчаянье принялся звать своих спутников, но те были, видно, далеко впереди. Множество лягушек — кваканьем, мириады кузнечиков — стрекотанием, камыши — шелестом, шмели — жужжанием заглушали его голос.
Перепугавшись и растерявшись, исправник не знал что ему делать: то ли к ручью бежать, принести воды и привести девушку в чувство, то ли жилетку ей расстегнуть, чтоб легче дышалось.
Разумеется, его руки занялись жилеткой в первую очередь. О, какое это было блаженство! Кровь взволновалась, забурлила, а по всему телу Шотони будто шквал огненный пронесся!
— Аполка! Прелесть ты моя! Открой свои умные, карие глазки! Ведь ты жива!.. — взывал к девушке исправник, опустившись рядом с нею на колени. — Взгляни на меня еще хоть разок! Ведь грудь твоя дышит!
Тут исправник вновь вскочил на ноги и кинулся как безумный на поиски воды. И хотя совсем вблизи, внизу под вербами, струился серебристый ручей, Шотони в спешке, сам того не замечая, несколько раз перепрыгнул через него — а воды в свою шляпу набрал в каком-то болотце, где лохинцы обычно мочили коноплю.
Ничего, и такая сойдет! Шотони бежал с нею, боясь пролить хоть каплю, словно это было бесценное сокровище. Он обрызгал водой Аполкино лицо, провел мокрой рукой по ее чистому белому лбу, и тогда из груди девушки вырвался стон — слабый, чуть слышный… И все же он был признаком пробуждения. Кровь продолжала сочиться сквозь чулок. А вдруг девушка опасно поранила себя при падении?! На дне шляпы осталось еще немного воды, не успевшей просочиться сквозь фетр и вытечь. Что, если ею промыть рану? Озорной дух кивал, подмигивая молодому исправнику, а может быть, и сам амур водил его рукой, одновременно шаловливо подкалывая своей стрелой в спину. Нехорошо может получиться! Ну да все равно, надо посмотреть. Вот если бы он был врачом! Ах ты, бедная ноженька. Весь чулок пропитался кровью. Скорее прочь его…
И Шотони начал стаскивать чулок с Аполкиной ноги. При виде пленительной ножки Шотони овладело волнение. Даже крылья носа стали раздуваться, а кровь так и бурлила в жилах. Шотони потянул еще — и оцепенел, будто парализованный. Из груди его вырвался возглас ужаса: под белым чулком на ноге Аполки был надет еще один — полосатый, желто-синий.
В этот самый момент девушка пришла в себя. Открыв глаза, она спросила:
— Где я?
Шотони сидел подле Аполки на траве и не отвечал; отвернувшись, он устремил свой взор на темнеющее небо, словно желая спросить у зажигающихся звезд: возможно ли, чтобы эта девушка, похожая на ангела, была бессердечной преступницей! Боже милостивый, зачем же ты заставляешь бедных глупых людей доверяться обманчивой красоте лица?
Но звезды ничего не сказали в ответ.
Аполка же огляделась и сразу поняла все. Собравшись с силами, она пододвинулась ближе к Шотони.
— Видели? — печально спросила она исправника.
— Видел, — мрачным голосом отвечал тот. Наступило глубокое, никем не нарушаемое молчание.
— Правда? — выдавил наконец из себя единственное слово Шотони.
— Правда, — также одним словом ответила девушка, и только немного погодя добавила: — Арестуйте меня. Плаха мне за это полагается.
Шотони посмотрел на Аполку пристальным, мечтательно-задумчивым взглядом, полным печали, а затем подошел к ее лошадке. (Аполкина лошадь оставалась стоять, исправникова же убежала прочь без всадника.)
— Иди садись, Аполка, — ласково, с ноткой печали в голосе позвал Шотони. — Уместимся мы и вдвоем на одном коне.
Тут он поднял девушку, усадил на лошадь перед собою, и они поехали через темный лес вдвоем: преступница и капитан-исправник.
— Скажи мне, зачем ты так сделала?
— Я очень любила священника и хотела отомстить ему, — прошептала в ответ Аполка голосом, полным обиды и страсти. — Обольстил он меня, поклялся, что женится на мне. А потом обманул!
И снова они долго ехали молча. Шотони чувствовал на своей щеке горячее взволнованное дыхание, подавленные вздохи девушки, и это будоражило его.
Неподалеку от барской лесопилки у исправника возник новый вопрос:
— Скажи, Аполка, откуда та девица узнала, что на тебе полосатый чулок? Мне это кажется удивительным, уму непостижимым. Правда ли, что у нее в корзинке была «трава познания»?
В ответе Аполки прозвучала непередаваемая словами ненависть:
— Ну да, конечно, «трава познания»! Ха-ха-ха! Познала его и она тоже, вкусила этой травки! Ведь и Магдаленка любила попа! Он ее из-за меня бросил. А Магдаленка ревновала его и преследовала меня. Она и по сей день думает, что поп ко мне тайком ходит. Видно, она и нынче утром у моего окна подглядывала, когда следователь меня домой за спицами посылал. Я-то сразу смекнула, в чем дело. Успела белые чулки поверх полосатых надеть, хотя этот ваш глазастый гайдук все время за мной по пятам ходил.
Больше исправник не допытывался ни о чем, только спросил;
— Куда же мне тебя отвезти теперь?
— Куда хотите, — понурив голову, отвечала девушка.
— Так знаешь куда, Аполка? — с разгорающейся страстью прошептал Шотони. — Отвезу я тебя в свой замок. Там ты будешь счастлива, спать будешь на шелковых подушках, умываться розовой водой. Согласна?
— Да, согласна… На шелковых подушках, говорите, спать буду?
— Почему ты спрашиваешь это таким безразличным голосом, Аполка?
— О, что вы?! — возразила девушка, повернув голову к Шотони. — Разве вы не видите, что я уже улыбаюсь?
— Заживем мы с тобой вдвоем. Я буду часто приезжать к тебе. А о твоем дурном поступке не узнает ни одна живая душа. Вот увидишь, как хорошо будет. Поцелуй меня, Аполка!
Но девушка, защищаясь, закрыла лицо руками.
— Позже! Дома. — И снова по лицу ее пробежала прежняя хмельная улыбка, которую и в темноте смог разглядеть Шотони. Даже лес теперь, казалось, смеялся вместе с нею.
Они подъехали к зеленовскому ущелью.
— Поезжай осторожнее, — предупредила Аполка шепотом влюбленной и плотнее прижалась к Шотони. — Опасное здесь место.
Исправник обеими руками покороче подобрал поводья и внимательно ощупывал взглядом узкую тропинку, тянувшуюся по краю бездонной пропасти.
И вдруг Аполка с проворством ящерицы выскользнула у него из-под руки, выпрямилась и бросилась вниз в пропасть. Будто вампир в бездну ада, падала она в могилу теснины. И бездна с готовностью приняла тело, словно давно ожидала его.
* * *
Конь исправника возвратился домой без седока. Ну и переполох поднялся тут, боже мой! Что могло приключиться с господином Шотони?! Но вскоре прибыла и другая лошадь, а на ней печальный всадник. Дело запуталось пуще прежнего. Ведь исправник приехал не на своем, а на Аполкином коне! Как же так? И что сталось с Аполкой?
Все-все рассказал Шотони: и как девушка упала с коня, потеряв сознание, и как под белым чулком обнаружил он полосатый. Словом — все! Несколько раз даже прослезился при этом.
— Прав оказался старый Хробак! — воскликнул потрясенный Терешкеи.
— Больше никогда не взгляну я ни на одну женщину, — уронил голову в ладони исправник. — Посвящу себя служению на благо общества.
Слух о происшедшем быстро распространился на обе половины Лохины, и на другой день жители начали переселяться обратно в село: теперь больше не загорится!
…Но хотя свыше двадцати лет минуло с той поры, девушки и молодицы по сей день ищут на лохинских лугах ту самую чудесную травку, что якобы лежала в корзине Магдаленки: ведь нашедший ее будет все видеть и все знать!
Ну, когда девушки ищут эту травку — понятно! А вот зачем понадобилась она молодицам?
1886
ГОВОРЯЩИЙ КАФТАН
Перевод Г. Лейбутина и О. Громова
ГЛАВА ПЕРВАЯ Вредное обыкновение. Большой спрос на попов
Некоторые венгерские города иногда по недомыслию своему жалуются: «Мы-де много выстрадали, у нас турки правили сто (или, скажем, двести) лет».
А на самом деле куда хуже была участь тех городов, в которых не было ни турок, ни куруцев, ни австрийцев и которые жили сами по себе, как, например, Кечкемет. Ведь там, где стояли войска какой-нибудь из воюющих сторон, одни они и дань собирали, и хозяйничали в городе. Враждебное им войско не смело туда и носа сунуть. В город же, где не было ничьих солдат, ехали за добычей все, кому не лень.
Вздумается, например, будайскому паше * пополнить запасы продовольствия или денег, и отдает он приказ:
— Ну-ка, Дервиш-бек, напиши послание кечкеметскому бургомистру!
И вскоре летело в Кечкемет письмо, кудреватый стиль которого не обходился без выражений вроде: «…не то поплатитесь своим голова».
Мало чем отличались и приемы cольнокского бека Мусты, грабившего Цеглед Надькёрёш и Кечкемет вкупе с окрестными деревнями. Не проходило недели, чтобы он не налагал на эти города дань, посылая им приказ с припиской: «Сию грамоту повелителя вашего доставить не иначе, как конным нарочный, во все без исключения города в села».
Имел виды на богатые города и его милость господин Кохари — доблестный предводитель императорских войск, — который слал свои распоряжения из Сечени. Даже его благородие Янош Дарваш, исправник из Гача, когда у куруцев появлялась в чем-нибудь нужда, не стеснялся поставить об этом в известность почтенных горожан. А уж они всегда в чем-нибудь да нуждались!
Кроме перечисленных собирателей дани, существовали еще в рыскавшие повсюду отряды крымских татар, и многочисленные бродячие шайки, действовавшие на свой страх и риск. Вот и попробуй тут со всеми ужиться в мире да в дружбе!
Между тем Кечкемет издавна славился своими ярмарками: все, что только было красивого или вкусного, свозили сюда турецкие, немецкие и венгерские купцы с половины Венгрии. И всякий раз торг этот заканчивался печально: в самый разгар ярмарки, поднимая столбы пыли на песчаной дороге, появлялись — откуда ни возьмись — то куруцы, то турки, то австрийское войско и, нагрузившись самыми дорогими товарами, исчезали. Только их и видели.
А отдувался за все славный город Кечкемет, потому что если купцов ограбили турки, то счет городу предъявляли австрийцы: «Возместите пострадавшим купцам убытки, иначе камня на камне от города не оставим». Если же грабили сами австрийцы, то и тут бедным кечкеметцам приходилось худо, поскольку теперь возмещения убытков требовали уже турки и куруцы. И меньше чем тысячей золотых отделаться не удавалось.
Тщетно вздыхал бургомистр Янош Сюч, в отчаянье тыча тростью в землю:
— Откуда же нам взять? Ведь тут под нами не золотые россыпи, господа рыцари! Один песок до самого пекла.
В конце концов лопнуло у кечкеметцев терпение, и отцы города, посоветовавшись между собой, отправились к наместнику императора. Как сообщает в свих записках почтенный Пал Фекете, австрийский наместник очень расстроился, узнав, что посланцы Кечкемета явились к нему на прием.
— Не просите лишнего, все равно не дам, — сказал он.
— Не хотим мы ничего, твоя милость. Нам даже того много, что у нас есть.
— Valde bene, valde bene![76] — воскликнул с улыбкой наместник.
— Просим тебя, твоя милость, забери ты у нас наши ярмарки!
Наместник подумал и, хмыкнув, заявил:
— Только плохой правитель, друзья мои, отнимает у людей то, от чего ему самому нет никакой пользы.
Однако вскоре пришло все-таки распоряжение императора Леопольда I о том, что кечкеметские ярмарки отменяются. Куруцы и турки, узнав об этом, рассвирепели:
— Эти паршивые мещанишки хотят лишить нас приработка!
Однако и они были горазды на выдумку: на страстное воскресенье, перед пасхой, в Кечкемет ворвался знаменитый предводитель куруцев Иштван Чуда с отрядом и — прямиком в монастырь францисканцев.
— Ничего не трогать, ребята! — приказал он своим удальцам. — Поймайте мне только игумена. Увезем его с собой, пусть потом выкупают.
Игумена, тучного отца Бруно, схватили и усадили верхом на мула, верного труженика монастырского сада, возившего бочку с водой. А чтобы брыкавшийся и изрыгавший проклятия святой отец не покинул спину Бури (так звали мула), его прикрутили к мулу веревками и ремнями.
Расчет оказался правильным. Христиан города Кечкемета охватила паника. Вдова Фабиан, горбунья Юлиана Галгоци и сухопарая Клара Булки, возглавляемые отцом Литкеи, тотчас же принялись собирать деньги на выкуп монаха, обходя с медными кружками дом за домом.
— Выкупим бедного отца Бруно, — призывали они верующих. — Ведь он подготовил такую замечательную проповедь к святому воскресенью! Не допустим, чтобы и она сгинула с ним вместе.
Захватив с собою сто золотых, избранная кечкеметскими богомолками делегация в составе члена городского сената Габора Поросноки, куратора Яноша Бабоша и колесника Гергея Домы отправилась в лагерь куруцев. После многочисленных приключений и злоключений посланцы отыскали наконец Иштвана Чуду. Тот встретил их неприветливо.
— А, кечкеметцы! — рявкнул он. — Чего вам?
— За ним пришли! — отвечал набожный Бабош, воздев к небу маленькие серые глазки.
— За кем это «за ним»? За ослом, или за игуменом? — издевался хитроумный насмешник Чуда.
— За обоими, если сумеем договориться, — пояснил Поросноки.
— С монаха нам проку мало, а вот мул очень пригодился: он теперь наш боевой барабан возит.
Кечкеметцам пришелся по душе ответ куруцкого вожака: если игумен им ни к чему, значит, похитители по дешевке выдадут его обратно. И послы одобрительно закивали.
— Так сколько же вы хотите за его преподобие?
— Три золотых.
Трое посланцев переглянулись и заулыбались, словно говоря друг другу: «Дешево, ей-богу, дешево!»
Поросноки быстро откинул полу своего синего плаща со складчатым воротником и вытащил из кармана три золотых:
— Вот возьмите, господин начальник.
Но вожак куруцев вежливо отвел в сторону руку сенатора.
— Игумена привез сюда мул, — пояснил он. — Справедливость требует, чтобы теперь уже игумен мула с собой захватил. Без мула нет торга.
— Бог с ним, — отвечал сенатор весело. — Каков же будет выкуп за мула?
— Цена без запроса, — твердо сказал Чуда. — Сто девяносто семь золотых!
У кечкеметцев волосы дыбом встали, а маленький Бабош подозрительно уставился на куруца: не шутит ли? Но загорелое продолговатое (чтоб его оспой побило!) лицо Чуды, до этого веселое, стало вдруг необычайно серьезным.
И все же кечкеметцы решились возражать:
— И как вам, господин начальник, не совестно требовать с нас такую уйму денег за какого-то несчастного мула! Да за этакую сумму, по крайней мере, четырех кровных арабских скакунов купить можно!
— Уступите, сударь, святого отца отдельно.
— А за мулом мы в другой раз приедем, — пообещал Бабош. Дальнейшие дипломатические переговоры вел Гергей Дома, заявивший, что святые отцы все равно больше не смогут использовать мула в монастыре, поскольку он уже скомпрометировал себя военной службой в протестантском войске.
Но умнее всех оказался господин Поросноки, сразу же сообразивший, что куруцы хотят получить за игумена двести золотых, а историю с мулом придумали просто для потехи. Вытащив из кармана традиционный чулок, сенатор тряхнул спрятанными в нем золотыми монетами:
— Сто штук, как одна. Ни больше и ни меньше. Или деньги отвезем назад, или — игумена. Все от вас, сударь, зависит.
— Не могу, — упрямо покачал головой вожак куруцев.
— Вспомните, ваша милость, — вмешался Бабош, — что Иисуса Христа в свое время за тридцать сребреников продали. Отчего же за отца Бруно недостаточно ста золотых?
— Ишь начетчики какие! — прикрикнул на парламентеров куруцкий вожак. — Верно, Иисуса Христа продали за тридцать сребреников! А вот сколько христианство заплатило бы сейчас за то, чтобы спасти его от смерти, — это вы знаете?
Наконец после долгих препирательств, стороны сошлись на ста золотых. Чуда внимательно осмотрел каждую монету, не опилена ли чеканка, проверил на звон, нет ли «трансильванского акцента» (в то время в Трансильвании делали фальшивые деньги). А когда все было улажено, кечкеметцам был вручен заметно отощавший отец Бруно, которого они и повезли с большим триумфом домой.
Однако не долгой была их радость. Едва депутация миновала Надькёрёш — горбатые домики его еще виднелись в лазоревых вечерних сумерках, а с правой стороны уже показалась стройная кечкеметская колокольня, — как впереди на дороге заклубилось облако пыли. Облако двигалось им навстречу.
— Что бы это могло быть? — гадали члены делегации.
— Наверное, приветственную депутацию навстречу нам выслали.
— Речь будут держать, reverendissime[77]. Неплохо бы и ваше ответное слово подготовить.
У отца Бруно даже слезы на глаза навернулись.
— Бедная моя паства! О, как она любит меня! Страх как любит! Но кто же все-таки с речью будет выступать?
— Патер Литкеи, вероятно. Наш лучший оратор! Ну конечно! Я уже вижу его. Не иначе как он и идет впереди! Собакой мне быть, если не он это.
Незачем было Гергею Доме оборачиваться собакой, поскольку навстречу им действительно шел отец Литкеи — его можно было узнать еще издали по широкополой шляпе и гигантскому росту. Только сопровождала его не приветственная депутация, а отряд турецких солдат, предводительствуемых висельником Али Мирза-агой.
— Добрый вечер, добрый вечер! — крикнул турок, проезжая мимо наших кечкеметцев. — Везете домой, добрые люди, своего попика? А мы — нашего!
Ага захохотал, отец Литкеи воззвал громогласно: «Иисусе Христосе!» — а отец Бруно помахал ему на прощание платочком:
— Выкупим и тебя, сын мой!
Вернувшись, отец Бруно действительно тотчас же приступил к сбору денег, необходимых для выкупа отца Литкеи. Вдова Фабиан, горбунья Галгоци и сухопарая Клара Булки вновь стали взывать к сердобольным мирянам:
— Не допустим, чтобы наш бедный монах погиб в руках у проклятых нехристей! Что подумает о нас христианство?
А там, где и такой довод не открывал кошельков, вдовушка Фабиан добавляла:
— И что станут говорить о нас в Надькёрёше?! Разумеется, перед такой угрозой патриот Кечкемета не мог устоять и тут же раскошеливался на несколько филлеров. Словом, отец Литкеи вскоре тоже вернулся домой.
Все было бы ничего, если бы на том дело и кончилось. Но торговля попами настолько вошла в моду, что стоило какому-нибудь военачальнику ощутить недостаток в деньгах, как он тотчас же отдавал распоряжение:
— Мне нужен один кечкеметский поп! (На денежном рынке это означало вполне определенную сумму.)
Некоторое время добрые горожане покорно выкупали святых отцов. Наконец бургомистр Янош Сюч положил конец столь бесстыдной эксплуатации Кечкемета, безбожно заявив;
— Коли бог не выручает своих слуг, чего ради мы должны делать это за него? В конце концов они ему служат.
После того как несколько монахов остались на шее у похитителей, цена их упала до нуля, и завоеватели стали изыскивать другие ценности. Их-то не проведешь!
На Петра и Павла сольнокские турки ворвались в город и увели с собой возвращавшихся из церкви женщин: молодую супругу бургомистра, а с нею заодно и жену Гергея Домы.
Город заволновался. Дело нешуточное, земляки! С попами куда ни шло, с ними ничего не случится, пока они сидят в неволе, ожидаючи выкупа. А женщины — совсем другое дело. Тут неладно получается.
Янош Сюч был столь огорчен происшедшим, что тотчас же отказался от должности бургомистра, продал один из своих каменных домов, и они вместе с Гергеем Домой отправились за женами. Сюч заплатил за свою дражайшую половину двести золотых, а Гергей Дома предложил за супругу только двадцать пять, если ее выпустят, или сто — если турки навечно оставят ее у себя, с тем чтобы он мог жениться на другой. Зюльфикар-ага задумался на миг, а затем разочарованно сказал: — Вези-ка ты лучше свою бабу домой, дружище! Смятение объяло кечкеметцев, когда вскоре и куруцы совершили налет на город и похитили Вицу, дочь сказочно богатого Тамаша Вега, когда та гуляла на свадьбе у своей подруги. Прямо во время лётёгтете: танец был в самом разгаре, кавалер Вицы, Михай Надь-младший, лихо вертел девушку, сжимая ее в своих объятиях, а та, грациозно покачивая станом, дробно отстукивала каблучками, — как вдруг дверь распахнулась, и в дом ворвались гусары господина Чуды.
Что ж теперь будет, господи! Прямо с супружеского ложа скоро начнут похищать наших благоверных?! А тут еще в крымский хан грозится: дескать, и он точит зуб на десять самых красивых кечкеметочек. Да и будайские турки тоже каждую минуту могли заявиться.
И хоть в те времена еще не сложили песню: «Паренек уж тем приметен, что жену взял в Кечкемете», однако кечкеметские девушки хороши были уже и тогда. Этого не отрицали даже надькёрёшские парни.
Нечего удивляться, что после этого случая весь город пришел в смятение. Кечкемет сделался похожим на те известные нам из сказок одетые в траур города, из которых семиглавый змей одну за другой похищает юных девушек. Чей-то теперь черед?
Такая неопределенность — будто незримая петля на шее! Покажется, бывало, облако пыли на дороге или ночью зашумят чахлые деревца в ближней рощице Талфайя, а перепуганным горожанам уже чудится топот мчащихся конных отрядов: «Ой, снова едут грабители!»
По вечерам женщины набожно взывали к покровителю города, святому угоднику Миклошу, складывая в мольбе свои маленькие ладони. Может быть, хоть святой поможет им чем-нибудь (например, своим кривым посохом, воткнутым в козлиную голову, с которым он изображен на кечкеметском городском гербе).
(Подозреваю, — sub clausula, — что молитвы кечкеметянок содержали и такую просьбу: «А коли на то воля божья, то пусть уж меня лучше похитят гусары Чуды, чем татары с песьими головами или поганые будайские турки!»)
ГЛАВА ВТОРАЯ Новый бургомистр. Новые обстоятельства
Отчаяние охватило город. Дела Кечкемета шли с каждым днем все хуже и хуже. Суды бездействовали с той поры, как отменили ярмарки, поскольку негде стало ловить судей: в Кечкемете были в обычае так называемые «ловленные суды», составленные в принудительном порядке из приехавших на ярмарку иноземцев *. А после того как Янош Сюч сложил жезл бургомистра, в городе не нашлось ни одного человека, согласного взять этот жезл в свои руки. Дураков-то нет получать на дню по четыре-пять невыполнимых приказов с ласковыми приписками вроде: «…иначе посажу тебя на кол». (А в этом сумасшедшем мире не удивительно, если автор послания однажды именно так и поступит!)
Народ начал вслух высказывать свое недовольство:
— Или уходить нам всем отсюда, или помирать… Только дальше так жить нельзя!
— Надо что-то предпринять.
— Но что? Самим же нам не прогнать турок, коли даже императору это не под силу!
Однажды, когда озабоченные сенаторы совещались в ратуше, услышали они — кто-то кричит им с улицы в окно:
— А я вам говорю, господа, не прогонять турок надо, а, наоборот, призвать их в Кечкемет!
Сенаторы повернулись на голос:
— Кто посмел так говорить? Кто этот безумец?
— Сын портного Лештяка!
— Да как он смеет вмешиваться в наши разговоры? — возмутился сенатор Мартон Залади и, подозвав гайдука, тут же приказал: — Прикрой-ка, милый, окно!
Зато Габор Поросноки вскочил со своего стула, словно подброшенный неведомой силой, и закричал:
— Неправильно делаешь, что парня прогоняешь! Надо выслушать его.
Серьезные отцы города покачали головами, но не решились возражать самому почтенному из сенаторов. Только Криштоф Агоштон проворчал:
— Отец — дурак, и сын в него. Школяра на консилиум приглашаем. Уж он-то даст вам консилиум, — сам недавно получил!
— Что такое? — поинтересовался любопытный Ференц Криштон.
— Consilium abeundi[78], ха-ха-ха! Выгнали его из Надьварадской семинарии. Пусть, пусть он вам совет даст! И так у нас с вами, господа, не бог весть какой авторитет, а после этого и вовсе не будет!
И сенатор начал рассказывать: родитель юноши-то и вправду придурковат, колесика в голове не хватает! На днях, например, святой отец Бруно послал к нему свое платье, чтобы тот удалил с него жирные пятна. Так вы подумайте только, портной пятна-то удалил, да только вместе с сукном. Вырезал их ножницами! Бедного отца Бруно чуть удар не хватил…
Тем временем гайдук Дюри Пинте с готовностью сбегал за Лештяком-младшим и привел его в зал.
Юноша был хорош собой, строен, а жесткие волосы делали его голову похожей на щетку.
— Сынок, — приветливо обратился Поросноки к молодому человеку, — ты сейчас крикнул нам, я слышал, что-то через окно. А ну, не смущайся, разъясни нам свою мысль поподробнее.
Но Мишка Лештяк ничуть не смутился, а ясно, толково принялся рассказывать:
— Я так думаю, почтенные господа, что по нынешним временам мертвые фирманы — письменные гарантии — не очень-то помогут нашему родному городу. В сто раз больше пользы было бы от живого бека или хотя бы чауса *, который, находясь в нашем городе, уберег бы нас от множества мелких неприятностей. Мы — свободный город, господа! Но свобода наша скована из цепей. Поищем-ка лучше себе тирана, чтобы как-то жить дальше!
Сенаторы удивленно переглянулись, увлеченные мыслью юноши. Давненько не слыхивали они такой прекрасной, страстной речи; давно не звучал столь приятный, звонкий голос в этом зале. С самого утра сидят они здесь, не зная, что делать, и вдруг — будто светоч во мгле.
— Виват! — воскликнул Мате Пуста. — Наконец-то умное слово!
— Дельно говорит! — согласился седовласый Дёрдь Пато, поиграв серебряной цепочкой, украшавшей его ментик. — Берет быка за рога!
Габор Поросноки встал со стула и, подойдя к Мишке Лештяку, потрепал его по плечу.
— С этого момента ты наравне с нами имеешь право голоса в сенате, — провозгласил он торжественно. — Присаживайся к нам, господин Лештяк.
У зеленого стола как раз пустовало одно место, — то, что прежде занимал Янош Сюч.
Восторг охватил господ сенаторов: ведь венгры любят неожиданные повороты, вроде только что мною описанного.
Вскочив со своих мест, отцы города бросились пожимать руку пареньку. Даже Криштоф Агоштон примирительно пробормотал, обращаясь к Ференцу Криштону:
— Жаль только, что отец у него — портной. Козья борода!
— Ах, оставьте, сударь! — едко заметил Криштон. — Ведь у нас и на городском гербе козел блеет… *
— Хорошо, но отец-то его словаком-лапотником приплелся в наш город.
— По сыну этого не скажешь!
Совсем недавно в одном медицинском журнале можно было прочесть сообщение о том, что, если человеку белой расы пересадить лоскуток кожи негра, то этот кусочек постепенно побелеет, и, наоборот, белая кожа, трансплантированная негру, со временем станет черной. Подобный процесс происходит испокон веков в крупных венгерских городах: иноземцы быстро и настолько глубоко пускают корни в венгерское общество, что даже окраску его принимают. У старого Лештяка были еще соломенного цвета волосы и круглое лицо, напоминавшее горскую брынзу. Сын же его Мишка с овальным лицом — жестким и с хитринкой, — карими глазами и жиденькими усиками выглядел настоящим куном; * явись он сейчас не в простой рубахе, а в одежде поприличней, вполне сошел бы за внука какого-нибудь из тех легендарных сенаторов Кечкемета, чьи портреты украшали зал заседаний ратуши.
Совещание пошло теперь оживленнее. Все сенаторы в один голос порешили: внешняя политика Кечкемета в ближайшее время должна быть направлена на достижение одной цели: любой ценой заполучить в город турецкую администрацию.
После этого председательствующий Поросноки перешел к следующему вопросу:
— Нам предстоит выбрать бургомистра. В счастливые времена это была высшая честь, награда за гражданскую доблесть. Весь город участвовал в выборах. А ныне, после того как подряд вот уже несколько глав города приняли мученическую смерть — одного посадил на кол будайский санджак-паша, другой в тяжелой неволе, в константинопольской Едикуле *, сгинул, третьего закололи пиками куруцы, у четвертого жену похитили, — повторяю, ныне занятие этой должности стало равнозначно героическому самопожертвованию, и мы не вправе путем выборов толкать кого-нибудь из наших сограждан в эту смертельную пучину. Ведь за кого стали бы отдавать свой голос некоторые из нас? За тех, кого они больше всех уважают? А что как не всеми уважаемых, а, наоборот, всем ненавистных людей станут выдвигать на эту должность? Я допускаю и такую возможность. (Шум одобрения.)
— Верно! Так оно и есть!
— В создавшейся обстановке, поскольку бургомистр должен избираться из числа сенаторов — ибо таков наш modus Vivendi, — я предлагаю, чтобы кто-нибудь из вас, господа, сам, добровольно, вызвался занять этот пост…
Поросноки обвел беспокойным взглядом сенаторов. В зале заседаний воцарилась гробовая тишина. Сенаторы замерли и не шевелились.
— Никто не хочет? — переспросил он, помрачнев. — Тогда нам не остается ничего другого, как прибегнуть к последней мере. Ее предписывают нам наши обычаи на случай, когда одному из сенаторов предстоит взять на себя опасное поручение. Эй, Пинте, принеси-ка свинцовый ларец.
Гайдук внес из смежной комнаты небольшой свинцовый сундучок, каждую из четырех сторон которого украшал череп в скрещенные кости.
— Здесь двенадцать костей, — глухим голосом сказал Поросноки и высыпал костяные кубики на середину стола, по зеленому сукну которого озорно резвился пробравшийся через окно луч осеннего солнца. — Одна из них черная, остальные — белые! Кто вытащит черную — тому и быть бургомистром!
С этими словами Поросноки бросил кости обратно в ящик.
— Да, но здесь присутствуют только одиннадцать сенаторов! — дрожащим голосом возразил Криштон. — Один кубик лишний.
— Лишний, если господин Лештяк не будет тянуть…
— Коли дали ему право решающего голоса, пусть и он вместе со всеми тянет жребий, — заметил Залади. — Одеяние прав шьется на подкладке обязанностей.
— Пусть тянет! — в один голос порешили сенаторы.
А у Лештяка глаза засверкали, лицо раскраснелось.
«Вот бы мне черный достался!» — думал он про себя.
Тем временем весть о назначении Мишки Лештяка сенатором через гайдуков просочилась наружу, к толпе народа, глазевшего перед зданием ратуши. Известно было все: как с самого утра заседали сенаторы и ничего не могли придумать своими отупевшими головами, как бросил искру мудрости пробравшийся к окну ратуши Мишка и как Габор Поросноки пригласил его после этого в зал и усадил к зеленому столу рядом со старейшинами. Слыхивал ли кто прежде о чем-нибудь подобном? Умница Поросноки: и в ночной тьме словно ясным днем видит.
Народ, оживленно переговариваясь, толпился перед ратушей. Иногда из общего гула выделялся чей-нибудь возглас:
— Ура Лештяку! Давай его сюда! Желаем послушать его! А вдова Фабиан, размахивая руками, объясняла тем, кто стоял поблизости:
— Откровение божие снизошло на него! Господь во сне шепнул ему, что и как сказать надобно, чтобы бедный город наш от злых нехристей спасти. Почему, спрашиваете вы, госпожа Леташи, бог именно его выбрал для сего откровения? А потому, что создатель наш всегда ремесленному люду предпочтение оказывает. Ведь и сам наш господь Иисус Христос был плотницким сыном! А Мишка — сын портного. Да вон и отец его сюда бежит! Смотрите-ка!
Из соседнего домика стремительно вылетел Матяш Лештяк: в одной руке у него был аршин, а в другой — лазоревого цвета ментик, на котором еще виднелись белые нитки наметки.
— Где этот пащенок? Убить его мало! Здесь он должен быть, сюда пошел!..
— В сенате он.
— Кто? Мишка? Как это он туда забрался? «Знать, от меня спрятался! Ну, ничего. Я подожду, пока он выйдет! Уж я покажу нечестивцу! В порошок сотру негодяя! Час назад дал я ему утюг разогреть, потому что должен нынче же отнести вот этот ментик халашскому бургомистру — он с депутацией к пештскому губернатору в Ноград отправляется[79]. Я сейчас зову: «Мишка, давай утюг!» И что же? Ни тебе Мишки, ни утюга… Ну, как тут не выйти из себя?!
За Мишку вступился скорняк Балинт Катона:
— Нельзя же такого взрослого парня все еще на побегушках держать. Не вечно ему утюги разогревать!
— Вы, сударь, на своем дворе распоряжайтесь, — резко бросил портной. — Что мне прикажете с ним делать, коли он ни на что другое не способен? Достукается — еще повесят его! Все политикой увлекается! Вот я покажу ему политику! До синяков излупцую негодяя!
— Не посмеете! — покачал головой Балинт Катона, вспомнив, как отличился сегодня юноша.
— А вот провалиться мне на этом месте, если не отколочу я его!
Балинт Катона собирался было уже объяснить своему собрату по ремеслу, каким образом угодил Мишка в сенат, как в этот самый миг окно ратуши со стуком распахнулось, и в нем показался Габор Поросноки.
— Почтенные граждане Кечкемета! — громовым голосом крикнул он, обращаясь к толпе. Установилась глубокая тишина. — От имени городского сената сообщаю вам, что с сегодняшнего дня сроком на один год согласно законам и обычаям Кечкемета бургомистром нашего города стал его благородие, достойный и доблестный господин Михай Лештяк.
Над толпой пронесся всеобщий возглас изумления. Кое-кто уже и захохотал:
— Ха-ха-ха, Михай Лештяк — бургомистр!
Но, столкнувшись в воздухе с громовым «ура», выкрикнутым больше по привычке, чем сознательно, насмешливые голоса или заглохли, или тут же переметнулись на сторону кричавших «ура», и вскоре уже много сотен голосов дружно слились в могучем одобрительном реве, заглушившем все остальное.
А прозвучи первый крик «ура» слабее, а «ха-ха-ха» сильнее, и тогда не смех, а «ура» заглохло бы, и вместо него вся толпа гулко бы ржала: «Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!..» Потому что чем больше людская масса, тем легче, будто пушинка, подхваченная дуновением ветерка, взвивается вверх или колеблется и туда и сюда ее настроение.
На громоподобный рев толпы к ратуше со всех улиц повалил народ. Отовсюду спешили любопытные. Некоторые уже успели вооружиться баграми, ведрами и кричали:
— Где горит? Что? Что случилось?
Но вот двери ратуши распахнулись, на площадь парами вышли сенаторы. Среди них был и Михай Лештяк.
— Идет, идет! — закричали вокруг. Началась страшная давка. Все хотели протиснуться вперед, к новому бургомистру.
Лештяк выступал горделиво, величественно. От былого Мишки не осталось и следа. Лицо рдело молодым румянцем, а веселый взор его скользил по толпе. Словом, вел он себя, как и подобало баловню судьбы. Слева и справа от него, подобно ликторам римских консулов, вышагивали два гайдука с поднятыми вверх палками: то был символ высшей власти в Кечкемете!
Впрочем, без них и впрямь было бы опасно. Ведь двадцатидвухлетний юноша в потрепанной жилетке поверх рубашки являл собою несколько необычное зрелище на фоне почтенных господ сенаторов, разодетых в доломаны с серебряными пуговицами. А может быть, как раз это обстоятельство и пришлось по душе народу, встретившему появление молодого человека криками одобрения?
Старый же Лештяк то бледнел, то густо краснел.
— Боже мой, уж не снится ли мне все это? — протирая свои маленькие серые глазки (или, может быть, украдкой смахивая с них слезы?), повторял он. — Держи меня сосед, не то упаду…
И он в самом деле чуть было не повалился наземь. Хорошо еще, что Балинт Катона вовремя подхватил его, заметив при этом:
— Вот теперь и попробуй высечь его, нашего бургомистра, коли ты такой смелый!
Старик ничего не ответил на замечание, а только выпустил из ослабевших рук аршин и зажмурился. Но, и не глядя, старый портной чувствовал, что к нему приближается сам бургомистр. С проворством кошки подскочил он к сыну и накинул ему на плечи новенький, неотутюженный еще ментик, на котором виднелись и белые нитки, и проведенные портновским мелком линии.
А толпа и тут разразилась одобрительными возгласами, только Балинт Катона шутливо выкрикнул:
— Эй, дядя Матяш! В чем же теперь халашский бургомистр в Фелюк поедет?
На это старый портной гордо ответил:
— Пусть его милость в сюре своем едет. Невеликая он персона, чтобы я для него еще ментики шил.
С этими словами старик, расталкивая всех локтями, пробился сквозь толпу и поспешил прямиком домой, в маленький свой сад, где у него росло огромное грушевое дерево, густо усыпанное желто-красными спелыми плодами. Могучие ветки дерева-великана свешивались на улицу. С проворством белки вскарабкался старик на грушу и, как ополоумевший, начал трясти ее верхние ветки. Сочные, ароматные груши, которые старый портной в иную пору пуще зеницы ока берег от непрошеных гостей, градом посыпались вниз, в толпу, а ребятишки и бабы кинулись собирать их, будто монеты, что королевский казначей в день коронации горстями мечет в народ. Даже кое-кто из взрослых мужчин не постеснялся наклониться да поднять катившиеся по земле плоды.
— Ешьте, пируйте! — кричал старик и еще сильнее тряс ветки дерева до тех пор, пока на них не осталось ни единой груши.
…Так отметил старый Лештяк избрание своего сына бургомистром.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Странные приготовления. Посольство Криштофа Агоштона
Первый хмель после выборов бургомистра прошел. На другой, на третий день народ наконец опомнился.
— И все же великую глупость мы совершили! — начали поговаривать одни. — Ей-ей, выкинули шутку, как на масленицу!
— Смеяться будут теперь над нашим городом! — вторили другие.
— Сенаторская проделка! Они шкуру свою спасти да за зиму от работ отдохнуть захотели!
То здесь, то там подняла голову злоба, заговорила зависть, пустило ростки недовольство. Однако властелины за пределами города Кечкемета не стали медлить с признанием нового бургомистра. Зюльфикар-ага прислал ему дружеское письмо «из хорошо укрепленной крепости Сольнока», в котором предлагал Лештяку отметить начало своей деятельности благородным делом и выкупить двух все еще находившихся у него в плену монахов. Господин Чуда тоже довольно дружелюбным тоном попросил у Лештяка четыре воза хлеба. И только Халил-эфенди представитель будайского каймакама прибывший в Кечкемет для сбора дани, высказал в ратуше недовольство тем, что ему приходится совещаться с каким-то безбородым юнцом. В ответ на такой упрек молодой бургомистр повернулся и, хлопнув дверью, ушел. А через несколько минут гайдук Пинте ввел в комнату через эту же самую дверь старого козла.
— Зачем привел ты сюда сию глупую тварь, неверный пес? — спросил гайдука изумленный эфенди.
— Господин бургомистр велел передать, что вы можете совещаться с этим вот козлом. Он — с бородой!
Кечкеметцам понравился остроумный ответ, и весы общественного мнения склонились в сторону Лештяка.
— Башковитый человек выйдет из него! Не позволяет помыкать собой. Хорошо проучил он глупого эфенди! Такого бургомистра у нас еще никогда не было, — говорили теперь жители Кечкемета.
И с большим вниманием стали присматриваться к Лештяку: что-то получится из него?
А он, что ни день, удивлял своих сограждан новыми и новыми неожиданностями.
Рассказывали, например, что бургомистр вызвал к себе знаменитого золотых дел мастера Яноша Балага и переселившегося в Кечкемет из Брашова ювелира Венцеля Вальтера и приказал им изготовить кнут с рукояткой из чистого золота, украшенной топазами, смарагдами и другими драгоценными самоцветами, а также тонкой работы топорик: топорище золотое, сам топор — серебряный.
— Работайте не покладая рук, не зная ни дня, ни ночи, — наказал Лештяк мастерам, — пока не сделаете!
Целое состояние придется уплатить за эти два драгоценных орудия. (Значит, есть у городской казны деньги на такие вот безделушки?)
В следующее воскресенье бургомистр с двумя сенаторами обошли городские лавки и накупили в них лент национальных цветов, а затем отправились на городском четверике в Сикру.
Сикра — это кечкеметская Сахара. Песчаное море. Ныне потомки наших героев уже обуздали пески, вырастили на них сады. А в те годы песок еще катился, плескался уходящими за горизонт волнами, сколько его душеньке было угодно.
Вокруг, куда ни кинь взор, — ни воды, ни растительности, только солнце льет ослепительный свет на мириады песчинок, которые движутся, текут с непостижимым проворством, словно гонимые тысячами невидимых метел. Или, может быть, это только так кажется, на самом же деле — это солнечные лучики движутся, прыгают. Ни зверей, ни иных живых существ! Не селится здесь даже суслик: можно ли чувствовать себя дома там, где и сама земля-то вечная странница? Ведь и суслику не понравится, если, вернувшись домой, к своей норке, он не найдет ее на прежнем месте. В Сикре вы не могли бы приметить какой-нибудь холмик и назавтра вновь отыскать его. Барханы все бегут и бегут здесь, словно торопливый путник, рассыпаются и вновь возникают и текут дальше…
В песках царит мертвая тишина. Лишь изредка высоко в небе проносятся стрижи, осмеливающиеся залетать даже сюда, в пустыню, да где-то далеко-далеко крякают дикие утки. А то вдруг выпь ухнет своим сильным, грубым голосом. Видно, где-то там, в песках, есть и болотце и камыши.
Солнце восходит здесь из песчаного бархана, а на ночь снова прячется в песчаный холм. Да и само оно чем-то напоминает здесь блестящий, плывущий по небу бархан, мечущий с вышины на одноцветный, серовато-бурый мир золотой песок лучей.
И долго-долго нужно ехать через эту пустыню, прежде чем с ваших уст невольно сорвется радостный возглас: «Трава, трава!» Ну, а там уже недалеко и до воды. Среди карликовых ветел извивается легендарная Тиса — дорогая нашему сердцу река. Слева белеет маленькая халупка — жилище «степного старосты». А за нею расстилаются сочные луга, шуршащие камыши. Чуть поодаль стоит кошара, напротив нее — почерневший от ветра и дождя загон, где пастухи укрывают от непогоды стада коров и табуны лошадей.
Бургомистра заинтересовала жизнь степи. Он внимательно осмотрел здесь все, а в заключение приказал пастухам ровно через четыре недели, рано утром в воскресенье, пригнать к зданию ратуши сто белых волов с развесистыми рогами и пятьдесят диких коней, отобранных из пятидесяти лучших табунов. В гривы лошадей он велел вплести ленты национальных венгерских цветов, а волам на рога повязать бантики. Распоряжение нового бургомистра не осталось втайне после того, как он и его свита возвратились в город. Если бы в те времена в Кечкемете имелись газеты, ответственный редактор непременно напечатал бы эту сенсационную новость на первой странице, самым крупным шрифтом. А так горожане обсуждали ее только за стаканом вина:
— Золотой кнут, золотой топорик, волы и лошади, украшенные лентами! Может быть, принц какой собирается наняться к нам в табунщики?
Однако еще большее удивление овладело кечкеметцами на следующий день, когда Дёрдь Пинте под барабанный бой объявлял на главных улицах города своим пронзительным голосом:
— Слушайте! Слушайте все, кого это касается!
Тут гайдук делал паузу и, будто загрустивший гусь, склонив набок похожую на редьку голову, ловко дотягивался губами до горлышка плоской баклаги, спрятанной у него за пазухой. Сделав добрый глоток, Пинте громоподобно дочитывал главную часть своего объявления:
— Особы, желающие стать женами турецкого султана, должны явиться для регистрации к господину бургомистру. Последний срок — воскресенье.
Вот уж было в городе разговоров да смешков по поводу столь необычного объявления!
— С ума спятил бургомистр, что ли?
— Дитя малое! — возмущались многие.
Те же, кто знал, какую цель преследуют все эти меры, с, сомнением качали головами:
— Не выйдет у Лештяка ничего!
Зато сторонники молодого бургомистра дивились и радовались: все же большое это дело, если турецкий император намерен взять в жены их землячку! Видно, отличный вкус у султана. (Пусть теперь Надькёрёш лопнет от зависти.)
Девицы же и надеявшиеся еще раз выйти замуж вдовушки возмущались, обсуждая неслыханное доселе предложение. Целых пять дней точили озорницы лясы на эту тему: у колодцев, у льномялок и повсюду, где им только случалось сойтись по двое, по трое.
А замысел бургомистра понемногу, словно улитка, высовывал рога, Прошел слух, что Магомет IV в скором времени приедет в Буду и что это ему готовят в подарок сотню волов, пятьдесят лошадей, золотой кнут, золотой топорик и четырех самых красивых женщин, которых господа сенаторы отберут для гарема из числа кечкеметянок, добровольно изъявивших желание стать женами султана.
— Только четырех?! — озорно захохотала красавица Инокаи, готовившая варенья на зиму. — О, бедный турецкий император!
— А знаешь ли ты, сестрица Воришка, — решил просветить ее Мате Тоот, — что у него и без наших четырех уже триста шестьдесят шесть жен есть?
— Вот дел-то у него по утрам, — заметила белобрысая и чуточку глуповатая Уги. — Каждую ведь отколотить надо.
— Дура ты, сестрица! Не бьет он своих жен, как, например, тебя твой муженек. Он их, вероятно, и в глаза-то не видит. А триста шестьдесят шесть их для того, чтобы на каждый день новая была! — И почтенный Тоот озорно прищелкнул языком.
Кати Агоштон со свойственной ей сметливостью тотчас же выявила самую несчастливую из многочисленных султанских супруг.
— Что же тогда достается в невисокосный год той бедняжке, у которой черед на двадцать девятое февраля падает?
На такой вопрос даже Мате Тоот не смог дать ответа. Он, правда, пробормотал что-то насчет того, что у турок свой календарь, но это уже не могло остановить всеобщего (до слез) сострадания к трехсот шестьдесят шестой султанше. О, бедное, несчастное создание!
Затем разговор перешел на тему, у кого из кечкеметянок хватит бесстыдства согласиться. Хотя, впрочем, не плохо было бы узнать, какие четыре розочки — самые красивые в кечкеметском цветнике. Кого, интересно, выберут сенаторы?!
Не одно тщеславное сердечко втайне щекотала заманчивая думка. Но стыдливость останавливала их тут же: «Тш-ш!»
И Лештяк остался с носом: ни одна рыбка не клюнула на его удочку. Правда, однажды заявилась к нему вдовушка Фабиан — брови подведены, юбка накрахмалена.
— Угадайте, господин бургомистр, зачем я пришла? — шутовски подмигнув, спросила она.
— Наверное, налог принесли?
— Ах, что вы! — кокетливо отмахнулась кружевным платочком посетительница.
— Или с жалобой на кого-нибудь?
— Нет!
— Может быть, снова деньги собираете для выкупа попов? — ехидно продолжал Лештяк.
Тут вдовушка печально поникла головой и едва слышно простонала:
— Коли вы не угадали, то и мне незачем говорить!
И в голосе ее звучало такое горькое отчаянье, такая за сердце берущая печаль!
— Как? Неужели вы собираетесь предложить себя…
— Ведь вдова я, — стыдливо пояснила гостья.
— Что ж, довод весьма веский. Гм!
— Ради города нашего жертвую собой, — добавила Фабиан, покраснев до корней волос.
— Да, но что скажут на это отец Бруно и патер Литкеи? — полусердито, полувежливо проворчал бургомистр. — Ведь они вас почти что в святой чин возвели.
— Отслужат молебен за мою душу. Душа-то моя по-прежнему будет принадлежать христианской церкви. А тело свое я на алтарь моего родного города приношу.
— Отлично. Я запишу вас.
Приходили еще несколько пугал огородных: Панна Надь с Цегледской улицы, вдова Кеменеш, Мария Бан. Нескольких из них бургомистр попросту выгнал из своего кабинета.
— Убирайся ты, доска плоская! Ну, какому черту ты нужна? А одну конопатую девку он, рассердившись, спросил:
— Есть у тебя дома зеркало?
— Нету, ваше благородие.
— Ну, так иди, поищи бочку с водой, посмотрись в нее, а потом приходи ко мне еще раз, коли совести хватит.
Над всеми этими слухами немало потешались хорошо осведомленные круги. На другой день, в понедельник, во время заседания городской думы даже сами господа сенаторы не пощадили своего бургомистра и отпустили несколько колкостей по поводу его неудачного предприятия.
— Ну что? Попалась хоть одна в вашу ловушку?
— Ни одной подходящей, — зло отвечал Лештяк. Весело кашлянув, Габор Поросноки заметил:
— Просчитались мы. В Кечкемете куда проще найти для султана четырех мамаш, чем четырех одалисок.
— Найду я и четырех одалисок, — решительно заявил бургомистр.
Упрямый, непреклонный человек был Лештяк. Добьется, если что задумает.
— Без цветов нельзя нам соваться к султану, — пояснил он.
И показал сенаторам секретное письмо будайского санджак-паши, в котором тот в восточном туманном стиле отвечал на запрос кечкеметского бургомистра, какой подарок был бы угоден его величеству, турецкому султану: «Пошлите ему коней, оружие, говядины на жаркое и красивых цветов».
Цветы надо раздобыть. Это всякому ясно.
А что ни одна красавица не явилась — вполне понятно: забыли разложить в ловушке приманку. Ну, что за радость для наших женщин стать султаншей? Кому из них придет в голову мечтать о муже — турецком султане? Вот если бы какой-нибудь богатый, статный мельник с берегов Тисы в красивом, складно сшитом, светло-зеленом доломане да рантовых сапогах со скрипом дал знать, что ищет себе законную супругу, тогда другое дело! А то — турецкий султан! Про него только и знают в нашем краю, что он всем пашам паша. А про пашу даже в поговорке сказано: «Турецкий паша — в голове ни шиша!» Ведь и воробей не полезет в силок из конского волоса, если солому возле ловушки пшеничкой не посыпать. И мышь в западню не пойдет, если не белеет там заманчивый кусочек сала.
Значит, надо найти приманку и для кечкеметских красавиц! Но что? Боже милостивый! Что же, как не наряды?! Бусы, ленты, кружева! Вот она, святая троица, да только дьявольская троица. В них шуршит, гремит и кричит вся нечисть, начиная с Вельзевула. Один бес зовет: «Подойди, посмотри!», другой подбадривает: «Примерь!», а третий шепчет: «Душу за наряды отдай!»
Михай Лештяк разослал несколько пожилых женщин, знающих толк в нарядах: кого — в Сегед, кого — в Буду, к турецким купцам, накупить лучшей шелковой парчи, сукон с золотыми и серебряными цветами, тонких шелковых кружев, сережек с рубинами, ожерелий, сверкающих всеми цветами радуги, дорогих подвесок. «Да смотрите, — наказал он им, — не позабудьте браслетов! Покупайте все самое что ни на есть красивое! Так выбирайте, будто четырех царевен на бал собираете, наряжаете!»
Старый Лештяк тоже не знал покоя. На телеге объехал он по поручению сына все соседние барские поместья — местных богатеев Ваи, Фай, Бариушей, у которых он, знаменитый портной, в свое время работал. (Все перечисленные аристократы имели владения на землях Кечкемета.) Мастер просил одолжить ему на время в общих с городом интересах домашних швей.
Дамы, покровительницы города, всюду оказались благосклонными к просьбе старого Лештяка. Так что домой он вернулся, везя целую телегу помощниц.
А когда в больших сундуках прибыли дивные ткани для нарядов, закипела под началом Матяша Лештяка лихорадочная работа, не прекращавшаяся ни днем, ни ночью. Щелкали ножницы, мелькали в воздухе иглы, и мало-помалу множество шелковых и бархатных лоскутов стали приобретать форму жакеточек, юбочек. А вот это — будущая жилетка! Ах, какая прелесть! Белое кружево принимает вид воротничка, да такого нежного и пышного, будто пена морская. Ну, а это что за штука с петушиным гребешком, связанная из тысячи маленьких золотых колечек? Это кокошник! Две из «букета» должны быть девушками, а две другие — «вдовушками». Стоит ли упоминать о том, что все девушки и женщины, сколько их было в Кечкемете, только и говорили, что о чудесных нарядах, только о них и грезили во сне и наяву.
Все было бы уже на мази, если бы в дело не вмешались отец Бруно и патер Литкеи. Им-то уж совсем не по душе был план, согласно которому в Кечкемете должен был разместиться турецкий правитель, пусть даже один-единственный чаус. Да еще по просьбе самого города!
— Не пристало стаду Христову заигрывать с аллахом. Неверного слугу один хозяин прогонит, а другой откажется взять к себе. Будьте настороже, богобоязненные жители Кечкемета!
Попы грозили, проклинали, произносили подстрекательные речи против нового бургомистра: он-де на руку туркам играет, хочет выдать неверным город святого епископа Миклоша, продать нехристям невинных дев наших, он задумал лишить нас духовной благодати…
А ведь сердце венгра — что сухой порох: от всякой искры загорается! Число врагов бургомистра росло. На следующее воскресенье, после обедни, перед ратушей беспокойными кучками стал собираться народ. Недовольные угрожающе размахивали руками и кричали:
— Долой бургомистра! Долой сенаторов!
В особенности раздражены были католики. Лютеране, чьи предки около века назад переселились сюда из Чехии, и кальвинисты из Толны, жившие обособленной группкой на Кладбищенской улице, может быть, даже чуточку симпатизировали туркам за их дружбу с протестантскими князьями Трансильвании. Для протестантов и тюрбан и таира были одинаково иноземным головным убором.
Поросноки и Агоштон прибежали к бургомистру встревоженные:
— Беда! Народ волнуется. Разве вы не слышите, ваша милость?
— Слышу, как же, — равнодушным голосом отвечал тот.
— Quid tunc?[80] Может, откажемся от нашего плана? Мишка насмешливо поглядел им в глаза.
— Разве план стал хуже от того, что он не нравится настоятелю монастыря?
— Нет, — согласился Поросноки, — но нужно помнить и другое. За две недели два попа с их влиянием на верующих так взбудоражат людей, что те с косами да топорами на нас пойдут!
— Кто, по-вашему, будет думать о судьбе Кечкемета: мы или улица? Я считаю, что — мы! Все будет так, как мы с вами прикажем.
Молодой бургомистр произнес эти слова с такой твердой решимостью, что они пришлись по душе Поросноки, который и сам был человеком с железным характером. Однако Криштоф Агоштон решил уколоть Мишку:
— Упрямство — не всегда самый умный выход из положения, господин бургомистр! Беда пришла, и надо что-то предпринять, пока мы еще в силах.
— А мы и предпримем. Через полчаса вы, сударь, сядете на коня…
— Я?
— Да. И поедете с секретным поручением по очень важному делу.
— Куда?
— Садитесь, почтенные господа. Но только — рты на замок! Всякого, кто разгласит то, что я вам сейчас сообщу, отдам под суд…
— Говорит, как диктатор, — проворчал болезненный Залади.
После такого вступления сенаторы один за другим прошмыгнули в зал для заседаний, бледные и растерянные. На лицах кое-кого из них нетрудно было прочесть страх.
— Слушаем! Говорите!
— Господин Агоштон отправится сейчас к куруцам, а именно — в отряд Иштвана Чуды.
— К этому вору? Вот уж когда покажу я ему, пусть он только мне на глаза попадется!
— Обижать Чуду не надо. Вы лучше по-дружески пожмите руки и договоритесь с ним, за какую сумму он согласился бы еще раз похитить и отца игумена, и отца Литкеи. Только немедленно! Пока мы вполне можем обойтись без этих двоих…
Сидевшие с серьезным видом отцы города заулыбались, лица их оживились. А Поросноки весело хлопнул себя ладонью по лбу:
— Мне такое и в голову не пришло бы! Правильно! И ведь как умно. Вы, ваша милость, — прирожденный дипломат!
— Нужда часто бывает лучшим наставником, чем опыт. На попов у нас нет управы. Мы не можем ни арестовать их, ни запретить им проповедовать. Остается одно средство — Иштван Чуда!
— Сколько я могу пообещать куруцам? — спросил довольный Агоштон, направляясь к выходу.
— Возьмется он и по дешевке. У него сейчас все равно нет никакой работы. Да и дельце это по его части… Пообещайте ему половину того, что он попросит.
Через полчаса гнедая кобылица Агоштона, поднимая пыль, мчалась во весь опор по Цегледской дороге, а через два дня, ввечеру, по той же самой дороге уже шагали связанные монахи в сопровождении куруцев Чуды…
Секретная миссия Криштофа Агоштона оказалась настолько успешной, что он с удовольствием вспоминал о ней до последнего своего дня, даже будучи уже глубоким старцем. И с каждым разом описывал ее все романтичнее и все красочнее:
— Эх вот когда я был полномочным послом при дворе его величества Тёкёли…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Четыре резеды отправляются в путь
Попов угнали, народные волнения улеглись, а день, когда делегация должна была отправиться в Буду с подарками для турецкого султана, близился.
Наряды были уже готовы, и в последние три дня их выставили для всеобщего обозрения в ратуше. Вот уж куда было паломничество-то!
Огромный стол, на котором были разложены наряды, неусыпно охранял гайдук Пинте. Только вместо подъятого огненного меча архангела в руках у старого служаки была ореховая палка.
Украшения были так хороши, что даже он был растроган:
— Большая подмога от них даже уродливым бабам!
А женщин покрасивее он подбадривал, поскольку и это входило в его обязанности:
— Да вы бы, голубушка, примерили. Вон там, в соседней комнатке.
Кто ж тут устоит? Разве нашлось бы такое женское сердце, которое не забилось бы сильнее при виде нарядов, в сравнение с которыми не шли и сокровища тысяча и одной ночи?!
Девушки пугливой стайкой топтались вокруг, будто горные козочки с невинными глазами. Впрочем, при виде нарядов эти глазки тут же расширялись, загорались, а в висках у бедняжек начинало стучать. Тут-то гайдук и произносил свои соблазняющие слова: «Примерь, сестрица!»
И «сестрица» примеряла, — примеряла бы даже под угрозой, смерти.
А уж кто примерил, пиши пропало! В обе косы вплетены дивные ленты, талия затянута в корсет, поверх надета чудесная сорочка, жилеточка, шелковая юбка вишневого цвета, с вышитыми серебряными полумесяцами; на ногах — красные сафьяновые сапожки, на шее — ожерелье из сверкающих камней-самоцветов.
— Ну, а теперь взгляни на себя, душенька!
Приносили зеркало, и наряженная, не выдержав, вскрикивала от радости, увидев в зеркале вместо себя сказочную фею.
Бедняжке, старавшейся утолить сладкий голод тщеславия, хотелось подольше полюбоваться собой, но тут к ней снова подходил архангел с ореховой палицей и заявлял:
— Ну, довольно. Теперь раздевайся! Или, коли нравится, ходи вечно в такой одежде…
И уж мало у которой из них повернулся бы тут язык сказать: «Нужны вы мне больно!» — и расстегнуть очаровательную жакеточку, сбросить удивительную юбочку, стянуть с ног скрипучие сафьяновые сапожки, снять горящие огнями драгоценности и напялить на себя свою старую, потрепанную одежонку!
Все до единой пожелали примерить, но ни одна не снимала затем богатый наряд по доброй воле. Даже старухи — страшные, как ведьмы, которых в Сегеде живьем сжигали *, — и те хотели во что бы то ни стало помериться красотой с молодыми.
Пришлось ввести ограничения. Мерить наряды дозволялось только красивым, бедным и сиротам. То есть тем, кто действительно мог бы согласиться поехать к султану.
Дядюшка Пинте стал вдруг очень влиятельной персоной: ведь именно он определял, кто красив, а кто — нет. У Париса было всего лишь одно золотое яблоко, а у него их — целая корзина! Иные женщины старались добиться протекции у старого гайдука: кто очаровательной улыбкой, кто окороком, калачом или кувшинчиком вина. Вот какой важной оказалась вдруг его должность!
Впрочем, полностью ее важность выявилась лишь позднее, когда через десять — двадцать лет женщины могли похвастать: «И я ведь красавицей считалась. Был и на мне Лештяков наряд». Это выражение стало своего рода пословицей. А представьте себе, что творилось, когда этот наряд действительно примеряли! Для женщин было не безразлично, кому его дали примерить, а кому — нет; иными словами, кого официально признали красивой, а кого — «непригодной». Немало было пролито и горьких слез по этому поводу.
Я не собираюсь обвинять старого гайдука ни в злоупотреблении своим служебным положением, ни в получении взяток, поскольку это трудно доказать сейчас, двести лет спустя, но факт остается фактом: много бестактных поступков совершил он при этом. Возьмем хотя бы случай с цыганочкой.
Пришла она — маленькая, чумазая, босая, волосы взлохмачены. Уставилась своими большущими глазами на сокровища и рот от удивления раскрыла. А во рту у нее, словно восточные перлы, засверкали снежной белизны зубы. Их-то красоты старый дурень и не заметил.
Еще почти дитя, худенькая, но сильная, она долго вертелась, крутилась вокруг стола, пока наконец решилась спросить гайдука:
— А мне можно?
Дядюшка Дюри с минуту пыхтел, а затем как рявкнет на девчонку:
— Не кой шут лягушке подкова? Убирайся отсюда, да подальше!
Помрачнела цыганочка, будто каждое слово гайдука тучей на ее личико опустилось, опечалилась. Видно, даже ее, на свободе выросшую белочку, околдовали наряды. Отвернулась она и заплакала от обиды, рукою размазывая слезы по щеке.
На ее счастье, — а может быть, несчастье! — находился в зале сам бургомистр. Заметил он огорчение цыганочки, подошел к ней, положил на плечо руку. Девушка испугалась, вздрогнула.
— Выбирай себе платье, какое понравится, и примеряй! Цыганочка нерешительно посмотрела на Лештяка.
— Вон тот не дает, — дернула она плечом в сторону Пинте.
— А я разрешаю, я — бургомистр. Девушка засмеялась сквозь слезы:
— В самом деле, ты здесь приказываешь?
— Пинте, — улыбнувшись, окликнул Лештяк гайдука, — принеси девушке самое красивое платье. Посмотрим, что из нее выйдет.
И четверть часа спустя действительно увидел. Когда она вышла из комнаты для переодевания, умытая да нарядная, все, кто был там, так и ахнули от удивления.
Сон это или явь? Будто принцесса дивной красоты перед ними предстала. Шелковая, цвета спелой черешни, жилетка подчеркивала ее стройную фигурку, юбка кокетливо приоткрывала щиколотки, уста горели ярче рубинового ожерелья, а черная пышная коса ниспадала чуть не до пола.
— Чья дочь будешь? — спросил восхищенный бургомистр.
— Старого Бюрю, того, что играет на скрипке в «Бравом рыбаке». (О трактире «Бравый рыбак» на рыбацких хуторах по Тисе ходила недобрая слава.)
— Как тебя звать?
— Цинна.
— Поедешь с нами в Буду? Девушка безразлично повела плечом.
— Тогда получишь вот этот наряд.
— Поеду.
Так был найден красивейший цветок «букета». Подбор остальных уже не представлял труда. Нужно было только выбрать из множества желающих трех наиболее подходящих. В конце концов выбрали Марику Бари, белокурую, с глазами, похожими на лесные фиалки, и гибким станом, высокую, статную Магдалину Катона и толстушку Агнесу Пал, своей краснощекой мордашкой напоминавшую распускающийся цветок мальвы. Еще вовек не доводилось султану целовать девушек красивее этих, и Фирдоуси не воспевал женщин красивее, чем наши кечкеметочки.
Теперь пора было и в путь!
В воскресенье прибыл и другой подарок: сто волов с развесистыми рогами, каждый убран лентами с красивым железным колокольчиком на шее. Пригнали и табун из пятидесяти степных жеребцов. У каждого коня позвякивал на шее серебряный бубенчик.
Девушки уселись на повозку. (Если быть точным, то лишь две из них считались «девушками», две же других посылались «вдовушками», разумеется не настоящими, а только согласившимися выдавать себя за таковых.) Вот уже и господа сенаторы в темно-синих плащах на серебряных застежках вскарабкались на свои брички; на первую — Мишка Лештяк с Ференцем Криштоном и Йожефом Инокаи, который примостился рядом с кучером, но спиной к лошадям. Один из сенаторов отвечал за воловье стадо, другой за табун скакунов. А почтенный Агоштон, ехавший на второй бричке, из посла вдруг превратился в садовника-цветовода… Политика! Габор Поросноки вез упрятанное в великолепный шелковый чехол оружие. Что же до шестого члена делегации, горбуна Дёрдя Имеча, то он хоть и не красил ее своим видом, зато отлично говорил по-турецки и по-татарски и ехал поэтому «смазчиком».
Собравшиеся на площади зеваки прокричали «ура», женщины, оставшиеся дома, сорвали с голов платки, чтобы помахать на прощанье, возницы хлестнули лошадей, табунщики звонко щелкнули кнутами, и блестящая процессия тронулась под перезвон ста колокольцев на шеях волов, под заливчатое пение пятидесяти серебряных бубенчиков — у коней.
Дорога была однообразной, поэтому я не стану описывать ее. На Алфёльде все на одно лицо: деревни, города, их окрестности. Бескрайняя равнина с ее миражами, протянувшаяся до самого горизонта. Серая земля, слегка лиловая в лучах усталого осеннего солнца — и так повсюду, куда ни кинь взор! Один пейзаж похож на другой, как два аршина сукна, отрезанного от одного и того же куска. Только кое-где сиротливый хуторок без единого дерева: белый домик да колодезный журавль! А на краю деревень — все те же ветряки с растопыренными крыльями, будто они прибежали сюда, опередив обоз, из предыдущего села.
Просто забавно, до чего походили тогда друг на друга даже большие алфёльдские города. Правда, каждый из них имел и что-нибудь свое, чем мог похвастаться только он один: Дебрецен — коллегию, Сегед — церковь короля Матяша, Кечкемет — колокольню святого Миклоша, на которой дружелюбно уживались и кальвинистский петух, и лютеранская звезда, и католический крест! Кроме того, каждый из городов славился какими-нибудь особенными яствами: Дебрецен — колбасой, Кечкемет — яблоками, Сегед — перцем. В последующие времена города эти не отставали друг от друга и в духовном развитии, показывая, на что они способны: Дебрецен дал Михая Витеза Чоконаи, Сегед — Андраша Дугонича, Кечкемет — Йожефа Катону…
А наши герои между тем ехали и ехали, пока не очутились в большом людском муравейнике — в Буде, где они тотчас же приступили к делам — каждый занялся тем делом, которое было ему поручено.
Первая роль принадлежала «смазчику», который отличался от нынешних смазчиков тем, что смазывал не колеса, а турецких чиновников, и не маслом, а — золотом. Это ему надлежало бегать от Понтия к Пилату, изловчаться, приводить «доводы», чтобы аудиенция состоялась.
И вот в среду вечером султан допустил депутацию Кечкемета пред свой светлый лик.
ГЛАВА ПЯТАЯ У султана. Астроном
Кечкеметские послы явились на прием к султану богато наряженными: доломаны внакидку, сабли на боку. А Михай Лештяк был одет и вовсе как бравый воитель. Сам он и речь держал. В ней кечкеметский бургомистр с таким мастерством и убедительностью изобразил печальную участь Кечкемета, что стоявшие за его спиной четверо сенаторов (пятого, почтенного господина Имеча, еще накануне отправили домой) прослезились. После обильных потоков красноречия кечкеметский бургомистр перешел к нижайшей мольбе города у ног самого могущественного правителя в мире: назначить пашу, чауша или какого-нибудь иного чиновника, пусть даже самого маленького, с постоянной резиденцией в Кечкемете, чтобы он избавил их наконец от налетов хищных грабителей. Уже само присутствие в городе представителя его султанского величества обеспечит покой и мирную жизнь городу.
Тут Лештяк с помощью ловких риторических приемов расписал султану, что за великолепная жизнь ожидает его наместника в Кечкемете: горожане выстроят ему за свой счет каменный дом, будут почитать его, услуживать ему, сладким медом из собственных рук кормить и т. п. Назур-бек, толмач будайского паши, перевел речь кечкеметского головы султану, слушавшему с бесстрастным лицом человека, которому наскучило все на свете, даже сама жизнь. Лишь изредка он едва заметно одобрительно кивал головой. Между прочим, султан был довольно красивый и симпатичный мужчина лет сорока.
Ибрагим-паша, будайский визирь, стоял подле султана, скрестив на груди руки, а в налитых кровью глазах его можно было ясно прочесть напряженное ожидание, словно он хотел сказать: «Речь вашу мы уже слышали, посмотрим теперь, каковы ваши «доводы».
И «доводы» не заставили себя ждать.
Вперед выступил Габор Поросноки. Раскрыв яблочно-зеленого цвета чехол, который он все время держал перед собой, он вынул из него и положил на скамеечку у ног султана золотой кнут и топорик дивной работы.
— Слагаем к ногам твоим, великий император, оружие Кечкемета.
Султан наклонился, взял кнут в руки и некоторое время рассматривал его, а затем перебросился несколькими словами с Ибрагимом-пашою.
Тем временем господин сенатор Инокаи почтительно крякнул и, прочистив горло, затараторил:
— Величайший из великих султанов! Мы предлагаем также скромный дар и для котла доблестных воинов твоих. Соизволь выглянуть в окно.
Назур-бек механически перевел, и султан, нехотя поднявшись с оттоманки, подошел к окну, через которое можно было увидеть красавцев волов и диких скакунов. О последних дарственное слово пролепетал Ференц Криштон. Однако все это не очень-то интересовало могущественного повелителя Востока, и он снова лениво опустился на свое ложе.
Но тут дверь распахнулась, и по залу пролетел нежный ветерок. Может быть, его вызвал шелестящий плеск четырех юбок? В зал вошли кечкеметские девушки, прелестные, так и дышащие свежестью.
Увидев их, султан с живостью вскочил.
Криштоф Агоштон вышел на середину и, став в позу школьника, преподносящего папаше букет, стыдливо продекламировал:
— Принесли мы и немножко цветов…
Султан, разумеется, не понимал по-венгерски, но тут он заулыбался, не дожидаясь вмешательства переводчика, а затем весело крикнул будайскому визирю:
— Покрывало на них поскорее, Ибрагим! (Что на восточном языке означало: «Чтобы вы ни единого мига не оскверняли их своими грешными взглядами!»)
Пока паша помчался отдавать распоряжения, султан медленно, небрежно сказал что-то толмачу.
— Его величество султан, чью тень оберегает аллах, говорит вам, неверные, что он обдумает вашу просьбу. А пока можете идти и ждать его решения, — перевел толмач и сделал знак, что аудиенция окончена.
Но почтеннейший Агоштон, видя султана в отличном расположении духа, решил, что наступил час свершить поступок, который навеки запечатлеется в людской памяти. Поэтому он легонько дернул за ментики уже направившихся к выходу товарищей и, обращаясь к переводчику, сказал:
— О всемогущий толмач, правая рука владыки, передай своему повелителю еще одну нашу нижайшую просьбу.
Великий визирь и все присутствовавшие паши и улемы метнули негодующие взоры на безумца. Не меньше были удивлены и господа кечкеметцы. Однако султан, все еще думавший о цветах Кечкемета, улыбался. А коли султан улыбается, то и солнце светит, в трава растет, и даже камни поют, — словом, все пребывает в наилучшем порядке.
— Ну, чего еще хотите вы, ненасытные? — по-венгерски обрушился на них тихайский бек Хасан, приближенный Ибрагим-паши. — Поскорее выкладывайте просьбу. А то нынче еще много других депутаций дожидается приема его величества.
— Вот-вот, — осмелев, продолжал Агоштон. — Видели мы в передней надькёрёшскую депутацию и просим его султанское величество: чего бы ни попросили землячки наши, пусть откажет им повелитель!
Хасан-бек засмеялся и сам перевел повелителю правоверных вторую просьбу кечкеметцев. Султан тоже рассмеялся такому странному желанию, еще не встречавшемуся в его практике, и с живостью спросил:
— А в чем причина?
Ответил на вопрос Михай Лештяк:
— Надькёрёш и Кечкемет — такие же друзья, что Мекка и Меддина, или, проще сказать, — кошка с собакой…
Султан пришел в великолепное расположение духа, и толмач, улыбаясь во весь рот, сообщил ответ властелина:
— Радуйтесь! Милостивый падишах обдумает ваше первое пожелание и выполнит второе.
После этого кечкеметцы проследовали во двор, на ходу пожелав «счастливого доброго утра» соседям надькёрёшцам, тоже ожидавшим приема. Спустя несколько минут к ним выглянул тихайский бек (которого накануне посетил «смазчик») и, похлопав сенаторов по плечу, с покровительственным видом обнадежил их:
— Ну и счастливчики вы, плутищи! Угодили вы султану, развеселили его. Будьте покойны, все будет по-вашему.
И он удовлетворенно потер руки в предвкушении ста золотых, обещанных ему в случав, если Кечкемет получит собственного турецкого чиновника…
Обнадеженные кечкеметцы ожидали во дворе, расхваливая речь своего бургомистра и инициативу сенатора Агоштона, который был в необычайном восторге от самого себя и без устали повторял:
— Ну как? Гожусь я на что-нибудь? Есть, есть тут немного ума, землячки! — И при этом похлопывал себя по лбу.
Примерно через полчаса Хасан-бек появился снова. Но на этот раз он свирепо размахивал руками, а гневная жирная рожа его была багровее перца.
— Ну что, свиньи! — еще издали закричал он. — Нахрюкали на свои головы?
Почтенные господа кечкеметцы, как истуканы, недоуменно уставились на него:
— Ради бога, что случилось-то?
— А то случилось, что вы безмозглые! Ведь надькёрёшская депутация пришла к султану с жалобой, что им-де невыносимо тяжело улаживать свои повседневные дела и нести повинности, поскольку сольнокский и будайский паши находятся далеко от их города. И просили они поэтому создать новый турецкий административный центр поблизости, в городе Кечкемете.
— А мы!.. — пролепетал Йожеф Инокаи.
— А вы добились у султана обещания, что он откажет надькёрёшцам, с какой бы просьбой они ни пришли. Чтоб вы подохли!
С этими словами бек повернулся и, по турецкому обыкновению, дважды плюнул на землю перед кечкеметцами.
Можно было себе представить досаду посланцев Кечкемета: Лештяк принялся кусать ус, честный Поросноки так и сыпал ругательствами, у Криштона со страха кровь из носа пошла, а старый Инокаи не удержался и заплакал. Что же до господина Агоштона, — то он, не теряя ни минуты, помчался к телегам, стоявшим у Дуная, забрался на одну из них и укрылся шубой: на бедняжку напал такой озноб, что сто раз можно было простудиться.
— Теперь нам можно и восвояси отправляться, — нарушил печальное молчание Криштон.
— Подождем решения султана, — отозвался бургомистр. Завечерело, когда наместник султана, пришедший за ними в сопровождении толмача, привел кечкеметцев в один зал, где вручил им какой-то кафтан и через переводчика передал:
— Это посылает вам его величество падишах. Надеюсь, кафтан вам еще пригодится!
Сенаторы печально смотрели на темно-зеленый бархатный кафтан, украшенный золотой шнуровкой и позументами, образовывавшими всевозможные причудливые фигуры; во взоре господ кечкеметцев можно было прочесть глубокое разочарование: «Только-то и всего?»
Поросноки даже вслух решился высказать свое недовольство, спросив:
— И больше ничего не передавал для нас великий падишах?
— Нет, ничего, — флегматично отвечал наместник. — Султан был очень добр к вам, но, дав слово, он вынужден его сдержать. Ведь вы и сами того хотели?
— Нельзя к нему еще раз на прием попасть?
— Нельзя.
— Черт возьми! Хороша историйка! Вот будет радости-то дома.
— Ну, коли так, пусть будет так, — с ледяным спокойствием заключил бургомистр. — Берите кафтан, господин Криштон.
Ференц Криштон сердито и далеко не почтительно сгреб в охапку кафтан с подкладкой из медвежьей шкуры и — нет того, чтобы покрыть его поцелуями, — небрежно поволок за собой, так что одна пола кафтана все время тащилась по земле.
Подойдя же к повозке, он бросил кафтан в задок телеги, словно какую-нибудь дырявую конскую попону.
Господина Агоштона к тому времени и след простыл: от одного из возниц сенаторы узнали только, что Агоштон велел отвезти его в Вац, где живет замужем одна из его дочерей. Говорил он-де мало, так как все время сильно дрожал и не попадал зубом на зуб, но все же из его слов можно было понять, что ему никогда больше не видать Кечкемета.
Пока наши герои накормили, напоили лошадей и отправились в дорогу, наступил вечер. Печной дым смешался с опускавшимся на землю туманом; в пештских болотах на нынешней площади Цепного моста противно заквакали, заскрипели лягушки, на будайских минаретах невыносимо тоскливо запели муэдзины, а в старом пештском замке зловеще заухали сычи. И только где-то далеко-далеко, в маленькой деревеньке, печально стенал христианский колокол.
Из полупрозрачного, розовато-белого, как парное молоко, тумана издевательски скалились карлики, сражающиеся драконы, покрытые чешуей чудовища, привидения в белых саванах. А небо затянула широченная и неуклюжая темно-синяя туча…
Миновав последние домики пештской окраины, наши герои с большим трудом перебрались через поросшие камышами и ракитой болота, начинавшиеся сразу же за Хатванскими воротами города. Здесь, на месте нынешнего Национального театра, чуть было не завязла в болоте телега господина Криштона. Туча на небе шевельнулась, и луна исчезла в ее утробе, словно серебряный талер в синем чулке. Стало еще темнее. На спящую природу опустилась торжественно-печальная тишина. Только телеги поскрипывали на рытвинах, да одинокие петухи запевали на пештских хуторах. Лошади нехотя плелись, возницы дремали, сенаторы, занятые печальными своими думами, молча сидели друг подле друга, лишь изредка обмениваясь скупым словом. Но все же наверняка обменивались. Потому что все они думали только об одном. И если бы один из сенаторов сказал: «Что же мы теперь станем говорить дома?» — другой, чертыхнувшись себе под нос, поглядел бы в ночную мглу и немного погодя ответил бы: «По мне, сейчас куда лучше овчаркой при отаре быть, чем кечкеметским сенатором!», а третий, подняв поникшую голову, добавил бы со вздохом: «За сто волов да пятьдесят коней — зеленый кафтан! Вот это называется поменялись!» И путники снова умолкли, уставившись в белесый туман, в котором маячили все те же причудливые фигуры. Но вдруг одно из привидений отделилось от тумана. Оно было четче, явственнее, чем остальные, и стояло у самых лошадиных морд а на дорогу падала его тень…
Кони головной подводы заупрямились, возница проснулся и поднял голову, а из тумана донесся мягкий женский голос:
— Остановитесь!
Католик Инокаи сотворил крестное знамение и пролепетал: «Боже, смилуйся над нами».
— Кто там? — спросил Криштон.
— Это я, Цинна. Цыганка. Возьмите меня с собой! Теперь перепугались уже не только Инокаи, но и Поросноки с Криштоном. Даже ехавший на второй подводе Лештяк не поленился спрыгнуть с телеги.
— Ты как сюда попала, сорока?
— Убежала, — коротко ответила Цинна.
— Да почему же ты убежала, маленькая чертовка?
— Наскучило мне там.
— Ах ты, черт тебя побери! — поскреб в затылке Криштон. — Да знаешь ли ты, что из-за тебя всех нас перевешают? Убирайся сейчас же. Что нам делать? Что нам делать!!
— Надо отвезти ее назад.
Опять из-за тучи выглянула сверкающая тарелка луны и осветила красивую девушку. Дорогое платье на ней вымокло, запачкалось, сафьяновые сапожки были в грязи, юбка обтрепалась, пока она брела по камышам да по болотам. И только на дивную фигуру, подчеркнутую прилипшей к телу мокрой одеждой, нельзя было досыта наглядеться.
— Не хочу я назад, — упрямо проговорила цыганка, не попадая зубом на зуб. И зябко запахнула жилетку.
— А нужно. Иначе нам всем голов не сносить, — заявил Лештяк.
Подняв на него чудесные свои глаза, девушка содрогнулась. И столько в них было очарования и упрека, что бургомистр не выдержал и крикнул:
— Ну, семь бед — один ответ! Садись ко мне на телегу. Отвезем тебя домой.
— Господин бургомистр, ах, господин бургомистр! — сокрушенно проговорил Поросноки. — Что вы делаете?
— Под мою ответственность.
— Juventus ventus[81], — пробормотал Инокаи.
Глаза Цинны вновь сверкнули. В них теплился теперь огонек собачьей преданности доброму хозяину. Легким красивым движением, будто дикая лесная кошка, цыганочка вспрыгнула на телегу и уселась подле Лештяка.
Подводы снова тронулись.
— Замерзла? — обронил Лештяк, услышав, как прерывисто дышит девушка.
Достав из задка телеги засунутый туда султанский кафтан, он прикрыл им колени своей спутницы. После этого он пощупал ладонью лоб Цинны. Лоб был чуточку горяч. Однако от этого прикосновения к бархатистой, нежной коже цыганочки и у молодого Лештяка кровь в жилах закипела.
— Эх, один только счастливец есть на свете, — вздохнул на первой повозке Инокаи. — И это Криштоф Агоштон! Поспешил упрятать свою голову в Вац, надежное место…
— Эх, один только счастливец есть на белом свете! — вздохнул на последней телеге молодой пастух, обращаясь к старому табунщику. (Оба они возвращались домой с пустыми руками: один без своих волов, другой без скакунов.) — Это наш бургомистр, господин Лештяк. Целует он сейчас алые уста цыганочки да обнимает ее стройный стан.
— Скажи мне, Цинна, — допытывался тем временем Лештяк. — Как тебе удалось сбежать?
— Уговорила я старого турка, что караулил нас, сидя на пороге, чтобы он вздремнул немножко. Он и задремал.
— Как же ты сумела по-турецки-то с ним говорить?
— А я сняла с шеи ожерелье, да и отдала ему…
— Ну, а остальные девушки?
— Я звала их с собой, но они не захотели. Дома им батрачить приходилось, а тут! Обед дали — пальчики оближешь! Сперва жаркое, потом сладкое, одних фруктов — три сорта. Наверное, и мамалыгу тоже дают, да только ужина я не стала дожидаться…
— Но ведь ты тоже по доброй воле поехала с ними?
— Нарядам обрадовалась, вот и согласилась.
— И так быстро наскучило тебе там?
— Наскучило. Уж лучше я в своей рваной одежонке ходить буду!
— Ой-ой! — грустно вздохнул Лештяк. — Много бед навлечешь ты на город Кечкемет! Ведь тебя же теперь искать будут, Цинна!
Вместо ответа цыганочка прижалась к спутнику, дрожа всем телом, как осиновый листок.
— Не бойся! — успокоил ее Лештяк. — Коли пообещал, не оставлю тебя. Мое слово твердое.
Девушка склонилась к руке Михая и поцеловала ее, а сама всхлипнула.
Молодой бургомистр резко, даже грубовато обхватил голову спутницы, отстраняя от своей руки.
— Не епископ я, чтобы мне руки целовать, — сердито проворчал он.
Но пока он поднимал вверх голову цыганочки, его собственная голова пошла кругом, звезды запрыгали перед глазами, телега, казалось, вот-вот перевернется, а камыши у дороги, как оглашенные, пустились вдруг наутек, и Лештяк, потеряв всякую власть над собой, прижал головку девушки к своей груди. Впрочем, устыдившись своего поступка, он тут же выпустил ее.
— Эй, цыганочка, что ты со мной делаешь? Смотри, не целуй мне руку, а то привяжу тебя за косу к телеге, чтобы ты и головой пошевелить не смогла. Этак и с ума свести человека недолго!
Лештяк шутливо захватил в горсть пышную тугую косу цыганочки:
— Ну, привязать?
— Делайте, что хотите, — покорно, тихим голосом промолвила девушка в ответ.
— Не стану я тебя привязывать, не бойся. О другом я сейчас думаю.
Тут он с напускным равнодушием перекинул косу, эту дразнящую змею, на другое плечо девушки, а коса щелкнула, как кнут, обвилась вокруг точеной шейки и концом своим снова оказалась возле руки Лештяка.
Они долго молчали, и молодой человек часто потирал ладонью свой лоб.
— Думаю я, — сказал он наконец шепотом, — что косу эту тебе остричь придется. Под самый корень!
Цинна удивленно подняла на него свои глаза, блестевшие даже в темноте.
— Пододвинься ко мне поближе, Цинна, чтобы возница не расслышал, что я тебе говорить стану. Прислонись ухом к моему рту. Еще ближе! Не бойся, не поцелую.
— А мне-то что? Целуйте!..
— Так вот, говорю я, надо будет тебе остричь волосы.
— Ну так остригайте.
— А затем сойти с телеги… — Девушка сделала беспокойное движение. — Потому что искать тебя станут, а у меня нет такой власти, чтобы защитить тебя. Не ведаю я, что меня и самого-то дома ожидает! Незавидная у меня судьба! Так что лучше уж тебе сойти!
— Но почему?
— Потому что и султан и будайский паша — сильнее меня, кечкеметского бургомистра. Был бы я сильнее их, могла бы ты при мне оставаться. Ни один волос с головы твоей не упал бы.
— Не понимаю я вас, сударь!
— Все поймешь сейчас. Вот здесь, в сундучке, лежит мужской костюм, из хорошей камки. Для себя купил его сегодня в Буде. Как спрыгнешь с телеги, переоденься в него где-нибудь в сторонке. Положу я тебе, будущий парень, и пару золотых в карман. Красивый малый получится из тебя, а? Как ты думаешь? Сам черт не узнает в тебе былой цыганочки Цинны!
Девушка вздохнула, а на глаза у нее навернулись слезы.
— Через несколько дней проберешься окольными путями в Кечкемет и явишься к моему отцу под видом бродячего портняжки-подмастерья на работу наниматься.
Цинна утерла слезы и весело засмеялась.
— Вот хорошо-то! По крайней мере, вашу милость каждый день видеть буду.
— Помолчи! Ну, что ржешь, как жеребенок! Дело серьезное. А если старик не захочет принять тебя, покажешь ему вот это кольцо в знак того, что это мне так угодно.
— Так ведь вы же дома будете к тому времени? Сами ему на словах сказать можете?
— Откуда мне знать, где я буду? — мрачно пробормотал Лештяк и, сняв с пальца украшенное опалом и гранатами кольцо, отдал его Цинне.
Немного погодя он добавил:
— А если отец сразу согласится принять тебя, не показывай ему кольца. Лучше если никто, даже мой отец не будет знать, кто скрывается под видом подмастерья. Так я хочу!
— Значит, так и будет — по-вашему, — пообещала Цинна.
— А теперь за работу. Тебе нужно скрыться, пока еще не рассвело.
В мешке Лештяка лежали большие ножницы, которыми они по дороге в Буду подравнивали гривы жеребцам. Задрожали руки у Лештяка, как он вынимать стал, а еще пуще, когда за косу взялся, чтобы отрезать ее.
— Не могу; — признался он. Рука его бессильно опустилась.
— Чего же жалеть? — рассердилась девушка, протягивая руку за ножницами.
Ножницы щелкнули, и густой лес волос был скошен. Девушка же только улыбнулась, тряхнув остриженной головкой. Пока Михай вынимал из сундучка мужской костюм, она выплела из косы тяжелые парчовые ленты.
— Переоденешься да ты слушай внимательно! — иди прямиком к Тисе. На берегу, где-нибудь в ивняке, аккуратно сложишь свое женское платье. Все ведь девушки так делают, собираясь утопиться. Платье на берегу оставляют, а с собой только горе свое берут.
— Все, как вы велите, сделаю…
— Он, беда, беда! — послышались отчаянные возгласы с повозки Криштона.
— Что случилось? — отозвался Лештяк.
— В какую-то топь заехали!
Ничего удивительного в этом, разумеется, не было. В те времена почтенные комитатские власти были еще свободны от дорожной повинности. Еще не родилась и пословица, что «грязь на грязь кладут — дорогой зовут», потому что в те времена на грязь ни грязи, ни вообще ничего не клали. В ту пору была распространена другая точка зрения, а именно что «телега сама себе дорогу прокладывает». Видит человек: есть колея, значит и до него здесь люди были, а «коли другие ездили, то и я проеду».
Но на этот раз колея вдруг кончилась, и телега очутилась по самые оси в затянутой тиной, поросшем осокой болоте, которое при свете луны показалось вознице зеленым.
Сумасбродный это край — Алфёльд, прозванный Шандором Петефи «открытой книгой». Днем в своих миражах сушу превращает он в водные просторы, а ночью делает воду похожей на сушу. Не знаешь, когда чему верить.
Кучер ругался, бил лошадей, так что те чуть не рвали на себе упряжь, но он и сам, собственно, не знал, куда надо править чтобы выбраться на дорогу. Второй возок, попытавший счастья в другом направлении, тоже увяз в грязи.
— Все здесь засядем! Эй, кто знает дорогу. Путники соскочили с телег и начали советоваться.
— Наверняка к «Чертовым озерам» заехали, — решил Поросноки. — Должен здесь где-то брод быть. Слышал я много раз от чумаков, что они между озерами на хорошую дорогу выбирались.
— Но как? Будем плутать, пока не утопимся.
— Надо бы разбудить старого Мартона. Он часто гонял гурты в Пешт, даже осенью, в ненастье: может быть, он отыщет путь. Эй, табунщик на последней подводе, разбуди-ка дядю Мартона!
И шустрый Пали, долго не мешкая, принялся тормошить спавшего старика.
— Ну, что там? Чего ты дергаешь меня, сорванец?
— Простите, дядюшка, я только потому разбудил вас, что спросить хотел, не знаете ли вы, где проходит дорога на Кечкемет?
— Как не знать, — ответил скупой на слова скотогон.
— Мы, как видно, к «Чертовым озерам» забрались. Две передних телеги уже в грязи увязли. Оглядитесь, посоветуйте, как отсюда выбираться.
Старый Мартон внимательно вгляделся в небо, усеянное мириадами мигающих искрящихся звезд.
— Может быть, вы с возка сойдете, посмотрите, где мы?
— А что я там увижу? — рассердился старик. — Один конский щавель как две капли воды на другой похож. Не знахарь я, чтобы в травах разбираться.
И старик снова стал внимательно всматриваться в звезды над головой.
Вдруг он приподнялся на телеге и крикнул кучеру Криштона:
— Эй, сынок, видишь две звездочки, что внутри ковша Большой Медведицы? Одна — большая, тусклая, а другая — поменьше, но ярче. Друг против друга они.
— Вижу, дядя Мартон.
— Ну так вот, держи как раз посередке между ними. Там и будет хорошая дорога.
Сказал и снова улегся спать, твердо убежденный, что теперь все будет в порядке. Господа тоже выбрались из воды, доходившей до колена, и вскарабкались на телеги. Вернулся к своей повозке и Лештяк, но Цинны на ней уже не было. В суматохе цыганочке удалось ускользнуть незамеченной, только черная коса осталась лежать на телеге.
Михай со вздохом взял в руку пышную косу и по щепотке принялся сбрасывать волосы в болото. Ветерок относил черные нити волос в сторону, и они сначала словно парили в воздухе, а затем плавно опускались на зеленоватую воду, которая качала их на своей поверхности, обвивая ими кувшинки, осоку и цветочки дикого горошка, напоминающие мотыльков…
Когда путники, по указанию пастуха Мартона, действительно выбрались на твердую колею, в руке у бургомистра остался один-единственный волосок — тот, которым он обвил один из своих перстней.
— Эй, люди! — громко крикнул Лештяк, — Где же моя девица? К кому на телегу она пересела?
Ответ отовсюду был один: «Здесь нет! И у нас нет!»
— Слава богу! — проговорили сенаторы облегченно. — Сбежала маленькая плутовка!
Злоключениям их пришел конец. Теперь до самого рассвета депутация ехала без всяких происшествий: от деревни к деревне, от хутора к хутору; только изредка дорога становилась малозаметной. Но теперь уж это было не страшно: стоило только разбудить старого Марци, и он всякий раз безошибочно указывал единственно правильный путь.
— Держите прямиком на маленькую звездочку, сбоку от Наседки с цыплятами *.
Среди сверкающих небесных светил пастух чувствовал себя уверенно, как дома. Земля казалась ему всюду одинаковой и потому незнакомой, а небо — будто открытое взору, вечно неизменное и потому знакомое синее поле.
На нем-то дядя Марци и проложил депутации путь от Пешта до самого славного Кечкемета. И был этот путь такой прямой и ясный, что порой старому пастуху даже казалось, будто пыль клубится на его небесной дороге.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Одураченный город
Пинтё расставил на площади заряженные мортиры; кое-где готовили огромные транспаранты с надписями: «Добро пожаловать!» «Виват!» и т. п. Известный своим умением красиво говорить Пал Фекете как раз зубрил у себя на пчельнике речь, которая начиналась словами: «Кому не довелось слышать о славном, мудром, всеми почитаемом Сенеке?» (Разумеется, все уже слышали о нем, так как почтеннейший Пал Фекете постоянно жил за счет изречений этого почтенного и мудрого мужа — или за счет изречений, которые ему приписывал.) Бюрю и его музыканты уже канифолили свои смычки. Словом, шли грандиозные приготовления. Чего доброго, и в колокола ударили бы, если бы господин Поросноки еще под Цегледом не догадался посадить на лошадь проворного табунщика Пали и послать его с предупреждением в Кечкемет, чтобы там не вздумали затевать каких-нибудь торжеств, так как радоваться нечему. Гонец Поросноки поверг горожан в уныние; хмуро, с кислыми физиономиями взирали кечкеметцы под вечер из окон и из-за заборов на вступление в город своей незадачливой депутации. Не было слышно ни одного, даже самого слабого возгласа «ура», только собаки с лаем бежали вслед за подводами. Может быть, так оно и лучше: зачем дразнить, раздувать обиду, которая и без того достаточно велика!
В тот же вечер город облетело известие о том, как Надькёрёшцам удалось оставить Кечкемет с носом, а вернее, как Кечкемет сам себя наказал, получив от султана — явно в насмешку — в обмен на свои многочисленные дорогие дары и сокровища какой-то жалкий кафтанишко. (Чтоб султан подавился им!) Вот уж поистине, стыд и позор! Как только не совестно было делегации возвращаться домой с этим кафтаном?!
На другой день перед городской ратушей собрались толпы народа: наиболее уважаемые граждане города поднялись в зал, чтобы из собственных уст членов депутации услышать отчет о результатах поездки. Таков уж был старинный обычай в городе. Народ попроще толкался снаружи, женщины визжали, разбитные парни шныряли повсюду и фальшивыми голосами подбирали мелодию для стишка, который в этот момент, неизвестно кем придуманный, был на устах всей толпы:
Кечкемет от счастья пьян — С султанских плеч на нем кафтан…А тут еще проезжавшие через город надькёрёшские возчики подлили масла в огонь. Подстегнув лошадей, они с издевкой бросили в толпу:
— Ну как, не жарко в кафтанишке-то? А?
Что говорить, именитым мужам города, собравшимся наверху, в ратуше, было, пожалуй, и вправду жарко!
Мрачно сидели они в своих креслах; некоторые, как, например, господин Инокаи, уже смирились со своим поражением. Но с красивого смуглого лица городского головы все еще не сходило выражение отваги и упорства.
Путевые впечатления красочно расписал в своей искусно составленной речи Поросноки. Он начал ее с упоминания о боге (который так часто навещает Кечкемет, что его вполне можно было бы считать местным жителем): «Не без божьего промысла зародился в наших головах план, который должен был навсегда избавить город от дани и поборов. Нами руководили вера и добрые намерения (господь бог и тому свидетель!), и не наша вина, что план сорвался. Оно конечно, расходы понесены огромные, но ведь мы думали — кто смел, тот и съел!»
Вначале все слушали тихо, и складная речь Поросноки, казалось, могла бы спасти магистрат, если бы во время изложения подробностей, с великим пафосом расписанных оратором («…и вот в среду мы предстали перед его величеством турецким султаном, который восседал в своем великолепном царском облачении…»), — если бы в этот момент его не прервал Гашпар Пермете, громко воскликнув:
— А была ли у него во рту трубка?
Собравшиеся заулыбались, и грубые шутки посыпались одна за другой.
Авторитет делегации быстро таял. Ведь достаточно одной единственной искры, чтобы солома вспыхнула.
— Какую тьму добра-то ухлопали!
— Понашили красных платьев для каких-то шлюх! Чиновные сводники!
— Повезли султану кнут с рукояткой из драгоценных камней, золотую секиру! Вот на что ухнули денежки!
— Посмешище из нас сделали! Я только что с улицы, слышал, как надькёрёпщы орали на ярмарочной площади: «Ну как не жарко в кафтанишке-то?» Такой позор на наш город!
— Что вы на это ответите, господа сенаторы?!
А верзила Йожеф Беркеши вскочил с места и, выкатив глаза и угрожающе размахивая кулаками, заревел зычным голосом!
— Уходите в отставку! Прочь от зеленого стола! Подобно урагану, вырывающему с корнем деревья, под сводами зала эхом прокатилось стоустое зловещее: «Уходите в отставку» разгневанные горожане все теснее обступали зеленый стол. Михай Лештяк отшвырнул от себя стул отцепил со своего жилета печать города и вместе с цепочкой бросил ее на стол, Пролетев по столу она сорвалась и со звоном стукнулась об пол и откатилась в самый дальний угол зала.
— Вот она, пожалуйста! — И он поспешил к двери. Но Балаж Путноки преградил ему дорогу.
— Не тут-то было, молодчик! Ни с места! Перед богом и людьми я обвиняю тебя в том, что ты стакнулся с врагами города, предал в руки Чуды столпов нашей святой церкви. Ты арестован!
— По чьему приказу? — гордым и холодным тоном спросил Лештяк».
Путноки смешался и замолчал, словно ему вдруг отрезало язык, а Лештяк, хлопнув дверью, удалился из зала.
Теперь один за другим встали и остальные сенаторы и, уступая общей воле, сложили с себя полномочия.
В воцарившемся хаосе к председательскому креслу протиснулся почтеннейший Йожеф Беркеши.
— Я вношу предложение: до тех пор пока мы после зрелого размышления не выберем новый магистрат, пусть делами города займется временная комиссия из трех человек. В составе трех наших граждан: одного католика, одного кальвиниста и одного лютеранина.
— Правильно! — завопили все вокруг.
Тут же и выкликнули трех кандидатов: Шамуэль Холеци, Балаж Путноки и Йожеф Беркеши.
Не дожидаясь даже, пока толпа разойдется, триумвират удалился на совещание в соседнюю комнату и первым делом постановил арестовать Михая Лештяка.
Вот уж когда запричитал да заплакал старый Лештяк! Еще бы — ведь пришли забирать в тюрьму его гордость, его милого Мишку! Сперва схватился старик за утюг, чтобы им побить гайдуков, а когда те отняли утюг, обратился к Библии и, словно громы и молнии, стал метать подходящие к случаю фразы из нее — то в Дюри Пинте, то в Пишту Мушку.
— Ты, отец, не принимай все это близко к сердцу! — с некоторым раздражением проговорил низвергнутый городской голова. — Это тоже ненадолго.
— Они еще поплатятся за все! — восклицал старик, словно театральный герой, грозно потрясая кулаками. — Ждет тебя кара, Кечкемет, подобная той, что выпала на долю Содома и Гоморры.
— Нам еще улыбнется богиня счастья, — утешал его Мишка.
— Богиня? - И старик вновь расплакался, как старуха. — Богиня — такая же баба, как всякая женщина! Каждый раз бегает за новым мужиком. Если кого разлюбит однажды да покинет, то уж больше к нему не вернется.
Потом в отчаянии, порывистым движением сумасшедшего он схватил ножницы и стал кромсать на куски великолепный шелковый доломан, который только что сшил, хриплым голосом приговаривая:
— Сгинь, собака, лопни, собака! Конец миру!
Миру, правда, конец не пришел, но доломана — как не бывало, а бедного Мишку действительно увели в зловонную тюрьму при городской ратуше.
Старик бросился было за ним, но у калитки его дряхлые ноги отказались служить ему, и он только прокричал с порога:
— Не бойся, дорогой сынок, я вызволю тебя оттуда! Добьюсь твоего освобождения!
Разумеется, в те времена это было вполне возможно: стоило только обратиться к будайскому паше, чтобы добиться приказа об освобождении. Если сердце будайского паши не смягчалось, то проситель шел к сольнокскому паше — его приказ тоже имел силу. Предположим, что и сольнокский паша пребывал в плохом расположении духа, — тогда имело смысл испросить аудиенцию у калгайского султана, или же прокатиться в Фюлек, бить челом вице-губернатору, а на худой конец, и почтеннейший господин Чуда мог распорядиться, чтобы заключенного выпустили на свободу. Но проще всего было обратиться к его благородию господину Иштвану Кохари, в Сечень. Все эти заслуженные и достойные господа могли приказывать Кечкемету.
В это время к Лештяку очень кстати нанялся какой-то бродячий подмастерье, внушавший доверие молодой паренек — так что Лештяк мог спокойно перекинуть котомку через плечо и начать по очереди обходить названных господ (с кем первым повезет), оставив на парня дом и поручив ему принимать заказы и уговаривать нетерпеливых клиентов; служанке Эржике велено было стряпать для него и приглядываться, что он собою представляет. «Только ты смотри, братец Лацко (тебя ведь, кажется, Лаци зовут, сынок?), не трогай девушку. Она — крестница моя».
С тем и отправился старик в путь. Странствовал Лештяк долго. Только в середине зимы вернулся он домой.
А зиму в тот год предсказывали суровую, студеную, да она такой и оказалась. Воюющим сторонам пришлось перенести много лишений. Целая сотня отважных куруцев Тёкёли замерзла еще до рождества. А из-за плохого урожая в прошлом году провианта тоже было в обрез; вояки не только мерзли, но и голодали. Словом, не было ничего удивительного, если кое-где они и бесчинствовали.
В тот же самый вечер, когда старый Лештяк вернулся домой с грамотой будайского паши, к городу подошел отряд калгайского султана, под предводительством пользовавшегося недоброй славой Олай-бека, турки вели за собой огромную толпу связанных невольников — женщин и мужчин. Олай-бек послал с конными нарочными следующий приказ городскому триумвирату:
«Неверные собаки! Если завтра до полудня вы не пришлете мне восемь телег хлеба, сорок волов, двадцать телег дров и четыре тысячи пятьсот форинтов, то я сам приду за ними со своими солдатами и отрублю вашему триумвирату две головы, поскольку городскому голове и одной головы достаточно. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду».
В ратуше начался переполох. Гайдуки сломя голову бегали из дома в дом, передавая горожанам приказ печь хлеб и готовить дрова для могущественного Олай-бека» Однако самым сложным оказалось собрать деньги, так как городская казна была пуста. Такое кровопускание сейчас не очень-то легко было перенести.
Матяш Лештяк, с напускным смирением на лице явившийся к «отцам города» (такова уж была повадка у старика, когда он чувствовал за собой силу), застал их охваченными страхом.
— А вам чего здесь надо? — грубо спросил его Путноки.
— Я за парнем пришел, милостивый государь.
— За каким еще парнем?
— За сыном моим. Заберу домой беднягу.
— Если мы его отпустим…
— Конечно, конечно, — проговорил старик небрежно и развернул перед господином Путноки грамоту Ибрагим-паши. — А вообще, как господам будет угодно…
Пробежав послание паши, триумвират капитулировал, от страха даже за затылок схватился, ибо добрейший Ибрагим-паша, взяв перо в руки, никогда не мог начертать серьезного послания, не сдобрив его веселой шуткой. Так и на этот раз внизу он приписал: «Вижу, у вас очень свербят шеи».
— Вот теперь другое дело, — проговорил перетрусивший триумвират. — Приказу мы подчиняемся. Однако сейчас поздний вечер, да и тюремщика уже нет. Выпустим мы твоего Михая завтра утром.
Портной отправился домой, но чуть свет снова был у ворот ратуши. Погода стояла прескверная, клубился плотный туман, падал легкий снежок.
«Отцы города» явились в ратушу довольно рано, особенно Путноки, которого ночью осенила отличная мысль; он спешил изложить ее своим коллегам.
— Нехорошо будет, если Лештяк выйдет на свободу. В башке у него ума и хитрости хоть отбавляй.
— Да, башка у него крепкая, это верно. Но и санджак-паше мы не можем перечить.
— А я и не собираюсь этого делать. Выпустить-то его на свободу мы выпустим, но пошлем в такое место, откуда он уж больше никогда не воротится. Словом, поручите это мне, милостивые государи!
На улицах было на редкость людно для такого раннего часа. Жители — кто в котомках, кто на тележках — спешили увезти все, что было у них ценного, на отдаленные хутора. Появление Олай-бека у стен города повергло всех в ужас. Ибо бравый Олай-бек, нужно признать, не был торгашом, подобно Чуде, или ничтожеством, вроде Дервиш-бека, которые довольствовались похищением какого-то там попика или красивой девчонки. Храбрый Олай-бек был человеком широкого размаха. Наведывался он редко, но уж если приходил то угонял в рабство сразу целую улицу: женщин, детей, причем со всем скарбом, с лошадьми и домашним скотом, — не оставляя после себя ничего, кроме свиней, мясо которых, как животных нечистых, запрещает есть святой Коран. Таков был Олай-бек, надо отдать ему должное.
Прослышав об его требованиях, именитые люди Кечкемета потянулись к зданию ратуши: один нес денег, другой — хлеб, третий шел предложить дров. На дворе было раннее утро, но дурные вести — лучший будильник.
Многие недовольно заворчали, когда господин Путноки распорядился привести Михая Лештяка из тюрьмы в ратушу.
Лештяк предстал перед триумвиратами немного побледневшим, но с высоко поднятой головой.
— Михай Лештяк, — торжественно провозгласил триумвират — вам возвращается свобода!
По залу прокатился недовольный гул.
— У вас сильный покровитель. Сам будайский визирь! — ядовито добавил Путноки.
Лештяк ничего не ответил. Он сделал нетерпеливое движение, словно собираясь уйти.
— Не так быстро! Погодите! Будайский паша — не папа римский, господин бывший бургомистр! Он может отпирать и запирать тюремные замки, но грехи отпускать он не может. Их следует искупать.
Воцарилась томительная тишина; все, затаив дыхание, ждали, что же будет дальше.
— У границ города стоит беспощадный Олай-бек. За Крапивным озером. Он наложил на город огромную дань, которую нам надлежало переслать ему сегодня до полудня. А мы не в силах собрать ее. Так вот, Михай Лештяк, знаете, к чему мы вас приговариваем?
— Коли скажете — буду знать!
Ехидно посмеиваясь, Балаж Путноки продолжал:
— Привезли вы нам кафтанчик. Вот мы и посмотрим теперь, на что он годится. Так что наденьте-ка его на себя и поезжайте к беку!
Сердце у Мишки сжалось. Но он тотчас же овладел собой и приказал самому себе: «Не бояться! Нельзя…»
Сердце его трепетало и голос стал глуше, бесцветнее, но на лице было выражение полнейшего спокойствия, когда он произнес:
— И что же я должен сказать беку?
— Скажете ему, чтобы он удовольствовался половиной дани, да и ту подождал бы еще день-два, пока мы ее соберем. Или же, черт возьми, предложите ему кафтан, который равнозначен пятидесяти лошадям, ста волам и почти четырем тысячам золотых. Он, верно, будет доволен, кхе-кхе-кхе, а сдачу, если дадут, привезите, милейший, и верните в городскую казну. Ха-ха-ха!
— Но ведь он меня тотчас же посадит на кол или продаст в рабство!
Путноки пожал плечами.
— Это уж ваша забота, милейший.
— Вот как?! — с горечью воскликнул Лештяк. — Вы действительно приговариваете меня к этому?
Затуманенным взглядом он посмотрел на триумвиров, на седовласых отцов города. А те закивали головами в знак того, что считают приговор справедливым. Нужно, мол, преподать устрашающий урок легкомысленным повесам, растранжирившим столько добра!
— Лучше отправьте меня назад в тюрьму, — необдуманно воскликнул Лештяк, но тотчас же устыдился своих слов.
— А чего же вы так боитесь? — язвительно спросил триумвир. — Ведь кафтан-то на вас будет!
Эти слова вызвали взрыв всеобщего хохота. Лештяк побагровел.
— Я не из пугливых! — гордо проговорил он. — Когда выезжать?
— Еще до полудня. Вот только распоряжения отдам! А вы тем временем, может быть, исповедуетесь?
— Нет.
Старый портной в отчаянии бегал по городу и кричал, что это неслыханное беззаконие посылать его сына в самую пасть татарскому войску. Ведь это же смертный приговор. Без суда и защиты! «Не допустите, добрые люди, такого беззакония! Подумайте о том, как вы любили его три месяца назад. Протестуйте, возьмитесь за топоры и вилы! Идемте, я поведу вас. Скосим этот клевер-трилистник!» (В городе уже успели прозвать триумвират в насмешку «трилистником».)
Но никто и пальцем не шевельнул в защиту Лештяка. Ведь вожди в почете лишь до тех пор, пока они у власти. Разве что в каком-нибудь окошке, где на подоконнике в горшках цвели розмарины или пеларгонии, пригорюнилась румяная мордашка какой-нибудь молоденькой брюнетки или блондинки, и печальный вздох пошевелил лепестки цветка: «Бедный Мишка Лештяк!»
Но красавицы оставались невидимыми и лишь нетерпеливо поглядывали на дорогу из своих укрытий: «Когда же он появится? О, хоть бы взглянуть на него в этом самом кафтане! Ну, чего же он так долго не едет?!»
Тем временем во дворе ратуши оседлали лошадь. Мишка легко вспрыгнул в седло, хотя и мешал ему зеленый шитый кафтан, достававший почти до пят. Лештяк даже засвистел, ставя левую ногу в стремя: пусть кечкеметцы в грустных песнях и двести лет спустя вспоминают о том, как он отправлялся в свой последний путь…
Два гайдука также вскочили на коней и с саблями наголо поскакали рядом с ним. Из города выезжали через задние ворота, выбирая боковые улицы, чтобы избежать насмешек и криков скопившихся зевак. До смеха ли тут?!
Триумвиры провожали их взглядами из окон ратуши, пока всадники не скрылись в клубящемся тумане. Путноки довольно потер руки.
— Ну, этот больше не услышит кечкеметского рога! (Звуками рога с колокольни церкви св. Миклоша в Кечкемете возвещали наступление полдня.) — Затем, повернувшись к собравшимся гражданам, Путноки призвал: — А мы поспешим нагрузить дань на телеги: ведь разъяренный Олай-бек сразу двинется на город, и надо, чтобы ему еще в пути встретился караван с данью.
Конники проводили Лештяка только до городской черты, как это делалось когда кого-нибудь изгоняли из города. Так им было приказано. До самого Олай-бека они все равно бы не добрались, да жаль было бы гайдуков!
Возможно, что и Лештяк не поедет к Олай-беку, а по дороге свернет куда-нибудь в сторону: мир велик, хочешь, иди на все четыре стороны. Ну и пусть, не беда, если он даже спасется бегством. Только бы не болтался тут под ногами.
Но, видно, плохо они его знали. Медленно труся по бескрайнему снежному савану в направлении Крапивного озера, Лештяк думал:
«Поеду к Олай-беку. Я должен туда поехать. Ведь если не поеду, меня навечно ославят трусом. Если же поеду, то, может быть, еще и вернусь живым. Олай-бек — умный человек. От мертвого ему никакой пользы, а живой человек — для него товар. Он ведь рабами торгует. В худшем случае, угонит меня в полон. Словом, поеду!»
Подхватив свисающую полу кафтана, Лештяк подхлестнул ею лошаденку, отчего бедняга задвигалась чуточку проворнее. Надо сказать, что ей повезло: еще вчера день-деньской клячонка эта вертела мельничные жернова, а сегодня вдруг стала верховым скакуном. (Триумвиры же думали: «Для татарвы и такая сойдет!»)
— На плаху, на верную смерть решили послать меня! — шипел сквозь зубы всадник, и от жажды мести в нем закипала кровь. — Ну, погодите! Дайте только домой вернуться…
Он погрозил кулаком и яростно лягнул лошадь, самоотверженно сносившую все удары, предназначавшиеся триумвирам. Подул пронизывающий ветер. Значит, близко озеро. Впрочем, можно было уже слышать далекий шум и гул — это гудел татарский лагерь… Что ж, поехали, мой рысак, поехали!
Напротив, совсем рядом, коричневым пятном темнел загон — сплетенная из камыша переносная ограда, за которой обычно зимовал скот, впрочем, защитить она могла разве что только от ветра. Это был давным-давно заброшенный загон, уцелел от него всего лишь один угол. (К счастью, камыш не был причислен татарами к числу ценностей, а то бы и ему несдобровать.) Лештяку предстояло как раз проехать мимо него. С лошади он разглядел, что в загоне стоит мужчина в накидке и широкополой черной шляпе; возможно, он укрылся там от не утихавшего снегопада.
Человек вышел из загона и крикнул ему:
— Остановитесь на одно словечко, господин Михай Лештяк! Лештяк даже не посмотрел в его сторону, а ответил весьма грубо:
— Нет, добрый человек, такого слова, которое могло бы меня остановить!
— Это я, Цинна!
Значит, было такое слово, которое могло остановить его, поскольку, услышав это имя, Лештяк спрыгнул с коня.
— Несчастная, как ты очутилась здесь? Эх, до чего же красивым парнем ты стала! — И он улыбнулся устало, печально.
— Хорошо, что вы, сударь, сошли с этого коня. Дальше я на нем поеду. Идите вот сюда, в загон, да побыстрее. А я натяну на себя этот кафтан.
— Ты что, с ума сошла?
— Я все обдумала, когда услышала дома, куда вас посылают. Если вы, сударь, поедете к татарам, вас убьют или угонят в рабство. Ведь так?
— Правда, Цинна! Но как все-таки удивительно, что ты — здесь!
Он смущенно смотрел на нее и не мог наглядеться.
— Коли вас убьют, то никто уже вас не воскресит, — говорила Цинна.
— И это, пожалуй, правда.
— Да не шутите вы в такой миг, ужасный вы человек! И коли вас угонят в рабство, так уж никто не выкупит. «Отцы города» не допустят этого…
Михай угрюмо кусал губы.
— …Если же я поеду к татарам, выдав себя за Михая Лештяка, а они захотят убить меня, то, увидев, что я женщина, они не сделают этого, так как татары не убивают женщин, и вы, сударь, позднее сможете меня выкупить. А если они увезут меня в полон, то и тогда вы, сударь, сумеете выкупить меня, как Михая Лештяка. Словом, давайте сюда поскорее ваш кафтан!
Говоря так вкрадчивым и нежным голосом, она незаметно стянула кафтан с плеч Михая.
Михай пытался возражать: «Нет и нет! Что ты задумала!» — но аргументы Цинны оказали на него свое действие.
— Так! — Он потер лоб. — Конечно, я тебя выкуплю. Еще бы не выкупить! Говоришь, что ты все равно обязана мне жизнью? Послушай, не так же надо надевать его. Не умничай, девица. Стой, подожди! Право же, я сам не знаю, что нам делать!
Но девушка не слушала его: кафтан уже был на ней, а в следующее мгновение она восседала на лошади, легкая, как пушинка.
А еще миг спустя ее поглотил туман. Напрасно бежал за ней Лештяк и сердито кричал вдогонку:
— Остановись! Не смей! Приказываю тебе: остановись!
Но все эти возгласы были теперь уже напрасными. Минутная слабость — начало падения многих великих людей.
Девушка трусила на лошади, нигде не останавливаясь, пока не очутилась у татарского лагеря.
— Отведите меня к вашему командиру. Я — Михай Лештяк, посол Кечкемета! — сказала она.
— Сойди с коня, добрый человек. Я отведу тебя к нему, — вызвался приземистый татарин, говоривший по-венгерски и даже с хорошим произношением. — Ну и скакуна же дали тебе кечкеметские сенаторы! А вот как раз и наш повелитель, Олай-бек, да освятит аллах его бороду во веки веков!
И действительно, на красивом гнедом коне к ним приближался сам Олай-бек, человек гигантского телосложения; он только что устраивал смотр своим войскам.
— Посол от Кечкемета прибыл, о могущественный бек! — доложил приземистый татарин.
Бек окинул внимательным взглядом посла, его кафтан, потом вежливо проговорил:
— Повернись, пожалуйста, добрый молодец, если этой просьбой я не обижу тебя.
Цинна повернулась.
Олай-бек взглянул на кафтан сзади. Затем он быстро соскочил с коня, пал наземь перед Цинной и трижды поцеловал край кафтана. Цинна изумленно взирала на него своими большими черными глазами, и ей казалось, что она видит все это во сне.
— Велик аллах, а Магомет — пророк его. Что прикажешь, о посланец города Кечкемета?
Олай-бек стоял перед ней, подобострастно согнувшись.
Цинна поколебалась немного, а потом твердым голосом сказала:
— Сей же час покиньте пределы кечкеметские! Олай-бек возвел к небу свои сонливые, бараньи глаза, а затем повернулся к войску и громко скомандовал:
— Седлать коней! Выступаем!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Диктатор. Золотой век Кечкемета
Лештяк остался у загона, раздумывая над тем, что же ему предпринять, куда идти. В отяжелевшей вдруг голове мысля растекались, словно расплавленный свинец; усталость сковала все его члены, совесть нещадно терзала душу: «Дурно я поступил. О жалкий трус-себялюбец!»
Мучительное беспокойство кололо его, как шипы терновника. Он мрачно смотрел перед собой: «Куда же теперь податься?»
Туман несколько рассеялся, и невдалеке, подобно огромному глазу, засверкало Крапивное озеро. Казалось, оно, подмигивая, манило его к себе: «Иди сюда, Михай Лештяк, самое лучшее для тебя — это лечь здесь, укрыться серебряным одеялом и заснуть на мягкой песчаной подушке!.. Это — самый прямой путь для тебя!»
Лештяк сделал несколько шагов по направлению к озеру, но куст крыжовника — самое высокое «дерево» во всей округе — преградил ему путь. Маленькие снежинки облепили его тоненькие веточки, так что Лештяк не заметил куста и споткнулся о его нижние ветви.
Упал Лештяк, ухо его коснулось матери сырой земли — и вдруг услышал он, почуял, что где-то вдали по земле грохочут тысячи копыт, а в воздухе несется странный гул и шелест.
Лештяк содрогнулся: «Беда, татары двинулись на город!» Но, тсс! Топот как будто удаляется, становится все тише и тише, и вот уже замер совсем, растаяв в слабом шелесте ветра.
Только одна лошадь приближается к загону. Цок, цок! — стучат ее копыта. Да, одна-единственная лошадь. Боже правый — на ней сидит Цинна!
Лештяк вскочил и, даже не стряхнув со своего платья налипший на него мокрый снег, бросился к девушке с лихорадочной поспешностью.
— Это ты? С тобой ничего не случилось? Это действительно ты! Что же произошло?
Цинна весело улыбалась. Но прежде чем ответить, она шаловливо надула щеки, стараясь придать своему личику геройский вид.
— А то произошло, прошу покорнейше, что я прогнала татарское войско. Они уже убираются восвояси!
— Не болтай! — крикнул Лештяк, что на самом деле означало: «Говори, прошу тебя, говори!»
И она заговорила. Но прежде нежно, любовно погладила запушенный снегом зеленый кафтан, обласкав его своим лучистым взглядом.
— Да, сударь, многого стоит эта одежонка.
— В каком смысле?
— Олай-бек, увидев ее на мне, тотчас сошел с лошади, трижды поцеловал полу кафтана и почтительнейше спросил, каковы будут мои приказания. А я взяла да и приказала, чтобы они все немедленно убирались отсюда. И они послушались и в самом деле убрались!
Михай Лештяк слушал, разинув рот от изумления.
— Возможно ли? Неужели этот кафтан обладает такой чудодейственной силой?
— Да, все произошло именно так, как я сказала! Слово в слово! Но у нас нет сейчас времени на долгие разговоры; вот кафтан, надевайте его поскорее, а вот и ваш конь — садитесь на него. Я же вернусь в город другой дорогой.
— Черт возьми, но ведь это же настоящее чудо! — ликовал Михай, все еще находясь во власти изумления. — Так ведь этому кафтану цены нет!
— Я думаю! Но прошу вас, торопитесь! Иначе кечкеметцы вот-вот сами подъедут сюда. Мне кажется, я уже вижу черные точки. Это движутся со стороны города телеги с данью.
Тень пробежала по лицу Михая.
— Верно, Цинна. Но ты смотри не говори никому об этом! Спасибо тебе за то, что ты сделала. А я еще поговорю с тобою… сегодня же. Да, я поговорю с тобою, Цинна.
— Хорошо, хорошо, — отмахнулся юркий «паренек» и, быстро зашагав в сторону развесистого вяза, прозванного в народе «деревом в юбке», вскоре скрылся из виду.
Лештяк поехал обычным путем. Вскоре он действительно наткнулся на длинную вереницу подвод, груженных хлебом и дровами; Мартон, пастух из Сикры, ругаясь на чем свет стоит, гнал волов. Впереди подвод на красивом со звездочкой во лбу коне гарцевал один из триумвиров, Шамуэль Холеци; на боку у него болталась желтая кожаная сумка с самым главным — с деньгами. А на одной из подвод, на горе из румяных хрустящих хлебов, восседала сама тетушка Фабиан. Не вытерпела, поглядеть на «татарина с песьей головой» поехала. Рядом с нею примостился златоустый Пал Фекете; его то и дело мигающие, как у кролика, глазки были устремлены на какую-то бумагу, исписанную мелкими буковками.
— Эй, смотрите-ка! Михай Лештяк! — опешили кечкеметцы. — Не иначе, с того света явился.
Шамуэль Холеци, который был не так уж зол на Лештяка (ведь лютеране всегда найдут общий язык друг с другом!), но зато отличался необыкновенным любопытством, — вкрадчиво спросил: :
— Ведь это только душа ваша, друг мой, а не вы сами?
— Нет, это я сам, но без души, — ехидно заметил Михай. (Кто знает, что-то он имел в виду?) — А куда это вы, милостивые государи, путь держите?
— Гость у границ нашего города, — шутливо отвечал триумвир, — вот мы и везем ему, бедному, немножко провианта. (Достойному господину Холеци никогда не изменяло чувство юмора.)
— Н-да, ну что ж, везите, только трудновато будет вам его догнать.
— Как так?
— А так, что он уже за тридевять земель отсюда. Ушел гость, ушел, не простившись.
— Неужели? — прошепелявила вдовушка Фабиан.
— Жаль! — вздохнул почтеннейший Фекете. — Бек упустил возможность услышать на редкость красивую речь.
Тут Лештяк рассказал историю с кафтаном, отчего физиономия господина Шамуэля Холеци стала вдруг кирпично-красного цвета.
— Знатное событие, — пробормотал он, недовольно почесывая свой курносый нос. — Да такого, наверное, со времени сотворения мира еще не случалось.
Но замешательство его длилось всего лишь одну минуту. Холеци был хитрая лиса и умел быстро найтись.
— Ну-ка, возчики! Эй, люди, поворачивай домой! Великий день выдался для Кечкемета!
А сам спрыгнул с лошади и преисполненным почтения голосом воскликнул:
— Садитесь на моего конька, достойнейший Михай Лештяк. Не могу я так позорить вас, заставить трястись на этой кляче.
— Ничего, она вполне хороша для меня. Благодарю вас. Сажали меня на нее все три триумвира вместе, значит один триумвир не вправе ссаживать.
— Ну, тогда вот что. Садитесь-ка на моего коня вы, Пал Фекете, и скачите в город сообщить о случившемся.
Кечкеметский Цицерон ухватился за возможность щедро вознаградить себя за непроизнесенную речь.
— Во весь опор поскачу! Вот уж счастье мне привалило — на таком красивом коньке прокатиться! Однако дайте же мне какой-нибудь кнут, а то у меня ведь шпор-то нет.
Но горячей «Чаровнице» не нужно было никакого кнута, она понесла великого оратора, словно сказочный конь-огонь, которому вместо овса подсыпали в торбу угли.
Лошадь была вся в мыле, пар валил у нее из ноздрей, да и с самого господина Фекете пот лил в три ручья, когда прискакал он на базарную площадь, где и произнес восторженную, расцвеченную перлами ораторского искусства речь, возвестив сбежавшимся со всех сторон горожанам об особом милосердии творца, ниспосланном городу: о том, что бессловесный предмет одежды словно обрел вдруг дар речи и отогнал от границ города свирепого ворога.
— Произошло чудо! Почтенные жители Кечкемета, звоните в колокола! Алчный Олай-бек пал ниц и трижды поцеловал на господине Михае Лештяке кафтан, подобострастно вопрошая: «Что прикажешь, о посланец города Кечкемета?» На что господин Михай Лештяк поднял голову и, подобно мудрейшему и достойнейшему Сенеке (кто из вас не слышал о нем?!), так ответил ему: «Не мешайте мне чертить», — иными словами убирайтесь отсюда ко всем чертям!
— Я не уверен, что Сенека сказал именно так! — прервал его визгливым голоском реформаторский проповедник преподобный Эжайаш Мокрош.
Но Пал Фекете не дал себя сбить:
— Зато я уверен, что подводы с хлебом, волы, сумка с деньгами, триумвир и Михай Лештяк уже возвращаются в наш родной город!
Раздались громкие крики ликования. С быстротой огня разнесся слух о чуде; с улицы на улицу, из дома в дом катилась повергающая всех в изумление весть. Позорно свергнутые, всеми осмеянные сенаторы вновь выползли на свет божий, к людям. И люди прокричали «ура» в честь Поросноки, расступились и сняли шляпы, давая дорогу старому Инокаи. А почтеннейшего Ференца Криштона громкими выкриками: «Просим, просим!» — уговорили произнести речь. Его милость не заставил себя долго упрашивать, а взобрался на бочку из-под капусты, стоявшую на рыночной площади, и сказал лишь следующее:
— Прошу у вас справедливости к гениальному юноше, которому мы все обязаны этим великим днем.
— Справедливости! — эхом вырвалось из тысячи глоток. Толпа горожан, увеличивавшаяся с каждым мигом, словно река в половодье, колыхалась. Повсюду стоял гул, кипело оживление; мужчины и женщины, оживленно жестикулируя, передавали только что подошедшим слова Пала Фекете о чуде с «говорящим кафтаном». Разумеется, каждый прибавлял от себя какую-нибудь новую цветистую подробность.
Вместе с воздухом, сотрясаемым приветствиями и здравицами, люди вдыхали в себя колоссальное воодушевление, заставлявшее трепетать их сердца. Все суетились, кричали — каждый свое, но мысли всех были об одном. Мамаши вырядили своих дочек в белые платья, видные граждане города ринулись в городские конюшни, чтобы запрячь в экипаж четверку знаменитых вороных жеребцов. (Быстро — ленты в гривы!) Старички волокли на рыночную площадь мортиры; по дороге отыскав в трактире «У трех яблок» бомбардира. («Идемте же скорее, почтеннейший Хупка, коли есть на вас крест!» — «Еще один глоточек!» — умолял Хупка.) Святой отец Петер Молиторис, лютеранский священник, сам взобрался на колокольню св. Миклоша, чтобы в нужную минуту ударить в колокола. Из дыр на крышах и там и тут поднялись древки, с которых, лаская взоры и сердца взметнулись, затрепетав на ветру, трехцветные крылья национальных флагов. Правда, они малость полиняли, поскольку изготовили их, по-видимому, еще во времена Бетлена *. С тех пор не часто расцветали флаги над кечкеметскими крышами. Все одиннадцать низвергнутых сенаторов поспешно — за каких-то полчаса — напялили на себя ментики с серебряными пуговицами, нацепили бряцающие сабли и расположились полукругом у входа в ратушу. Гораздо более сложная задача выпала, однако, на долю Пала Фекете (из чего явствует, что на плечи государственных мужей ложатся далеко не одинаковые задачи): ему нужно было экспромтом переделать весь текст своей речи, вымарывая из него обращение «Могущественный бек» и вписывая вместо него — «Славный соотечественник», а вместо «Мы пришли к тебе» — писать: «Ты вернулся к нам» и т. п. (Все равно, так тоже будет очень красиво!)
Хотя все было подготовлено на скорую руку, встреча прошла очень торжественно, только парадный экипаж немного запоздал. Зато мортиры дали залп своевременно, за ними торжественно загудели колокола, а когда появился Лештяк, по улицам, подобно лавине, покатились крики ликования, сопровождая героя до самых дверей ратуши. Там Лештяк спешился, выслушал торжественную речь господина Пала Фекете, улыбнувшись, взглянул на выряженных в белые платья девочек, пожал руку бывшим сенаторам. (А достойного господина Поросноки даже обнял.) Потом Лештяка подхватили на руки и понесли, понесли, а когда наконец опустили наземь, он оказался в зале заседаний у председательского кресла, за зеленым столом.
И едва утих шум (зал был битком набит городской знатью), слово взял седовласый Мате Пуста; своим слабым, не громче жужжания осы, голосом описал он заслуги Михая Лештяка и закончил выступление таким возгласом:
— Изберем его пожизненным бургомистром нашего Кечкемета!
От здравиц и приветствий задрожали стены; прошло несколько минут, прежде чем Гашпар Пермете сумел убедить окружающих, — хотя он усердно колотил себя при этом кулаком в грудь и отчаянно размахивал руками, — что он собирается сообщить им что-то очень интересное.
— А я, Гашпар Пермете, который двенадцать недель назад единственной фразой низверг весь магистрат, узнав теперь все, что мне надлежало знать, заявляю, что для него и пожизненная должность — слишком короткий срок!
— Но ведь после смерти он не сможет председательствовать! — заметил господин Гержон Зеке.
— А вот мы давайте постановим и запишем в протокол, что подобно тому, как святая венгерская корона передается из поколения в поколение перворожденному по мужской линии наследнику милостью божьей царствующей Габсбургской династии, пусть и жезл кечкеметского бургомистра передается мужским отпрыскам нашего достойнейшего Лештяка.
Гержон Зеке. Между королем и бургомистром есть все же небольшая разница!
Гашпар Пермете (сердито). Нет!
Гержон Зеке. Королевская корона — из золота, а жезл бургомистра — из кизилового дерева!
Эту маленькую перепалку прервал Янош Деак с Цегледской улицы, всем известный своею мудростью:
— Почтеннейший Зеке прав, ибо корона и на слабой голове сияет ярко, а палка кизилового дерева в слабых руках и бить будет слабо. Поэтому нельзя ее загодя вкладывать в руки наследников. Впрочем, не будем омрачать столь великий день подобными пререканиями. Останемся в границах подобающей серьезности и разберем по порядку все вопросы. Ни один человек не скажет нам спасибо, если мы предложим ему сесть в кресло, где сидит уже кто-то другой. Прежде всего, пусть почтенное собрание объявит, что триумвират, который и без того был временным, прекращает свое существование.
— Да они уже и сами по себе разбежались! Здесь ни одного из них нет! — послышалось со всех сторон.
— Следовательно, сперва соблаговолите вновь избрать прежних сенаторов, а потом уже давайте занесем в протокол решение о пожизненном избрании Михая Лештяка на пост бургомистра.
Вряд ли следует говорить о том, что все так и случилось, Михай Лештяк с видом императора, восседающего на троне, холодно, кивком головы отвечал на приветствия.
Лицо у него вначале было бледным, но, разумеется, оно сделалось пунцовым, когда все принялись кричать:
— Расскажите, расскажите историю с кафтаном! Хотим услышать из ваших собственных уст!
Лештяк беспокойно заерзал на кресле. Казалось, невидимая железная рука сжимала ему горло. Рассказать о том, что произошло с Олай-беком, поведать об этом сотням людей!.. Историю, которую он сам не пережил, не видел. Лгать перед лицом города! Ох, какая непростительная это была ошибка, что не он поехал в татарский лагерь. Черт принес на его дорогу эту девицу. А уж если сам не поехал, то лучше было бы сразу и признаться во всем. Но сейчас это, увы, было невозможно. Невозможно!..
Чем больше становилась его слава, тем сильнее его душу терзал страх, что однажды эту славу развеет нежданный порыв ветра. Ведь и Мидасу не удалось сохранить тайну своих длинных ушей. Лештяку казалось, будто слава его — краденая, и потому не мог больше ей радоваться, хотя какая-то ее доля причиталась и ему. Ведь, как бы там ни было, не кто иной, как он, достал кафтан! И все же где-то позади председательского кресла с высокой спинкой, казалось, неотступно маячила неприятная тень.
— Слушаем, слушаем! — звучало все громче, все настойчивее.
Отступать было поздно.
Лештяк смущенно стянул с себя кафтан и расстелил его на зеленом сукне стола. Вот оно — драгоценное сокровище Кечкемета!
Наконец, запинаясь, с пятое на десятое рассказал он об удивительной роли, которую сыграл кафтан[82].
Буйные крики радости заглушали его рассказ; все ликовали, только один человек, сжавшись в комочек, плакал на задней скамейке.
Могущественный бургомистр, теперь подлинный «диктатор Кечкемета», подошел к этому человеку и взял его за руку.
— А теперь пошли, отец. Хочу немного отдохнуть дома.
В маленьких, украшенных скрещенными копьями воротах их уже поджидали крестница Эржи и подручный Лаци. Пончики были поджарены, тушеная курица давно готова, а поросенок даже успел остыть, так что хозяева в самую пору возвратились домой.
— Да, я ведь еще не успел сказать тебе, сынок, — впрочем, когда я мог бы это сделать?! — что теперь мы с подмастерьем работаем, или, вернее сказать, мы теперь вдвоем не работаем…
Бургомистр сделал равнодушное лицо.
— Это вон тот мальчонка?
— Пришлось мне нанять его, когда я отправлялся в Буду, к паше, за тебя ходатайствовать. Ведь это я сделал тебя городским головой, Мишка, знай это! — В глазах старика загорелись зеленые огоньки. — Старый Лештяк еще может постоять за себя, хе-хе-хе!.. А парень, повторяю, нужен мне был для работы, хотя я что-то не приметил, чтобы он за все это время ну хоть пальцем о палец ударил. Не было у меня еще времени испробовать, умеет ли он хоть что-нибудь делать. До сих пор-то я все политикой занимался. Не смейся, Миши, не то я рассержусь! А теперь вот ты будешь делать политику, Кровь Лештяков — золотая кровь! Ну да ладно, вот мы уже и дома.
Как дорог человеку отчий кров, когда он долго под ним не был! Приветливо курится дым из трубы, весело кивают поредевшие ветви старого грушевого дерева. Выйдешь во двор, и тебе навстречу радостно кинется Кудлатка, а в комнате прыгнет на плечи кот Царапка. Улыбаются размалеванные крыши, с детства знакомые глиняные тарелки на стенах, даже мебель и та принимается скрипеть — рассказывать о чем-то; потрескивает огонь в большой печи, отбрасывая на двери золотые блики, так что кажется, будто снизу они обиты широким листом золота.
Старик вздохнул.
— Бедная твоя матушка, если бы я мог воскресить ее хотя бы на этот единственный день!
Подали обед, и над родительским столом поплыли вкусные, соблазнительные запахи, а вокруг стола захлопотали, засновали туда и сюда Эржи и подмастерье Лаци, спеша вовремя сменить тарелку, подать нож поскорее.
— А ну-ка, сбегай, Лаци, в подвал, да побыстрее: одна нога здесь, другая — там! А ты садись, сыночек! Потому как я знаю: голоден ты, изнурила тебя тюремная еда. Правда, и мне все это время кусок в горло не шел. Сперва — от большого горя, а сейчас — от великой радости. Пока я в Буде жил, одним воздухом питался. Ну да ничего, зато высвободил я тебя!
— Ибрагим-паша — славный человек, — рассеянно отозвался бургомистр. (Он чувствовал себя неловко перед Цинной.)
— Только в том смысле сынок, славный, — что славу любит, а в остальном старая хитрая собака! Сначала он и на мне хотел зло сорвать. Чуть-чуть я и сам не угодил в холодную!
— За что же?
— Да все за ту цыганскую девчонку, если ты ее еще помнишь… Что, или, может быть, суп недосолен? А ну-ка, принеси солонку, Лацко!
Лаци дрожал, как лозинка на ветру.
— Что с тобой? Или ты сына моего боишься, дурачок? Не укусит же он тебя, хотя теперь он большим барином стал!
— Спасибо, отец, не надо соли. Значит, Ибрагим из-за девицы был зол?
— Из-за нее… Говорит, что она с вами сбежала. Грозился в темницу меня упрятать, пока мы не вернем ее или пока я не признаюсь, где она. Напрасно клялся я ему и божился, что с той поры и слыхом о ней не слыхивал.
— Действительно напрасно! — буркнул бургомистр. — Ну, а потом что было?
— На счастье, как раз в те дни пришло официальное сообщение, что на берегу Тисы нашли девичье платье, а позднее где-то ниже по течению и труп ее выловили.
— Вот как! — весело воскликнул бургомистр. — Умерла, значит, девица-то?
— Ах! — вскрикнул Лаци и выронил из рук блюдо с жареным поросенком, которое он только что снял с огня, чтобы подать на стол.
Мастер сердито закричал на него:
— Чтоб у тебя руки отсохли, разиня! Собери все с пола и убирайся с глаз моих! — Впрочем, тут же он и улыбнулся: — Сегодня у нас сплошные чудеса происходят, даже мертвые поросята и те бегают! — Отлично зажаренный поросенок укатился прямо под кровать.
Лаци, красный как рак, попятился к двери.
— Постой, — остановил его бургомистр и, подозвав к себе, шепнул что-то на ухо. — Ну, теперь можешь идти!
— Если что-нибудь нужно, то лучше уж позови Эржи. Этот ведь — недотепа, — проговорил старик, глядя вслед парню. — Не думаю чтобы он много понимал и в портняжном деле. А ведь это замечательное ремесло, сынок! Величественная наука подправлять то, что скроено самим богом. Я и кривую спину выпрямляю, и вислым плечам придаю мужественную осанку и силу. А это что-то да значит, сыночек! — И старый портной довольно взъерошил свои жидкие льняные волосенки. — А жаль этого юнца: у него такое кроткое, милое лицо, — прямо девице впору.
— Сегодня такой день, батюшка, что нет ничего невозможного.
— Это тоже верно! Но отведай, пожалуйста, вот этого жаркого. А что на полу оно побывало — так ты не обращай внимания. Испечен у нас и хворост… Ты что, не любишь поросячьей головы, а?
— Да я ем, ем! Только ты так и не досказал о своей поездке в Буду.
— Вот я и говорю, как пришло официальное извещение, Ибрагим-паша сразу пришел в хорошее расположение духа. Видно, за ту девицу поприжал его султан. А тут он, не мешкая, отослал падишаху вещественные доказательства смерти цыганочки, меня же вызвал к себе, похлопал по плечу и говорит: «Вижу, правдивые вы и прямые люди. (Разумеется, что касается нас, Лештяков, то мы такими были и есть.) На вот, говорит, возьми безвозмездно — приказ об освобождении твоего сына. Но, смотри, нечестивый, не вздумай кому-нибудь сказать, что получил его даром, а то ты мне всю коммерцию испортишь». Так вот и раздобыл я этот фирман.
— Н-да, поспешил немного.
— Кто? Я?!
— Нет. Паша.
— То есть как? Я не понимаю тебя.
— А вы взгляните вот сюда!
В распахнутую дверь, мило улыбаясь и кокетливо покачивая станом, впорхнула цыганочка Цинна. На ней была красивая кружевная блузка, поверх которой был надет красный ситцевый сарафан в черный горошек— праздничное платье Эржики.
Старый Лештяк отпрянул назад.
— О всемогущие небеса! — воскликнул он в ужасе, и на его висках проступили бисеринки пота. — Цыганская девчонка! Изыди, злой дух!
— Да не дух это, батюшка, а она сама.
— Пусть черт меня возьмет, если я соглашусь поверить в это!
В этот миг в дверь постучали, словно черт и впрямь явился на зов старика. Но, разумеется, это был не черт, а почтеннейший сенатор Мате Пуста, явившийся в сопровождении Пала Фекете и Габора Пермете.
— Добро пожаловать! Садитесь, пожалуйста. Какое дело привело сюда вас, господа?
— Нас послало к вашей милости Городское собрание.
— Мы готовы выслушать вас, милостивые государи, — с важностью сказал бургомистр, произнеся это «мы» совсем по-королевски.
Посланцы вкратце рассказали, что порешило Городское собрание после ухода бургомистра: за господином Агоштоном будет послана депутация в Вац, это раз (весьма умное решение); далее, кафтан будет выставлен для всеобщего обозрения в городской ратуше на тридцать дней; каждый человек — бедный он или богатый, кечкеметец или иногородний — может бесплатно посмотреть на него; только надькёрёшцы будут обязаны платить за это по десять динаров. (И это очень правильно!)
— Но самое важное решение, — продолжал Мате Пуста, — состоит в том, что мы велели перенести из храма святого Миклоша железный сундук, окованный цепями, в котором хранятся городские реликвии; в него отныне будут запирать на ночь кафтан, а в дальнейшем — и днем. Ключ же — вот он — магистрат посылает вашей милости, чтобы вы хранили его как зеницу ока и держали в таком месте, куда не имела бы доступа чужая рука.
Сказав так, Мате Пуста протянул бургомистру ключ на шелковом шнуре.
— Повинуюсь воле магистрата.
Лештяк взял ключ, встал и, подойдя к Цинне, повесил его ей на шею.
— Спрячь у себя на груди, Цинна.
Цинна залилась краской и невольным движением надвинули на глаза красный узорчатый платочек, отчего, правда, сзади посторонним взорам открылись ее по-мальчишески коротко остриженные волосы.
Мате Пуста, отвернувшись к окну, покачал своей большой головой:
— Ничего себе — местечко, куда не имеет доступа чужая рука! Белоснежная грудь красивой девушки!..
Портной же громко воскликнул:
— Ах, черт возьми! Да ведь это же мой подмастерье Лаци! (Он узнал его по волосам.)
Бургомистр улыбнулся.
— Совершенно верно, батюшка! Раз уж начались чудеса… Когда-нибудь и об этом будет написана летопись: как портновский подмастерье вдруг превратился в супругу городского головы.
Лицо девушки при этих словах засияло восторгом и восхищением, но дольше выдержать на себе нежный ласковый взгляд Михая она не могла. Ей казалось: еще миг — и она умрет от счастья. И, прижав руку к сердцу, Цинна выбежала из комнаты. Но тут, весь кипя от гнева, вскочил портной.
— Что за поддую шутку ты сыграл со мной? Не будь ты сейчас главою города Кечкемета, сказал бы я тебе кое-что… Везет тебе, Мишка, ох и везет! И как прикажешь понимать твои странные слова? Что ты еще задумал сделать?
— Жениться на Цинне.
— Ты, пожизненный бургомистр Кечкемета?
— Отчего же нет?
Старик печально понурил голову.
— Будайский паша прикажет убить нас обоих, если узнает.
— Кафтан султана защитит меня и от паши. А кроме того, Цинну больше разыскивать не будут, коли все успокоились на том, что она утонула в Тисе.
— Найдутся доносчики! Но, ради бога, милостивые государи, скажите хоть вы свое слово, отговорите его! Что вы стоите все трое, как истуканы?!
Следуя призыву старика, Габор Пермете сказал, что его милость бургомистр мог бы выбрать себе невесту из дочерей самых богатых людей города; нашлось бы для него на каждый палец по пятнадцати; еще сказал он, что низкое происхождение цыганки никак не вяжется с его высоким рангом.
— Пустые все это разговоры! — возразил Михай, смеясь. — А может быть, Цинна происходит прямиком от египетских фараонов?
— Это было бы сейчас трудновато доказать, ваша милость.
— Так же, как и вам, милостивые государи, трудно доказать обратное: что она не происходит от египетских королей.
Пермете рассмеялся; засмеялся и Мате Пуста, тем более что у него была на этот счет своя точка зрения: «Бургомистр знает, что и почему делает, и нечего нам вмешиваться в его дела».
Однако Пал Фекете ухватился за интеллектуальную сторону вопроса:
— Супругой городского головы не может быть кто попало. Она должна уметь читать и писать и вообще быть умной и во всех отношениях искушенной женщиной!
— Эх, — раздраженно бросил Михай Лештяк, — досточтимый Сенека говорил: «С женщины достаточно, если она понимает, что, когда льет дождь, нужно укрыться под навесом».
— Понапрасну тратим мы здесь слова, — пожал плечами сенатор Пермете и, пожелав доброго вечера, увел своих коллег.
По дороге домой три достойных господина разнесли в три разных конца Кечкемета романтическую историю цыганки Цинны. Так что в тот же вечер кумушки всего города говорили:
— Не иначе околдовала она его, что-то в питье подмешала, а то ведь просто уму непостижимо. Такой умный человек и так споткнулся… Какой ужас!
Но еще больше, чем сплетницам, «новое событие» пришлось по душе Балажу Путноки. В ту же ночь он отправился в путь прямиком к будайскому паше, донести ему, что цыганочка жива и что Михай Лештяк прячет ее у себя, а сейчас даже собирается жениться на ней. Однако, как потом выяснилось, у будайского паши Путноки немного не повезло. Паша выслушал его, как говорят, внимательно и, нахмурив брови, спросил: «Итак, ты утверждаешь, что она жива?» — «Так точно». Тогда паша подозвал стоявшего рядом слугу: «А ну-ка, возьми этого человека да влепи ему по подошвам пятьдесят плетей, а потом приведи назад». Когда злосчастного Путноки приволокли обратно, Ибрагим снова ласково осведомился у него: «Ну, как девица? Все еще жива?» — «Нет, померла, видит бог, померла, милосердный паша!» Ибрагим довольно потер руки: «Так вот, заруби себе на носу, человече, если уж я однажды донес светлейшему султану о чьей-либо смерти, значит, тот человек давным-давно лежит в сырой земле».
Такой удел выпал на долю предателя Путноки; что же касается Михая Лештяка, то редко кому так дьявольски везло, как ему. Солнце светило ему всеми своими лучами. Власть и могущество его росли, авторитет укрепился далеко за пределами города. А Кечкемет начал играть важную роль.
Кафтан, способный обуздать противника, равнялся целой армии причем такой армии, которая не нуждалась ни в провианте, ни в амуниции и которой ничто не угрожало, разве что кечкеметцы, разумеется, больше не боялись врагов; наоборот, они с вожделением ждали, караулили, не завернет ли к ним случайно какое-нибудь турецкое войско; вот уж тогда начиналась настоящая потеха для народа! Бургомистр выезжал с помпой, на лучших городских рысаках; четверо гайдуков гарцевали впереди и четверо — сзади. Мужчины, женщины, дети — иногда весь Кечкемет — высыпали к войску потешить глаз упоительным зрелищем, поглядеть, как турецкие военачальники склоняются, чтобы поцеловать кафтан, и, согнувшись перед Лештяком, спрашивают: «Что прикажете, ваша милость?»
По всей стране стали ходить легенды о «говорящем кафтане» с различными вздорными домыслами о том, что-де в минуту опасности кафтан начинает говорить и дает советы членам Городского собрания, исцеляет больных, если те к нему прикоснутся, а если его поцелует девица или вдовушка, то она обязательно вскорости выйдет замуж. Наиболее благоразумные люди, правда, утверждали, что никакой чудодейственной силы кафтан не имеет, все дело в том, что на нем вышиты скрепленные паучьей подписью султана слова: «Повинуйтесь носящему этот кафтан». Что же касается старого портного Матяша Лештяка, который разглядывал это прославившееся на весь мир одеяние глазами специалиста (а молва о кафтане долетела и до стран заграничных), — то он высказался о нем весьма пренебрежительно:
— Нет в нем ничего особенного. И я, если возьмусь, сошью такой же.
Чудодейственная сила кафтана бросила мистический отблеск и на личность самого Михая Лештяка. Его история и его власть также облачились в вычурные наряды легенд. Тихими уютными вечерами о нем говорили в деревенских хатах на сотни километров от Кечкемета. Где-нибудь далеко под Сегедом по волнам Тисы с мягким шуршанием скользила рыбацкая лодчонка, разрезая грудью желтоватую пену, а рыбак предавался мыслям о том, что поделывает в этот час кечкеметский бургомистр. Угощается, наверное, золотым салом, нарезая его алмазным ножом…
Говорящий кафтан умел говорить не только с врагами: «Убирайтесь, мол, отсюда, из-под Кечкемета!» — но и друзей, и звонкую золотую монету в город зазывал: «Идите к нам в Кечкемет!» Богатые люди, знатные господа переселялись в «самый храбрый» город на жительство со своими сокровищами, родители охотнее всего посылали сюда своих сынков учиться. Именно в ту пору на улицах Кечкемета впервые появились круглоголовые студенты, которые и поныне не перевелись там. Школа процветала, жители обогащались со сказочной быстротой.
Разумеется, у всякого хорошего дела имеется и своя отрицательная сторона. Кафтан порождал большие деньги, а большие деньги порождали грабителей и степных разбойников которые стали совершать налеты на Кечкемет. Но и у всего дурного есть хорошая сторона: из-за разбойников ввели чрезвычайное положение, а поскольку комитатские чиновники не могли свободно передвигаться по стране, всей полнотой чрезвычайной власти временно был облечен кечкеметский магистрат. Словом, еще немного — и стал бы Кечкемет королевским городом!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Другой кафтан
Большим человеком стал Михай Лештяк; распоряжался он теперь и жизнью и смертью людей, а чтобы его авторитет, как главы Городского собрания, еще больше повысить, король пожаловал ему дворянский титул, и стал Михай именоваться «господин Лештяк Кечкеметский». На гербовом щите слева, на серебряном поле красовался всадник в кафтане, а на другой половине щита — на трех золотых лентах — лиса на задних лапах. (Славно придумал его величество!)
И только одного не хватало для полноты счастья: свадьбы с Цинной. Но и здесь никто не стоял на пути.
Старый Лештяк давно уже примирился с этой идеей. Маленькое безродное создание постепенно сумело завоевать его расположение, и когда по вечерам Цинна гладила колючий подбородок старика, казалось ему, что он не иначе как в раю. А сама она становилась краше день ото дня: округлилась, лицо будто спелый персик, сквозь тонкую кожицу которого просвечивает пунцовый сок… Во всем Куннгаге не было ей равной.
Стала она самым доверенным человеком старика, называл он ее своей невесткой да доченькой и уже торопил Михая, говоря, что если тот будет тянуть, так он, ей-богу, сам женится на Цинне.
Но у Михая были свои причуды: стоило на его пути встретиться какому-либо препятствию, он весь закипал от нетерпения, если же препятствий не было, он сразу делался пренебрежительно равнодушным.
В первый раз свадьба была назначена на тот день, когда от санджак-паши удастся исходатайствовать письменное разрешение — без этого все равно нельзя. Хотя птица строит свое гнездо даже и тогда, когда знает, что безжалостные руки могут разрушить его.
Разрешение от паши пришло в виде следов кнута на подошвах Путноки. Ясно, что теперь паша уж никогда не потребует выдать ему девушку.
— Ну, дети, теперь вы можете спокойно обвенчаться! — уговаривал их старик.
— Подождем еще немного, пусть у Цинны волосы отрастут, — отвечал Михай. — На коротких волосах смешно выглядел бы венец.
За один год отросли у нее волосы, да как! Однажды вечером, нежно перешептываясь с возлюбленным, Цинна освободила от шпилек свои косы (ибо теперь она носила их на господский манер — заплетая венком вокруг головы) и двумя тугими жгутами связала руки Михаю, как связывают пленников.
— Плененный бургомистр! — игриво щебетала она. Михай понял намек.
— Конечно, пора бы уже нам и обвенчаться, я и сам жду не дождусь, Цинна. Но прикинь-ка хорошенько: не вредно было бы тебе еще немножко подучиться, чтобы стать настоящей супругой бургомистра. Да и мне нужно бы подкопить немного деньжонок, чтобы содержать жену, как это приличествует бургомистру.
И нанял Лештяк в учителя к Цинне премудрого господина Молиториса. Однако не прошло и полгода, как сей ученый муж доложил:
— Все, что я знал, знает теперь и она.
К тому времени и Михай сколотил кое-какое состояние, но тут как раз пришла грамота, даровавшая ему дворянство. Баловень судьбы зажил на более широкую ногу; окрестные дворяне завели с ним дружбу, стали ездить к нему в гости; и начал он пренебрегать Цинной. Не может же истый дворянин все время ворковать со своей голубкой — над ним начнут смеяться! Проклятая дворянская грамота словно подменила его, будто от нее кровь его и впрямь стала голубее; он стал еще более своенравным и капризным. Повсюду пошли разговоры о том, что за него хотят выдать дочку Беницких, и тогда он станет губернатором — в одном из тех комитатов Имре Тёкёли, что пока еще находятся в руках австрийского императора. Впрочем, все это лишь сплетни. Сами кечкеметцы придумывают их с той поры, как их бургомистр стал таким великим, что и Кечкемет теперь уже мал для него.
Ох, а как щемило сердце у Цинны! Теперь Михай редко-редко садился на ту деревянную скамеечку в саду под большим грушевым деревом, где они, бывало, столько раз шептались дивными летними вечерами и где Цинна была так счастлива! Теперь Михай иногда по целым неделям пропадал в дворянских замках, а если и говорил ей несколько теплых слов, то заканчивалось это обычно наставлениями:
— А потом вот что, Цинна! Следи за своими словами, моя милая голубка. Не говори о том дне… ну, ты ведь знаешь, о каком… Никогда не проговорись, что ты была там… у Олай-бека, иначе потеряешь ты меня.
В эти минуты бедняжке казалось, что в грудь ей вонзают кинжал. В ней росло подозрение, что Михай только боится ее, но не любит и связывает ее с собою обручальным кольцом лишь затем, чтобы заручиться ее молчанием. День ото дня становилась она все печальнее, алые розы сошли с ее щек, обворожительный огонь в глазах погас, и на смену ему пришла кроткая тоска. Впрочем, красивой Цинна была по-прежнему.
Старый Лештяк испугался, что она заболела, и отгадал причину ее тайного недуга.
— Не кручинься, не губи себя, резеда ты моя! Любит он тебя, любит, раз я говорю! И он повенчался бы с тобою хоть завтра, будь у него деньги. А ведь он даже те, что имеет, проматывает вместе с Фай да с Беницкими. Я-то уж знаю Мишку; он до кончиков волос полон спесью, но сердце у него — честное. Впрочем, разумеется, вы могли бы жить и здесь, у меня, по-бедному, но ведь ты знаешь, как блажит сумасшедший, страдающий манией величия: даже земляники не станет есть — хоть и будет голоден, — если ее подадут не на серебряном блюде. Вот и мой Мишка сейчас заболел этой болезнью. Дадим ему натешиться лисонькой его дворянского герба. А там, либо лиса слопает его, либо он ее… Все это зверье на гербах ужасно прожорливо, дорогая Цинна.
Но Цинна только вздыхала: никакое красноречие не могло исцелить ее раны.
— Не вздыхай, улыбнись хоть немножко, как бывало. Ведь если б можно было, поведал бы я тебе такую вещь, от которой ты сразу пустилась бы в пляс!
Старик таинственно подмаргивал, бормоча себе под нос: «Tсс, Матяш, замкни рот на замок, Матяш!»
Что это была за таинственная вещь, Цинна не могла даже и предположить. Одно лишь обстоятельство бросилось ей в глаза: последние дни два каких-то неизвестных господина стали захаживать к Лештякам; приходили поздно вечером, чуть ли не крадучись, подолгу шептались о чем-то, уединившись в задней комнате, и старик ни разу словом не обмолвился, что это за люди и чего они хотят; только ходил взад и вперед по комнатам, неразговорчивый, задумчивый.
Наконец, однажды вечером, когда посетители ушли, он повеселел, положил к себе на колени голову Цинны и стал ласково перебирать ее длинные черные волосы. (Это было любимой забавой его милости.)
— Радуйся, Цинна, радуйся! Наступил и твой день. Будет ужо у тебя свадьба! Соберу тебе такое приданое, что барышни Фай от зависти конопатыми станут. Смейся, Цинна, ну, смейся же! Будет у тебя теперь столько денег, что и твои детишки, если они у тебя появятся — и нечего тут краснеть, нечего стыдиться моих внучат! — будут золотые вместо игрушек по полу катать.
Старик вынул из кармана пригоршню золотых, которые так и засверкали перед глазами Цинны.
— Откуда вы взяли такую тьму денег? — похолодев, спросила девушка.
— Это еще ничто по сравнению с остальными! Слушай внимательно, мое дитятко, я все расскажу тебе. То, что я делаю, я делаю отчасти ради тебя, так как знаю, что Михай не может жениться на тебе без денег. Я сказал «отчасти» — потому что и мое собственное тщеславие тоже играет здесь роль. Хочу я оставить после себя такое творение, чтобы и спустя тысячу лет портные вспоминали: «Жил когда-то человек по имени Михай Лештяк, он сшил это платье».
— Никак в толк не возьму, о чем это вы?..
А старик продолжал шептать:
— Приходили ко мне на днях тут двое чужеземцев. Да ты видела их; один — маленький, коренастый, а другой истинный Голиаф. Пришли они ко мне от имени одного города. От какого города — не сказали. А я и не спрашивал: что мне за дело от какого. Так вот, приходят они, значит, ко мне и такой заводят разговор: «Мастер! Ты портной из всех портных, самый великий среди мастеров. Потому мы явились к тебе, что желаем сделать тебя богатым и бессмертным». — «Что вам от меня угодно?» — «Сшей нам кафтан, такой же, как и у города Кечкемета, чтобы походил он на кечкеметский, как две капли воды, как два яйца или два пшеничных зернышка. Способен ли ты на это?» — «Моя игла все может сшить, отвечаю, что мой глаз увидит».
Цинна зябко прижалась к старому портному.
— И на чем вы порешили?
— Поторговались мы. Долго спорили, пока сошлись на том, что заплатят они мне за это пять тысяч золотых, пятьсот дадут в задаток. И все это будет твоим, мое дитятко.
— А сумеете ли вы так сшить?
— Я?! — И глаза старика засверкали. — Ах ты, чудачка! Да за кого же ты меня принимаешь? Говорю тебе, это будет творение мастера.
— А не обернется это какой-нибудь бедой? — боязливо спросила девушка. Старик рассмеялся.
— Какая же тут может быть беда? Ну будет еще у одного города кафтан, только и всего. Если турки сейчас грабят и разоряют, скажем, в двухстах городах, то завтра им придется довольствоваться ста девяноста девятью. Голодной смертью они от этого не умрут.
— Да, что верно, то верно, — рассеянно проговорила Цинна.
— А ты дай мне ключ от сундучка, будущая моя сношенька. И пусть об этом никто на свете не узнает. Я только посмотрю кафтан со всех сторон, изучу его, да и сошью быстренько другой, точно такой же. Закатим мы тебе такую свадьбу, что и небу будет жарко… Ей-богу, очень уж мне хочется поскорее поглядеть, как танцуют твои крохотные ножки…
Тут они пустились обсуждать все до мелочей: и какое у нее будет подвенечное платье, и какой венец, и какие туфельки, и как они вручат Михаю четыре тысячи золотых из пяти: «На, возьми и не говори, что твоя жена ничего тебе не принесла». Тут он, конечно, спросит: «Откуда вы их взяли?» А мы ответим ему: «С неба упали». В конце концов выдумаем какую-нибудь байку о наследстве, и начнется счастье без конца и края…
Цинна развеселилась, засмеялась, захлопала в ладошки, до того понравилась ей картина будущего, что рисовал перед ней Матяш Лештяк.
А на другой день старый портной получил ключ от Цинны, забрался в кованый сундук ратуши и, еще раз осмотрев кафтан, отправился в Сегед, где жили богатые турецкие купцы; он купил у них дорогого темно-зеленого бархата, позументов, шнуровки и медвежью шкуру на подкладку. Заготовив все, он с лихорадочным нетерпением созидателя накинулся на работу.
Нешуточное это было дело. Каждый вечер он тайком приносил кафтан домой, а на рассвете относил обратно. Доступ для него в кабинет бургомистра был свободен, — ведь сын всегда мог послать его за чем-нибудь! — так что ни у кого не возникало подозрений.
С вечера и до утренней зари старик трудился, запершись в задней комнате, с вдохновением и страстью артиста. Иногда он будил Цинну и показывал ей уже готовые части, начинающие принимать благородные формы будущего кафтана. Глаза старика горели, лоб пылал, ноздри раздувались, а голос дрожал от гордости. «Ты взгляни только: вот перед… а вот — воротник, а это, смотри, — рукав…»
Когда же через пятнадцать дней кафтан-двойник был готов весь до последнего стежка и старик оглядел свое произведение, сердце его наполнилось сладостной гордостью. «Возможно ли творение более совершенное, чем это?»
Случилось это глухой ночью. Кричали петухи. Портной выглянул в окно. На полночный этот час он и вызвал своих клиентов, которые скрывались где-то в окрестностях города, пока он шил кафтан.
В ответ петухам залаял пес Лохмач, — значит, почуял чужого.
И действительно, это были они. Портной впустил их.
— Ну что ж, смотрите!
С губ незнакомцев сорвался крик изумления. На кровати лежали два расшитых золотом кафтана, похожие один на другой, как два яйца, как два пшеничных зернышка.
— Что вы скажете на это? — спросил мастер. Один из клиентов сказал:
— Ты и впрямь портной из всех портных! Величайший портной на свете!
Другой же не сказал ни слова, а лишь раскрыл свою объемистую мошну и вывалил из нее на середину стола груду золота.
— Ровно четыре тысячи пятьсот золотых. Можешь пересчитать, мастер, коли не веришь!
— Пусть собака считает! Не ради денег я работал, но ради славы.
— Какой из двух можно забрать? — спросил великан, показывая на кафтаны. — Какой из них наш?
Лештяк стоял в нерешительности, не зная, что ответить «Отдать свою работу? Значит, больше никогда не увидеть ее? Они увезут мой кафтан бог знает куда, и я уже больше не узнаю, как он служит. Будет меня снедать мучительное неведение: что-то с ним стало?! И не увижу я турка, который склонится перед ним поцеловать его край, иначе говоря, предо мною перед моим искусством? Нет, нет! Ведь я не сомневаюсь в успехе. Работа — безупречная! Хочу видеть, хочу купаться в своей славе».
— Эй, мастер, что же вы не говорите, какой из них новый? — нетерпеливо спросил Голиаф.
— А почему ваша милость хочет именно новый?
— Полагаю, что именно его вы отдадите нам. Обиженный Лештяк вскипел:
— Нет, нет, — забормотал он глухим, срывающимся голосом. — Можете как раз забрать с собой старый… настоящий. А новый… пусть останется Кечкемету.
Великан поспешно свернул кафтан и спрятал его под плащом.
Скрипнула щеколда. Два силуэта растаяли в ночном сумраке, исчезли навсегда.
Старик прилег на постель, но освежающий сон не приходил. Его терзали всякие злые видения. Золотые монеты, которые он ссыпал в кошелку и упрятал под кровать, начали вдруг карабкаться вверх по стене на тонких паучьих ножках. «А ну, сейчас же назад! Ишь расползались тут!» Но тут одна из монет прыгнула ему на грудь и закружилась в сумасшедшем танце. «Ну погоди, вот я доберусь до тебя!» Лештяк протянул руку, однако поймать монету не смог, хотя ее холодные ножки мурашками бегали по телу, кололи его, словно ледяными остриями булавок, так что он от холода уже и зубом на зуб не попадал. Потом ему вдруг померещилось, что взбесившуюся золотую монету схватил черт со страшным оскаленным ртом, быстро расплавил ее над кипящим котлом, а горячий металл стал заливать в уши, ему, Лештяку. Расплавленное золото растеклось по жилам, стало распирать виски. Кровь его закипела, а изо всех щелей комнаты понеслись наводящие ужас голоса: «Матяш Лештяк, что ты наделал, ой, что ты наделал?!»
Старик вскочил, оделся и, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу, стал ожидать наступления утра. На душе у него было очень тревожно, но он не решался признаться в этом даже самому себе. Эх, да что там, все будет в порядке! Дело верное, совершенно верное.
Лештяк отнес кафтан в ратушу, положил его в кованый сундук, а потом зашел в спаленку Цинны отдать ключ и ласково шепнул ей на ухо:
— Все в порядке, сердечко мое: у меня под кроватью уже выстроились четыре тысячи рыжих жеребчиков. Есть теперь кого запрячь в вашу свадебную колесницу.
Но тщетно старик силился говорить спокойным голосом, взволнованное лицо выдавало его действительное состояние. И нигде он не мог найти себе места. Как ошалелая муха, слонялся он из стороны в сторону, пока наконец, приняв внезапное решение, не побрел к сыну, где уже застал гайдука Пинте с каким-то письмом.
Бургомистр был в отличном расположении духа, лицо его сияло радостью. Он только что закончил процесс одевания, а наряд его был теперь совсем иным, чем прежде, и вполне соответствовал его дворянскому титулу: вместо доломана на нем была аттила с разрезными рукавами, на шелковой вишневого цвета подкладке, виднеющейся сквозь разрезы.
— Доброе утро, батюшка! Что нового?
— Я хотел бы попросить тебя кое о чем.
— Есть в Кечкемете один человек, который может и приказывать городскому голове!
— Это я, что ли?
— Угадали, ваша милость. Ну, так что вы мне прикажете?
— Так, пустяк, маленькая прихоть. Если в ближайшее время подойдет к городу какое-нибудь вражеское войско, разреши мне самому поехать ему навстречу в кафтане.
— Черт возьми, это не последнее развлечение! И пришли вы ко мне в самое время, потому что сегодня мне все равно пришлось бы посылать кого-нибудь вместо себя.
— Есть что-нибудь? — поспешно спросил портной.
— У леса Талфайя с ночи стоит один из отрядов великого визиря Кара Мустафы. Из-под Белграда на Кеккё идут, а нам нынче чуть свет прислали письмо. Требуют продовольствия. Вот Пинте как раз с их посланием прибыл. Ну, провианта мы им, конечно, не дадим.
— Великолепно! — воскликнул старик, оживившись. — Я поеду к ним!
— Очень хорошо! Пинте, оседлайте для моего отца верховую лошадь!
— Какую? Гордеца?
— Пожалуй, лучше будет Раро, он посмирнее. Сам я сегодня не могу выехать, дел много: в суде заседать буду. И представьте себе, батюшка, кто истец. Ни больше, ни меньше, как сам крымский татарский хан. Неугомонные кечкеметские парни угнали у него из феледьхазского стана отару овец, а четырех татар, которые стерегли стадо, избили до полусмерти; один вскоре умер.
— Мир перевернулся!
— Но самое замечательное во всем этом, — продолжал бургомистр, широко улыбаясь от удовольствия, — ореол Кечкемета! Ведь вот уже и сам крымский хан ищет правосудия в соответствии с нашими законами, вместо того чтобы совершить возмездие, как ему бы того захотелось. И все это сделал наш кафтан. Да, постой-ка, Пинте, чуть было не забыл. Пойди, любезнейший, прежде на базар и поймай там четырех человек, способных быть судьями; можно будет даже одного турка, если попадется.
Был первый день ярмарки (ибо после того как Кечкемет стал обладателем кафтана, город вновь испросил у Леопольда I разрешение на проведение ярмарок). Старый Пинте заглядывал в купеческие шатры, догонял людей в добротных бекешах и, если попадался ему солидный человек из Сегеда или Халаша, начинал, как ученый скворец, тараторить зазубренную фразу:
— Именем его благородия, достойного и славного господина Михая Лештяка, бургомистра города Кечкемета! Почет и уважение вашей милости, дай бог вам всего хорошего! Не посчитайте за труд — соблаговолите пройти в скромное здание нашей ратуши и там мудро и справедливо, как и подобает, свершить суд над нашими гражданами. О неповиновении не может быть и речи!
Так довольно быстро сцапал он сегедского нотариуса Пала Бёрчёка и мудрого Ференца Балога из Сентеша, правда, этот сидел в корчме, уже на шестой пуговице[83]. (Ничего, этот хорош будет и в таком виде.)
Поймал Пинте также и цегледского кондитера Иштвана Корду, и, поскольку господин бургомистр пожелал иметь среди судей турка, гайдук прихватил с собою и бородатого Моллаха Челеби из Буды, продававшего каракулевые шкурки и на чем свет стоит ругавшего город, где судей волокут в суд на аркане.
Управившись таким образом с делами, Пинте направился к городской конюшне, вычистил скребницей Раро, расчесал ему гриву, покормил овсом, заседлал и доложил Лештякам, что старый барин может уже отправляться.
Почтеннейший Матяш Лештяк проворно засеменил в городскую ратушу, где уже собрались приведенные силком судьи, к которым бургомистр добавил еще двоих сенаторов, Габора Поросноки и Криштофа Агоштона, а седьмое, председательское, место занял сам.
Увидев отца, Михай послал Пинте с печатью города к Цинне за ключом, потом извлек кафтан из кованого сундука и самолично, в присутствии двух сенаторов, помогавших ему, надел кафтан на старика.
— Езжайте, батюшка, бог вам в помощь!
Старик вышел из ратуши, молодцевато вскочил в седло и, выпятив грудь, гордо вскинул голову, будто заправский витязь. Заезжие купцы, сгорая от любопытства, сбежались поглазеть на отца могущественного бургомистра, на тщедушном теле которого красовался развеваемый весенним ветром, прославленный на весь свет кафтан.
Кечкеметские граждане с улыбкой снимали перед ним шляпы, а дети громко кричали:
— Виват, виват, дядюшка Лештяк! Некоторые же с завистью шептали:
— Счастливый отец, счастливый человек!
И старик действительно был счастлив сейчас. Полной грудью вдыхал он в себя целительный воздух. Раро горделиво гарцевал под ним. Распускающиеся жасмины и лилии в маленьких палисадниках перед домами весело улыбались ему; а из окна их собственного домика Цинна вслед ему помахала белым платком.
Тревоги на душе Лештяка как не бывало, он теперь не чувствовал больше ни подавленности, ни волнения. Страх солдата перед битвой проходит во время самой битвы. А он сейчас был там, в огне; ему казалось даже, что он слышит доносимые легкими колебаниями воздуха волнующие кровь звуки невидимых труб: «Вперед, вперед к победе!»
Старик исчез, растаял в облаке пыли, а сенаторы и городской голова преспокойно восседали вместе с «судьями поневоле», слушали жалобу крымского хана об угоне стада овец, пространные и сбивчивые показания свидетелей и обвиняемых. Бестолковое словоизвержение то и дело нарушалось громким зевком, срывавшимся с уст какого-либо из достойных мужей. Что у стен города стоял коварный и алчный враг, нимало не волновало их благородий. Да и чего волноваться! С врагом было теперь так же просто управиться, как, скажем, приструнить разбушевавшуюся на рынке торговку яйцами: на эту нужен один человек и одна ореховая палка; а на того — тоже всего-навсего один человек и — один кафтан!
И только бургомистр беспокойно заерзал в своем кресле, когда заметил вошедшего в зал Олай-бека, прибывшего в качестве посланца крымского хана. А Олай-бек метнул свой ястребиный взгляд на одного судью, на другого, а потом спросил удивленно: «Кто же из вас тут знаменитый городской голова — Михай Лештяк?» Тогда господин Криштоф Агоштон показал во главу стола.
— Не может быть, не он это, — пробормотал Олай-бек, выразительно покачав головой.
— И тем не менее это я — Михай Лештяк, — подтвердил бургомистр бесцветным голосом.
— Или у меня в глазах рябило два с половиной года тому назад, когда мы с тобой встречались у меня в стане, либо твоя милость сменил за это время голову? — сердито воскликнул гигантского роста бек.
— Человек старится, ничего не поделаешь.
— А вообще-то я привез письмо твоей милости.
Письмо от крымского хана было — сплошной мед и патока.
«Дорогой мой сын, храбрый Михай Лештяк! Накажи, пожалуйста, этих злых волков, потому что если ты не преподашь им устрашающий урок, то, поверь, твои люди однажды украдут тюрбан с моей собственной головы. Я был бы рад, если бы ты прислал мне корзину голов (воровских голов хватит и на две корзины). Я давно уже не наслаждался видом отрезанных кечкеметских голов.
Примите моего человека, Олай-бека, который даст вам необходимые разъяснения, с должными почестями.
Остаюсь твой могущественный друг и повелитель
Крымский хан».Лештяк в замешательстве рассеянно пробежал письмо, потом дал прочитать его по очереди всем судьям — пусть видят и разнесут молву о том, как власть имущие гладят по шерстке кечкеметского бургомистра.
А между тем он покраснел до кончиков ушей, чувствуя на себе пристальный, изучающий взгляд Олай-бека, который не сводил с него глаз.
Лештяк сидел как на иголках, не в силах превозмочь неприятное чувство; сказывались и длившийся уже несколько часов допрос, и духота в зале. Ему казалось, что он вот-вот лишится сознания, и уже собирался передать председательствование Поросноки — было, наверное, около полудня, — как вдруг за окнами послышались крики ужаса; они катились по улицам — все ближе и ближе, сотрясая стекла.
Перепуганные судьи бросились к окнам и тут же, смертельно побледнев, отпрянули назад.
К ратуше во весь опор летел одичавший Раро; на нем сидел привязанный к седлу старый Лештяк. Он был в кафтане, но — без головы.
По страшному обезглавленному телу растекалась кровь. Забрызганные ею кафтан и лошадь казались издали красными.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Судный день
У Поросноки волосы стали дыбом.
— Какой ужас!
Лештяк упал ничком на стол и зарыдал.
— Уму непостижимо! — проговорил Олай-бек, когда ему объяснили, что старик в кафтане выезжал с депутацией в один из отрядов великого визиря.
Агоштон хлопотал вокруг убитого горем бургомистра.
— Идите, ваше благородие. Распустим суд. Горе, постигшее вас, настолько велико, что вы вправе пренебречь должностными обязанностями.
Михай вздрогнул и, смахнув с глаз слезы, сказал:
— У меня хватит сил. Я не ступлю ни шагу отсюда, пока не отомщу за отца. Это сделали не в турецком лагере!
И он тут же распорядился, чтобы труп старика отвезли домой и обмыли; а двум гайдукам велено было, не теряя ни минуты, скакать по кровавому следу до тех пор, пока не найдут голову и не раскроют преступления.
— Снимите кафтан с тела, — добавил Поросноки, — и принесите его сюда!
Немного погодя Пинте плача принес окровавленный кафтан. Олай-бек и Моллах Челеби вскочили с мест и бросились к нему, чтобы поцеловать его край. Но, едва притронувшись к кафтану, бек тотчас же с презрительной гримасой отвернул свое уродливое лицо:
— Клянусь аллахом, это — не настоящий кафтан! На нем нет знака Шейк-эль-Ислама.
Моллах Челеби сложил на груди руки и вкрадчивым голосом повторил:
— Это не священное одеяние!
Граждане Кечкемета, сидевшие среди публики, опешив, воззрились на бургомистра.
— Предательство! — воскликнул Криштоф Агоштон. Ференц Криштон соскочил со скамьи свидетелей и подошел к Лештяку.
— Объясните, в чем дело. Ведь ключ был доверен вашей милости.
— Я ничего не знаю, — рявкнул в ответ Лештяк. (Характер у него был подобен железу: чем больше по нему бьют молотом, тем тверже он становился.)
— Какой удар, о какой удар нанесен несчастному Кечкемету! — ломал руки Поросноки.
Как камни, пущенные пращой, в воздухе загудели голоса: «Смерть виновнику!»
— Именно так! И я скажу то же самое! — воскликнул Лештяк.
Посыпались упреки, один злобнее другого.
— Ему место не на председательском кресле, а на скамье подсудимых!
— Тихо! — прикрикнул бургомистр, свирепо стукнув по столу шпагой, которая, с тех пор как он стал дворянином, неизменно лежала перед ним, крест-накрест с булавой, — Я сижу здесь, на председательском месте, и останусь на нем. Хотел бы я посмотреть, кто осмелится проронить хоть один звук, когда глава города Кечкемета призывает к тишине!
Только на кладбище бывает такое глубокое безмолвие, какое воцарилось в зале.
— Кто тот безумец, вознамерившийся в меня вонзить свое жало? Да если бы я звал, что кафтан не настоящий, разве послал бы я в нем своего собственного отца?! Произошло нечто непостижимое. Видно, богу угодно было обрушить на город Кечкемет новое испытание! Но мы не должны падать духом, ибо что бы ни случилось, десницу всевышнего не остановить. А посему повелеваю досточтимому сенатору Криштону немедленно садиться на коня * отвезти в Талфайю требуемую турками дань, чтобы за двумя бедами не последовала и третья…
Криштон тотчас же направился к выходу, но не успел он дойти до двери, как она с грохотом распахнулась, и в зал вбежала Цинна. Она была белее стенки, ноги у нее подкашивались, движения выдавали смятение. Из прекрасных очей девушки катились слезы.
— Что тебе здесь нужно? — прикрикнул на нее бургомистр, сдвинув брови. — Иди домой, там плачь!
— Мое место здесь!
И Цинна опустилась на колени. Красная, подбитая снизу кружевами юбка, упав на пол, походила на распустившийся цветок мака; из-под нее выглядывали изумительной красоты ножки.
Олай-бек осклабился и, вскочив на ноги, вскричал;
— Это она, вернее, он? Господин Михай Лештяк, взгляните на нее! Эта девица однажды была у меня в лагере и назвалась вашим именем. Пусть мои глаза никогда не увидят Мекку, если это неправда!
Поросноки и Агоштон впились взглядом в Лештяка, который смутился и покраснел до ушей (это была его слабость); он уже заколебался: признаться ему или нет?
Но Цинна грустно покачала головой и возразила беку:
— Я никогда не видела тебя, добрый человек.
Лештяк с благодарностью посмотрел на нее, как бы говоря: «Что ж, ты еще раз выплатила мне свой долг!» — но тут же прошипел сквозь зубы:
— Все рушится, все потеряно!
— Что тебе нужно, дитя мое? — обратился к цыганке Ференц Балог из Сентеша. — Почему ты на коленях?
Из груди девушки вырвался надрывный стон:
— Я — причина всему. Это моя вина…
— Да в чём же, красавица ты моя? — ласково спросил цегледский кондитер.
— Я отдала ключ от кованого сундука Матяшу Лештяку, к которому приходили люди из другого города просить, чтобы он сшил им за пять тысяч золотых такой же кафтан, как наш. Зловещий ропот негодования последовал за этими словами. Бургомистр отвернул к стене побелевшее лицо. Такого удара он не ожидал.
— Как ты осмелилась это сделать? — взревел Поросноки. — Будь откровенна и покайся. Чистосердечное признание смягчает вину!
Цинна прижала руки к сердцу; длинные шелковые ресницы ее задрожали. Ей хотелось провалиться сквозь землю от стыда. И все же в этот роковой час она должна была сознаться во всем!
— Потому что я люблю, люблю Михая Лештяка больше жизни, больше всего города! Из тех денег старик предназначал четыре тысячи золотых мне, чтобы сын его, невестой которого я считаюсь вот уже два с половиной года, женился на мне. До сих пор он не сделал этого лишь потому, что мы оба — бедны. Я поверила словам старика и отдала ему ключ.
Бледное лицо Цинны разрумянилось, из белой лилии оно превратилось снова в розу, но только на одно мгновение.
— Какое несчастье! Какое несчастье! — запричитал почтеннейший Агоштон. — Лучше бы уж я до смерти своей оставался в Ваце.
— Дальше, дальше! — подгонял девушку Поросноки. Лештяк судорожно вцепился рукой в спинку кресла; все закружилось у него перед глазами; как маленькие чертики, насмешливо затанцевали круглые буковки, в изобилии рождавшиеся под пером нотариуса на бумаге протокола. Он закусил до крови губы: «Ох, только бы выдержать еще полчаса, не показать своей слабости!»
— Дальше? — еле слышно переспросила Цинна, сломленная и измученная. — Ну да… Что же было дальше? — Она потерла рукой свой гладкий, как мрамор, лоб. — Он ходил в ратушу, брал на ночь из сундука кафтан домой, смотрел на него, как на образец, и шил другой, подобный ему. Прошлой ночью заказчики получили кафтан.
— Все ясно, — пробурчал Поросноки. — Старик был горд и тщеславен, желая показать, что оба кафтана совершенно одинаковы, он надел на себя новый, чтобы упиться признанием своего таланта.
— А кто же были заказчики? — спросил Берчек из Сегеда, подумав про себя: «Не наши ли?»
— Не знаю, — ответила Цинна. — Покойный тоже не знал. Все делалось втайне. «Какой-то далекий город», — говорил он мне.
— Мы должны найти этот город, — скорбно проговорил господин Агоштон.
— И мы найдем его, — ответил бургомистр тихим глухим голосом. (Это были его первые слова после признания Цинны.)
— То ли найдем, то ли нет, — горько отозвался со скамей для публики почтеннейший Пермете, — а пока, сударь, будьте мужчиной, вынося приговор… если сможете, конечно.
Господин Пермете словно влил в жилы Лештяка свежей горячей крови. Это его-то, Михая Лештяка, уговаривают быть мужчиной?!
Глаза бургомистра сверкнули.
— Да, я буду им! — сурово промолвил он, доставая из кармана скрепленный печатями указ.
Лештяк встал и начал торжественно читать:
— Мы, Леопольд Первый, божьею милостью император австрийский…
Он задыхался, голос его перешел в хрип, руки дрожали; ему не хватало воздуха, и он передал указ Агоштону:
— Прочтите, сударь. — Потом обессиленно добавил: — Ведь и я — всего лишь человек.
Но тотчас же, будто устыдившись своих слов, приказал Пинте:
— Распахните окна! Мне стало дурно от… от спертого воздуха.
Тем временем Агоштон огласил указ монарха, согласно которому за воровство и измену на территории Кечкемета разрешалось немедленное судебное разбирательство и городской суд облекался властью решать вопрос жизни или смерти горожан.
— Начнем голосование!
Первое слово принадлежало Поросноки:
— Эта девица предала город. Я приговариваю ее к казни через отсечение головы.
Затем высказался господин Бёрчёк.
— Обезглавить! — бросил он коротко. Моллах Челеби сказал так:
— Она сделала это из любви. Не виновна! Очередь дошла до достойного Ференца Балога.
— Она не знала, что своим поступком навлекает смертельную опасность на город. Пусть в монастыре замаливает свой грех!
Наступила такая тишина, что, казалось, слышно было, как стучат сердца и даже как в одном из окон бьется о стекло залетевший в комнату мотылек. Два голоса требовали смерти, два — сохранить жизнь.
Наступил черед цегледского пряничника. Он так долго раздумывал, что даже чуб взмок.
— Хватит с нее тюрьмы, — с трудом выдавил он из себя. Легче стало дышать тем, чье сердце, проникшись жалостью, склонялось к помилованию девушки, тем, кто не желал, чтобы эту дивную белую шею скосил топор палача. Оставался еще господин Агоштон.
— Смерть ей! — жестоко прошипел он.
Снова голоса разделились поровну. Решать должен был председательствующий. Какой страшный миг!
Михай Лештяк встал, усилием воли совладал с собой; упругим движением распрямил он свою статную фигуру, спокойно и неторопливо взял в руки булаву, лежавшую на столе рядом с саблей, и повертел ее в руках.
Вдруг раздался треск: булава была сломана.
— Смерть, — ясно и отчетливо проговорил Лештяк. Девушка в ужасе взглянула на него и, издав душераздирающий крик, лишилась чувств.
Из публики донеслось шиканье, но его заглушили возгласы восхищения.
— Все-таки он великий человек! — шептали один другому кечкеметцы.
— Дурной человек! — пробормотал Моллах Челеби.
А Лештяк, ни на кого не обращая внимания, оставил председательское место: теперь его уже ничто не связывало. Он склонился к своей возлюбленной, приподнял ее, поцеловал и прошептал ей на ухо:
— Не бойся, я спасу тебя.
— Смелый человек, — тихо заметил своим коллегам почтенный Пермете.
А смелый человек твердым мужественным шагом оставил залу, словно ничего не случилось, пошел домой и, запершись в комнате один на один с обезглавленным трупом старика, в течение нескольких часов разговаривал с ним:
— Ну, зачем ты это сделал, зачем? Видишь, сколько бедствий причинил ты себе, мне и ей. Ты ведь не был дурным человеком, я это знаю… Тщеславие сгубило тебя, — и в тебе разбудили этого истинно венгерского зверя! Из тщеславия ты сшил этот кафтан, из тщеславия отдал тот. Ты впутал в свою затею бедную девушку. О, лучше бы ты не делал этого: ведь сердце, а не рассудок двигали ее поступками. И ты нашел ее уязвимое место. И вот все рухнуло. А я стою здесь, подавленный и сломленный… Не сумел я оценить сокровище, эту бедную девушку… И сам я тоже отдался честолюбивым мечтам… Вот куда они завели меня…
Выговорившись, он перешел в другую комнату и отыскал большую кошелку с золотыми.
— Возьми это, душенька Эржи, выйди в палисадник и разбросай деньги среди народа!
Причитавшая по крестному девица была поражена до крайности, однако не посмела ослушаться могущественного бургомистра Кечкемета; полными пригоршнями она швыряла сверкающие золотые монеты прямо на дорогу, в пыль и песок, в придорожные кусты.
Бургомистр некоторое время наблюдал из окна, как набрасываются на золото и дерутся из-за него прохожие.
Но когда Эржи вернулась, Лештяка уже не было в доме. Его и след простыл. Когда он ушел и куда — никто не видел. Больше ни один живой человек не говорил с ним в Кечкемете.
* * *
На четвертый день была назначена казнь Цинны. Долгих три дня протомилась девушка в камере смертников. Она молилась у распятья, перед которым днем и ночью дрожали огоньки двух восковых свечей.
За эти дни городские власти не теряли времени: плотники построили эшафот, как раз против зеленых ворот ратуши; Пал Фекете по поручению магистрата привез из Фюлека палача. Сами же сенаторы были заняты другим: по их приказу во всех кечкеметских прудах и озерах, Вооружившись баграми, крюками, искали исчезнувшего Лештяка.
Наконец на четвертый день, как только с колокольни церкви храма святого Миклоша протрубили девять часов, собравшийся на площади народ загудел, заволновался. Зазвонил погребальный колокол: сейчас Цинну поведут на эшафот. На ней была простая белая юбка, которую почти совсем закрывали ее длинные распущенные волосы.
Но тут делу помог цирюльник Гажи Секереш: он проворно подскочил к осужденной со своими ножницами и, выполняя распоряжение властей, обрезал ей волосы, чтобы в них не запутался меч палача.
Потом Ференц Криштон встал на стул и зачитал смертный приговор.
Отец Бруно взял девушку за руку, чтобы помочь ей взойти на эшафот, где ее уже ожидал палач; в одной руке он держал меч с широким клинком, а в другой — белый платок, которым смертникам завязывают глаза.
— Страшно смотреть, — проговорила жена Пала Надя и зажмурилась.
— Такая красавица, и вот поди ж ты — должна умереть, — с сожалением вздохнул Гержон Зеке.
— Одно мгновенье, — рассуждала почтенная вдова Фабиан, — и на одну невесту меньше.
— Ну, их-то, положим, не истребишь, — подал реплику злоязычный Янош Сомор.
— Никогда еще не видел такой печальной казни, — приосанившись, заговорил Иштван Тоот. — А я немало их перевидал на своем веку! Во-первых, ни у кого ни слезинки в глазу. Старик Бюрю с его музыкантами в Сабадке, не отпускают его оттуда уже целую неделю. Во-вторых, осужденной и помилования-то ждать не от кого. В-третьих…
Но досказать ему не удалось: со стороны Цегледской улицы взметнулось вдруг облако пыли. Это мчались с гиканьем и боевыми выкриками, с саблями наголо молодцеватые гусары-куруцы, держа курс прямиком к лобному месту. Впереди — на тяжелых, могучих лошадях — скакало несколько всадников с опущенными забралами.
— Неприятель, неприятель! — завизжала, заголосила толпа, и люди бросились врассыпную куда глаза глядят.
Поднялась страшная паника. Отец Бруно спрыгнул с эшафота и, клацая от страха зубами, помчался к ратуше.
— Это нечестивец Чуда! За мной пожаловал! Сейчас они меня погонят в полон.
Сенаторы тоже разбежались. Палач бросил свой меч и вместе со всеми пустился наутек.
В мгновенье ока один из всадников в шлеме вскочил на эшафот и, легко, как пушинку, подняв трепещущую Цинну, посадил ее в седло.
Никто не преградил ему путь, никто не спросил, чего он хочет. А он тоже никого не спросил: можно ли?
Маленький отряд, так же молниеносно, как появился, умчался прочь, свернув в боковую улицу.
Мало-помалу из своих укрытий вылезли перепуганные кечкеметцы всех чинов и званий.
Сенаторы радовались, что всадники увезли только Цинну, не забрав больше ничего. Невелика потеря!
И только палач состроил кислую мину:
— Давайте мне другую работу, раз уж я тащился сюда в такую даль!
Многие, наблюдавшие за налетом из-за заборов и поленниц дров, готовы были поклясться чем угодно, что всадник с опущенным забралом, маханувший прямо на эшафот, был не кто иной, как сам Михай Лештяк. Его узнали по статной фигуре, походке, по сверкающим карим глазам. Так что нечего было и искать его в тихих водах озера.
Тетушка Деак, особа достойная всяческого доверия, утверждала, например, что слышала фразу, которую произнесла цыганка, уже сидя в седле вместе со статным всадником:
— Ты подождешь еще раз, пока отрастут мои волосы? Всадник ясно и отчетливо ответил:
— Нет, Цинна, больше ждать я не буду.
* * *
Было все это или не было — бог знает, но с того дня Михая Лештяка перестали искать среди умерших; зато стали ожидать его домой, в число живущих.
Лештяк исчез, — ну, на то была причина: вместе с отрядом куруцев поехал отыскивать кафтан. Забрал с собою и невесту — что же в этом плохого? Правильно сделал! Вот увидите, вернется он однажды домой на сером скакуне, с золотыми поводьями. И в том самом кафтане…
И однажды, когда Кечкемету будет грозить какая-нибудь большая опасность, он вернется домой, сядет в свое бургомистерское кресло, а когда появятся враги, будет разить их, словно молния.
Лештяка ждали, долго ждали. Уже умерли и те, кто еще ребятишками бегал когда-то глазеть на кафтан, но внуки их все еще продолжали его ждать.
Послесловие автора
Тем, кто с таким пристальным вниманием и интересом следил за моим повествованием и на крутых его поворотах письмами предупреждал меня: «Ну, сейчас все будет испорчено», — не лишнее будет сказать несколько слов в виде дополнения к этому рассказу.
Многие упрекали меня: «Почему к Олай-беку вместо Лештяка отправляется Цинна? Зачем это нужно?»
Другие дождались, пока портной отдаст кафтан, а затем, напуганные, что Кечкемету угрожает опасность, в сердцах писали мне: «Что вы делаете, побойтесь бога!»
Надо признать, что я, пожалуй, излишне строго придерживался той летописи, — а в ней всего несколько строк, — которая оказалась в моем распоряжении. Не будь ее, мое повествование действительно стало бы более гладким, более цельным и, так сказать, эстетически более совершенным.
Но как бы строго я ни придерживался этих обрывочных сообщений летописи, я отнюдь не собираюсь рассматривать свою повесть как какой-то действительно имевший место исторический эпизод из прошлого города Кечкемета, ибо главное здесь — сам рассказ, а исторические события служат для нее лишь фоном. Этот фон я произвольно поместил в ту эпоху, когда произошел случай с кафтаном, передвинув его то ли лет на сто вперед, то ли на столько же лет назад. Кое-где я приспосабливал исторический фон к кафтану, а порой — кафтан к фону.
А в общем — это рассказ о тяжкой жизни города, и ценность он имеет только в том случае, если написан живо и метко. Но об этом судите уж сами!
Что же касается кафтана, то город Кечкемет долго разыскивал его повсюду — но безуспешно.
И вдруг, когда о нем уже почти забыли, кафтан неожиданно объявился.
В первой половине нашего века жил в Венгрии некий бродячий ученый антиквар по имени Шамуэль Литерати Немеш. Он бродил по городам, скупал и продавал старинные вещи.
В отличие от нынешних наших антикваров, он был удачлив и находил все, что искал. А искал он всегда такие вещи, которые, но его мнению, могли быть проданы за хорошую цену.
Если в Кешмарке начинали поговаривать о том, что у них когда-то было кольцо Белы II, то уже на следующей неделе Шамуэль Литерати отыскивал это кольцо в раскопках неподалеку от Римасомбата.
Точно так же ему, наверное, была рассказана в Кечкемете история о чудесном кафтане. И вскоре он наткнулся в Эгере на его жалкие останки. Не медля ни минуты, он с большой помпой привез их в Кечкемет. Так, после двухсотлетних скитаний, знаменитый говорящий кафтан вернулся домой.
Достойные господа сенаторы осмотрели находку со всех сторон (ведь к тому времени на свете уже не было господ Поросноки или Криштона, которые могли бы опознать кафтан), спросили, какова же будет окончательная цена, после чего почесали в затылках и стали говорить обиняками.
— Хотел бы я слышать, что предложите за него вы? — спросил антиквар.
Сенаторы удалились на совещание. Наконец председатель магистрата, медленно цедя сквозь зубы слова, объявил решение:
— Понимаете, господин Шамуэль Литерати, конечно, все это хорошо, очень хорошо, однако кого мы теперь будем стращать этим кафтаном? Ведь для этого нужны турки, почтеннейший Литерати, да-с, турки…
А турок даже сам господин Литерати не мог бы уже откопать. Так и остался он со своим кафтаном.
1889
ПРИМЕЧАНИЯ
РАССКАЗЫ
ЧЕРНОЕ ПЯTНO
Рассказ напечатан впервые в сборнике «Земляки-словаки», 1881. Написанный в отчетливо романтическом духе («Кто не узнал бы в сентиментальной истории любви герцога и дочери брезинского пастуха романтическую схему: замок — хижина», — замечает современный венгерский литературовед Иштван Кирай)[84], рассказ «Черное пятно» является наиболее характерным для новеллистики раннего Миксата.
Сюр — старинная верхняя одежда венгерского крестьянина, напоминающая вывороченную бурку, обычно крытую сукном и расшитую.
Комитат — административно-территориальная единица в Венгрии, соответствующая области (губернии).
Демика — пастушеское кушанье, каша с острой приправой.
Кантор — регент церковного хора. В деревнях часто он же — учитель.
Клапка Дёрдь (1820—1892) — генерал венгерской национально-освободительной армии в 1848—1849 гг.; после поражения революции вынужден был эмигрировать. Захонь, Граца — легендарные полководцы, соратники Клапки.
Пёркёльт — венгерское национальное блюдо типа рагу.
Палинка — венгерская водка, обыкновенно фруктовая.
СТАРЫЙ ДАНКО
Рассказ вошел в сборник «Камешки», 1883.
Сам Миксат не мог помнить славной революции 1848—1849 гг. и мужественной борьбы венгерского народа за национальную независимость. Однако эти события «наложили отпечаток на всю его жизнь» (И. Кирай) и стали лейтмотивом целого ряда рассказов, в том числе и «Старого Данко», поэтизирующих героическую эпоху в истории венгерского народа.
…когда пришел конец австрийской тирании… — Подразумевается, очевидно, разрыв революционной Венгрии с Австрией.
Хуняди — старинный венгерский род, давший стране прославленного полководца, «победителя турок» Яноша Хуняди (1407?—1456) и короля-просветителя Матяша (Корвина) Хуняди (1443—1490).
Палфи Мор (или Мориц) (1812—1897) — адъютант австрийского фельдмаршала Хайнау, войска которого принимали участие в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. В 1861—1865 гг. Мор Палфи был наместником австрийского императора Франца-Иосифа в Венгрии. Своей реакционной деятельностью на службе у Габсбургов Палфи вызвал всеобщую ненависть венгерских патриотов.
Филлер — мелкая разменная монета в Венгрии.
…из-за пресловутого «восточного вопроса». — Под «восточным вопросом», с XVIII и до начала XX в., подразумевался сложный комплекс политических и дипломатических проблем, возникавших в результате соперничества ряда держав за преобладающее влияние в Оттоманской империи, а также — борьба балканских народов за национальную независимость.
Ракоци Ференц II (1676—1735) — трансильванский князь-правитель, возглавивший освободительную борьбу венгерского народа против Габсбургов. Выдающийся политический деятель, дипломат, полководец, писатель. Потерпев поражение в войне, жил в изгнании. Умер в Турции.
…до самого Онодского собрания. — В 1707 г. в селе Онод (северо-восточная Венгрия) было созвано всевенгерское Сословное собрание, принявшее решение лишить Габсбургскую династию права на венгерский престол.
Раковский Меньхерт, Околичани Криштоф — представители дворянства комитата Туроц на Онодском Сословном собрании; находились на тайной службе у Габсбургов, были убиты патриотами.
Тёкёли Имре (1657—1705) — трансильванский граф, отчим Ференца Ракоци II. Предводитель венгерского восстания 1678 г., направленного против Габсбургов. Не обладая достаточными военными силами, обратился за помощью к Турции. Князь-правитель освобожденной Северной Венгрии, потом Трансильвании. В 1699 г., когда антигабсбургское движение временно пошло на убыль, вынужден был покинуть родину. Умер в Турции.
Кошут Лайош (1802—1894)—выдающийся политический деятель Венгрии, вождь буржуазной революции и национально-освободительного движения 1848—1849 г., со 2 мая 1849 г. президент-правитель Венгрии. После поражения революции жил в эмиграции, но до конца своих дней продолжал бороться за независимость Венгрии.
БАДЬСКОЕ ЧУДО
«Конь святого Михая» — народное прозванье похоронных дрог в Венгрии.
Вигано — короткая верхняя юбка, названная так по имени популярной в Венгрии начала XIX в. итальянской танцовщицы М. Вигано.
ПРОПАВШИЙ БАРАШЕК
Миксат в ранний период много писал о жизни родного края — северной части тогдашней Венгрии (теперь — территория Словакии). Его герои — словаки, палоцы, венгры — преимущественно крестьяне. Рассказы Миксата о своих земляках часто сентиментальны, но написаны сочно, с большим знанием реальной жизни.
ПОДЫСКИВАЕТСЯ МИНИСТР
Это одно из первых произведений художественной литературы Венгрии, где остро критически изображена парламентская жизнь страны, облик ее депутатов. Любопытное противопоставление этим «отцам страны» — образ неподкупно-честного, образованного, но «безродного», а потому неугодного сильным мира сего Яноша Фекете.
Кортеш — вербовщик голосов на выборах в Венгрии.
Мамелюки — ироническое прозвище сторонников правительственной партии в венгерском парламенте.
Тарокк — популярная в Венгрии карточная игра.
«Элленёр» («Наблюдатель») — политический справочник, издававшийся группой Кошута на венгерском языке и выходивший за пределами Венгрии. В его статьях излагалась программа оппозиционно настроенного венгерского дворянства, возглавлявшегося Кошутом.
Форинт — венгерский денежный знак, первоначально золотой, затем, в XIX в., серебряный.
Стоит вспомнить хотя бы о «Бане Банке» Йожефа Катоны… — «Бан Банк» — патриотическая пьеса Йожефа Катоны (1791—1830) — выдающегося венгерского драматурга.
Сервус — принятое в Венгрии приветствие, предполагающее обращение на «ты».
АХ, ЭТОТ ИЗВЕРГ ФИЛЬЧИК!
Первый вариант рассказа был опубликован в 1876 г. в «Фёвароши лапок» («Столичной газете»). В нем главный герой — Фильчик — был изображен как чисто комический персонаж, человек простоватый и хвастливый. Вариант 1882 г.—это поистине трагическая история с остросоциальным подтекстом. Старик Фильчик — не вымышленная фигура. Он фигурирует также и в некоторых других произведениях Миксата.
…восседал даже кальвинистский петух. — На колокольнях кальвинистских церквей вместо креста водружался петух, отлитый обычно из бронзы.
Гайдук — служитель при комитатской управе.
…душа погибшей жены Яноша Гейи… — Миксат имеет в виду героиню своего рассказа «Кони несчастного Яноша Гейи».
ЗАВТРАК МИНИСТРА ФИНАНСОВ
Рассказ вошел в сборник «Захудалое дворянство и народ», 1884. Вернувшись в столицу из Сегеда, Миксат стал сотрудником газеты «Пешти хирлап» («Пештский вестник»). В его обязанности входило ежедневно информировать читателей о заседаниях парламента. Сценка «Завтрак министра финансов» была опубликована в газете вместо очередной корреспонденции.
Душек Ференц (1795—1873) — министр финансов в Венгрии во время национально-освободительной войны 1848—1849 гг.; предатель, способствовавший тому, что после разоружения революционной армии все ее документы и казна попали в руки австрийцев.
Секеи — обособленная венгерская этнографическая группа, в X—XIII вв. расселенная в Трансильвании.
ЗАБЫТЫЙ АРЕСТАНТ
По поводу этого рассказа уже цитировавшийся выше венгерский литературовед Иштван Кирай писал: «Миксат и здесь только изображает, он не излагает своей позиции непосредственно, его презрение, его протест не выливаются в горькие слова».
«Забытый арестант» создан на основе анекдота, и Миксат подчеркивает анекдотический характер рассказа. Как правильно замечает И. Кирай, «критический реализм Миксата вырос из анекдота и до конца носил на себе это родимое пятно».
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
Это одно из первых произведений Миксата, рисующих положение и облик разоряющегося венгерского дворянства. Тема эта становится одной из центральных в его творчестве.
Джентри — английский термин, принятый также и в Венгрии, обозначающий мелкопоместное захудалое дворянство.
В битве при Пишки — Имеется в виду сражение во время национально-освободительной войны 1848—1849 гг. в Трансильвании, где крупную победу одержали революционные войска знаменитого генерала Бема.
ВЕСЕЛЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
Пандуры — полицейские при комитатских управах. (Этот институт существовал в Венгрии до 1848 г. и был снова введен в 1867 г. В 1881 г. его отменили окончательно в связи с учреждением венгерской жандармерии.)
…а там и мы поплетемся за вами. — Миксат намекает здесь на постепенное ограничение автономии комитатов в Венгрии конца XIX в.
…ведь мы находимся в комитате Зойом. — Основная часть населения комитата Зойом — словаки.
МАЙОРНОКСКИЙ БУНТ
…когда палатином в Буде был Иосиф… — Палатин — наместник австрийского императора в Буде, древней столице Венгрии. Иосиф (1776—1847) — эрцгерцог из дома Габсбургов, в течение пятидесяти одного года бывший наместником императора в Венгрии.
…засвистели палочные удары — народная музыка сороковых годов. — Накануне революции 1848—1849 гг. в Венгрии широко применялись телесные наказания.
ЧИНОВНИЧИЙ СКЛАД УМА
Каммермайер Карой (1829—1897) — первый бургомистр столицы Венгрии после объединения в 1873 г. Буды, Пешта и Обуды в один город.
Вербёци Иштван (?—1541 или 1542) — венгерский магнат и реакционный политический деятель, жестоко подавивший крестьянское восстание 1514 г., блюститель феодальных устоев, составивший свод законов, которые действовали в феодальной Венгрии, утверждая крепостничество.
Тиса Кальман (1830—1902) — граф, политический деятель либерально-консервативного направления, в 1875—1890 гг. — премьер-министр Венгрии.
ФОРМАЛЬНОСТИ
Ясберень — уездный центр в комитате Сольнок, где греко-католическая религия имела широкое распространение.
ТЕТУШКА ПРИКЛЕР
Этот рассказ — одно из немногих произведении Миксата о жизни городской бедноты.
…можно привыкнуть к похоронным псалмам… — В конце Керепешского проспекта находится центральное будапештское кладбище.
ЭСКУЛАП НА АЛФЁЛЬДЕ
Калабри — карточная игра, распространенная в Венгрии.
Деак Ференц (1803—1876) — видный венгерский политический деятель либерального направления, пользовавшийся большой популярностью.
ЛОШАДКА, ЯГНЕНОК И ЗАЯЦ
Рассказ этот — отголосок трагедии, произошедшей в семье Миксата: сын писателя Янош умер в пятилетием возрасте от дифтерии.
ЗЕЛЕНАЯ МУХА И ЖЕЛТАЯ БЕЛКА
Рассказ впервые был напечатан в приложениях к «Вашарнапи уйшаг» («Воскресной газете) за 1895 г.; в том же году был опубликован еще в нескольких периодических изданиях. Существовала также обработка его для сцены. Сюжетом рассказа послужила подлинная история, услышанная Миксатом от его друга хирурга Ласло Фаркаша.
Критика единодушно одобрила этот рассказ. Один из рецензентов, критик Бела Вардаи, сравнивал это произведение с рассказом Тургенева «Смерть» из «Записок охотника».
ДЕМОКРАТЫ
Этот рассказ впервые был напечатан в 1898 г., причем, почти одновременно, в нескольких периодических изданиях. В том же году был издан в сборнике рассказов Миксата «Выборы в Венгрии».
Тему «Демократов» Миксат вынашивал почти двадцать лет и несколько раз использовал оба сюжета, разработанные в этом рассказе. К первому сюжету он обратился впервые в 1881 г., затем вернулся к нему в 1886 г. Вторая ситуация была использована писателем дважды. Образы обоих «демократов» взяты из жизни. Герой первой истории имеет два прототипа: крупного венгерского землевладельца Иштвана Блашковича и Миклоша Фейервари, богача, вернувшегося на родину из Америки. Прообразом героя второй истории был Акош Каллаи, депутат парламента от партии независимости. В связи с появлением этого рассказа газеты развернули большую дискуссию о праве писателя выводить в своих произведениях реальные личности. При этом Миксата упрекали в неточности характеристик, в непочтительности и т. п. Однако вся прогрессивная критика дружно взяла рассказ под защиту, считая рассказ «Демократы» одним из первых выступлений против дворянско-буржуазного псевдодемократизма.
Семере Берталан (1812—1869) — известный деятель либеральной дворянской оппозиции, с мая по август 1849 г. — премьер-министр революционного правительства Венгрии.
…Что Молнар — де Левелек. — Игра слов: Левелек — название родового имения Молнаров — означает также «листья» (в данном случае — листья генеалогического древа).
…отправили его в Пожонь депутатом. — Пожонь — ныне Братислава; в описываемое Миксатом время венгерское Сословное собрание собиралось не в столице, а в Пожони.
Персоналис — в прошлом — лицо, заменявшее короля в королевском суде; с 1608 г.— председатель апелляционного суда и нижней палаты Сословного собрания.
Сечени Иштван (1791—1860) — граф, лидер дворянской оппозиции так называемой эпохи реформ (20—30-е годы XIX в.), выдающийся публицист, основатель венгерской Академии наук (1825).
Барабаш Миклош (1810—1898) — известный венгерский живописец, написавший портреты почти всех выдающихся деятелей эпохи реформ и национально-освободительного движения 1848—1849 гг.
…заседали теперь в дебреценском парламенте… — В период национально-освободительной войны 1848—1849 гг. венгерский парламент (Сословное собрание) перенес свои заседания в г. Дебрецен. (14 апреля 1849 г. там была провозглашена независимость Венгрии, а Габсбурги «навеки лишены венгерского престола».)
…последовало пресловутое двенадцатилетие. — Имеются в виду годы жесточайшего контрреволюционного террора, последовавшие за поражением венгерской революции 1848—1849 гг.
…строили королевский холм к коронованию. — Речь идет о коронации австрийского императора Франца-Иосифа на венгерской королевский престол. Для этой церемонии действительно свозили землю, воздвигая специальное возвышение.
Об этом пел поэт, и король внял его гласу. — Возможно, Миксат имел в виду писателя Мора Йокаи, обращавшемуся, как и многие другие литераторы того времени, к Францу-Иосифу с прошениями об амнистии участников революции.
Липотсентмиклош — ныне Липтовский Свети-Микулаш, городок в Чехословакии.
Фринджия — старинная сабля из тонкой качественной стали; до XVII в. завозились из Турции.
Куруцы — венгерские повстанцы, боровшиеся за независимость Венгрии против турецкого и австрийского господства в XVI—XVIII вв.
…верных скифских сердцах. — Среди многочисленных легенд о происхождении венгров существовала в средние века и такая, которая устанавливала родство древних венгров со скифами.
Арпад (?—907) — вождь, приведший, согласно легенде, венгерские племена на территорию нынешней Венгрии; объединив эти племена под своей властью, он стал родоначальником первой королевской династии.
…поскольку конституция дело более позднее. — Речь идет о рескриптах, дарованных первым королем Венгрии Иштваном I (970?—1038).
Тали Кальман (1839—1909) — политический деятель, поэт, историк, освещавший (с романтических позиций) освободительное движение, возглавлявшееся Ференцем Ракоци II.
…героическая мать. — Имеется в виду Илона Зрини (1643—1703), мать Ференца Ракоци II, прославившаяся героической защитой крепости Мункач (ныне Мукачево) от австрийских войск.
Общество Кишфалуди — литературное общество, созданное в 1836 г. в память Кароя Кишфалуди (1788—1830), писателя, поэта, драматурга, одного из зачинателей раннего романтического направления в венгерской литературе. Это общество просуществовало около ста лет и сыграло большую роль в развитии венгерской литературы.
Крепость Патак — крепость в г. Шарошпатак, в XVI в. ставшая собственностью семьи Ракоци.
Безередь Имре (?—1708) — один из самых популярных предводителей куруцев.
Берчени Миклош (1665—1725) — друг и сподвижник Ференца Ракоци II, выдающийся полководец. По поручению Ракоци вел переговоры с русским царем Петром I. Умер в эмиграции в Турции.
КРАСНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
Рассказ был включен в последний прижизненный сборник рассказов Миксата «Светит по вечерам светлячок», 1906.
Романтически-элегическое настроение «Красных колокольчиков» созвучно многим произведениям Миксата, написанным в последнее десятилетие.
ФИЛИ
Рассказ печатался в 1902 г. с продолжениями в газете «Пешти хирлап». В первых публикациях произведение носило название «Дважды поляк». Это название, встречающееся и в самом тексте рассказа, нуждается в пояснении. Слово «Лендел» — фамилия героя рассказа — по-венгерски значит «поляк». Но в Венгрии это слово в XIX в. приобрело еще и другое значение. Дело в том, что после подавления польских национально-освободительных восстаний начала XIX в. многие польские патриоты нашли приют в венгерских дворянских семьях и жили подолгу в качестве желанных гостей, переходя из одной семьи в другую. Позже «поляками» стали называть вообще всех, живущих «при доме», в том числе бедных родственников, нахлебников. (Отсюда Фюлёп Лендел — «двойной поляк», «дважды поляк».)
Любопытна история написания рассказа «Фили». На страницах «Пешти хирлап» печатался с продолжениями роман Мора Йокаи «Наш поляк». Опубликовав две части романа, Йокаи временно прекратил дальнейшую его публикацию, и газете нужно было чем-то заполнить начатый раздел. Помог Миксат, использовавший даже название романа для своего рассказа. Но в целом «поляк» Миксата ничего общего не имел с героем романа Йокаи, отважным польским патриотом. Фюлёп Лендел — венгр, обнищавший дворянин, «лишний человек», не приспособленный к жизни,— тип, довольно часто фигурирующий в произведениях венгерских писателей, современников Миксата,— у Жигмонда Юшта, Иштвана Петелеи и других. Общим литературным их прообразом, что отмечалось многими критиками того времени, был Обломов Гончарова.
Гара Ласло (?—1460) — опекун, а затем наместник короля Матяша Корвина.
…у нас и короля-то нет — После поражения революции 1848—1849 гг. Венгрия оказалась под протекторатом Австрии и лишь в 1867 г. был введен статут, по которому император австрийский стал именоваться также королем венгерским.
МЯСО У ТООТОВ ПРОДАЕТСЯ НА ГЛАЗОК
Палоцы — одна из народностей Венгрии, происхождением восходящая к половцам.
…с его величеством кайзером Микшей… — Речь идет об австрийском эрцгерцоге Максимилиане Габсбурге (1832—1867) — императоре Мексики. Был расстрелян по приговору военного трибунала национально-освободительной армии Мексики.
КУЗНЕЦ-ГЛАЗНИК
Пенгё — венгерская чеканная монета, в разное время имевшая различную стоимость.
КОЖИБРОВСКИЙ ЗАКЛЮЧАЕТ СДЕЛКУ
Рассказ печатался в 1905 г. с продолжениями в двух периодических изданиях; «Вашарнапи уйшаг» и «Кепеш фойоират» («Иллюстрированный журнал»); он включался почти во все собрания сочинений и избранные сочинения Миксата.
Образ Кожибровского был подсказан писателю депутатом парламента Алдерноном Вёйти, часто рассказывавшим о похождениях «старого хитреца Кожибровского», которого, по мнению Миксата, никогда не существовало. Писателю полюбился этот герой — типичный разорившийся венгерский дворянин, обладавший несомненной жизненностью и достоверностью; Миксат с удовольствием обращался к нему в целом ряде произведений, показывая его в самых различных ракурсах. (См., например, повести «Не дури, Пишта!» и «Кавалеры», том 2 наст, изд.) Но если в других произведениях Миксата Кожибровский по большей части — всего-навсего безобидный плут, смешной забавник, то в рассказе «Кожибровский заключает сделку» он уже опасный и жестокий обманщик.
СВОП — Северовенгерское общество просвещения.
Пафлагония — горная местность в Малой Азии. Здесь — непригодная для обработки лесисто-горная местность.
Ворт — известный парижский портной.
ВСЕ-ТАКИ КИСЛИЧ ТАЛАНТ
Мункачи Михай (1844—1900) — выдающийся венгерский живописец реалистической школы.
…так как «ипсилон» на конце фамилии прилепить было некуда… — «Ипсилон» в конце фамилии должен был свидетельствовать о дворянском происхождении.
…на виноград, нарисованный Апеллесом… — С именем Апеллеса, величайшего художника Древней Греции, было связано множество легенд и анекдотов, один из которых и вспоминает здесь Миксат.
Пазмань Петер (1570—1637) — кардинал, воспитанник иезуитов, вдохновитель антипротестантского движения в Венгрии, выдающийся публицист.
Устрашающая слава венецианской «десятки»… — Имеется в виду возникший в XIV в. «Совет десяти» — карательный орган Венецианской республики.
ТЭВИШКЕШ В ГОСТЯХ
Рассказ вошел в одноименный — посмертный — сборник рассказов Миксата (1912).
…которого величали «ваше благородие»… — В Венгрии, где каждый десятый был обладателем дворянской грамоты, управляющими крупных имений зачастую становились дворяне.
…и вот прилип здесь, будто «поляк». — См. примечания к рассказу «Фили».
ФЕРЕНЦ РАКОЦИ ЖАЛУЕТ В ДАР
Рассказ вошел в посмертный сборник «Тэвишкеш в гостях».
Во время памятного Сословного собрания в Шарошпатаке в 1708 году… — На этом Сословном собрании был принят закон об освобождении крепостных, участвовавших в освободительной борьбе.
…город Шарошпатак был достоин своего честного названия… — Шарошпатак — буквально: грязный ручей.
Лабанцами в Венгрии называли сторонников Габсбургов в период войны за независимость XVII—XVIII вв.
Века — старинная мера для измерения зерна в Венгрии, от 12 до 25 литров.
Лат — старинная мера веса, около 16,6 г.
Кила — старинная венгерская мера для измерения земли.
Разве что сам черт или Яворка. — Яворка Адам (1684—1747) — один из самых доблестных военачальников национально-освободительной борьбы XVII—XVIII вв., сумевший сберечь личный архив Ференца Ракоци II.
ПОВЕСТИ
КОМИТАТСКИЙ ЛИС
Повесть «Комитатский лис», опубликованная в 1877 г. сразу в трех изданиях — в газете «Сегеди напло» («Сегедский дневник») и в журналах «Мадьярорсаг» («Венгрия») и «Надьвилаг» («Большой мир»), имеет еще четырех «близнецов»: произведения, в которых использован тот же сюжет и которые могут послужить благодарным материалом для изучения становления начинающего писателя («Борьба Нибелунгов», 1873, «Мир печовичей», 1874, «Сладостные воспоминания стариков нашей деревни», 1879, «В Сегеде», 1879).
«Комитатский лис» — лучшая ранняя повесть Миксата. Наиболее интересный и живой персонаж повести — адвокат Мартон Фогтеи — создан Миксатом, очевидно, на основе личных наблюдений во время пребывания на комитатской службе в г. Балашшадярмат. В этом образе, несомненно, ощущается и влияние «Пиквикского клуба» Ч. Диккенса.
Пишта — уменьшительное имя от Иштвана.
«Малое зерцало» — учебник в начальных школах Венгрии в XIX в.
…ветер отечества целовал знамена с надписью: «Libertas!» — Лозунг «Libertas!» («Свобода!» — лат.) был написан на знаменах национально-освободительного движения Ференца Ракоци II.
Печовичи — сторонники правительственной консервативной партии.
Надь Пал (1777—1857) — венгерский либеральный политик, выдающийся оратор, ведущий деятель эпохи реформ (20—30-е годы XIX в.).
«Новеллы Юстиниана» — свод законов римского императора Юстиниана (527—565).
«Возлюбленная Химфри» — поэма венгерского поэта-просветителя Шандора Кишфалуди (1772—1844).
«Аврора» — первый венгерский литературный журнал-альманах, издававшийся в 1822—1837 гг.
Вирожил Антал (1792—1868) — венгерский ученый, автор юридических учебников.
Маккелдей (1784—1834) — немецкий юрист, автор ряда научных трудов, в том числе учебника римского права.
…Андраш Дугонич даже книги свои так на главы делил: «Первая трубка табаку», «Вторая трубка табаку» и т. д. — Дугонич Андраш (1740—1818) — венгерский писатель, монах, профессор математики. Однако свое произведение разделил на такие главы не он, а поэт Михай Витез Чоконаи (1773—1805) в поэме «Война лягушек и мышей».
Альвинци Йожеф (1735—1810) — военный губернатор Венгрии во время наполеоновских войн, вызывавший к себе всеобщую ненависть.
Кипижи Пал (?—1494) — легендарный герой венгерской истории времен войны против турецких завоевателей.
…на место вице-губернатора у меня, правда, есть человек… — Должность вице-губернатора — главы комитатской управы — была в Венгрии высшей выборной должностью (губернатор назначался императором и жил обычно при дворе).
…жемчужина в короне святого Иштвана. — Святой Иштван (Иштван I (970?—1038) был первым венгерским королем из династии Арпадов, первые законодательные рескрипты которого даровали дворянству ряд привилегий, в частности освободили его от всякого налогообложения.
Дожа Дёрдь (1475—1514) — вождь крупнейшего крестьянского антифеодального восстания. После подавления восстания был сожжен заживо.
ЛОХИНСКАЯ ТРАВКА
При выборе темы ― расследование уголовного преступления ― сыграло роль желание Миксата опубликовать повесть в серии массовых дешевых выпусков издательства Зингера и Вольфнера «Библиотека романов всего мира», которая поставляла «легкое чтение» для широких слоев читателей.
Миксат писал «Лохинскую травку» в Мохове, где отдыхал у своих родственников. Действие повести развертывается примерно в тех же местах, в родном Миксату комитате Ноград. С большим мастерством использовал писатель фольклорные мотивы — поверья северной Венгрии, которые обработал легко и изящно.
…во время провизориума… ― Имеется в виду так называемый второй период абсолютистского режима в Венгрии (1861—1867).
Питоваль (1673—1743) ― французский юрист, автор книги «Уголовные дела, стяжавшие мировую известность».
Паприкаш ― национальное венгерское блюдо ― мясо, рыба или картофель, тушенные с красным перцем (паприкой).
ГОВОРЯЩИЙ КАФТАН
В центре повести ― исторический эпизод. Хроника XVI в. датирует историю с кафтаном 1596 г. Миксат передвигает ее почти на 100 лет, отнеся к 1680 г., когда антигабсбургское освободительное движение куруцев возглавил граф Имре Тёкёли. Венгрия в то время распадалась на три части: некоторые ее области то обретали, то теряли самостоятельность, другие десятилетиями находились под турецким игом, третьи подчинялись Габсбургам. Положение города Кечкемета было особенно трудным: все 146 лет турецкого владычества и непрекращавшейся внутренней войны против Габсбургов городу приходилось лавировать между несколькими «хозяевами».
Миксат, хотя и многое почерпнул из исторических исследований, не в исторической достоверности видел основную свою задачу. «Главное ― это фабула, ― писал он в послесловии, ― … исторические же события возникают здесь лишь как фон…» Писателя волновали прежде всего человеческие типы, характеры и их проявления в сложных ситуациях.
Будайский паша — наместник турецкого султана в части Венгрии, захваченной турками (XVI—XVII вв.).
Бек, чаус — турецкие чиновные лица.
…на городском гербе козел блеет… — На старинном городском гербе Кечкемета была изображена козья голова. Само название Кечкемет означает буквально «козорез».
Куны — племя тюркского происхождения, осевшее в XIII в. в междуречье Дуная и Тисы, на территории нынешней Венгрии.
Едикула — тюрьма в Константинополе (так называемый «Семибашенный замок»).
Каймакам — ближайший помощник паши.
…как ведьмы, которых в Сегеде живьем сжигали. — В 1728 г.в г. Сегеде были заживо сожжены на костре тринадцать человек, обвиненных в колдовстве.
Наседка с цыплятами — народное название созвездия Плеяд.
Бетлен Габор (1580—1629) — трансильванский князь-правитель, возглавивший борьбу за восстановление независимости Венгрии.
Примечания
1
Прощайте (франц.).
(обратно)2
Милостивый государь (лат.).
(обратно)3
«Знак» (лат.).
(обратно)4
Кстати (франц.).
(обратно)5
К бессмыслице (лат).
(обратно)6
Конечный итог (лат.).
(обратно)7
Точка (лат.).
(обратно)8
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)9
Жизнеописание (лат.).
(обратно)10
Приятель (лат.).
(обратно)11
От Крупланитца нашего
Души, ума не спрашивай (нем.).
(обратно)12
Господин (нем.).
(обратно)13
Значит (нем.).
(обратно)14
Черт побери! (франц.)
(обратно)15
Ты слышишь… Каков кавалер! (нем.)
(обратно)16
Это совершенный болван! (нем.)
(обратно)17
Да, ваше сиятельство (нем.).
(обратно)18
Обед (франц.).
(обратно)19
Откровенно (лат.).
(обратно)20
Так проходит слава земная (лат.).
(обратно)21
Образ жизни (лат.).
(обратно)22
Полновластный уполномоченный (лат.).
(обратно)23
Публикуемое здесь письмо я написал молодому ученому из Трансильвании, который прислал мне оттиск своего труда по эстетике — К. М.
(обратно)24
Мелкая рыба — хорошая рыба (нем.) — аналогично русскому: на безрыбье и рак рыба.
(обратно)25
Ты прав (лат.).
(обратно)26
Проклятье! (нем.).
(обратно)27
Черт возьми (франц.).
(обратно)28
Тысяча чертей! (нем.)
(обратно)29
Как подобает (лат.).
(обратно)30
Боже мой, братец! (искаж, нем.)
(обратно)31
Разнообразие доставляет удовольствие (лат.).
(обратно)32
Если там он и пошатнулся (лат.).
(обратно)33
Здесь — кончено! (лат.)
(обратно)34
Здесь — пассия (франц.).
(обратно)35
Тайное снадобье (лат.).
(обратно)36
Кепеши — от слова кёр — картина (венг.).
(обратно)37
Шедевр (франц.).
(обратно)38
Повод выпить (лат.).
(обратно)39
Изыди, сатана! (греч.).
(обратно)40
Состав преступления — Здесь: доказательство (лат.).
(обратно)41
Следовательно (лат.).
(обратно)42
Тэвишкеш (toviskes) — буквально: колючий (венг.).
(обратно)43
Женщина распутная и изнеженная (лат.).
(обратно)44
Главный управитель соляных копей (лат.).
(обратно)45
Глава экономического права (лат.).
(обратно)46
Генерал-фельдмаршал (лат.).
(обратно)47
Перо черной цапли имел право носить только Ракоци; позднее, в знак особой признательности, он позволил это и Берчени. — К. М.
(обратно)48
Сиятельнейший князь (лат.).
(обратно)49
Неодолимая сила (лат.).
(обратно)50
Прием во время одевания владетельной особы (франц.).
(обратно)51
Здесь — интимные приемы королей (франц.).
(обратно)52
Приплод (лат.).
(обратно)53
«Мы, Ференц Ракоци, из Фельшёвадаса…» (лат.).
(обратно)54
Ужасно! (лат.)
(обратно)55
Помилование (лат.).
(обратно)56
Донос (лат.).
(обратно)57
Кто выигрывает время, выигрывает жизнь (лат.).
(обратно)58
Начальные буквы слов «Nemes varmegye» — «Благородный комитат» (венг.).
(обратно)59
Свод законов (лат.).
(обратно)60
Третьего не дано (лат.).
(обратно)61
Сила инерции (лат.).
(обратно)62
По аналогии (лат.).
(обратно)63
Господин (лат.).
(обратно)64
Вещь, никому не принадлежащая (лат.).
(обратно)65
В виде примечания (лат.).
(обратно)66
Год (лат.).
(обратно)67
Владение славной дворянской фамилии Калап (лат.).
(обратно)68
Тем самым (лат.).
(обратно)69
Умному и малого достаточно! (лат.)
(обратно)70
Насилие (лат.).
(обратно)71
Часть вместо целого (лат.).
(обратно)72
Третьего не дано! (лат.)
(обратно)73
Прошу, милостивый государь. У этого вина есть и цвет, и аромат, и вкус (лат.).
(обратно)74
Во веки веков (лат.).
(обратно)75
Здесь: канторы любят пошутить (лат.).
(обратно)76
Очень хорошо, очень хорошо! (лат.)
(обратно)77
Ваше преподобие (лат.).
(обратно)78
Исключение из школы (лат.).
(обратно)79
Резиденция пештского губернатора находилась в местечке Фюлек, Ноградского комитата. (Прим. автора.)
(обратно)80
А теперь что же? (лат.)
(обратно)81
Юность ветрена (лат.).
(обратно)82
Случай с кафтаном — это не плод фантазии писателя. В проповеди Дёрдя Калди и в протоколах города Кечкемета остались следы этой истории (Ференц Кубини, История Венгрии и Трансильвании, глава о Кечкемете, стр. 86, §1): «Когда султан Магомет пришел в Венгрию, кечкеметские правители отправились ему навстречу с ценными подарками и стали просить у него хоть какого-нибудь чауша в наместники, который бы защищал их от проходивших мимо города отрядов. Султан дал им триста золотых и шитый золотом кафтан, сказав при этом, чтобы они отправлялись домой, а если кто станет обижать их, пусть покажут обидчику султанский кафтан. С тех пор, стоило им увидеть турецкое войско, как бургомистр надевал кафтан и выезжал туркам навстречу. При виде его турки спешивались с коней и бросались целовать кафтан и, если бургомистр разрешал, оставались в городе на ночлег, на собственном коште, а если не разрешал, уходили прочь».
Таким образом, я не только не преувеличил действительный факт, но даже умолчал о трехстах золотых; если, однако, господа заседатели не пожелали отчитаться в них, то я отнюдь не намерен компрометировать своих героев. (Прим. автора.)
(обратно)83
Житель Кечкемета после каждого очередного кубка вина расстегивает на жилете одну пуговицу, чтобы при окончательном расчете корчмарь не надул его. (Прим. автора.)
(обратно)84
Здесь и далее цитируется монография И. Кирая — «Кальман Миксат» (Будапешт, Издательство художественной литературы, 1960).
(обратно)
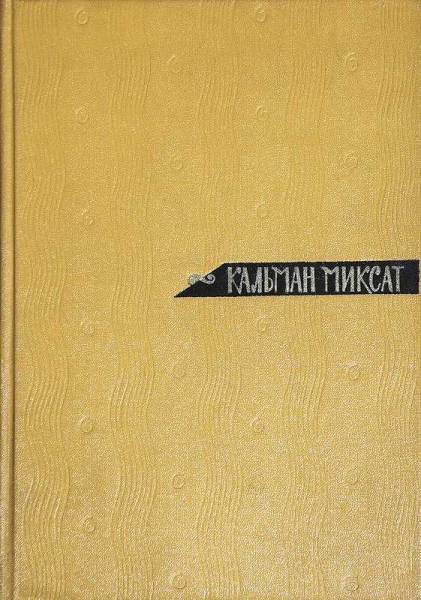


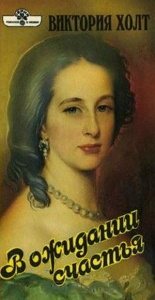

Комментарии к книге «Том 1. Рассказы и повести», Кальман Миксат
Всего 0 комментариев